Джим Холт Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив
Jim Holt
WHY DOES THE WORLD EXIST?
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Chris Calhoun Agency и Jenny Meyer Literary Agency, Inc.
Серия «Наука XXI век»
© Jim Holt, 2012
® Школа перевода Баканова, перевод, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
* * *
Пролог Быстрое доказательство того, что в мире должно быть Нечто, а не Ничто (для современных людей, которые вечно заняты)
Допустим, что в мире нет ничего. Значит, нет никаких правил, потому что правила – это все-таки «нечто». Если никаких правил нет, то все позволено. Если все позволено, то что запрещено? Ничто! То есть если бы в мире ничего не было, то Ничто было бы запрещено. Таким образом, Нечто должно существовать. Что и требовалось доказать.
Глава 1 Лицом к лицу с тайной
И этот дух седой, томимый жаждой,
Вслед знанью мчать падучею звездой
За крайней гранью мысли человека.
Альфред Теннисон, «Улисс»[1]Я бы настоятельно не рекомендовала тебе пытаться найти причину и объяснение для всего на свете… Попытки найти причину всего очень опасны и ведут только к разочарованию и неудовольствию, лишают ум покоя и, в конце концов, сделают тебя несчастной.
Из письма королевы Виктории внучке Виктории Гессен-Дармштадтской, 22 августа 1883 г.…кто был первый человек во вселенной когда
никого еще не было кто все сотворил кто ага они
этого не знают точно так же как я…
Джеймс Джойс, «Улисс»[2]Я отчетливо помню, как впервые задумался над загадкой существования Вселенной. В начале 70-х годов прошлого века я был зеленым юнцом с мятежным духом. Как это иногда случается с зелеными юнцами с мятежным духом, я заинтересовался экзистенциализмом – философским течением, которое, как мне казалось, способно избавить меня от подростковых страхов или уж, на худой конец, превратить их в нечто более возвышенное. Однажды в библиотеке местного колледжа я взял несколько солидных томов: «Бытие и Ничто» Сартра и «Введение в метафизику» Хайдеггера. И уже на начальных страницах последнего я впервые лицом к лицу встал перед вопросом: почему мир существует? Я до сих пор помню свое замешательство перед таким простым, невинным и невероятно мощным вопросом. Ведь это вопрос вопросов, стоящий за всеми другими вопросами, которыми когда-либо задавалось человечество! Почему же за всю свою (правда, пока короткую) осознанную жизнь я не додумался до этого вопроса?
Говорят, вопрос «Почему мир существует?» настолько мудр, что может прийти в голову только метафизику, и настолько прост, что может озадачить только ребенка. Для метафизика я был слишком юн, но почему я не задумался над ним еще ребенком? Когда я размышляю над этим сейчас, ответ очевиден: моя природная метафизическая любознательность была задавлена религиозным воспитанием. С самого раннего детства мне твердили (родители, учительницы-монашки в начальной школе, монахи-францисканцы из монастыря рядом с домом), что мир сотворил Господь, Он сотворил все из ничего. Поэтому мир существует. Поэтому существую я. Почему существует Сам Господь, было не совсем понятно. В отличие от конечного мира, созданного Его волей, Господь вечен. Кроме того, Он всемогущ и обладает всеми прочими мыслимыми достоинствами в бесконечной степени. Возможно, Ему не требовалось никаких причин для Его собственного существования. Раз Он всемогущ, то мог просто «вытащить самого себя за волосы». Ведь Он есть causa sui[3].
Вот чему меня научили в детстве. Вот во что до сих пор верит подавляющее большинство американцев. Для верующих нет никакой «тайны бытия». Если спросить у них, почему существует Вселенная, они ответят, что Вселенная существует, потому что ее создал Господь. А на вопрос «Почему существует Господь?» они ответят в зависимости от их теологической подкованности. Одни могут сказать, что Бог есть первопричина, что Он является основой своего собственного существования, что Его существование проистекает из самой Его сути. Другие ответят, что тот, кто задает столь нечестивые вопросы, будет гореть в аду.
Впрочем, если вы спросите неверующих, почему мир существует, они вряд ли дадут удовлетворительный ответ. В нынешней «Божественной войне» защитники религии частенько используют загадку существования в качестве дубинки для своих противников неоатеистов. Ричард Докинз, эволюционный биолог и ярый атеист, устал слушать об этой предполагаемой загадке. «Снова и снова, – говорит Докинз, – мои религиозные друзья возвращались к тому, что должна быть причина, почему все существующее существует, хотя могло бы и не существовать»1. Кристофер Хитченс, другой неутомимый проповедник атеизма, часто слышит тот же вопрос от своих противников. «Если вы не верите в Бога, то как вы объясните, почему мир существует?» – как-то спросил Хитченса, с ноткой триумфа в голосе, телеведущий правых взглядов и слегка бандитского вида. Другая телеведущая, длинноногая блондинка, повторила тот же самый довод: «Откуда взялась Вселенная? Идея, будто все это получилось из ничего, противоречит логике и здравому смыслу. Что же было до Большого взрыва?» – «Хотел бы я знать, что было до Большого взрыва», – ответил ей Хитченс.
Если мы откажемся от гипотезы Бога, то какие варианты ответа на загадку существования мира нам остаются? Возможно, когда-нибудь наука объяснит не только то, как мир устроен, но и почему он устроен именно так. По крайней мере, именно на это надеется Докинз, который ищет ответ в теоретической физике: «Может быть, инфляционное расширение, которое, по словам физиков, происходило в течение доли первой йоктосекунды существования Вселенной, окажется, при лучшем понимании, космологическим „краном“, аналогичным биологическому „крану“ Дарвина[4]»2.
Современный космолог Стивен Хокинг подходит к вопросу с другой стороны: он разработал теоретическую модель, согласно которой Вселенная, хотя и ограничена во времени, полностью содержится внутри себя самой, не имея ни начала, ни конца. Хокинг утверждает, что в такой «не имеющей границ» модели не нужен творец – ни божественный, ни какой-либо еще. Однако даже Хокинг сомневается, что его уравнения могут дать полный ответ на загадку существования: «Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?.. Почему Вселенная идет на все хлопоты существования?»3
Пытаясь ответить на эти вопросы, наука сталкивается со следующей проблемой: Вселенная заключает в себе все, что физически существует; научное объяснение должно включать какую-то физическую причину; однако любая физическая причина, по определению, является частью Вселенной, которую и требуется объяснить. Таким образом, любое чисто научное объяснение существования Вселенной неминуемо замыкается в порочный круг. Даже если начать с чего-то очень маленького (например, с космического яйца, с крохотного участка квантового вакуума или с сингулярности), то мы все равно начинаем с чего-то уже существующего. Наука может проследить путь развития Вселенной из более раннего состояния физической реальности, вплоть до Большого взрыва, – но в конце концов она упирается в тупик. Наука не в состоянии объяснить происхождение первоначального физического состояния из ничего. По крайней мере, именно на этом настаивают непробиваемые защитники гипотезы Бога.
История показывает, что в случаях, когда наука выглядит неспособной объяснить какое-либо природное явление, последователи религии моментально указывают на божественного Творца в качестве объяснения – и бывают посрамлены, когда наука наконец успешно заполняет пробел. Ньютон, например, думал, что Бог должен время от времени слегка поправлять траектории движения планет, чтобы они не сталкивались друг с другом. Однако через сто лет после Ньютона Лаплас доказал, что физика и сама способна справиться с сохранением устойчивости в Солнечной системе. (Когда Наполеон спросил Лапласа, почему в его книге о строении Солнечной системы ни разу не упоминается Бог, Лаплас дал свой знаменитый ответ: «Мне эта гипотеза не понадобилась».)
В более поздние времена сторонники религии утверждали, что естественный отбор сам по себе не может объяснить возникновение сложных организмов, поэтому Господь должен «направлять» процесс эволюции, – утверждение, которое решительно и с ликованием опровергают Докинз и другие дарвинисты. Подобные утверждения, привлекающие Бога для объяснения мелких проблем в биологии или астрофизике, обычно бьют по самим же последователям религии. Однако верующие чувствуют себя гораздо увереннее, когда речь идет о вопросе «Почему существует мир?».
«Похоже, ни одна научная теория не в состоянии заполнить пробел между абсолютным ничто и полностью развившейся Вселенной, – пишет Рой Абрахам Варгиз, апологет религии с научным уклоном. – Вопрос об истоке истоков является метанаучным – наука может его поставить, но не может на него ответить»4.
С этим мнением согласен знаменитый гарвардский астроном (и набожный меннонит) Оуэн Гингерич. В 2005 году в Мемориальной церкви Гарварда Гингерич прочитал лекцию под названием «Вселенная Господа», в которой заявил, что вопрос об истоке истоков является телеологическим – «и не дело науки пытаться на него ответить».
Когда атеист слышит подобные аргументы, он обычно пожимает плечами и говорит, что Вселенная попросту существует. Возможно, она существует, потому что существовала всегда. А может быть, она появилась без всякой на то причины. В любом случае она в самом деле существует, и это установленный факт.
Взгляд на существование Вселенной просто как на установленный факт не нуждается в объяснении для существования Вселенной в целом и таким образом избегает необходимости постулировать какую-то трансцендентную реальность (вроде Бога) для ответа на вопрос «Почему мир все-таки существует?». Однако с точки зрения интеллекта это выглядит как признание своего поражения. Одно дело – привыкнуть к мысли, что Вселенная не имеет ни цели, ни смысла – все мы прошли через это в темную ночь души, – но как принять Вселенную, не имеющую объяснения? Это уже слишком абсурдно, по крайней мере для тех, кто ищет причину всему, как свойственно нашему виду. Осознаем мы или нет, мы инстинктивно следуем принципу достаточного основания, сформулированному философом Лейбницем в XVII веке: у всего есть причина. Для каждого истинного утверждения должно быть основание, почему оно истинно; для каждого существующего явления должна быть причина, почему оно существует. Над принципом Лейбница некоторые посмеивались, называя его «метафизическим требованием», однако этот принцип лежит в основании науки, где доказал свою успешность настолько, что может считаться проверенным на практике – он действительно работает. Похоже, что принцип достаточного основания сам является основанием мышления, ведь любая попытка доказать его или опровергнуть заранее предполагает его истинность. А если он истинен, то должно быть какое-то объяснение существования мира, независимо от того, можем мы это объяснение найти или нет.
Мир, который существует без всякой причины (иррациональный, случайный, «просто так появившийся»), был бы кошмарным местом для жизни – по крайней мере, так считал американский философ Артур Лавджой. Читая в 1933 году в Гарварде серию лекций на тему «Великая цепь бытия», Лавджой заявил, что подобный мир «был бы чем-то зыбким и не заслуживающим никакого доверия; неопределенность распространялась бы на все; все что угодно (за исключением, конечно, противоречия) могло бы существовать и все что угодно могло бы происходить»5.
Означает ли это, что мы обречены выбирать между Богом и полным абсурдом? Эта дилемма не давала мне покоя с тех пор, как я впервые столкнулся с тайной бытия. И именно эта дилемма заставила меня задуматься о том, что же собой представляет «бытие». В философии изначальная основа реальности называется «субстанция». Согласно Декарту, мир состоит из двух видов субстанции: res extensa, или материальная (которую он определял как «протяженную субстанцию»), и res cogitans, или духовная («мыслящая субстанция»). Сегодня мы в основном придерживаемся взгляда, унаследованного от Декарта: Вселенная состоит из физической материи (Земля, звезды, галактики, излучение, темная материя, темная энергия и так далее), а также содержит биологическую жизнь, которая, как выяснила наука, имеет физическую основу. Кроме того, Вселенная содержит сознание, то есть такие субъективные умственные состояния, как радость и горе, ощущение красного и боль от ушибленного пальца. (Сводятся ли эти субъективные состояния к объективным физическим процессам? Философия пока не определилась с ответом.) Объяснение лишь объединяет в причинно-следственную цепочку понятия в одной из данных онтологических категорий: удар шара для боулинга вызвал падение кеглей; страх финансового кризиса вызвал падение акций.
Если в реальности существуют только материя и сознание, связанные цепочками причинно-следственных связей, то тайна бытия действительно выглядит неразрешимой. Но что если такая дуалистическая онтология слишком упрощает мир? Я начал это подозревать, когда, после подросткового флирта с экзистенциализмом, с головой ушел в чистую математику. Математики целыми днями размышляют не только о цифрах и кругах, но и об n-мерных континуумах, полях Галуа и кристаллических когомологиях, которые не существуют в нашем пространстве-времени – то есть они нематериальны. Однако и к области сознания они не относятся, ибо ограниченный ум математика никак не может вместить неограниченные числа. В таком случае существуют ли математические понятия? Все зависит от того, что понимать под «существованием». Платон явно думал, что существуют. Более того, он считал, что математические объекты, неизменные и не подверженные течению времени, более реальны, чем объекты, доступные нашему непосредственному восприятию. То же самое относится к абстрактным идеям – таким, как «добро» или «красота». С точки зрения Платона, подобные «формы» и составляют истинную реальность, а все остальное – всего лишь видимость.
Пожалуй, мы не станем заходить так далеко в пересмотре своих взглядов на реальность. Добро, красота, математические понятия и логические законы – все это не является чем-то, как материя или сознание. В то же время нельзя сказать, что они ничто. Могут ли они играть какую-то роль в объяснении факта существования мира?
Разумеется, абстрактные идеи не могут использоваться в объяснении обычных причинно-следственных связей: нельзя сказать, что добро «привело» к Большому взрыву. Однако не все объяснения непременно должны сводиться к причинам и следствиям – например, подумайте об объяснении цели хода в шахматах. В самом общем смысле «объяснить что-либо» означает сделать это понятным или вразумительным. Успешное объяснение, выражаясь словами американского философа Ч. С. Пирса, дает нам ощущение «поворота ключа в замке». Есть много разных видов объяснений, и каждое из них опирается на свое собственное понимание «причины». Аристотель, например, выделял четыре вида причин, которые могут объяснять физические явления, – и только один из этих видов (действующая или производящая причина) соответствует нашему узкому научному понятию причины. Самый необычный вид причины в классификации Аристотеля – это целевая или конечная причина, ради которой нечто и появилось. Конечные причины часто встречаются в очень плохих объяснениях: почему весной идет дождь? Чтобы хлеба росли! Подобные телеологические объяснения высмеял Вольтер в «Кандиде», и они справедливо отвергаются современной наукой в качестве объяснения природных явлений. Однако, в случае объяснения существования мира в целом, стоит ли автоматически отвергать конечную причину? По словам одного из выдающихся философов современности Николаса Решера, допущение, будто любое объяснение всегда должно включать «объекты», – «это один из глубоко укоренившихся предрассудков западной философии»6. Очевидно, что для объяснения определенного факта (например, факта существования мира) нужно прибегнуть к другим фактам. Однако из этого вовсе не следует, что существование определенного объекта может быть объяснено только через обращение к другим объектам. Может быть, причину существования мира в целом следует искать в каком-то другом месте – в области таких не-объектов, как математические понятия, объективные значения, логические законы или принцип неопределенности Гейзенберга. Может быть, что-то вроде телеологического объяснения наконец даст нам намек на способ решить загадку существования мира.
Когда я учился в университете Виргинии, мой первый преподаватель философии, выдающийся выпускник Оксфорда профессор Э. Д. Вузли, задал нам прочитать книгу Дэвида Юма «Диалоги о естественной религии». В этих диалогах три выдуманных персонажа, Клеант, Демей и Филон, спорят о существовании Бога. Демей, самый религиозный из трех, защищает «космологический аргумент», согласно которому существование мира можно объяснить, только если допустить существование божества в качестве его причины. В ответ скептик Филон (чьи взгляды более всего соответствуют взглядам самого Юма) приводит соблазнительное рассуждение: хотя нам кажется, что для существования миру нужна богоподобная причина, возможно, мы заблуждаемся. Давайте рассмотрим такой арифметический курьез: если взять любое кратное 9 (например, 18, 27, 36 и т. д.) и вычислить сумму цифр (1+8, 2+7, 3+6 и т. д.), то в итоге всегда получится 9. Поверхностный наблюдатель может подумать, что это случайность. А искусный же алгебраист, напротив, немедленно заключит, что это результат необходимости.
«Нельзя ли предположить, – спрашивает затем Филон, – что весь строй Вселенной управляется подобной же необходимостью, хотя никакая человеческая алгебра не может доставить ключ для разрешения данного вопроса?»7
Идея скрытой космической алгебры – алгебры бытия! – показалась мне неотразимой. Сама фраза словно расширяет диапазон возможных объяснений существования мира. Возможно, нам все-таки не придется выбирать между Богом и Абсурдом. Возможно, существует нерелигиозное объяснение существования мира – такое, которое мы можем обнаружить, используя свой ум. Хотя подобное объяснение не будет нуждаться в божестве, оно необязательно должно отрицать божество. Можно предположить существование некоего сверхестественного рассудка и таким образом дать ответ на не по годам глубокий детский вопрос, которого так страшатся родители: «Мамочка, а кто же создал Бога?»
Насколько мы близки к открытию алгебры бытия? Билл Мойерс как-то спросил писателя Мартина Эмиса во время телевизионного интервью, как, по его мнению, появилась Вселенная. «Я бы сказал, что для ответа на этот вопрос нам понадобится еще как минимум пять Эйнштейнов», – ответил Эмис.
Я думаю, его расчеты близки к истине. А может, кто-то из этих Эйнштейнов живет уже в наше время? Лично мне не стоит и пытаться претендовать на эту роль, но вдруг я мог бы найти одного, или двух, или трех, или даже четырех из них и затем как-то расставить их в правильном порядке… Такие поиски выглядели как отличное приключение, за которым я и отправился.
В поисках ответа на вопрос «Почему мир все-таки существует?» у меня было множество перспективных отправных точек, некоторые из которых никуда не привели. Например, однажды я позвонил знакомому космологу, известному своими блестящими идеями. Он не взял трубку, и я оставил сообщение на автоответчике с просьбой ответить на один вопрос. Космолог перезвонил и оставил сообщение на моем автоответчике: «Задай свой вопрос через голосовую почту, и я запишу тебе ответ на твою почту». Звучало многообещающе, и я сделал, как он просил. Вернувшись домой поздно вечером, я заметил мигающий огонек на автоответчике. Затаив дыхание, я нажал клавишу воспроизведения. «Ну что же, – услышал я голос космолога из автоответчика, – на самом деле ты говоришь о нарушении симметрии между материей и антиматерией…»
В другой раз я отыскал одного хорошо известного профессора философии и теологии и спросил его, можно ли объяснить существование мира, предположив наличие некоего божества, чья сущность содержит его существование. «Вы шутите? – ответил профессор. – Господь настолько совершенен, что не обязан существовать!»
Затем я случайно встретил на улице в Гринвиче одного ученого дзен-буддиста, с которым меня как-то познакомили на вечеринке. Говорили, что он авторитет по всем космическим вопросам. После непродолжительной светской беседы я спросил у него (возможно, несколько опрометчиво, как я теперь думаю), почему мир все-таки существует. В ответ он попытался стукнуть меня по голове – должно быть, подумал, что я задал ему дзенский коан.
В поисках разгадки тайны бытия я довольно широко раскинул сети, разговаривая с философами, теологами, физиками, космологами, мистиками и даже со знаменитым американским писателем. В первую очередь я искал тех, кто обладает гибким и широким интеллектом. Чтобы сказать что-то ценное о причине существования мира, мыслитель должен обладать познаниями не только в одной области. Допустим, ученый разбирается в философии. Тогда он может увидеть, что концепция «Ничто», о которой говорят философы, соответствует чему-то, что может определить наука, – скажем, замкнутому четырехмерному пространству-времени с радиусом, стремящимся к нулю. Используя уравнения квантовой теории поля для математического описания такой реальности, можно доказать, что небольшой участок ложного вакуума имел отличную от нуля вероятность спонтанного появления – и что этот кусочек вакуума, через замечательный механизм «хаотической инфляции», вполне мог дать начало развитию полноценной Вселенной. Если ученый также подкован в теологии, то он должен понять, как это космогоническое событие можно представить в виде обратной во времени эманации из будущей «точки Омега», имеющей некоторые свойства, традиционно приписываемые иудейско-христианскому божеству. И так далее.
Подобные полеты воображения требуют немало интеллектуальной энергии, которую в избытке демонстрировало большинство моих собеседников. Одно из удовольствий от общения с оригинальными мыслителями на такую глубокую тему, как тайна бытия, заключается в том, что иногда удается услышать их размышления вслух. Порой они говорят совершенно поразительные вещи. Мне казалось, что я был удостоен чести заглянуть в их мыслительный процесс. Это вызывает благоговейный трепет и в то же время странным образом ободряет. Когда слушаешь, как признанные мыслители нащупывают путь к ответу на вопрос «Почему мир существует?», начинаешь понимать, что твои собственные мысли на эту тему вовсе не так никчемны, как тебе казалось. Никто не может с уверенностью заявить о своем интеллектуальном превосходстве перед лицом тайны бытия: как заметил Уильям Джемс, «мы все здесь нищие»8.
Интерлюдия: Мог ли хакер сотворить наш мир?
Откуда взялась наша Вселенная? Не указывает ли сам факт ее существования на действия некой высшей созидательной силы? Когда верующий задает атеисту этот вопрос, то обычно получает один из двух ответов. В первом случае атеист может сказать, что если допустить существование подобной «созидательной силы», то затем придется допустить существование другой такой силы, чтобы объяснить наличие первой, затем третьей, четвертой – и так далее, до бесконечности. Во втором случае атеист ответит, что даже если некая «созидательная сила» существует, она вовсе не является богоподобной. Почему Первопричина должна быть мудрым и добрым существом, да к тому же заинтересованным во всех подробностях наших мыслей и нашей половой жизни? Первопричина вовсе не обязана быть разумной.
Идея о «сотворении» космоса неким разумным существом может показаться примитивной, а то и просто идиотской, однако прежде, чем расстаться с ней навсегда, я решил поговорить с Андреем Линде, который внес самый большой вклад в объяснение происхождения нашей Вселенной. Линде, русский физик, иммигрировавший в США в 1990 году, теперь преподает в Стэнфордском университете. Еще в молодости он придумал новую теорию Большого взрыва, способную дать ответы на три досадных вопроса: что взорвалось? почему взорвалось? что происходило до взрыва? Теория Линде, которая называется «инфляционная модель Вселенной», объясняет общую форму пространства и формирование галактик, а также точно предсказывает распределение реликтового излучения после Большого взрыва, совпадающее с результатами наблюдений спутника COBE[5] в 90-е годы XX века.
Теория Линде имеет несколько любопытных следствий, и самое потрясающее из них состоит в том, что создать Вселенную не так уж трудно: это не требует ни ресурсов космического масштаба, ни сверхъестественных сил. Возможно, что цивилизация, ушедшая в своем развитии ненамного дальше нашей, способна состряпать Вселенную в лаборатории – что невольно вызывает ошеломляющий вопрос: а что, если именно так и появился наш мир?
Симпатичный, плотный и совсем седой, Линде славится среди коллег способностью запутывать собеседников и морочить им голову.
«Когда я разработал инфляционную модель Вселенной, то обнаружил, что достаточно всего стотысячной доли грамма материи, чтобы дать начало такой Вселенной, как наша, – сказал мне Линде с явным русским акцентом. – Этого хватит, чтобы создать маленький кусочек вакуума, который взорвется в миллиарды миллиардов галактик, наблюдаемых нами сейчас. Звучит невероятно, но именно так работает инфляционная модель: вся материя Вселенной возникает из отрицательной энергии гравитационного поля. Так что мешает нам создать Вселенную в лаборатории? Мы стали бы подобны богам!»
Вообще-то Линде известен своим шутливым пессимизмом, и в приведенной цитате есть доля иронии. Однако он заверил меня, что описанная схема создания Вселенной в лаборатории вполне реальна – по крайней мере, в принципе.
«В моем доказательстве есть кое-какие пробелы, – признался Линде, – но я показал, что нельзя исключить вероятность создания нашей Вселенной кем-то из другой Вселенной – просто так, потому что захотелось. И Алан Гут, соавтор инфляционной модели, а также другие ученые, занимавшиеся этим вопросом, подтвердили мои выводы».
В этой схеме меня поразила одна несообразность: если произвести Большой взрыв в лаборатории, то созданная Вселенная должна же будет расшириться в наш собственный мир, уничтожая все на своем пути! Линде заверил, что подобной опасности не существует: «Новая Вселенная будет расширяться сама в себя. Ее пространство будет так свернуто, что своему создателю она покажется крошечной, как элементарная частица. Возможно, что в конце концов она и вовсе исчезнет из его мира».
Тогда зачем вообще создавать Вселенную, если она ускользнет от вас, как Эвридика от Орфея? Разве вам не захочется получить некую богоподобную власть над развитием своего детища? Разве не захочется как-то понаблюдать за новым миром и убедиться, что возникшие в нем создания чувствуют себя там неплохо? Творец в теории Линде очень похож на деистического бога, столь любимого Вольтером и отцами-основателями Америки: он дал начало нашей Вселенной, а затем полностью утратил интерес и к ней, и к возникшим в ней созданиям.
Позабавленный Линде усмехнулся: «В этом что-то есть. Поначалу я представил себе, что творец способен послать информацию в новую Вселенную – научить их, как себя вести, помочь им открыть законы природы и так далее. Затем я задумался. Согласно инфляционной модели, новорожденная Вселенная стремительно расширяется в ничтожную долю секунды, как надуваемый шарик. Допустим, творец написал на поверхности шарика что-то вроде „Пожалуйста, не забывайте, что вас сотворил я“. Инфляционное расширение превратит эту надпись в нечто неимоверно огромное. Существа в новой Вселенной, живущие в крохотном уголке одной из букв, никогда не сумеют прочесть все предложение целиком».
Затем Линде пришел в голову другой способ сообщения между творцом и его творениями – судя по всему, единственно возможный. Творец мог бы воздействовать на зародыш Вселенной таким образом, чтобы задать определенные физические параметры создаваемого мира. Например, он мог бы задать соотношение между массами электрона и протона. Подобные числовые значения, так называемые фундаментальные физические постоянные, на наш взгляд, кажутся совершенно случайными: нет никакой видимой причины, почему они должны иметь именно то значение, которое имеют, а не какое-нибудь другое. К примеру, почему сила гравитации в нашей Вселенной определяется числом, состоящим из цифр «6673»? А творец, зафиксировав определенные значения этих констант, мог бы впечатать трудно уловимое сообщение в саму структуру Вселенной. «И прочитать его могли бы только физики», – заметил Линде с нескрываемым удовольствием.
Может, он пошутил?
«Если хотите, считайте это шуткой, – ответил он. – Однако подобное предположение невозможно полностью исключить. Оно способно объяснить, почему мир, в котором мы живем, такой странный и так далек от совершенства. Судя по всему, нашу Вселенную сотворил не Бог, а физик-хакер!»
С точки зрения философии, заключение Линде подчеркивает опасность допущения, что творец, создавший нашу Вселенную (если ее вообще кто-то создал), непременно должен быть таким, как его традиционно представляют религии: всемогущим, всеведущим, всеблагим и так далее. Даже если наш мир сотворен неким разумным существом, вполне может быть, что это существо толком не умело творить, наделало ошибок и в результате завалило задание по космогенезу, произведя на свет весьма посредственное творение. Разумеется, в ответ на подобное предположение верующие всегда могут спросить, а кто же сотворил физика-чайника? Будем надеяться, что цепочка творцов состоит не только из чайников!
Глава 2 Философский обзор
Загадки не существует.
Людвиг Витгенштейн, «Логико-философский трактат», положение 6.5Как я уже сказал, суть тайны бытия выражается вопросом «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Уильям Джемс назвал это «самым темным вопросом всей философии»9. Британский астрофизик сэр Бернард Лавелл заметил, что размышления над ним «могут разорвать человеческий ум в клочья»10 (и в самом деле, известно, что пациенты психиатрических клиник бывают целиком захвачены этой навязчивой идеей). Артур Лавджой, основатель научной области под названием «история идей», заметил, что попытки ответить на этот вопрос «составляют одно из самых грандиозных начинаний человеческого ума»11.
Как все глубокие непостижимые вопросы, он дает пищу для шуток. Несколько десятилетий назад, когда я заговорил на эту тему с американским философом Артуром Данто, он воскликнул с притворным раздражением: «А кто сказал, что Ничто не существует?» (Как вскоре станет ясно, его ответ не совсем шутка.) Сидней Моргенбессер, ныне покойный философ из Колумбийского университета и известный шутник, дал еще более остроумный ответ. «Профессор, – однажды обратился к нему студент, – почему существует Нечто, а не Ничто?» На что Моргенбессер ответил: «Даже если бы Ничто существовало, вы бы все равно не перестали задавать вопросы!»
Но от этой проблемы нельзя шутливо отмахнуться. Каждого из нас, как заметил Мартин Хайдеггер, «цепляет ее скрытая сила»:
«Этот вопрос встает во весь рост в моменты полного отчаяния, когда все теряет значение и все смыслы исчезают. Он приходит в моменты радости, когда все вокруг нас преображается и мы словно видим мир впервые… Этот вопрос не отпускает нас и в моменты скуки, когда и отчаяние, и радость одинаково далеки от нас, и все вокруг кажется безнадежно привычным, и нам уже все равно, существует оно или нет»12.
Игнорирование этого вопроса – симптом умственной неполноценности; по крайней мере, так считал философ Артур Шопенгауэр: «Чем ниже уровень интеллекта человека, тем меньше тайн и загадок он видит в бытии»13. То, что поднимает человека выше прочих созданий, – это сознание собственной смертности, которое приносит с собой осознание и шок небытия. Если я сам, микрокосм, онтологически не вечен, то не относится ли то же самое к макрокосму, к Вселенной в целом? По сути, вопрос «Почему существует мир?» созвучен вопросу «Почему существую я?». По выражению Джона Апдайка, это две великие экзистенциальные тайны. А если вы вдруг придерживаетесь солипсизма, то есть верите, как верил ранний Витгенштейн, что «я есть мир!», то две тайны сливаются в одну.
Странно, что вроде бы вечный и всеобщий вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» никто не задавал до недавних пор. Может быть, именно слово «ничто» делает этот вопрос современным? Древние народы сочинили свои мифы о сотворении мира, но они никогда не начинаются с «Ничто»: всегда предполагается существование каких-то первобытных существ или вещей, из которых все произошло. В норвежском мифе, восходящем примерно к 1200 г. н. э., мир родился, когда изначальное царство огня растопило царство льда и появившиеся капли воды ожили, приняв форму мудрого великана Имира и коровы Аудумлы – от них и пошло все сущее, по убеждению викингов. Миф о творении мира африканского племени банту обходится меньшим числом источников: вся Вселенная – солнце, звезды, земля, море, животные, рыбы и люди – все было изрыгнуто существом по имени Бумба, которого вдруг затошнило. Очень редко, но все же встречаются народы, у которых нет своего мифа о сотворении мира. Один из таких народов – племя пираха из Амазонии. Когда антрополог спросил пираха, что было до появления этого мира, то все они ответили: «Этот мир был всегда»14.
Теория о происхождении Вселенной называется «космогония»: от греческих слов «космос» («Вселенная») и «гонос» («производить»). Древние греки первыми создали рациональную космогонию, в противовес поэтическим мифам о рождении мира. Тем не менее греки так и не задались вопросом, почему существует Нечто, а не Ничто. Их космогонии всегда отталкивались от какой-то материальной первоосновы, обычно весьма беспорядочной. Греки считали, что мир появился, когда первоначальный беспорядок был упорядочен: когда Хаос превратился в Космос. (Интересно, что слова «космос» и «косметический» однокоренные и происходят от греческого слова, означающего «украшение» или «порядок».) Что касается природы первобытного Хаоса, греческие философы расходились во мнениях. Фалес Милетский считал, что первоисточник всего – вода, что-то вроде протоокеана. Гераклит склонялся к огню. У Анаксимандра основой мира было нечто абстрактное, неопределенная субстанция под названием «апейрон» (греч. «бесконечное», «беспредельное»). Платон и Аристотель говорили о бесформенной основе, которую можно считать донаучным понятием пространства.
Греки не слишком задумывались о том, откуда взялась праматерия, и просто считали ее вечной. В любом случае праматерия никак не могла быть «ничем» – подобная идея была немыслима для греков. Авраамическая традиция тоже не признает понятия «Ничто». Книга Бытие учит, что Бог сотворил мир не из ничто, а из хаоса земли и воды – «без формы и пуста» («tohu bohu» в оригинале на древнееврейском). Однако в эпоху раннего христианства стала укореняться другая точка зрения: мысль о том, что Бог нуждался в чем-то уже существующем, чтобы сотворить мир, стала восприниматься как ограничение Его предположительно неограниченной власти. Поэтому во II или III веке н. э. отцы Церкви выдвинули совершенно новую космогонию, провозгласив, что мир был сотворен исключительно словом Божьим, безо всякой первоосновы. Догмат сотворения мира ex nihilo («из ничего») позднее стал частью теологии ислама и приводится в каламе[6] в качестве аргумента существования Бога, а также проник в средневековую иудейскую философию. В своем истолковании первого абзаца книги Бытие иудаистский философ Маймонид утверждает, что Бог сотворил мир из ничего.
Утверждение, что Бог сотворил мир из ничего, не возвышает ничто до сущности, равной божеству, а просто означает, что Бог не сотворил мир из чего-то уже существовавшего, – на этом, среди других христианских теологов, настаивал святой Фома Аквинский. Тем не менее догмат о «творении из ничего» как бы превратил понятие «ничто» в реальную онтологическую возможность и сделал концептуально возможным вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?».
И через несколько столетий этот вопрос был наконец задан – и задал его коварный щеголь немецкого двора, а также один из величайших умов всех времен Готфрид Вильгельм Лейбниц. Случилось это в 1714 году, когда шестидесятивосьмилетний Лейбниц приближался к завершению длинного и невероятно продуктивного жизненного пути. Одновременно с Ньютоном и независимо от него Лейбниц изобрел математический анализ; единолично произвел революцию в логике; создал невероятную метафизику, основанную на бесконечности сущностей под названием «монады», которые подобны душе, и на аксиоме (позднее жестоко высмеянной Вольтером в «Кандиде»), что это «лучший из возможных миров». Несмотря на славу философа и ученого, Лейбниц был оставлен в Ганновере, когда его светлейший работодатель, курфюст Георг Людвиг, поехал в Британию, чтобы короноваться как король Георг I. Здоровье Лейбница ухудшалось, и два года спустя он скончался. Именно в таких удручающих условиях Лейбниц написал свои последние философские сочинения, в том числе «Начала природы и благодати, основанные на разуме», где выдвинул так называемый «принцип достаточного основания». Согласно этому принципу, существует объяснение для каждого события и ответ на каждый вопрос.
«Раз такое начало допущено, – писал Лейбниц, – то первый вопрос, который мы имеем право задать, будет следующий: почему существует Нечто, а не Ничто?»15
Для Лейбница, который ради продвижения по службе всегда притворялся ортодоксом в религиозных делах, ответ был очевиден: причиной существования мира является Бог, создавший его Своей волей по причине Своей высочайшей благости. Но как объяснить существование Самого Бога? У Лейбница был ответ и на этот вопрос: в отличие от Вселенной, которая существует на определенных условиях, Бог необходим и содержит причину собственного существования в Себе Самом – Его несуществование логически невозможно.
Таким образом, едва задавшись вопросом «Почему существует Нечто, а не Ничто?», Лейбниц тут же от него отделывается: Вселенная существует по воле Бога. А Бог существует по воле Бога. Согласно Лейбницу, Божественная природа сама по себе способна дать исчерпывающий ответ на тайну бытия.
Однако ответ Лейбница на загадку существования продержался недолго, и в XVIII веке философы Дэвид Юм и Иммануил Кант (которые были противниками в большинстве вопросов) дружно назвали его онтологической подтасовкой. Они сошлись на том, что некоторые сущности в самом деле не могут существовать с точки зрения логики – например, квадратный круг, – но существование чего-либо не может быть гарантировано только чистой логикой. «Все, что мы можем себе представить существующим, мы также можем себе представить несуществующим, – писал Юм. – Таким образом, нет сущности, чье небытие являлось бы противоречием»16, включая Бога.
Но если существование Бога не является обязательным, то возникает совершенно новая метафизическая возможность: возможность абсолютного ничто – когда нет ни мира, ни Бога, ничего вообще нет. Впрочем, почему-то ни Юм, ни Кант не восприняли вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» всерьез. Юм считал, что любой ответ на этот вопрос будет «просто софистикой и иллюзией», потому что не может основываться на нашем опыте. С точки зрения Канта, попытка объяснить бытие в целом будет неизбежно вынуждена растянуть понятия, с помощью которых мы структурируем мир (например, причинность и время), за рамки их правомерности – и натянуть их на реальность, выходящую за границы нашего мира, реальность «вещей в себе». По убеждению Канта, подобная попытка приведет лишь к ошибкам и несообразностям.
Последующие поколения философов, возможно, под воздействием строгой критики Юма и Канта, не осмеливались задуматься над вопросом «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Великий пессимист Шопенгауэр, объявивший, что загадка бытия есть «маховое колесо, поддерживающее в движении часы метафизики»17, тем не менее называл тех, кто притворялся, что разрешил ее, «дураками», «тщеславными хвастунами» и «шарлатанами»18. Немецкий романтик Фридрих Шеллинг утверждал, что «главная задача всей философии – это разрешение загадки существования мира». Однако вскоре Шеллинг пришел к выводу, что бытие невозможно объяснить с помощью разума: самое большее, что мы можем сказать, это то, что мир возник из недр вечного небытия в результате непостижимого скачка. Гегель написал много туманных текстов на тему «исчезновения бытия в небытие и исчезновения небытия в бытие»19, но датский мыслитель Серен Кьеркегор с иронией назвал диалектические ухищрения Гегеля «рассуждениями торговца пряностями»20.
В начале XX века интерес к загадке бытия несколько возрос, в основном благодаря французскому философу Анри Бергсону. «Я хочу знать, почему существует Вселенная», – заявил Бергсон в книге «Творческая эволюция», выпущенной в 1907 году. Бергсон считал, что все сущее: материя, сознание и Сам Бог – есть «победа над небытием». Впрочем, после долгих размышлений он пришел к выводу, что эта победа вовсе не так удивительна, ведь противопоставление «Нечто и Ничто» основано на иллюзии – на иллюзии возможности существования Ничто. С помощью ряда сомнительных аргументов Бергсон якобы доказал, что идея абсолютного Ничто содержит внутреннее противоречие, подобно идее круглого квадрата. Поскольку идея Ничто не имеет смысла, то и вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» тоже не имеет смысла.
Этот удручающий вывод никак не повлиял на Мартина Хайдеггера, который считал Ничто вполне себе существующим в виде этакой отрицательной силы, угрожающей уничтожить сферу бытия. В самом начале серии лекций, прочитанных в 1935 году во Фрайбургском университете (где он получил должность ректора после принесения присяги гитлеровскому национал-социализму), Хайдеггер назвал вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» самым глубоким, самым далеко идущим и самым фундаментальным из всех вопросов.
И как же Хайдеггер отвечал на этот вопрос в ходе чтения лекций? Почти никак. Он пространно распространялся об экзистенциальном значении вопроса; занимался любительской этимологией, сваливая в кучу греческие, латинские и санскритские слова, связанные по происхождению с «Sein», немецким словом «бытие»; восхвалял поэтические достоинства досократиков и греческих драматургов. Когда в конце последней лекции Хайдеггер сказал, что «тот, кто способен задать вопрос, способен и ждать – если понадобится, то всю жизнь», та часть аудитории, которая все это время надеялась получить намек на какой-то ответ, должно быть, устало кивнула.
Хайдеггер, безусловно, был самым влиятельным философом XX века на европейском континенте, но в англоговорящем мире величайшим философом был Людвиг Витгенштейн. Они оба родились в 1889 году; в том же, что касается личных качеств, храбрый и аскетичный Витгенштейн был во многом противоположен вероломному и тщеславному Хайдеггеру. Однако они оба были одинаково очарованы тайной бытия. «Загадочно не то, как мир устроен, а то, что он существует»21, – утверждал Витгенштейн в одном из лаконичных положений (под номером 6.44) в «Логико-философском трактате», своей единственной работе, которую он опубликовал при жизни.
В дневнике, который вел Витгенштейн во время Первой мировой войны, сражаясь в рядах австрийской армии на русском фронте, он записал 26 октября 1916 года: «С эстетической точки зрения, существование мира является чудом». По словам Витгенштейна, ужас и изумление, вызываемые у него фактом существования мира, стали одним из трех переживаний, которые направили его размышления в русло моральных ценностей (двумя другими были чувство полной безопасности и чувство вины). Впрочем, как это обычно случается с действительно важными вопросами, вроде моральных ценностей и смысла жизни, попытки объяснить «эстетическое чудо» существования мира не привели к успеху: Витгенштейн утверждал, что такие попытки выводят нас за пределы языка, в область невыразимого словами. И хотя он «с глубоким уважением» относился к потребности задать вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?», в конечном счете он пришел к выводу, что этот вопрос не имеет смысла. И прямо записал в «Логико-философском трактате» положение 6.5: «Загадка не существует».
Хотя Витгенштейн считал загадку бытия невыразимой, она тем не менее внушала ему благоговение и чувство духовного просветления. Многим британским и американским философам, пришедшим ему на смену, загадка бытия, напротив, представлялась напрасной тратой времени. Типичным выразителем этого пренебрежительного отношения был Альфред Айер, британский апологет логического позитивизма, заклятый враг метафизики и самопровозглашенный наследник Дэвида Юма в философии. В передаче радио Би-би-си, вышедшей в 1949 году, Айер принял участие в дебатах о существовании Бога, где его оппонентом был Фредерик Коплстон, священник-иезуит и историк философии. Вышло так, что большей частью Айер и Коплстон спорили о вопросе «Почему существует Нечто, а не Ничто?». По мнению отца Коплстона, этот вопрос ведет к божественному, показывая, что существование Бога является «окончательным онтологическим объяснением явлений» – что, с точки зрения атеиста Айера, всего лишь нелогичная чушь.
«Предположим, – говорил Айер, – вы задаете вопрос типа „откуда все произошло?“. Это абсолютно осмысленный вопрос относительно любого события: спрашивая, откуда оно произошло, вы спрашиваете, какое событие ему предшествовало. Однако если вы обобщите вопрос, он потеряет смысл: вы спрашиваете, какое событие предшествовало всем событиям? Очевидно, что ни одно конкретное событие не может предшествовать всем событиям, поскольку оно входит в класс всех событий и не может им предшествовать»22.
Витгенштейн, слушавший дебаты по радио, позднее сказал другу, что рассуждения Айера показались ему «невероятно поверхностными». Тем не менее было признано, что ни один из оппонентов не имел достаточного перевеса, и через несколько лет повторные дебаты были назначены на телевидении. Однако пока Айер и Коплстон ожидали устранения технической неполадки, их так настойчиво угощали виски, что к началу дебатов они оба потеряли способность связно рассуждать.
Разногласия между Айером и Коплстоном по поводу осмысленности вопроса «Почему существует Нечто, а не Ничто?» свелись к спорам о самой природе философии. И большинство философов, по крайней мере, в англоговорящем мире, встали на сторону Айера. Согласно ортодоксальной точке зрения, существуют два вида истины: логическая истина и эмпирическая истина. Логическая истина определяется только значениями слов, и закон, выражаемый такой истиной, – например, «все холостяки неженаты», – является всего лишь лингвистическим законом. Эмпирическая истина, напротив, определяется данными, полученными от органов чувств. Именно такими истинами занимается наука. И в общем, все признали, что вопрос о причине существования мира лежит за пределами возможностей науки, ведь научное объяснение может лишь обосновать какую-то частичку реальности на основе других частичек и никогда не сможет охватить всю реальность целиком. Поэтому существование мира может быть лишь голым фактом. Бертран Рассел так подытожил это философское соглашение: «Я должен сказать, что Вселенная просто существует, и все». Большинство ученых согласились с принятием существования Вселенной как факта: это довольно удобная точка зрения, если предположить, что Вселенная существовала всегда, во что верили большинство великих ученых нашего времени – включая Коперника, Галилея и Ньютона. Эйнштейн был убежден, что Вселенная не только вечна, но и, в целом, неизменна, и был озадачен, когда, приложив свою общую теорию относительности к пространству-времени как целому, обнаружил нечто совершенно противоположное: Вселенная должна или расширяться, или сжиматься. Эйнштейн посчитал это нелепостью и кое-что «подкрутил вручную» в своей теории так, чтобы Вселенная оставалась вечной и неизменной.
Первым, у кого хватило смелости довести теорию относительности до ее логического завершения, стал священник: в 1927 году отец Жорж Леметр, работавший в Лувенском университете в Бельгии, предложил эйнштейновскую модель Вселенной, которая расширяется[7]. Рассуждая от противного, он предположил, что в какой-то момент в прошлом вся Вселенная должна была возникнуть из первоначального атома с бесконечной плотностью энергии.
Два года спустя наблюдения американского астронома Эдвина Хаббла из обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии подтвердили модель расширяющейся Вселенной: оказалось, что все наблюдаемые галактики действительно удаляются от нас. Как теория, так и наблюдения приводили к одному и тому же выводу: когда-то Вселенная внезапно появилась. Священники возрадовались, уверовав, что научное подтверждение библейского рассказа о сотворении мира упало им прямо в руки. На открытии конференции в Ватикане в 1951 году папа Пий XII провозгласил, что эта новая теория происхождения мира была свидетельством того, «как первозданное „да будет свет!“ было произнесено в момент, когда вместе с материей из пустоты вырвалось море света и излучения… Таким образом, сотворение мира имело место во времени, то есть кто-то его сотворил, поэтому Бог существует!»23
Сторонники противоположной доктрины скрипели зубами, особенно марксисты: помимо того, что новая теория отдавала религией, она еще и противоречила их вере в бесконечность и вечность материи, что было одной из аксиом диалектического материализма Ленина. Соответственно, теория была отвергнута как «идеалистическая». Склонявшийся к марксизму физик Дэвид Бом назвал создателей этой теории «учеными, которые фактически предали науку и отбрасывают научные факты, чтобы прийти к выводам, удобным для католической церкви»24. Атеисты, не признававшие марксизм, тоже проявили несговорчивость. «Некоторые молодые ученые настолько расстроены этими теологическими тенденциями, что решили попросту игнорировать их космологический источник», – заметил немецкий астроном Отто Хекман, один из выдающихся исследователей расширения Вселенной. Старейшина астрономии сэр Артур Эддингтон писал: «Представление о начале мне отвратительно… Я просто не верю, что существующий порядок вещей начался со взрыва… идея расширяющейся Вселенной противоречит здравому смыслу… невероятно… никак меня не впечатляет»25. Даже некоторые верующие ученые были встревожены. Космолог сэр Фред Хойл считал, что взрыв – унизительный способ для появления мира, что-то вроде «девочки по вызову, выскакивающей из торта»26. В интервью для Би-би-си в 50-е годы прошлого века Хойл язвительно назвал это гипотетическое начало «Большой бабах!»[8], и термин прижился. Незадолго до смерти в 1955 году Эйнштейн сумел преодолеть свои метафизические сомнения в отношении Большого взрыва и назвал попытки уйти от него с помощью специально придуманной теоретической уловки «самой большой ошибкой в моей карьере». Что касается Хойла и прочих скептиков, они в конце концов сдались в 1965 году, когда два исследователя из «Белл телефон лабораторис» случайно обнаружили вездесущее микроволновое излучение, которое оказалось эхом Большого взрыва. (Поначалу ученые подумали, что причиной постоянного шипения в микроволновом диапазоне был голубиный помет на антенне.) Если включить телевизор и настроиться между станциями, то примерно 10 % черно-белых крапинок на экране вызывается фотонами, которые остались от момента рождения Вселенной. Более наглядное доказательство реальности Большого взрыва невозможно и придумать – вы ведь можете увидеть остатки Большого взрыва в собственном телевизоре!
Был у Вселенной творец или не было, сам факт, что она возникла в какой-то момент в прошлом (13,7 миллиарда лет назад, согласно последним космологическим расчетам), выглядит насмешкой над идеей онтологически самодостаточной Вселенной: если нечто существует согласно собственной природе, то логично предположить, что оно вечно и нетленно. Теперь ясно, что к Вселенной это не относится: точно так же, как она внезапно появилась в результате первоначального Большого взрыва, расширилась и развилась до своего нынешнего состояния, она может исчезнуть в неком отдаленном будущем в результате Большого сжатия. (Впрочем, космологи до сих пор спорят, какой именно конец ждет Вселенную: Большое сжатие, Большое остывание или Разрыв на мелкие кусочки.) Жизнь Вселенной, как и жизнь каждого из нас, может быть лишь перерывом между двумя ничто.
Таким образом, с открытием Большого взрыва стало гораздо труднее отмахнуться от вопроса «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Арно Пензиас, один из тех, кто получил Нобелевскую премию за обнаружение электромагнитного эха Большого взрыва, писал: «Если бы Вселенная не существовала вечно, науке пришлось бы объяснять ее существование»27. Первоначальный вопрос «почему?» не только сохранился, но и должен быть дополнен вопросом «как?»: как Нечто могло появиться из Ничто?
Гипотеза Большого взрыва не только возродила надежды поборников религии, но и дала начало новому направлению в науке, изучающему происхождение Вселенной. При этом всевозможные объяснения разрастались, как грибы после дождя. В XX веке в физике произошло сразу два революционных открытия: первое, теория относительности Эйнштейна, утверждало, что у Вселенной было начало; второе, квантовая механика, имело еще более впечатляющие последствия, ибо подвергало сомнению саму идею причины и следствия. Согласно квантовой механике, события на микроуровне происходят случайно, что нарушает классический принцип причинности и открывает принципиальную возможность возникновения зародыша Вселенной без причины, сверхестественным или каким-либо другим способом. Возможно, мир возник сам по себе из абсолютного ничто. Все сущее может быть результатом случайной флуктуации в пустоте, «квантовым переходом» из Ничто в Нечто. Вопрос «Как именно это могло произойти?» стал предметом исследования маленькой, но влиятельной группы физиков, которых иногда называют «теоретиками Ничто». Эти физики (среди которых и Стивен Хокинг), полные метафизического нахальства и наивности, считают, что могут разрешить загадку, которая до них считалась неразрешимой в рамках науки.
Философы, вероятно, вдохновленные таким брожением в науке, стали проявлять больше смелости в онтологических вопросах. Логический позитивизм, отбросивший вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» как бессмысленный, к 60-м годам XX века ушел со сцены, став жертвой собственной неспособности провести практически пригодное различие между осмысленным и бессмысленным. После его кончины метафизика (учение о мире в целом) стала возрождаться. Даже в англоязычном мире «аналитические» философы больше не стеснялись исследовать метафизические проблемы. Самым бесстрашным из множества профессиональных философов, бившихся над тайной бытия в последние десятилетия, был Роберт Нозик из Гарвардского университета, умерший в 2002 году в возрасте 63 лет. Хотя наибольшую известность ему принесла книга «Анархия, государство и утопия», ставшая классикой либертарианства, больше всего Нозика увлекал вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». В своей последней книге «Философские объяснения» он посвятил пятьдесят страниц разнообразным ответам на этот вопрос, и некоторые из них звучат весьма непривычно. Нозик предлагает читателю вообразить Ничто как силу, «всасывающую объекты в небытие». Он предложил «принцип плодовитости», разрешающий одновременное существование всех возможных миров, и утверждал, что обладает неким мистическим прозрением в основание Вселенной. Что касается коллег, которые могли счесть подобные ответы на самый главный вопрос несколько странными, Нозик не находит им оправдания: «Тот, кто предлагает не странный ответ, очевидно, не понял вопроса»28.
На нынешний день в ответах на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» мыслители разделились на три лагеря. «Оптимисты» утверждают, что должна быть причина, почему мир существует, и что мы вполне способны ее обнаружить. «Пессимисты» считают, что должна быть причина, почему мир существует, но мы никогда не сможем узнать ее наверняка – возможно, потому что доступная нам часть мира слишком мала, чтобы найти причину, или потому, что причина лежит за пределами того, что доступно человеческому разуму, который природа создала для выживания, а не для проникновения во внутреннюю структуру космоса. И, наконец, «отрицатели» настаивают на том, что никакой причины для существования мира нет, а потому и сам вопрос не имеет смысла.
Необязательно быть философом или ученым, чтобы присоединиться к одному из этих лагерей, – каждый имеет на это право. Марсель Пруст, например, кажется, встал на сторону пессимистов: рассказчик в его эпопее «В поисках утраченного времени», размышляя о том, как дело Дрейфуса раскололо французское общество на враждебные группы, замечает, что политическая мудрость может быть так же бессильна положить конец раздорам в обществе, как «в философии чистая логика бессильна справиться с вопросом бытия».
Предположим, однако, что вы оптимист. Какой подход к тайне бытия будет самым многообещающим? Традиционный, который считает богоподобную сущность необходимым источником возникновения и существования всего сущего? Или научный, который использует идеи квантовой космологии для объяснения того, как Вселенная совершила скачок, возникнув из пустоты? Чисто философский подход, который пытается вывести причину существования мира из абстрактных рассуждений о ценностях или из абсолютной невозможности небытия? Некий мистический подход, который стремится получить ответ через озарение?
В наше время все эти подходы имеют своих сторонников и, на первый взгляд, кажутся заслуживающими внимания. Действительно, только рассмотрев тайну бытия со всех возможных сторон, мы можем надеяться найти какой-то ответ. Тем, кто считает вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» безнадежно неразрешимым или просто бессмысленным, можно напомнить, что интеллектуальный прогресс часто состоит в уточнении именно подобных вопросов таким образом, который не могли себе представить те, кто впервые задал их. Возьмем, например, другой вопрос, поставленный две с половиной тысячи лет назад Фалесом Милетским и прочими досократиками: «Из чего состоит вещество?» Столь всеобъемлющий вопрос может показаться наивным, даже детским, однако, как заметил оксфордский философ Тимоти Уильямсон, досократики «задали один из лучших вопросов, когда-либо заданных, – вопрос, который, в результате мучительных попыток ответить на него, привел к развитию современной науки». Отмахнуться от него с самого начала, признав не имеющим ответа, было бы «немощной и ненужной капитуляцией перед отчаянием, мещанством, трусостью или леностью»29.
Впрочем, именно вопрос тайны бытия может показаться бессмысленным, ведь, по словам Уильяма Джемса, «нет логического моста от несуществования к существованию»30. Однако можем ли мы знать это наверняка, не попытавшись построить такой мост? Некоторые мосты, которые когда-то казались невероятными, уже построены: от неживого к живому (благодаря молекулярной биологии) и от конечного к бесконечному (благодаря математической теории множеств). Сегодня ученые пытаются соединить разум и материю, а также создать единую теорию поля, соединяющую материю и математику. По мере развития таких объединений, возможно, нам удастся разглядеть размытые контуры моста между Ничто и Нечто (хотя, если квантовые физики правы, мост может оказаться туннелем) – будем надеяться, он не окажется ослиным[9].
Разгадка тайны бытия имеет не только интеллектуальные, но и эмоциональные мотивы. Наши эмоции обычно направлены на что-то, связаны с чем-то: я опечален смертью моей собаки; вы радуетесь победе любимой команды; Отелло взбешен неверностью Дездемоны. Однако некоторые эмоции кажутся беспричинными, не связанными ни с чем определенным. Депрессия и оживление, даже если обусловлены чем-то, существуют как бы сами по себе. Хайдеггер утверждал, что на самом глубоком уровне все эмоции таковы. Какой же должна быть эмоция, направленная на весь мир в целом?
Ответ на этот вопрос разделяет людей на две категории: тех, кто улыбается миру, и тех, кто на него хмурится. В качестве известного представителя последней категории можно назвать Артура Шопенгауэра, чей философский пессимизм повлиял впоследствии на таких мыслителей, как Толстой, Витгенштейн и Фрейд. Как заявил Шопенгауэр, если мы удивляемся существованию мира, то это удивление вызвано страхом и болью: именно поэтому «философия, подобно увертюре к опере „Дон Жуан“, начинается с минорного трезвучия». Мы живем не в лучшем, а в худшем из миров, продолжает Шопенгауэр. Небытие «не только мыслимо, но и предпочтительно бытию». Почему? В метафизике Шопенгауэра Вселенная есть представление усилия, одной единой Воли, а все мы, с нашими вроде бы индивидуальными волями, всего лишь крохотные частички этой космической Воли. Даже неживая природа (гравитационное притяжение, непроницаемость материи) тоже является ее частью. А Воля, согласно Шопенгауэру, есть по сути страдание: никакая цель, будучи достигнута, не приносит удовлетворения; Воля либо неудовлетворена и несчастна, либо пресыщена и скучает. Шопенгауэр первым привнес буддийскую идею в западную философию, заявив, что единственный способ избавиться от страдания – это уничтожить волю и таким образом войти в состояние нирваны, которое максимально приближает нас к небытию: «Нет воли – нет идеи, нет мира. Перед нами есть только Ничто». Надо сказать, что сам Шопенгауэр не особо усердствовал в проповедуемом им пессимистическом аскетизме: он любил вкусно поесть, имел немало романов, был сварлив, жаден и одержим тщеславием (своего пуделя он назвал Атман, что на санскрите означает «мировая душа»).
В прошлом веке, по крайней мере в литературе, преобладали хмурые последователи Шопенгауэра, и особенно часто они встречались на бульварах Парижа. Возьмем хотя бы Эмиля Чорана, румынского писателя, который переехал в Париж и превратился в экзистенциального фланера. Даже очарование новой родины не могло уменьшить его нигилистическое отчаяние. «Когда вы осознали, что ничего нет, – писал Чоран, – что окружающее нельзя назвать даже призраком, то вам более нет нужды искать спасения, вы уже спасены и навсегда несчастны»31.
Сэмюел Беккет, еще один иммигрант в Париже, тоже страдал от пустоты бытия. Почему, вопрошал Беккет, космос безразличен к нам? Почему мы столь незначительная его часть? Почему мир вообще существует?
Жан-Поль Сартр, находясь в дурном расположении духа, бывал столь же злобно настроен по отношению к миру. Рокантен, герой автобиографического романа Сартра «Тошнота», чувствует, что задыхается от злости на чудовищные массы грубого, бесстыдного существования, окружающие его, когда он сидит под каштаном в вымышленном городе Бувиль (что можно перевести с французского как «Грязь-город»). Абсолютная случайность всего этого поражает Рокантена как абсурдная до неприличия: «Нельзя было даже задаться вопросом, откуда все это берется и как все-таки получается, что существует какой-то мир, а не ничто». «Гнусность!» – невольно вскрикивает он, имея в виду «массы существования», и проваливается в «бесконечную усталость»32.
Американские литературные деятели обычно выражали свой онтологический пессимизм более жизнерадостно. Например, драматург Теннесси Уильямс просто заметил, что «пустота гораздо лучше того, чем природа ее замещает»33, и опрокинул очередной стаканчик виски. Джон Апдайк выразил свое противоречивое отношение к бытию через выдуманное «второе я» – сексуально озабоченного, склонного к отчаянию еврейского писателя Генри Бека. В одном из рассказов Апдайка Бека пригласили прочитать лекцию в школе-интернате для девочек, где его считали литературной знаменитостью. После лекции, во время ужина в свою честь, Бек «посмотрел вокруг на жующих особей женского пола и увидел их тела, как увидел бы марсианин или моллюск: мясистые пучки нервов, странно сжатые в почку в голове; волосатые костные выпуклости, содержащие несколько фунтов желе, где миллиарды электрических контуров, в основном мертвых, хранят записи, закодированные движения и производят избыток электричества, который давит на безволосую часть головы, вытекая через отверстия в виде страдальческих, полных надежды звуков и обезьяньих ужимок»34. К Беку пришло нигилистическое озарение: «пустоту следовало бы оставить в покое, избавить от усилий стать материей, жизнью и, хуже всего, сознанием»; все сущее – всего лишь «пятно на пустоте». Тем не менее, пребывая в более жизнерадостном расположении духа или изображая жизнерадостность во время записи интервью, Бек способен улыбнуться бытию: «Он верил в достоинство неживого, в хитросплетения живого, в красоту обычной женщины и в здравый смысл обычного мужчины»35. В общем, Бек верил в ценность Нечто по сравнению с Ничто. Приступ онтологического оптимизма Бека напоминает мне о знаменитой американской представительнице трансцедентализма XIX века Маргарет Фуллер, которая частенько восклицала: «Я принимаю Вселенную!» (на что язвительный Томас Карлейл ответил: «Попробовала бы не принять!»).
Пожалуй, самое звучное признание ценности мира не литературное или философское, а музыкальное – предложенное Гайдном в оратории «Сотворение мира»: из музыкального хаоса в начале, из смеси странных гармоник и обрывков мелодий вдруг возникает момент творения, когда Господь восклицает: «Да будет свет!», – и певцы отвечают: «И стал свет», оркестр и хор дружно взрываются мощным и продолжительным до-мажорным аккордом – полной противоположностью печального «минорного трезвучия» Шопенгауэра.
Отношение к бытию в целом не должно определяться лишь темпераментом человека (тем, насколько он желчен или хорошо ли выспался), а должно быть обосновано логически, что можно сделать, только изучая вопрос «Почему есть Нечто, а не Ничто?». Может быть, мир существует как раз потому, что в целом он лучше, чем ничто? Некоторые философы именно так и считают. Они называют себя «аксиархисты» (от греческого «ценность – важнее всего!») и утверждают, что космос мог появиться в ответ на потребность в ценности. Если они правы, то мир (и наше существование в нем) может быть лучше, чем нам кажется. Нам следует внимательнее смотреть вокруг, чтобы заметить его трудноуловимые достоинства – например, скрытые гармонии и маленькие радости.
Другие утверждают, что победа Нечто над Ничто вполне могла быть результатом слепого случая. Ведь возможны множества способов существования Нечто (миры, где все голубое, или миры, сделанные из сыра) и всего лишь один способ существования Ничто. Если допустить, что все возможные миры получили равный шанс в космической лотерее, то с очень высокой вероятностью одно из многих Нечто выиграет у одинокого Ничто. Если выяснится, что мир и вправду приключился случайно, то нам придется несколько снизить требования к нему: если Вселенная – это результат выигрыша в космической лотерее, то выигравший мир вполне может быть весьма посредственным: не слишком добрым и не слишком злым, не слишком упорядоченным и не слишком хаотичным, не слишком красивым и не слишком уродливым. Ведь посредственных вариантов очень много, а по-настоящему хорошие или ужасные – большая редкость.
С другой стороны, если ответ на загадку существования окажется теистическим или квази-теистическим (то есть включает что-то вроде творца), тогда отношение к миру будет зависеть от природы этого творца. Основные монотеистические религии утверждают, что мир был создан всеблагим и всемогущим Богом. Если это так, то приходится смотреть на мир более или менее благосклонно, несмотря на его недостатки, как физические (вроде избыточных элементарных частиц и взрывающихся звезд), так и моральные (например, больные раком дети и холокост).
Впрочем, некоторые религии придерживаются другой точки зрения. Гностики (религиозное направление, включившее в себя множество ересей и процветавшее в первый раз в эпоху раннего христианства, а потом вновь – в эпоху Возрождения) считали, что материальный мир был создан не благим божеством, а злым демиургом, и этим оправдывали свою ненависть ко всему материальному. (Если бы правоверные христиане и гностики могли прийти к взвешенному компромиссу и согласиться, что мир был создан существом, которое злобно на 100 %, но эффективно только на 80 %, то я, пожалуй, к ним бы присоединился.)
Из всех возможных ответов на загадку существования самым волнующим, пожалуй, стало бы открытие, что, вопреки всему, мир есть причина самого себя. Этот вариант впервые предложил Спиноза, который смело (хотя и несколько невнятно) утверждал, что все сущее состоит из единой бесконечной субстанции и все отдельные сущности, как физические, так и психические, являются лишь временными изменениями этой субстанции – как волны на поверхности океана. Спиноза называл эту бесконечную субстанцию «Deus sive Natura» («Бог или Природа»). По мнению Спинозы, Бог и природа не могут быть отдельны друг от друга, потому что тогда они взаимно ограничат друг друга. Поэтому мир сам по себе божественен: вечен, бесконечен и есть причина самого себя, а стало быть, заслуживает от нас почтительного и благоговейного отношения. Такое метафизическое понимание мира, согласно Спинозе, ведет к «интеллектуальной любви» к нему – высочайшая цель для человека и максимальное приближение к бессмертию.
Нарисованная Спинозой картина мира, который есть причина самого себя, захватила воображение Альберта Эйнштейна. В 1921 году один нью-йоркский рабби спросил Эйнштейна, верит ли тот в бога, и получил следующий ответ: «Я верю в Бога Спинозы – в бога, который проявляет себя в существующей гармонии мира, а не в бога, который занят судьбами и делами людей»36.
Идея, что мир каким-то образом содержит в себе ключ к своему собственному существованию – а стало быть, существует по необходимости, а не в силу случайности, – созвучна размышлениям метафизически настроенных физиков, таких как сэр Роджер Пенроуз и покойный Джон Арчибальд Уилер (придумавший термин «черная дыра»).
Предполагалось даже, что без человеческого разума мир не мог бы быть причиной самого себя. Хотя на первый взгляд мы являемся лишь ничтожно малой частью космоса, именно наше сознание превращает мир как целое в реальность. В этой гипотезе, иногда называемой «антропным принципом участия», реальность образована самоподдерживающейся петлей причинности: мир создает нас, а мы, в свою очередь, создаем мир. Это чем-то похоже на роман Пруста, в котором на протяжении тысяч страниц описываются жизнь и страдания героя, а в самом конце он принимает решение написать тот самый, только что прочитанный нами, роман. Подобная фантазия (мы творим мир, и одновременно мир творит нас!) может показаться слишком хороша, чтобы быть правдой, тем не менее в поисках ответа на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» мы неизбежно должны расстаться с прежними представлениями о мире и о своем месте в нем. Удивление, вызываемое в нас самим существованием Вселенной, может превратиться в невиданное восхищение, когда мы начнем прозревать, в самых общих чертах, причину ее существования. Наше легкое беспокойство о хрупкости сущего может уступить место уверенности в том, что мир окажется гармоничным, ясным и интеллектуально надежным или, напротив, может превратиться в космический ужас, когда мы осознаем, что все, окружающее нас, – всего лишь онтологический мыльный пузырь, который может в любой момент лопнуть, без всякого предупреждения. И тогда наше нынешнее ощущение потенциального могущества человеческой мысли может уступить место смиренному принятию пределов разума или восхищению его прыжкам и полетам – или и тому и другому одновременно. Возможно, мы почувствуем то же, что почувствовал математик Георг Кантор, открыв новые глубины в понятии бесконечности: «Я вижу это, но не верю!»37
Прежде чем углубиться в загадку существования, было бы справедливо отдать должное пустоте. Как писал немецкий дипломат и философ Макс Шелер, «тот, кто не заглянул в бездну абсолютного Ничто, совершенно неспособен увидеть невероятную позитивность осознания, что существует Нечто, а не Ничто»38.
Давайте теперь ненадолго погрузимся в эту бездну, в полной уверенности, что вернемся назад не с пустыми руками: как говорится, кто ищет, тот найдет.
Интерлюдия: Арифметика Ничто
В математике у ничто есть имя – нуль. Понятие нуля изобрели индийские математики, грекам и римлянам оно и в голову не могло прийти: как ничто может быть чем-то? В античной математике не было цифры ноль, без которой невозможно пользоваться преимуществами позиционной системы счисления (в которой, например, «307» означает 3 сотни, 0 десятков и 7 единиц); именно поэтому умножение в римской системе счисления ужасно неудобно.
С идеей пустоты индийских математиков познакомила буддийская философия, поэтому они с легкостью оперировали абстрактным символом, означавшим ничто. В средние века арабские ученые перенесли эту систему записи чисел на запад, в Европу, поэтому эти цифры стали называть «арабскими». Индийское слово «sunya» («ноль») в арабском превратилось в «sifr» и перешло в русский в виде «цифра» и «шифр»[10].
Хотя европейские математики с восторгом встретили ноль как способ записи числа, к стоявшей за ним идее они поначалу отнеслись настороженно: ноль считался всего лишь обозначением, а не настоящим числом. Впрочем, вскоре он стал обретать более значимое содержание, чему, как ни странно, способствовало развитие торговли. Когда в 40-е годы XIV века в Италии изобрели бухгалтерский учет методом двойной записи, ноль стал служить естественным разделителем между кредитами и дебитами.
Неважно, открыт был ноль или придуман, он был числом, и не считаться с ним невозможно. Философские сомнения в его сущности отступили перед виртуозными вычислениями таких математиков, как Фибоначчи и Ферма. Когда дело доходит до решения уравнений, ноль – просто подарок для алгебраистов: если уравнение можно привести к виду ab=0, то либо a=0, либо b=0.
Что касается происхождения самого символа «0», то историкам античности так и не удалось его обнаружить. Согласно одной теории (ныне развенчанной), он произошел от первой буквы греческого слова «ouden» («ничто»). Согласно другой, довольно причудливой теории, 0 произошел от округлого отпечатка, оставленного монетой на песке, – материальный след нематериального.
Пусть 0 означает Ничто, а 1 – Нечто. Тогда мы можем задать игрушечный вариант загадки существования: как нам из 0 получить 1?
В высшей математике есть простой способ показать, что переход от 0 к 1 невозможен. Математики называют число «регулярным», если его нельзя получить из чисел, предшествующих ему. Точнее, число n является регулярным, если его нельзя получить сложением менее чем n чисел, меньших, чем n.
Легко показать, что 1 является регулярным числом: единицу нельзя получить сложением предшествующих ей чисел, потому что единственное, что можно сложить, это ноль, а сумма нулей равна нулю в любом случае. Поэтому нельзя получить Нечто из Ничто.
Забавно, но не только единицу нельзя получить таким способом. Оказывается, число два тоже регулярное, поскольку его нельзя получить сложением менее чем двух чисел, меньших двух (сами попробуйте – и убедитесь). Поэтому нельзя получить Множество из Единства.
Все остальные конечные числа не обладают этим любопытным свойством регулярности, то есть их можно получить из предшествующих им чисел. Например, число три получается сложением двух чисел, 1 и 2, каждое из которых меньше, чем три. А вот первое бесконечное число, обозначаемое греческой буквой «омега», оказывается регулярным: его нельзя получить сложением конечного числа конечных чисел. Поэтому нельзя получить Бесконечность из Конечности.
Вернемся теперь к 0 и 1. Можно ли как-то перескочить через пропасть между ними – через арифметическую пропасть между Ничто и Нечто? Для этого понадобился гений самого Лейбница, который был не только выдающимся философом, но и великим математиком, придумавшим математический анализ примерно в одно время с Ньютоном. (Эти двое ожесточенно спорили о том, кто был на самом деле первым, но одно ясно наверняка: система записи Лейбница гораздо удобнее!). Помимо всего прочего, математический анализ имеет дело с бесконечными рядами, например, с таким:
1/(1—x) = 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5 +…
С потрясающей невозмутимостью Лейбниц подставил в этот ряд —1 и получил:
1/2 = 1–1 + 1–1 + 1–1 +…
Если расставить скобки соответствующим образом, то мы придем к интересному равенству:
1/2 = (1–1) + (1–1) + (1–1) +…
или
1/2 = 0 + 0 + 0 +…
Лейбниц был ошеломлен: перед ним математическая аналогия тайны творения! Похоже, это уравнение доказывает, что Нечто в самом деле можно создать из Ничто!
Увы, он обманулся. Вскоре математики осознали, что подобные ряды имеют смысл, только если они сходятся, т. е. в конце концов бесконечная сумма имеет предел, определенное число. Знакочередующийся ряд Лейбница предела не имеет, так как его частичные суммы все время прыгают от 0 к 1 и обратно. Таким образом, «доказательство» Лейбница неверно; и как математик он наверняка подозревал это, хотя как метафизик поначалу возликовал.
А не удастся ли нам спасти хоть что-нибудь из обломков этой гипотезы? Давайте рассмотрим простое равенство:
0 = 1–1.
Что оно может обозначать? Разумеется, оно обозначает, что при сложении 1 и -1 получается 0. И вот это уже интересно! Представьте себе обратный процесс: не сложение 1 и -1, чтобы получить 0, а разделение 0 на 1 и -1. Если сначала у нас не было ничего, то теперь вдруг появились два нечто! Очевидно, противоположных друг другу – как положительная и отрицательная энергия, материя и антиматерия, инь и ян39.
Еще более интересная идея, за которую ухватился оксфордский химик (и страстный атеист) Питер Эткинс, состоит в том, что —1 есть то же самое, что 1, только движущаяся из будущего в прошлое. По словам Эткинса, «противоположности различаются направлением движения во времени». При отсутствии времени -1 и 1 взаимоуничтожаются, объединяясь в ноль. Время позволяет двум противоположностям отделиться друг от друга, что таким образом и отмечает появление времени. Эткинс предполагает, что именно так спонтанно зародилась Вселенная. (Джон Апдайк был настолько поражен этой идеей, что использовал ее в романе «Россказни Роджера» в качестве альтернативы теистическому объяснению бытия.)
И все это из 0=1–1! В этом уравнении гораздо больше онтологического смысла, чем кажется.
Математика может перекинуть мостик от Ничто к Нечто не только с помощью простой арифметики, но и через теорию множеств. На довольно раннем этапе обучения, часто еще в средней школе, дети знакомятся с интересным понятием под названием «пустое множество». Пустое множество не содержит ни одного элемента: например, множество президентов США женского пола, предшествовавших Бараку Обаме. Пустое множество принято обозначать {}, т. е. пустыми фигурными скобками, или символом 0. Иногда дети встречают понятие пустого множества в штыки: как может быть множеством то, что ничего не содержит? И не только дети реагируют подобным образом: один из величайших математиков XIX века Рихард Дедекинд отказался признавать пустое множество чем-либо, кроме удобной выдумки. Эрнст Цермело, создатель теории множеств, называл пустое множество «неприличным».
Позднее великий американский философ Дэвид Льюис насмехался над пустым множеством, называя его «песчинка в абсолютной пустоте, вроде черной дыры в самой ткани реальности… особая индивидуальность, попахивающая ничем»40.
Существует ли пустое множество? Может ли существовать нечто, что заключается в – и чьей единственной определяющей чертой является – Ничто? Ни сторонники, ни противники не сумели привести весомых аргументов за или против пустого множества. В математике оно просто принимается как данность: его существование может быть доказано на основе аксиом теории множеств, если предположить, что во Вселенной существует хотя бы еще одно множество, помимо пустого.
Давайте проявим метафизическое свободомыслие и скажем, что пустое множество в самом деле существует. Даже если нет ничего, то должно быть пустое множество, его содержащее. В результате такого допущения разворачивается целая онтологическая оргия: если существует пустое множество Ø, то существует и множество {Ø}, содержащее его; тогда существует и множество, содержащее как Ø, так и {Ø}: {Ø, {Ø}}; а также множество, содержащее это новое множество плюс Ø и {Ø}: {Ø, {Ø}, {Ø, {Ø}}}, и так далее.
Из абсолютной пустоты вдруг возникает невероятное количество сущностей! Эти сущности не состоят из чего-то, а представляют собой чисто абстрактные структуры и могут имитировать структуру чисел: в предыдущем параграфе мы «создали» цифры 1, 2 и 3 из пустого множества. А числа, благодаря своим широким взаимосвязям, могут имитировать всю Вселенную. По крайней мере, они способны на это, если Вселенная состоит из математически структурированной информации, как полагают некоторые мыслители, например Джон Арчибальд Уилер. Взгляды Уилера отражает лозунг «всё из бита» («it from bit»). Вся феерия реальности может быть создана из пустого множества – из Ничто.
Однако для этого, разумеется, необходимо существование самого Ничто.
Глава 3 Краткая история Ничто
Хартли сказал маменьке, что сегодня целый день думал – все утро, весь день и весь вечер – «что будет, если будет ничто? Если все мужчины и женщины, деревья и трава, птицы и звери, небо и земля – все исчезнет: темнота и холод – и нечему быть темным и холодным».
Сэмюел Тэйлор Кольридж, из письма к Саре Хатчинсон, июнь 1802 г. (Хартли был сыном Кольриджа)Ничто! Ты мрачной Тени старший брат,
Ты прежде, чем был этот Мир зачат,
Застыло, не боясь, что ждет тебя распад[11].
Джон Уилмот, «К Ничто»Ничто,
сказал Хайдеггер,
заслуженный
модернист,
ничтит.
Архилох Джонс, «Объяснение метафизики»Что есть Ничто? Макбет ответил на этот вопрос с восхитительной изысканностью: «Ничто есть только то, чего нет». Мой словарь дает несколько более парадоксальную формулировку: «Ничто (сущ.) – нечто, чего не существует»41. Хотя Парменид, древний элейский философ, заявил, что невозможно рассуждать о том, чего нет (тем самым нарушая собственное наставление), простые люди о Ничто знают все. Что может быть лучше бокала сухого мартини? Ничто! А что хуже крошек в постели? Ничто! Ничто, которое так нужно богачу, в избытке у бедняка. Если питаться им слишком долго, то непременно умрешь. Временами оно не может быть дальше от истины, хотя и неясно, насколько близко к ней оно находится. Что может быть белым и черным одновременно? Только Ничто! Какую пару противоположностей ни выбери, Ничто их воплощает. Таким образом, кажется, что Ничто дает ответы на все вопросы. Следовательно, все должно быть понятно, и тогда ничего непонятного не остается – включая Ничего!
Возможно, именно поэтому в мире полно людей, которые знают и понимают Ничто, а также верят в него. И будьте осторожны, рассуждая о нем непочтительно, ибо многие самоуверенные типы (назовем их «ничелюбами») на вопрос «что для вас свято?», не задумываясь, ответят: «Ничто!» Ex nihilo nihil fit, как говорили древние философы, и король Лир с ним соглашался: в самом деле, что может произойти из ничего? Только Ничто! Похоже, что Ничто обладает замечательной способностью производить самое себя – то есть быть, подобно Богу, causa sui. Философ Лейбниц тоже сделал Ничто комплимент, заметив, что оно «проще и легче, чем Нечто», ведь всем доводилось сталкиваться с вопросом «что может быть проще и легче?» и на собственном опыте убедиться в ответе: Ничто! Именно кажущаяся простота Ничто сподвигла Лейбница задуматься, почему же существует Нечто, а не Ничто? Если бы было только Ничто, то ничего не понадобилось бы объяснять – и некому было бы требовать объяснений.
Если Ничто так просто и естественно, то почему же оно так загадочно? В 20-е годы XVII века Джон Донн, вещая с кафедры, дал правдоподобный ответ: «Чем меньше Нечто, тем меньше мы о нем знаем – насколько же невидимо и непонятно должно быть Ничто!»42 Почему же такое простое (хотя и непонятное) Ничто кажется другим зловещим? Возьмем швейцарского теолога Карла Барта, одного из самых глубоких и смелых мыслителей XX века. «Что есть Ничто? – спрашивал Барт. – Это то, чего не хочет Бог»43. В книге «Догматика церкви», огромном и незавершенном труде всей своей жизни, Барт писал: «Свойства Ничто проистекают из его онтической особенности – зла». Согласно Барту, Ничто возникло одновременно с Нечто, когда Бог создавал мир. Ничто и Нечто подобны паре онтологических близнецов, противоположных в своем моральном характере: именно Ничто является причиной порочной склонности человека творить зло, бунтовать против божественного добра. Для Барта Ничто прямо-таки проявление дьявола.
Экзистенциалисты, хотя и не верят в бога, относятся к Ничто с таким же страхом. «Ничто преследует сущее», – провозгласил Жан-Поль Сартр в своем увесистом трактате «Бытие и Ничто». С точки зрения Сартра, мир подобен маленькому запечатанному бочонку бытия, плавающему в обширном море небытия. От Ничто нельзя укрыться даже в парижском кафе, где в удачный день в задымленном воздухе, оживленных голосах, позвякивающих бокалах вина ощущается «полнота бытия». Сартр пришел в «Кафе де Флор» на встречу со своим другом Пьером. А Пьера там не оказалось! И вуаля – лужица небытия просочилась в пространство бытия из окружающего его великого Ничто. Поскольку Ничто проникает в наш мир через разбитые надежды и несбывшиеся ожидания, виновато во всем наше сознание. По мнению Сартра, сознание есть не что иное, как дыра в сердце бытия. Единомышленник Сартра, экзистенциалист Хайдеггер, приходивший в ужас от одной мысли о Ничто, тем не менее исписал множество страниц на эту тему. «Тревога обнаруживает Ничто»44, – заметил он. Хайдеггер различал страх, вызываемый определенным объектом, и тревогу, то есть смутное ощущение, будто с миром что-то не так. Чего мы боимся в состоянии тревоги? Ничего! Наше существование возникает из бездны небытия и заканчивается в пустоте смерти. Таким образом, интеллектуальная дуэль каждого из нас с небытием пронизана ужасом нашего собственного неминуемого несуществования.
Что касается природы небытия, тут Хайдеггер невероятно невнятен. «Ничто не является ни объектом, ни чем-либо еще», – вполне благоразумно заявил он однажды. Чтобы избежать фразы «Das Nichts ist» («Ничто есть»), ему пришлось прибегнуть к престранному выражению «Das Nichts nichtet» («Ничто ничтит»)45. Теперь Ничто предстает не бездейственным объектом, а действующей силой, чем-то вроде уничтожителя.
Американский философ Роберт Нозик развил идею Хайдеггера еще дальше: если Ничто – уничтожающая сила, то может уничтожить само себя, таким образом давая начало бытию. Он представил себе Ничто как «силу в вакууме, втягивающую объекты в небытие или удерживающую их там. Если эта сила действует сама на себя, то втягивает небытие в небытие, производя Нечто или, возможно, все сущее»46. Нозик вспомнил существо-уборщика из фильма «Желтая подводная лодка», которое всасывает в себя все, что ему встречается на пути. Поглотив все, что было на экране, оно в конце концов всасывает самого себя в небытие, и – хлоп! – мир появляется снова, вместе с «Битлз».
Хотя рассуждения Нозика о Ничто выглядят игривыми, некоторые из его собратьев-философов на них очень разозлились и сочли, что он намеренно скатывается в бессмыслицу. Один из них, оксфордский философ Майлз Бернит, прокомментировал рассуждения Нозика так: «Продравшись сквозь эту безумную и путаную попытку найти категорию вне бытия и небытия и надивившись на графики, изображающие „количество силы Ничто, требующейся для уничтожения еще некоторого количества приложенной силы Ничто“, можно стать позитивистом, не сходя с места»47.
В самом деле, логические позитивисты воспринимают подобные рассуждения как много шума из ничего. Один из наиболее известных позитивистов Рудольф Карнап заметил, что экзистенциалистов запутала грамматика: поскольку «Ничто» ведет себя как существительное, то они решили, будто оно должно обозначать некую сущность, то есть Нечто. Точно такую же ошибку совершает Черный Король в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: Никто должен был прибыть первым, потому что обогнал гонца по дороге, рассуждает Король. Используя «Ничто» в качестве названия сущности, можно бесконечно городить чушь – как видно из первых параграфов данной главы.
Ничто не может быть объектом осмысленного рассуждения – эта мысль родилась еще на заре западной философии. Парменид, величайший из досократиков, особенно на этом настаивал. Парменид – фигура довольно загадочная. Уроженец города Элея в Южной Италии, он жил и работал в середине V века до н. э. Говорят, что в старости он познакомился с молодым тогда Сократом. Платон называл Парменида «почтенным и внушающим благоговение». Парменид первым из греческих философов создал обоснованное логическое рассуждение о природе реальности и, таким образом, может считаться отцом метафизики. Любопытно, что он решил представить свои рассуждения в форме аллегорической поэмы, из которой до наших дней дошло 150 строк. В поэме неназванная богиня предлагает рассказчику выбрать один из двух путей: путь бытия или путь небытия. Однако последний путь оказывается иллюзорным, потому что о небытии нельзя ни размышлять, ни говорить. Точно так же, как видеть Ничто означает ничего не видеть, говорить или думать о Ничто означает не думать вообще, а приближение к Ничто есть невозможность продвигаться вперед. Последователи Парменида явно развенчивают тайну бытия: если мы не можем осмысленно рассуждать о «Ничто», то вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» тоже не имеет смысла. Слова значили бы не более, чем пузырьки, испускаемые рыбами. Впрочем, смысл можно быстро вернуть на место, если просто разделить «Ничто» и «пустоту». Как напомнили бы нам логики, «Ничто» не название объекта, а лишь сокращенная форма выражения «нет Ничего, что», тогда как «пустота» в самом деле обозначает нечто, а именно онтологическую возможность, вполне представимое состояние, в котором ничего не существует. В математике это различие становится точным благодаря понятию «пустое множество». Пустое множество – это множество, не имеющее ни одного элемента, то есть Нечто, содержащее Ничто. Используя принятое в теории множеств обозначение множества фигурными скобками, можно записать следующее уравнение:
Пустота = {Ничто}.
Проведя различие между пустотой и Ничто, легко разрешить кажущиеся парадоксы, возникающие в результате смешения этих понятий. Греческие философы очень любили подобные парадоксы: «Как может что-то быть чем-то, что не есть нечто? Будучи ничто». Столь же легко справиться с афористическими высказываниями вроде хайдеггеровского «Das Nichts nichtet». Переведенное как «Ничто ничтит», оно выглядит верным, но неинтересным: разумеется, нет ничего, что ничтит! А если перевести его как «пустота ничтит», оно становится явно ложным, ибо пустота ничего подобного не делает. Пустота есть всего лишь одна из возможных реальностей, а возможная реальность либо воплощается, либо не воплощается. Вот и все. Она не может делать ничего – в том числе не может ни создавать что-то, ни «ничтить» его.
Однако является ли пустота одной из возможных реальностей? Мы все наверняка испытали отсутствие или потерю, нам хорошо знакомы дыры и провалы, нехватка и дефициты. Как заметил покойный Питер Хит (озорной британский философ и мой бывший учитель), свободные места и вакантные должности даже печатают в газетах. Но это лишь крохи пустоты, окруженные со всех сторон миром бытия. А как насчет Абсолютной пустоты, полного отсутствия всего? Возможно ли это? Некоторые философы утверждали, что невозможно, поскольку эта идея сама себе противоречит. Если они правы, то загадка бытия имеет легкое и довольно тривиальное решение: Нечто существует, потому что Ничто существовать не может. Как сказал один современный философ: «У бытия нет альтернативы»48.
Верно ли это? Попробуйте закрыть глаза и заткнуть уши. Теперь вообразите себя в полной пустоте. Попытайтесь усилием воли уничтожить все вокруг. Подобно сыну Кольриджа, можно начать с того, что все люди, деревья, трава, птицы, животные, земля и небо исчезли. Исчезло не только небо, но и все, что в нем есть. Представьте себе, как потухают огоньки во всем космосе: исчезло солнце, погасли звезды, галактики пропадают – одна за другой или мириады за мириадами. Перед вашим мысленным взором вся Вселенная погружается в безмолвие, холод и темноту – и нечему быть безмолвным, холодным и темным. Вот теперь вы сумели вообразить полную пустоту.
Или не сумели? Когда французский философ Анри Бергсон попытался проделать этот мысленный эксперимент, то обнаружил, что в конце концов все равно остается нечто – его собственное «я». Бергсон представлял себе мир как вышивку на канве пустоты. Однако когда он попытался сорвать эту вышивку, осталась канва его сознания. Несмотря на все усилия, от нее не удавалось избавиться: «В то самое мгновение, когда мое сознание гаснет, другое загорается – точнее, оно уже горит, ибо возникло на мгновение раньше, чтобы наблюдать за исчезновением первого». Бергсон обнаружил, что невозможно вообразить полную пустоту, поскольку какой-то остаток сознания вползает в темноту, как свет, пробивающийся под дверью. Поэтому он заключил, что пустота невозможна.
Бергсон не единственный философ, который пришел к такому выводу. Британский идеалист Фрэнсис Брэдли, автор книги с устрашающим названием «Явление и реальность», тоже утверждал, что полная пустота немыслима, а стало быть, невозможна.
Довольно неудачную попытку вообразить пустоту предпринял некто Ш., пациент известного российского психолога Александра Лурии. Ш. обладал необычайной памятью, о которой Лурия написал целую книгу под названием «Маленькая книга о большой памяти». Как ни странно, память Ш. была почти исключительно визуальной, поэтому когда он попытался представить себе ничто, все пошло катастрофически не так, как можно было бы ожидать:
«Чтобы глубоко понять смысл, надо увидеть его… Ну вот слово „ничто“… Я вижу „ничто“ – это что-то… Я обращаюсь к жене и спрашиваю: что такое „ничто“? Это нет ничего. А у меня по-другому. Я видел это „ничто“, я чувствовал, что она не то думает… Если появляется „ничто“, значит, есть что-то… Вот здесь-то и трудности…»
Возможно, любая попытка вообразить Ничто обречена на неудачу. Но даже в этом случае является ли способность представить себе Нечто надежным доказательством его возможного существования? Если мы не можем вообразить абсолютную пустоту (за исключением разве что сна без сновидений), означает ли это, что всегда должно существовать что-то? Необходимо остерегаться впадения в то, что называется «заблуждение философии», то есть склонность принимать недостаток воображения за проникновение в истинную сущность бытия. Мыслитель, склонный к такому заблуждению, скажет, что не может вообразить ничего другого, а следовательно, все должно быть именно так. Во Вселенной не только возможно, но и действительно существует многое из того, что лежит за пределами возможностей нашего воображения. Например, мы не можем представить себе объект, не имеющий цвета, однако атомы бесцветны (они даже не серые). Большинство из нас, за исключением нескольких особо одаренных математиков, не могут вообразить искривленное пространство. Тем не менее теория относительности Эйнштейна утверждает, что мы на самом деле живем в искривленном четырехмерном пространстве-времени, которое нарушает законы евклидовой геометрии, – нечто невообразимое для Иммануила Канта и потому признанное им невозможным по философским причинам.
Бергсон и Брэдли думали, что абсолютная пустота внутренне противоречива, потому что сама возможность ее существования подразумевает также и существование наблюдателя, способного размышлять о ней. Назовем это «аргументом наблюдателя» против пустоты. Аргумент наблюдателя выглядит сомнительно не только на общих основаниях, но и потому что приводит к невероятным следствиям, а именно к заключению, что все возможные вселенные должны иметь хотя бы одного наблюдателя, обладающего сознанием. Однако наверняка физически возможна вселенная, в которой нет сознания. Если бы физические константы в нашем мире (сила слабого взаимодействия, масса истинного кварка и так далее) хотя бы немного отличались от своих существующих значений, то Вселенная была бы просто наполнена грубой материей, а эволюция жизни не состоялась бы. А по логике аргумента наблюдателя такая вселенная-зомби существовать не может, потому что ее некому наблюдать. Версия аргумента наблюдателя по Бергсону приводит к еще более абсурдным следствиям: в своем воображении он не мог уничтожить собственное «я». Следуя принципу невозможности невообразимого, приходится заключить, что его несуществование невозможно: независимо от того, что случилось со Вселенной (пустая она, полная или какая-то еще), она непременно должна включать в себе месье Бергсона, который является этаким богоподобным существом, без которого мир существовать не может. Это даже солипсизмом назвать трудно.
Есть еще один аргумент против пустоты, который логически сходен с первым, но выглядит более объективно. Подобно аргументу наблюдателя, он тоже утверждает, что наши попытки вообразить полную пустоту обречены быть частичными, однако указывает, что в остатке остается не сознание, а нечто не психологическое: если представить себе, что все содержимое космоса уничтожено, то у нас всегда остается та обстановка, в которой оно находилось. Эта обстановка может быть пустой, но не есть пустота, ибо сосуд без содержимого по-прежнему остается сосудом. Назовем это «аргументом сосуда» против пустоты.
Одним из почтенных сторонников аргумента сосуда является Беда Рандл, современный философ из Оксфорда. В книге с характерным названием «Почему существует Нечто, а не Ничто» Рандл пишет: «Наша попытка мысленно избавиться от всего равносильна мысленному образу области пространства, из которой убрали все содержимое, что по силе доказательства возможности существования пустоты равносильно образу пустого шкафа»49. А что есть на самом деле этот «пустой шкаф»? Похоже, что Рандл считает его эквивалентным самому пространству. И поскольку нельзя мысленно избавиться от пространства, то оно должно быть частью любой возможной реальности – Нечто, необходимо существующее, подобно Богу или сознанию Анри Бергсона.
Так может ли пространство быть нашим бастионом против пустоты? Рандл на всякий случай страхуется и рассматривает альтернативный аргумент, утверждающий непоследовательность самой идеи пустоты: если нет ничего, тогда это является фактом, то есть как минимум существует сам факт! (Это невероятно слабый аргумент, и перечисление его ошибок я предоставлю читателю в качестве упражнения.) Однако именно к пространству Рандл постоянно возвращается, поскольку при всем желании не может мысленно от него избавиться: «Пространство не является пустотой, это Нечто, куда можно смотреть, через что можно путешествовать, чего может быть много»50.
Не все разделяют убеждение Рандла, что пространство есть Нечто. Среди философов существуют два альтернативных взгляда на природу пространства. (Вообще-то, согласно последним научным данным, следует говорить не о «пространстве», а о «пространстве-времени», ну да ладно.) Субстантивный взгляд восходит к Ньютону и считает пространство чем-то реальным, что имеет присущую ему геометрию и будет продолжать существовать, даже если все его содержимое исчезнет. Противоположный ему реляционистский взгляд восходит к сопернику Ньютона Лейбницу и полагает, что пространство не существует само по себе, а есть лишь сплетение взаимосвязей между объектами. С точки зрения Лейбница, пространство неспособно существовать без связываемых им объектов, подобно тому, как не может существовать улыбка Чеширского кота без самого кота. Онтологический спор, и довольно яростный, между последователями Ньютона и Лейбница продолжается до сих пор. Теория относительности, в которой пространство-время влияет на поведение материи, несколько пошатнула равновесие в пользу первых. Впрочем, необязательно разрешать этот спор, чтобы увидеть, имеет ли смысл аргумент сосуда. Допустим, что правы реляционисты и пространство – это всего лишь удобная теоретическая идея. В таком случае если исчезнет все содержимое космоса, то и пространство тоже исчезнет, оставив лишь абсолютное Ничто.
Теперь предположим, что верна противоположная точка зрения и пространство есть настоящая космическая арена, существующая сама по себе. Тогда она сможет пережить исчезновение ее материального содержимого: даже если все исчезнет, останутся незанятые места. Однако если пространство объективно существует, то должна существовать и его геометрическая форма. Она может быть безграничной протяженности, но может быть и ограниченна, при этом не имея границы. (Например, поверхность баскетбольного мяча является конечным двумерным пространством, не имеющим границы.) Подобное «замкнутое пространство-время» не противоречит теории относительности Эйнштейна. В самом деле, Стивен Хокинг и другие космологи полагают, что пространство-время нашей Вселенной является конечным и неограниченным, подобно поверхности баскетбольного мяча, только с большим числом измерений. Тогда несложно «мысленно уничтожить» пространство-время вместе со всем его содержимым. Просто представьте себе, что баскетбольный мяч сдувается или, скорее, уменьшается в размерах. Перед вашим мысленным взором конечный радиус мяча-вселенной становится все меньше, пока не достигает нуля. Теперь арена пространства-времени исчезла, оставив только абсолютное Ничто.
Этот мысленный эксперимент приводит к элегантному научному определению (первоначально предложенному физиком Алексом Виленкиным):
Ничто = замкнутое сферическое пространство-время с нулевым радиусом.
Таким образом, аргумент сосуда оказывается ложным, независимо от возможной природы сосуда. Если пространство-время представляет собой не реальную сущность, а лишь набор взаимосвязей между объектами, то оно исчезнет вместе с этими объектами и поэтому не является препятствием для существования Ничто. Если же пространство-время есть нечто реальное, имеющее свою собственную структуру и сущность, то его можно «мысленно уничтожить», подобно всей остальной обстановке Вселенной.
Мысленное уничтожение реальности – это чисто воображаемое достижение. Что, если мы попытаемся выполнить такой эксперимент в лаборатории? Аристотель считал, что это невозможно, и приводил разнообразные аргументы, как эмпирические, так и концептуальные, показывающие невозможность опустошения части пространства. Ортодоксальное утверждение Аристотеля «Природа не терпит пустоты» считалось истинным до середины XVII века, когда его решительно опроверг Эванджелиста Торричелли, изобретательный экспериментатор и один из учеников Галилея. Ему пришла в голову удачная идея налить в пробирку ртуть и, заткнув пробирку пальцем, опустить ее в сосуд со ртутью. В стоящей вертикально опрокинутой пробирке образовалась небольшая безвоздушная пустота над столбиком ртути – это был прообраз первых барометров. Демонстрация Торричелли, как потом выяснилось, доказывала, что сакраментальная «боязнь пустоты» – это на самом деле всего лишь сила, с которой воздушная атмосфера давит на нас сверху.
Но удалось ли Торричелли создать немножко настоящей пустоты? Не совсем. Сегодня мы знаем, что безвоздушное пространство, впервые созданное итальянцем, далеко не пусто. Оказалось, что в самом идеальном вакууме все-таки содержится нечто. В физике «нечто» определяется количеством энергии. (Даже материя, как показывает самое знаменитое уравнение Эйнштейна, является лишь замороженной энергией.) С точки зрения физики, пространство максимально пусто тогда, когда оно лишено энергии.
Допустим, что мы попытались удалить всю энергию из некой области пространства. Другими словами, мы попытались перевести эту область в состояние с минимальной энергией, известное как «вакуумное состояние». В какой-то момент в процессе откачки энергии произойдет событие, противоречащее здравому смыслу: спонтанно возникнет нечто, называемое физиками «поле Хиггса»[12]. И от поля Хиггса избавиться никак нельзя, потому что его вклад в полную энергию той области пространства, которую мы стараемся опустошить, на самом деле отрицателен: поле Хиггса – это Нечто, содержащее меньше энергии, чем Ничто. И оно сопровождается разгулом «виртуальных частиц», которые непрестанно возникают и исчезают. Пространство в вакуумном состоянии оказывается весьма оживленным местом, чем-то вроде Таймс-сквер на Новый год.
Философы, которые верят в Ничто (иногда называющие себя «метафизическими нигилистами»), стараются держаться подальше от подобных физических загвоздок. В конце 90-х годов XX века несколько британских и американских философов совместно предложили «аргумент вычитания». В отличие от аргументов наблюдателя и сосуда, которые направлены против Ничто, аргумент вычитания поддерживает Ничто и должен показать, что абсолютная пустота является реальной метафизической возможностью.
Аргумент вычитания начинается с вполне разумного предположения, что мир содержит конечное число объектов (людей, столов, стульев, камней и так далее), а также предполагает, что каждый из этих объектов существует с определенной вероятностью: хотя данный объект существует в настоящий момент, он мог не существовать ранее, – что тоже выглядит вполне логично. Вспомните фильм «Эта замечательная жизнь» и его героя Джорджа Бейли (которого сыграл Джимми Стюарт). После ряда неудач в жизни Джордж начинает подумывать о самоубийстве, однако благодаря вмешательству ангела по имени Кларенс получает возможность увидеть, каким был бы мир без него. Джордж оказывается лицом к лицу с вероятностной природой собственного существования. Та же самая вероятностная природа относится не только к отдельным людям, но и ко всему существующему – от Млечного пути до Эйфелевой башни, спящей на вашем диване собаки или пылинки на вашем компьютере. Каждый из этих объектов хотя и существует, но мог бы не существовать, если бы Вселенная развивалась как-то иначе. В конечном итоге аргумент отрицания принимает допущение независимости: несуществование одного объекта не делает необходимым существование чего-то еще.
Собрав все три предположения вместе (конечность, вероятность и независимость), легко прийти к выводу, что могло бы получиться так, что не существовало бы вообще ничего. Вы просто вычитаете каждый вероятностный объект из мира, один за другим, пока не останется только полная пустота, чистое Ничто. Такое «вычитание» предполагается скорее метафорическим, чем буквальным – на каждом этапе данный аргумент устанавливает соотношение между возможными мирами: если возможен мир с энным числом объектов, то возможен и мир с N—1 объектами. На предпоследнем этапе вычитания мир может состоять из одной лишь песчинки. И если возможен такой печальный крохотный мир, то возможен и мир, в котором нет даже той песчинки, – мир пустоты.
Аргумент вычитания обычно считается самым сильным в арсенале метафизических нигилистов. Пожалуй, это единственный из имеющихся у них позитивных аргументов. Хотя в моем изложении он выглядит несколько грубовато, его сторонники тщательно подобрали такую форму, в которой он кажется логически верным, что было весьма непросто. Если посылки верны, то и вывод о возможности абсолютной пустоты тоже должен быть верным. Но в самом ли деле верны посылки аргумента вычитания? Другими словами, является ли он не просто верным, но и, как говорят логики, обоснованным? Если доводы конечности и вероятности вопросов не вызывают, то третий довод, о независимости объектов, более сомнителен. В самом ли деле мы можем быть уверены, что несуществование одного объекта не приводит к существованию какого-нибудь другого объекта? Вспомните еще раз «Эту замечательную жизнь»: в альтернативном мире, где никогда не было Джорджа Бейли, многие другие возможные вещи на самом деле существуют как следствие его несуществования – например, третьесортные бары и ломбарды «Поттерсвиль», которые жадный банкир мистер Поттер открыл бы, если бы его не остановил благородный Джордж. В конце концов, вероятностные объекты не так уж независимы. Каждый объект, каким бы шатким ни было его существование, кажется опутан сетью взаимозависимостей с другими объектами, как реальными, так и возможными.
Если кинематографический пример кажется вам слишком причудливым, рассмотрим более строгий, научный. Допустим, мир состоит всего лишь из двух объектов: электрона и позитрона, вращающихся друг вокруг друга. По отношению к этому «парному» миру возможен ли «одинарный» мир, в котором существует только позитрон? Вроде бы да. Однако переход от парного мира к одинарному нарушит один из основных физических принципов – закон сохранения электрического заряда. Общий заряд парного мира равен нулю, поскольку заряд позитрона равен +1, а электрона —1. Общий заряд одинарного мира равен +1. То есть переход от парного мира к одинарному равносилен созданию заряда, что физически невозможно. Хотя электрон и позитрон по отдельности вероятностны, существование одного из них связано с существованием другого законом сохранения заряда.
Тогда как насчет прямого перехода от парного мира к пустоте? К сожалению, это тоже физически невозможно, потому что уничтожение пары электрон – позитрон нарушает другой фундаментальный закон физики – закон сохранения энергии. Вместо уничтоженной пары неизбежно должно будет появиться что-то еще – фотон или другая пара частица – античастица.
Похоже, здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, с которой столкнулись как Бергсон, так и Рандл, только в ином виде. Во всех трех случаях абсолютная пустота мыслится как предел, к которому надо приближаться из мира сущего. Бергсон попытался приблизиться к нему через мысленное уничтожение содержимого Вселенной – и остался со своим собственным сознанием. Рандл испробовал подобный же воображаемый способ и тоже не достиг цели, дойдя до пустого сосуда пространства. Оба философа пришли к выводу, что абсолютная пустота невообразима.
Аргумент отрицания идет по другому пути, пытаясь достичь пустоты через серию логических ходов. Однако интутивно допустимое представление «если существует некое число объектов, то их могло бы быть меньше» нарушает фундаментальные законы физики – законы сохранения. И даже если бы эти законы можно было как-то временно обойти, то совершенно неясно, можно ли уменьшить число сущностей в мире постепенным удалением их по одной. Возможно, что отсутствие одного объекта (в воображении или в реальности) всегда приводит к присутствию какого-то другого. Уберите Джорджа Бейли из картины, и на свет появляется Поттерсвиль.
Очевидная мораль такова: не так-то просто перейти от Нечто к Ничто. Приближение выглядит в лучшем случае асимптотически, всегда немного не достигая предела, всегда оставляя что-то из сущего, каким бы крохотным оно ни было. Впрочем, что же здесь удивительного? Чтобы успешно перейти от Нечто к Ничто, нужно разгадать загадку бытия в обратную сторону: любой логический переход из одного в другое должен быть двусторонним. Если нам кажется, что легче вообразить переход от Нечто к Ничто, чем наоборот, то это потому, что начальная и конечная точки известны заранее. Допустим, вы сидите за компьютерным терминалом в читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки на Сорок второй улице. На экране вы видите единственный символ – например, «$». Вы нажимаете на кнопку Delete, и экран становится чистым. А как вам теперь перейти от Ничто к Нечто? Нажав на Undelete! Однако в этом случае вы понятия не имеете, что появится на экране. В зависимости от того, чем занимался предыдущий пользователь, вы можете увидеть как набор бессмысленных символов, так и краткое сообщение. Переход от Ничто к Нечто выглядит таинственным, потому что никогда не знаешь, что получится в результате – что остается верным и на космическом уровне.
Большой взрыв – физический переход от Ничто к Нечто – происходит не только невообразимо быстро, но и без каких-либо присущих ему внутренних законов. Как говорит нам физика, в принципе невозможно предсказать, что может получиться из голой сингулярности. Этого не знает даже сам Господь Бог.
Вместо того чтобы упорно стараться пересечь непроходимый концептуальный раздел между Нечто и Ничто, можно попробовать забыть о мире сущего и сосредоточиться на самом Ничто – это может оказаться полезнее. Можно ли связно описать абсолютную пустоту, не впадая в противоречия? Если да, то это поможет укрепить нашу уверенность, что такая метафизическая возможность вполне реальна.
Однако определить абсолютную пустоту не так-то просто. Прежде всего можно начать со следующего предположения:
Ничто существует.
Или, в переводе на язык формальной логики:
Для любого x неверно, что x существует.
Тут мы уже сталкиваемся с проблемой: «существовать» не называет какое-то свойство, которым может обладать или не обладать объект. Высказывание «некоторые ручные тигры рычат, а другие не рычат» имеет смысл, а высказывание «некоторые ручные тигры существуют, а некоторые не существуют» смысла не имеет.
Если мы ограничимся надлежащими предикатами – например, «является синим», «больше, чем хлебница», «издает неприятный запах», «имеет отрицательный заряд», «является всемогущим» и так далее, – то задача определения абсолютной пустоты значительно усложняется. Теперь нам понадобится огромный, возможно, даже бесконечный, список утверждений, чтобы точно определить нулевую возможность: «Нет ничего, что является синим», «Нет ничего, что издает неприятный запах», «Нет ничего, что имеет отрицательный заряд» и так далее. Каждое из этих утверждений выражается в форме:
Для любого x неверно, что х есть А.
Или, в более сжатом виде:
Не существует никаких А.
Каждое утверждение из этого списка исключает существование всех объектов с определенным качеством: всех синих объектов, всех вонючих объектов, всех отрицательно заряженных объектов и так далее. Если наш список несуществующего содержит утверждение для каждого метафизически возможного свойства, то таким образом мы сможем успешно определить абсолютное Ничто через отрицание. Однако как нам убедиться, что мы составили исчерпывающий список? Одно пропущенное свойство приведет к провалу всей затеи, позволив существование некой категории объектов, которую мы или забыли, или не сумели себе вообразить. Например, если бы мы составляли список лет сто назад, то упустили бы утверждение для каждого x неверно, что x является черной дырой. Можно попытаться обойти эту проблему, разделив все возможные виды объектов на несколько основных категорий. Например, Декарт разделил мир сущего на два вида субстанции: духовную (мыслящую) и физическую (протяженную). Таким образом, мы можем попытаться определить абсолютную пустоту через пару утверждений: «не существует мыслящих объектов» и «не существует физических объектов». Эта стройная пара исключает существование сознания, душ, ангелов и божеств наряду с электронами, камнями, деревьями и галактиками. Но исключает ли она существование математических понятий, например чисел? Или абстрактных, типа справедливости? Подобные вещи не входят ни в категорию мыслящих, ни в категорию физических, тем не менее их существование наверняка испортит состояние абсолютной пустоты. Кроме того, может существовать целый ряд других возможных субстанций, о которых не в состоянии помыслить ни Декарт, ни мы с вами.
И все же есть одно качество, которым наверняка обладает любой мыслимый объект: животное, растение, минерал, мыслящая или духовная субстанция, математическое понятие и что угодно еще, – а именно тождественность самому себе. Я обладаю качеством быть мной; вы обладаете качеством быть вами, и так далее. В самом деле, в логике «тождественность» определяется как отношение каждой вещи к самой себе и ни к чему другому. Иными словами, логической истиной является выражение
Для любого x, x=x.
Таким образом, «существовать» означает быть тождественным самому себе. С использованием отношения тождественности утверждение «Нечто существует» превращается в
Существует такое x, что x=x.
Чтобы поймать абсолютное Ничто в ловушку логики, нам всего лишь нужно выполнить отрицание этого утверждения:
Не существует такого x, для которого x=x.
Или, что то же самое:
Для каждого x неверно, что x=x.
Что в переводе с языка логики на обычный означает: «Все вещи оказываются не в состоянии быть тождественными самим себе». Выраженное символами формальной логики, это утверждение становится еще более лаконичным:
(x) ~ (x = x).
Здесь символ (x) – это универсальный квантор, читающийся как «для каждого x», а знак «~» – это оператор отрицания, читающийся «неверно, что».
Таким образом, мы получили изящное логическое выражение, утверждающее «абсолютное Ничто существует». Но лежит ли за ним некая реальность, делающая его истинным? Один из выдающихся американских философов, покойный Милтон Мюнитц, настаивал, что не лежит. В книге «Тайна бытия» Мюнитц рассуждал, что утверждение о существовании чего-либо (существует такой x, который тождественен самому себе) является логически истинным. В таком случае его отрицание (мое изящное логическое выражение выше) «определенно не имеет смысла»51.
Мюнитц прав, хотя и в довольно тривиальном смысле. Чтобы упростить свои формальные системы, логики обычно исключают Ничто, предполагая, что всегда существует хотя бы один объект в обсуждаемой Вселенной. (Помимо прочих преимуществ, такой подход облегчает определение истины.) С использованием этого приема утверждение существует такой x, который тождественен самому себе становится логической истиной – правда, искусственной. Как указывал старейшина американской философии XX века Уллард Ван Орманд Куайн, постулирование непустой области является «чисто техническим удобством» и «не несет в себе никакой философской догмы о необходимости существования»52. Бертран Рассел пошел дальше и рассматривал общепринятое допущение существования как позор логики. Чтобы избавиться от этого позора, последователи Рассела создали альтернативную систему логики, позволяющую существование Ничто. Такая система называется «свободная логика», потому что она свободна от допущений о существовании Вселенной. В свободной логике пустая Вселенная позволена, и утверждения о существовании чего-либо (типа «существует объект, тождественный самому себе») перестают быть логически истинными.
Как обнаружил Куайн, истинность или ложность пустой Вселенной можно проверить исключительно простым способом: все утверждения существования (то есть высказывания, начинающиеся с «существует такой x, который…») автоматически ложны. С другой стороны, все всеобщие высказывания (начинающиеся с «для каждого x…») автоматически истинны. Почему все всеобщие высказывания истинны в пустой Вселенной? Возьмем для примера утверждение для каждого x верно, что x – красный. В мире, не имеющем объектов, определенно нет ни одного объекта, который не мог бы быть красным. Таким образом, нет примеров, показывающих, что высказывание «все объекты – красные» ложно. Предложенная Куайном проверка на истинность для пустой Вселенной – это, по его выражению, «триумф тривиальности». Она позволяет определить истинность любого, даже самого сложного, утверждения. А если утверждение состоит из экзистенциальной и всеобщей частей, соединенных «и» или «или», то нужно просто применить метод таблиц истинности, первоначально изобретенный Витгенштейном и сейчас известный каждому, кто изучает элементарную логику. Проверка Куайна последовательно устанавливает, что будет истинным и ложным в пустой Вселенной – то есть в состоянии абсолютного Ничто, и показывает, что из предположения существования Ничто никакого противоречия не возникает. Очень интересный вывод с точки зрения метафизического нигилиста! Получается, что абсолютное ничто логически непротиворечиво. В противоположность мнению многих скептических философов, Ничто является реальной логической возможностью. Даже если мы не в состоянии вообразить такую возможность, это еще не означает, что она парадоксальна. Абсолютная пустота может выглядеть нелепицей, но не является абсурдом. С точки зрения логики, может существовать мир, где вообще ничего нет.
Назовем эту возможную реальность Нулевым миром, имея в виду, что «миром» она является только из онтологической вежливости. В отличие от других возможных миров, у него нет ни пространства-времени, ни сосуда, ни сцены или арены в каком-либо виде. Когда мы говорим об этом «мире», то говорим не о каком-то объекте, а об одном из возможных вариантов разворачивания реальности – изящно описываемом формулой
(x) ~ (x = x).
Но эта формула тоже не является частью Нулевого мира, ибо полная пустота это запрещает. Это просто наш способ описания Нулевого мира, логический символ для выражения смысла существования абсолютного Ничто.
Логическая непротиворечивость – это огромное достоинство, но Нулевой мир обладает и другими достоинствами. Лейбниц был первым, кто указал, что Ничто есть самая простая из всех возможных реальностей. Простота высоко ценится в науке. Когда соперничающие научные теории в одинаковой степени подтверждаются опытом, то ученые выбирают более простую – ту, которая постулирует наименьшее число причинно-независимых сущностей и свойств в соответствии с принципом, известным как «бритва Оккама». И не только потому, что более простые теории красивее или легче в использовании. Простота считается признаком вероятности теории, близости ее к истине. Считается, что объяснять требуется сложные реальности, а не простые. И нет более простой реальности, чем Нулевой мир.
Кроме того, Нулевой мир также наименее случаен. Поскольку в нем нет никаких объектов, то полное их число равно приятно круглому нулю. В любом другом мире число объектов отличается от нуля: мир может содержать конечное число сущностей или бесконечное число сущностей, и любое конечное число будет выглядеть произвольным (если только вы не нумеролог, конечно). Например, наша собственная Вселенная, видимо, состоит из конечного числа элементарных частиц (это число оценивается как 10 с восемьюдесятью нулями). И сверх того, могут быть нефизические сущности, например ангелы. Если посчитать все вместе, то результат общей переписи реального мира будет выглядеть как очень длинное число на одометре вашего автомобиля: невероятно много случайных цифр. А если бы мир содержал меньшее число объектов, например семнадцать, то это было бы точно такой же случайностью. Даже бесконечный мир был бы случайностью, потому что у бесконечности не один размер, а много – на самом деле, бесконечно много. Математики обозначают различные размеры бесконечности ивритской буквой «алеф»: «алеф-0», «алеф-1», «алеф-2» и так далее. Если наш собственный мир окажется бесконечным, то почему он должен быть, например, «алеф-2», а не «алеф-29»? Только Нулевой мир избегает такого рода произвольности.
Более того, Ничто – наиболее симметричная из всех реальностей. Многие вещи, подобно лицам и снежинкам, лишь приблизительно симметричны. Симметрия квадрата обнаруживается во множестве движений: при отражении в зеркале, перпендикулярном его плоскости и проходящем через диагональ или середины противолежащих сторон, при повороте на 90° вокруг оси, проходящей через его центр, он снова займет исходное положение. Сфера еще более симметрична: любой поворот относительно оси, проходящей через центр, совместит ее с собой. Бесконечное пространство еще более симметрично: его можно вращать, отражать в зеркале или перемещать в любом направлении, ничуть его не изменяя. Наша Вселенная не очень-то симметрична в малых масштабах – посмотрите хотя бы на беспорядок в вашей комнате! В космических же масштабах она более симметрична и выглядит практически одинаково, куда ни посмотри. Однако никакая Вселенная, включая нашу, не может соперничать в симметрии с Ничто. Полное отсутствие индивидуальности в Нулевом мире делает его предельно инвариантным для любой трансформации. Нет ничего, что можно сдвинуть, отразить или повернуть. Вот уж действительно жуткая симметрия!
Какого же рода достоинством является симметрия? Ну, например, эстетическим. Со времен древних греков, придававших большое значение равновесию и упорядоченности, симметрия признается частью объективной красоты. Это не означает, что Нулевой мир самый красивый из всех возможных (хотя так вполне могут посчитать те, кто предпочитает минимализм в интерьере или любит пустынные ландшафты), но он самый совершенный. Если Бытие подобно яркому свету полуденного солнца, то Ничто похоже на беззвездное ночное небо, вызывающее нечто вроде приятного ужаса в том, кто осмелился размышлять о нем.
У Ничто есть и последнее, довольно эзотерическое, достоинство, связанное с энтропией. Энтропия является одним из фундаментальных научных понятий и объясняет, почему некоторые изменения необратимы, почему время имеет направление, «стрела» которого указывает из прошлого в будущее. Понятие энтропии возникло в XIX веке в результате построения теории паровой машины и первоначально определялось через поток тепла. Однако вскоре энтропию переосмыслили в более абстрактной форме, как меру беспорядка или случайности в системе. В XX веке это понятие стало еще более абстрактным, и его стали использовать для определения количественной меры информации. Когда Клод Шеннон закладывал основания теории информации, Джон фон Нейман посоветовал ему использовать понятие «энтропии», чтобы всегда выигрывать в дебатах, ибо никто на самом деле не понимает, что это такое.
Все обладает энтропией. В нашей Вселенной, которая считается замкнутой системой, энтропия всегда возрастает, порядок переходит в беспорядок – в чем и состоит второй закон термодинамики. А как же Ничто? Может ли оно иметь энтропию? Это нетрудно вычислить. Если в системе (в любой системе, от чашки кофе до некоего мира) может существовать N различных состояний, то его максимальная энтропия равна log(N). В Нулевом мире может быть только одно состояние, потому что он идеально прост. Тогда его максимальная энтропия равна log(1)=0 – что также равно его минимальной энтропии!
Таким образом, Ничто является не только самой простой, наименее непредсказуемой и самой симметричной из всех возможных реальностей, но еще и обладает самым лучшим профилем энтропии: его максимальная энтропия равна его минимальной энтропии, которая равна нулю. Неудивительно, что Леонардо да Винчи не удержался от несколько парадоксального восклицания: «Среди величайших вещей вокруг нас самым великим является существование Ничто!»53
Но если Ничто такое великое, то почему же оно не возобладало над Бытием в тотализаторе реальности? Если подумать, то у Нулевого мира есть множество безусловных достоинств, однако они лишь делают тайну бытия еще более загадочной.
По крайней мере, мне так казалось до тех пор, пока в 2006 году я не получил совершенно неожиданное письмо, в котором утверждалось, что нет никакой тайны бытия.
Глава 4 Великий отрицатель
Хотя письмо, утверждающее, что никакой тайны бытия нет, стало для меня неожиданностью, на самом деле его следовало бы ожидать. За неделю до этого газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала мою рецензию на книгу Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». В этой рецензии я высказал мнение, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» может служить последним бастионом деистов против наступления науки. «Если существует всеобъемлющее объяснение нашего вероятностного и тленного мира, – писал я, – оно, видимо, должно взывать к чему-то, что закономерно и нетленно и что можно назвать Богом»54. Именно эти строки задели за живое автора письма, Адольфа Грюнбаума.
Это имя мне хорошо знакомо. В философском мире Адольф Грюнбаум пользуется невероятным уважением, и можно назвать его величайшим из ныне живущих философов науки. В 50-е годы XX века Грюнбаум стал знаменит как передовой мыслитель в области тонкостей пространства и времени. Через три десятилетия он получил еще большую известность (в том числе скандальную), устроив мощную и последовательную атаку на психоанализ Фрейда. В результате большинство психоаналитиков яростно набросились на Грюнбаума, а его портрет появился на первой странице научного раздела «Нью-Йорк таймс». Все это мне было известно, а вот чего я не знал, так это того, что Грюнбаум – заклятый враг религии. Похоже, его особенно разозлило использование тайн космоса для укрепления веры в сверхъестественного творца. По мнению Грюнбаума, вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» не дорога к Богу или чему-либо еще, а просто, пользуясь термином из его родного немецкого, Scheinproblem, то есть псевдопроблема.
Что сделало Грюнбаума таким ярым отрицателем? Я мог бы понять того, кто считает тайну бытия неразрешимой по своей сути, но со смехом отмахнуться от нее как от псевдопроблемы казалось мне уж слишком высокомерным. Однако если Грюнбаум окажется прав, то все старания объяснить существование мира будут колоссальной потерей впустую потраченных сил, бесплодной затеей. Зачем пытаться разрешить загадку, если ее можно просто рассеять? Зачем охотиться на Снарка, если там водятся только Буджумы? Так что ответ Грюнбауму я писал с некоторым трепетом: нельзя ли нам поговорить? Он ответил с характерной живостью, пригласив меня приехать к нему в Питтсбург, где он жил и преподавал последние пятьдесят лет. В своем письме он сообщил, что будет рад объяснить, почему тайна бытия не может быть отправной точкой, даже если понадобится несколько дней, чтобы меня в этом убедить. Он также был готов помочь мне разобраться в философии, причем я мог выбирать любые интересующие меня темы.
Я никогда не бывал в Питтсбурге и знал о нем только из фильма «Танец-вспышка», но мне очень хотелось познакомиться с Грюнбаумом и увидеть реку Мононгахила, поэтому я взял билет на первый же подходящий рейс из Нью-Йорка и пару часов спустя уже снял номер в гостинице, весьма удобно расположенной в тени устремленного ввысь неоготического здания Собора познания Университета Питтсбурга. Мой наставник Грюнбаум, дружелюбно улыбаясь, уже с нетерпением ждал меня в вестибюле. Вечером, за ужином в ресторане, он поведал мне об истоках своей антипатии к религии.
Грюнбаум родился в 1923 году в Германии, в городе Кельне, в бурные времена Веймарской республики. Кельн, с его знаменитым собором, был в основном католическим городом. Семья Грюнбаумов принадлежала к небольшой еврейской диаспоре, насчитывавшей около двенадцати тысяч человек. Они жили на Рубенсштрассе, названной в честь великого голладского художника. Когда Грюнбауму исполнилось десять лет, к власти пришли нацисты. Он хорошо помнит, как его избили на улице хулиганствующие юнцы, заявив, что «die Juden haben unseren Heiland getötet» (евреи убили нашего Спасителя). Он также вспоминает, что его интерес к занятиям спортом был «психологически угнетен» из-за тесной связи между нацистскими массовыми митингами и спортивными парадами.
В существовании Бога Грюнбаум усомнился еще в детстве, испытывая отвращение к «этически чудовищной» библейской истории, в которой Авраам призван принести в жертву своего невинного сына в качестве доказательства преданности Богу. Он также считал абсурдным запрет на произнесение имени Бога, Яхве. Когда мальчик беспечно произнес его в еврейском классе, учитель, застучав по столу, сказал, что это худший проступок для еврея.
Разочарование в религии совпало с началом увлечения философией. Раввин в домашней синагоге часто упоминал Канта и Гегеля в проповедях. Заинтересованный Грюнбаум открыл книгу по философии для начинающих, в которой, помимо всего прочего, обсуждался вопрос происхождения Вселенной. Он также начал читать Шопенгауэра, восхищаясь как его страстно атеистическим буддизмом, так и литературным даром.
К 1936 году, когда ему исполнилось 13 лет и пришло время бар-мицвы, Грюнбаум уже был убежденным атеистом. В следующем году его семья сбежала из нацистской Германии в Соединенные Штаты, где осела в южном Бруклине. Грюнбаум ездил в школу в Бронксе – полтора часа на метро в каждую сторону – и овладел английским с помощью двуязычного издания пьес Шекспира. Во время Второй мировой войны его призвали в армию, где он стал офицером разведки. В 22 года он вернулся в Германию с американской армией и допрашивал захваченных нацистов в Берлине. Я удивился, когда узнал, что среди тех, кого он допрашивал, был Людвиг Бибербах, создатель гипотезы Бибербаха, которая десятки лет стояла в списке неразрешенных математических проблем, на строчку ниже теоремы Ферма. Меня потрясла мысль, что Бибербах был реальным человеком из плоти и крови, не говоря уже о том, что он обычно читал лекции студентам Берлинского университета, одетый в нацистскую военную форму. Грюнбаум относился к нацистскому математику с презрением: не только моральным, но и интеллектуальным. Поддерживая антисемитизм Гитлера, Бибербах публично утверждал, что нордические математики использовали здравый геометрический подход в своей науке, тогда как еврейские умы оперировали болезненно абстрактными понятиями. Грюнбаума приводил в ярость тот факт, что Бибербах умышленно не упоминал «вопиющий пример», противоречащий этому обобщению, а именно еврейского физика Альберта Эйнштейна, чья теория относительности показала, что гравитация на самом деле является геометрией. По словам Грюнбаума, у него низкий порог негодования, когда дело касается «небрежных, нечестных и предвзятых аргументов» – включая аргументы о причинах существования Вселенной. Несмотря на преклонный возраст и тщедушность, Грюнбаум на аппетит не жаловался. Он умял закуску из телятины, огромную тарелку макарон, за которой последовала тарелка грибов. Отказавшись от вина (от которого его тошнит), он весь ужин потягивал коктейль «Космополитен» и, с образцовой дикцией и остаточным немецким акцентом, развлекал меня философскими сплетнями, а потом любезно отвез обратно в гостиницу. По дороге мы проезжали мимо внушительной церкви, вероятно, одного из архитектурных сокровищ Питтсбурга. «Вы здесь молитесь?» – спросил я, пытаясь скрыть озорство в голосе. «Ну конечно же, каждый день молюсь!» – ответил он.
На следующий день я сидел в своем гостиничном номере, с трудом разгребая внушительную кипу перепечаток из различных философских журналов, которые дал мне профессор (статьи носили умопомрачительные названия, вроде «Недостатки деистической космологии» и «Псевдопроблема создания мира»), и пытался понять, почему Грюнбаум так пренебрежительно относится к тайне бытия. Его презрение к тем, кто воспринимает ее всерьез, ясно читалось на каждой странице: они не просто «тупые», а «тупее некуда», их рассуждения «вульгарны», «грубы», «причудливы» и «бессмысленны» и сводятся «просто к фарсу», они не просто «глупы», а «смехотворно глупы». Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, почему он так относится к этому вопросу. В отличие от Лейбница и Шопенгауэра, в отличие от Витгенштейна, и Хайдеггера, и Докинза, и Хокинга, и Пруста, в отличие от множества современных философов, ученых и теологов, а также любого более-менее вдумчивого человека, Грюнбаум не видел ничего удивительного в том, что мир существует. И он твердо убежден, что удивляться тут нечему. Давайте еще раз вспомним основную загадку, как ее первоначально сформулировал Лейбниц: почему существует Нечто, а не Ничто? Грюнбаум с надлежащей пышностью (и, возможно, с оттенком иронии) называет это Изначальным экзистенциальным вопросом. Однако что делает его законным вопросом? Как и любой другой вопрос, он основан на скрытых допущениях. Он не только предполагает, что должно быть какое-то объяснение существованию мира, но и безо всяких оснований считает, что миру нужно объяснение, что в отсутствие некой доминирующей причины или мотива Ничто возобладало бы над Нечто. Но почему Ничто должно возобладать? Те, кто удивляется существованию мира, подобного нашему, который наполнен жизнью, звездами, сознанием, темной материей и много чем еще, чего мы пока даже не обнаружили, похоже, имеют интеллектуальный предрассудок, предпочитая Нулевой мир. Они подсознательно верят, что Ничто является естественным состоянием, онтологическим вариантом по умолчанию. И только отклонения от Ничто загадочны и требуют объяснения. Откуда же они взяли эту веру, которую Грюнбаум насмешливо называет «спонтанностью Ничто», – веру, которую они даже не считают нужным защищать? Как утверждает Грюнбаум, независимо от того, осознают они это или нет, эту веру они получили из религии. Даже атеисты вроде Докинза незаметно для себя впитали ее «с молоком матери». Спонтанность Ничто есть типично христианская концепция, вдохновленная догмой сотворения мира из ничего, которая возникла во втором веке после Христа. Согласно христианской доктрине, Бог, будучи всемогущим, не нуждался в наличии чего-то, из чего можно сотворить мир, и создал его из полной пустоты. (Предположительно, изложенная в Книге Бытие история о сотворении мира путем установления порядка в некоем водяном хаосе может быть отброшена как мифопоэтическая вольность.) Однако, согласно христианской догме, Бог не только создатель этого мира, но и его опора. Созданный мир в своем дальнейшем существовании полностью зависит от Всевышнего, который неустанно поддерживает его в состоянии бытия. Если бы Господь перестал поддерживать Вселенную даже на мгновение, то, говоря словами архиепископа Уильяма Темпла, мир «обрушился бы в небытие»55. Вселенная не похожа на дом, который продолжает стоять после того, как строитель закончил работу. Она скорее похожа на автомобиль, опасно балансирующий на краю пропасти: без божественных сил, поддерживающих его равновесие, он рухнет в бездну небытия.
Ни древние греки, ни древние индийские философы не разделяли христианскую идею сотворения из ничего. Поэтому, как заметил Грюнбаум, неудивительно, что их ничуть не беспокоил вопрос, почему существует Нечто, а не Ничто. Именно философы-церковники, такие как Блаженный Августин и Фома Аквинский, внедрили эту идею в западную философию.
Учение об онтологической зависимости мира от Бога (Грюнбаум называет его Аксиомой зависимости) сформировало мышление таких рационалистов, как Декарт и Лейбниц, приведя их к убеждению в том, что, если бы не постоянные усилия Всевышнего по поддержанию бытия, Ничто возобладало бы. Таким образом, отсутствие причины было для них немыслимо. Даже сегодня, когда мы спрашиваем, почему существует Нечто, а не полное Ничто, мы, осознанно или нет, следуем по пути, проложенному ранними иудаизмом и христианством.
Получается, что Изначальный экзистенциальный вопрос покоится на допущении Спонтанности Ничто, а Спонтанность Ничто основана на Аксиоме зависимости, которая оказывается лишь примитивной и безосновательной теологической чепухой.
Впрочем, это было лишь началом изложения дела Грюнбаумом. Не удовлетворившись указанием на то, что Изначальный экзистенциальный вопрос основан на сомнительных допущениях, он хотел показать, что эти допущения попросту ложны. С его точки зрения, нет никакой причины удивляться существованию мира, восхищаться им или ломать голову над его причиной. Грюнбаум убежден, что ни одно из свойств Ничто (его предполагаемая простота, естественность, отсутствие непредсказуемости и так далее) не делает его фаворитом в тотализаторе реальности.
В самом деле, если посмотреть на материю эмпирически (как и следует современным людям с научным складом ума), то мы обнаружим, что существование мира следует ожидать с высокой степенью вероятности. Как выразился Грюнбаум: «Что может быть более банальным эмпирически, чем существование чего-нибудь?» С его точки зрения, вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» столь же надувательский, как и вопрос «Когда вы перестали бить свою жену?».
Позднее в тот же день, по дороге через тенистый кампус Университета Питтсбурга на очередную встречу с Грюнбаумом, я был преисполнен решимости настаивать на тайне бытия и онтологических претензиях Ничто. Кабинет Грюнбаума располагался на самом верху Собора познания (как мне сказали, это самое высокое академическое здание в Западном полушарии). Башня собора выглядела как чудовищно увеличенный в размерах шпиль готической церкви. Оказавшись под нервюрным крестовым сводом вестибюля, я невольно оглянулся в поисках нефа, апсиды и алтаря. Впрочем, это был светский собор, предназначенный не для поклонения какому-либо божеству, а для получения знаний, поэтому все, что я увидел, были двери лифтов. Я поднялся на одном из них на двадцать пятый этаж, где меня уже ждал мой наставник, ставший моим собеседником. После небольшой светской беседы на тему психоанализа я поинтересовался у него, не согласится ли он, что концепция Ничто, по крайней мере, имеет смысл. Разве не могло бы случиться так, что вместо мира, который мы видим вокруг, не было бы вообще ничего?
– Я много и мучительно размышлял над этим вопросом, – ответил Грюнбаум, нарочито медленно выговаривая каждое слово. – Некоторые приводили аргументы против внутренней непротиворечивости концепции Ничто, но многие из этих аргументов кажутся мне ошибочными. Возьмем, например, утверждение, что абсолютная пустота невозможна, потому что мы не можем ее вообразить. Ну гиперпространственную физику мы тоже не можем себе представить! Однако в мои задачи не входит доказательство того, что Нулевой мир является реальной возможностью, – это проблема Лейбница, Хайдеггера и христианских философов, а также тех, кто хочет использовать в своих интересах вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Если Ничто невозможно, то, как говорили в Средние века, cadit quaestio, то есть вопрос отпадает – и я могу пойти выпить пива!
– Но разве ничто не есть простейшая форма, возможная для реальности? – спросил я. – И разве пустота не является наиболее вероятным вариантом воплощения мира – если, конечно, не существует какой-либо причины или принципа, которые заполняют пустоту сонмом существующих вещей?
– Разумеется, я согласен, что в принципе Ничто есть простейший вариант. Но даже в этом случае почему простота – предполагаемая простота! – непременно приводит к появлению Нулевого мира в отсутствие доминирующей причины? Что делает простоту онтологическим императивом?
Грюнбаум пожаловался, что утверждение «Простота Ничто делает его объективно более вероятным» стало настоящей мантрой:
– Некоторые ученые и философы таращатся на мир со словами «Мы знаем, что более простые теории с большей вероятностью ближе к истине», но это всего лишь их собственные психологические комплексы и эвристические подходы. К реальному миру это никакого отношения не имеет. Возьмите химию. В античные времена Фалес Милетский считал, что вся химия основана на единственном элементе – воде. Когда дело касается простоты, теория Фалеса Милетского безусловно выигрывает в схватке с «полихимией» Менделеева, созданной в XIX веке и постулирующей целую периодическую таблицу элементов. Однако именно теория Менделеева соответствует реальности.
Тогда я попробовал зайти с другой стороны, не упоминая более простоту. Разве не является Ничто наиболее естественной формой, которую может принять реальность?
Грюнбаум слегка нахмурился:
– Мы знаем, что является «естественным», только из эмпирических наблюдений мира. Логически вполне возможно, что человек вдруг спонтанно превратится в слона, но мы ничего подобного не наблюдали. Поэтому у нас не возникает ни малейшего желания спросить, почему эта логическая возможность не реализуется. С другой стороны, обрушение небоскреба иногда действительно случается, и когда это происходит, мы хотим объяснений, потому что случившееся идет вразрез с эмпирическими данными об отсутствии обрушения небоскребов. В самом деле, отсутствие таких случаев настолько распространено, что мы оправданно считаем это «естественным». А в том, что касается Вселенной, то мы никогда не наблюдали ее несуществование, не говоря уж о том, чтобы найти доказательства «естественности» такого несуществования. Тогда почему нас должно интересовать объяснение причин ее существования?
И тут я решил, что поймал его:
– Но мы ведь наблюдали ее несуществование! Теория Большого взрыва говорит нам, что Вселенная появилась около четырнадцати миллиардов лет назад. Это капля в море по сравнению с вечностью. Чем занималась Вселенная в бесконечный промежуток времени до сингулярности Большого взрыва, как не тем, что не существовала? И разве это не делает несуществование естественным со стоянием?
Грюнбаум с легкостью разбил это возражение:
– Что с того, что прошлое Вселенной конечно? Физика не позволяет нам экстраполировать в прошлое и сказать, что до сингулярности было Ничто. Это элементарная ошибка, которую совершают многие из моих оппонентов. Они мысленно представляют себя в начальной сингулярности как наблюдателей, обладающих памятью, и это дает им непреодолимое ощущение, что должны были быть более ранние моменты времени. Однако модель Большого взрыва учит нас тому, что до начала никакого времени не существовало.
«Похоже, что Грюнбаум – тайный последователь Лейбница в вопросах времени», – подумал я. В конце XVII века Лейбниц и Ньютон сделали ставки на соперничающие объяснения истинной природы времени. Ньютон занял позицию «абсолютизма», утверждая, что время не ограничено пределами физического мира и тем, что в нем происходит. «Абсолютное, истинное и математическое время, само по себе и по своей природе, течет одинаково, безотносительно к чему-либо внешнему»56, – заявил Ньютон. Лейбниц, напротив, выбрал позицию «реляционизма» и, опровергая Ньютона, утверждал, что время – это всего лишь отношение между событиями. В неподвижном мире (где ничего не происходит и не меняется) время попросту не существует. Признавая, что до Большого взрыва времени не было, Грюнбаум, похоже, вторит Лейбницу, полагая, что не имеет смысла говорить о времени в состоянии Ничто, не имеющем ни часов, ни событий.
Но когда я высказал эти соображения вслух, Грюнбаум ответил словесным джиу-джитсу:
– Нет, Джим, я всего лишь проявляю философскую гибкость, что необязательно означает согласие с точкой зрения Лейбница. Не исключено, что кто-то может вообразить течение времени в Нулевом мире, как это сделал Ньютон, но модель Большого взрыва работает совсем не так! Сама модель утверждает, что начальная сингулярность отмечает временную границу. Если вы считаете модель физически верной, то именно в этот момент начинается время.
– То есть вы утверждаете, что сама идея возникновения мира из ничего не имеет смысла?
– Именно так. Потому что она предполагает процесс, разворачивающийся во времени. Вопрос о том, как появилась Вселенная, прежде всего означает, что вы принимаете существование более ранних моментов времени, когда не существовало ничего. Если бы теория позволяла нам рассуждать о таких ранних моментах – о времени до Большого взрыва, – то мы могли бы спросить, что происходило раньше. Однако теория нам этого не позволяет. Нет никакого «раньше». Так что нет никакой щели, куда мог бы проскользнуть Бог. С тем же успехом можно сказать, что Вселенная возникла из нирваны!
Я возразил, что не только верующие задумываются над брешью между Ничто и Нечто. Многие философы-атеисты тоже высказывали удивление фактом существования космоса. Одним из них был Джон Смарт, трезвомыслящий австралийский философ науки и, подобно Грюнбауму, несгибаемый материалист и атеист. Смарт говорил, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» поразил его как самый «глубокий» из всех вопросов.
– Я расскажу вам кое-что про Джека, – ответил Грюнбаум. – У него было очень религиозное воспитание. Может, он стал атеистом сейчас, но однажды он заявил мне, что был бы рад, если бы кто-то мог опровергнуть его аргументы против религии, потому что скучал по своим старым верованиям. Люди, подобные ему, обладают глубоко укорененной склонностью удивляться факту существования мира и восхищаться им. Как я уже говорил, они впитали это с молоком матери.
Я не удержался и упомянул Людвига Витгенштейна, который тоже бился над разгадкой тайны бытия. Многие философы считают Витгенштейна величайшим представителем философии XX века. Однако я быстро убедился, что Грюнбаум в их число не входит.
– Простите, – сказал он, закатив глаза, – но статья с рассуждениями Витгенштейна на эту тему просто ужасна. Она невероятно тошнотворная и полусумасшедшая. К заключению лекции он выражает благоговение перед вопросом «Почему существует Нечто, а не Ничто?», хотя заявлял, что этот вопрос не имеет смысла! Почему же Витгенштейн благоговеет перед чем-то, что сам же опроверг? Ему бы следовало обратиться к психиатру, а не распространять свое «благоговение» на нас.
Мне стало казаться, что Грюнбаум – самый невозмутимый из всех философов, которых я когда-либо встречал. Он определенно не испытывал ни малейшего страха перед Ничто – и насмешливо называл этот страх «онтопатологическим синдромом». Его ничуть не удивлял мир бытия. Удивляло ли его хоть что-нибудь? Есть ли какая-то философская проблема, которая приводит его в трепет и ставит в тупик? Например, как насчет проблемы возникновения сознания из грубой материи?
– Меня поражает разнообразие сознания и то, сколь ко всего придумал человек. Все это просто невероятно! Но я не вижу ничего загадочного в существовании со знания.
Я обратил внимание, как сильно отличается позиция Грюнбаума от позиции философа Томаса Нагеля, одного из тех, чьим интеллектом я восхищаюсь. В своей книге «Взгляд из ниоткуда» Нагель подробно рассматривает вопрос, как непреодолимо субъективное сознание может существовать в объективном физическом мире.
– Я не читал этой книги, – ответил Грюнбаум.
– Но это же такая важная книга! – выдавил я. – Оксфордский философ Дерек Парфит назвал книгу Нагеля величайшим философским произведением послевоенной эпохи.
– Да неужели? Ну и молодец. Однако что касается лично меня, то зачем мне задумываться над тем, как я получился? Я знаю, что на мою личную историю повлияли многие вещи. И есть очень много вещей, которых я в себе не понимаю, – например, почему у меня есть определенные привычки и склонности. Но это все биологические или биопсихологические вопросы. При наличии и достаточных познаний в теории эволюции, генетике и всем таком эти вопросы потенциально интересны. Однако я не сижу на месте, размышляя, почему я такой, какой есть. Я не живу в подвешенном состоянии сомнений.
Если, как говорил Аристотель, философия начинается с удивления, то заканчивается она на Грюнбауме.
Тем не менее широта его познаний просто потрясает. Природа времени, онтологический статус научных законов, тонкости квантовой космологии – ничто не могло устоять перед его точным и скрупулезным умом. И удовольствие, которое он получал от этого («Я отлично провожу время!»), заразительно.
Я спросил у Грюнбаума, возможно ли, с его точки зрения, что когда-нибудь в отдаленном будущем (в «точке Омега», как ее называют некоторые мыслители) некое существо в нашей Вселенной сумеет вернуться назад в прошлое и задним числом вызвать Большой взрыв, который и привел к появлению всего мира.
– А, вы имеете в виду обратную причинность! Возможна ли она? – И с виртуозностью примадонны, поющей оперную арию, он разразился подробнейшим обсуждением причины и следствия. Я выслушал его – больше с трепетом, нежели с пониманием сути.
– Ну так вот, они ошиблись, – завершил свои рассуждения Грюнбаум, – потому что неверно экстраполировали выводы, сделанные для Ньютоновой механики, где уравнения движения – частные производные не выше второго порядка, и поэтому силы являются причиной ускорения, в квантовую теорию поля, где уравнения движения, уравнения Дирака, содержат производные третьего порядка, и поэтому силы не являются причиной ускорения. И хотя при интегрировании этих уравнений вы будете получать интегралы величин, аналогичных силам классической механики, по всем моментам времени, в том числе и будущим (так называемые «предварительные ускорения»), это вовсе не означает обратной причинности ускорения, вызванного силами. Не хотите ли джина? У меня, кажется, есть немного.
Он достал из нижнего ящика стола бутылку с целебной жидкостью и пару стаканчиков, и я с благодарностью принял предложение.
Удалось ли Грюнбауму поколебать мое убеждение, что я пытаюсь разгадать действительно существующую загадку?
Ну, Великий отрицатель определенно заставил меня изменить мнение по одному вопросу: вопреки тому, что я думал (подобно чуть ли не всем ученым и философам, которые размышляли над этой проблемой), Большой взрыв сам по себе не делает тайну бытия более жгучей и не означает, что космос каким-то образом «внезапно появился» из существовавшего ранее состояния пустоты.
Чтобы увидеть, почему это так, давайте перемотаем историю Вселенной назад. Обратив вспять расширение, мы увидим, как содержимое Вселенной сближается, все более сжимаясь. В конце концов, в самом начале космической истории (для удобства обозначим этот момент времени как t=0), весь мир находится в состоянии бесконечного сжатия и стянут в точку – в «сингулярность». Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что форма пространства-времени определяется распределением энергии и материи. И когда энергия и материя бесконечно сжаты, то пространство-время тоже сжато – оно просто исчезает.
Соблазнительно представить себе Большой взрыв как начало концерта. Вы сидите в кресле, теребя программку, и вдруг, в момент времени t=0, звучит первый аккорд. Однако это неверная аналогия. В отличие от начала концерта, сингулярность в начале Вселенной является не событием во времени, а скорее временной границей или краем. «До» t = 0 никакого времени не было. Поэтому не было и времени, когда преобладало Ничто. И не было никакого «возникновения» – по крайней мере, во времени. Как любит повторять Грюнбаум, хотя Вселенная имеет конечный возраст, она существовала всегда, если под «всегда» подразумевать все моменты времени.
Если не было никакого перехода от Ничто к Нечто, то нет надобности искать причину, божественную или какую-то иную, которая вызвала к жизни Вселенную. А также, как говорит Грюнбаум, нет никакой необходимости ломать голову над вопросом «Откуда взялись материя и энергия во Вселенной?»: не было внезапного и фантастического нарушения закона сохранения энергии-массы во время Большого взрыва, как заявляют сторонники деизма. Согласно космологии Большого взрыва, Вселенная всегда обладала одинаковой энергией-массой, от момента t=0 и до настоящего времени.
Тем не менее возникает вопрос: почему же существуют вся эта материя и энергия? Почему наше пространство-время обладает определенной геометрической формой и имеет конечный возраст? Почему это пространство-время насыщено разнообразными физическими полями, частицами и силами? И почему эти поля, частицы и силы подчиняются определенному набору законов – причем довольно запутанному? Разве не проще было бы, если бы не было вообще ничего?
Грюнбаум сделал все, что мог, чтобы развеять представление о метафизической важности простоты. Он готов был предположить, что Нулевой мир вполне может являться простейшей возможной формой реальности, но почему это должно увеличить шансы пустоты? «Почему мы думаем, что простые вещи с большей вероятностью являются истинными?» – риторически вопрошает он.
Он прав. И для некоторых философов именно в этом месте дискуссия заходит в тупик. Почему соображения простоты сами по себе заставляют нас думать, что без вмешательства некой сверхестественной силы и причины должно быть Ничто, а не Нечто? С точки зрения онтологии, чем плоха сложность? Или вам кажется, что сам факт существования мира требует объяснения, или вам кажется, что не требует. Грюнбаум твердо стоит на последнем, и никакие интуитивные соображения о предполагаемой простоте Ничто неспособны сдвинуть его с места.
Но, может быть, он недооценивает силу простоты? В конце концов, для ученых простота лишь указатель истины. Как сказал физик Ричард Фейнман: «Истина всегда оказывается проще, чем вы думали»57. Дело не в том, что они хотят, чтобы реальность была простой, а в том, чтобы их теории реальности были как можно проще. Определить, что делает одну теорию проще другой, совсем не просто, тем не менее существуют некоторые общепринятые критерии. Простые теории предполагают малое число сущностей и их малое разнообразие, подчиняясь принципу бритвы Оккама: «Не умножай сущности без необходимости». Простые теории также имеют минимальное число законов, которые выражаются в простейшей математической форме. (Например, уравнения прямой линии с неизбежностью проще, чем уравнения более сложных кривых.) Кроме того, простые теории используют минимум произвольных параметров – необъяснимых чисел вроде постоянной Планка или скорости света.
Очевидно, что простые теории удобнее использовать и они более соответствуют нашему интеллекту, а также нашему эстетическому чувству. Однако почему они с большей вероятностью должны быть ближе к истине, чем сложные теории? На этот вопрос философы науки так и не дали удовлетворительный ответ.
«Я подозреваю, что невозможно полностью обосновать идею лучшего соответствия истине простых теорий по сравнению со сложными», – сказал Джек Смарт.
Тем не менее когда ученые рассматривают две соперничающие теории, равно подтвержденные фактами, предпочтение всегда отдается более простой из них, ибо считается, что она с большей вероятностью будет подтверждена дальнейшими исследованиями. Убеждение, что простые теории более вероятны, чем сложные, распространено не только среди ученых. Допустим, у вас есть две одинаково подтвержденных теории, А и В. Теория А предсказывает, что завтра все живое в Южном полушарии будет уничтожено. Теория В предсказывает, что завтра все живое в Северном полушарии будет уничтожено. Предположим, что теория А очень сложная, а теория В очень простая. В таком случае кто же из нас, живущих в Северном полушарии, не попытается сегодня же вечером сесть на самолет, вылетающий в Южное полушарие?
Если простые теории в самом деле с большей вероятностью могут оказаться истинными, чем сложные, то в мире в целом должна быть глубоко укорененная склонность к простоте. Подобная склонность успешно используется физиками в поиске фундаментальных законов природы. Как сказал лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг, «симметрии», которые ищут физики в этих законах, на самом деле являются принципами простоты – принципами, которые, например, утверждают, что будущее в основных чертах должно быть похоже на прошлое.
Однако простота для ученых является не только указателем истины, но и, как сказал Вайнберг, «частью того, что мы подразумеваем под любым объяснением». Именно простота отличает «прекрасную объясняющую теорию» в физике от «простого списка данных». Ричард Докинз придерживается сходной точки зрения: сложные реальности менее вероятны, чем простые, а потому больше требуют объяснения. Возьмем существование биологической жизни. Как утверждает Докинз, постулат о боге, ее сотворившем, изначально не годится, потому что «любой бог, способный создать Вселенную, а затем точно и предусмотрительно отладить ее для зарождения нашей жизни, должен быть невероятно сложным объектом, объяснить существование которого сложнее, чем изначальную проблему»58. Именно простота естественного отбора делает его удовлетворительным объяснением жизни.
Простейшей из всех возможных теорий является ПОЛНАЯ ПУСТОТА. В этой «теории Ничто» нет никаких законов и сущностей, в ней нет никаких произвольных допущений. Если простота в самом деле является признаком истины, то теория Ничто, несомненно, является наиболее вероятной. При отсутствии каких-либо фактов о реальности мы ожидали бы получить Нулевой мир – но он не получается! Совершенно очевидно, что вокруг нас множество всяких сущностей. Разве это не должно удивлять людей с научным складом ума? Тем не менее Грюнбаума это не удивляет.
Что с того, говорит он, если Нулевой мир априори имеет наибольшую вероятность? Онтологически вероятности не создают законов. Другими словами, вероятность не является силой, которая направляет реальность в нужном направлении и которой требуется противопоставить другую силу, божественную или какую-то еще, чтобы в результате получилось Нечто, а не Ничто.
Грюнбаум не видел никакой интеллектуальной проблемы в том, что Вселенная сбивала с толку светил науки. Разумеется, иногда сложные теории оказываются верными, как в уже приведенном примере с современной теорией химии, постулирующей целую периодическую таблицу элементов, что гораздо сложнее древней теории Фалеса Милетского, основанной только на воде. Однако когда ученые сталкиваются с такой сложной теорией, они всегда ищут более простые, на которых она основана и которые ее объясняют. Характерный пример этого – поиски единой теории поля в современной физике, цель которых – показать, что все четыре фундаментальных физических взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое) являются проявлениями единого суперполя. Такая единая теория (иногда называемая «теория всего») будет более общей по отношению к частным теориям, которые она заменит в силу своей большей простоты: вместо постулирования четырех сил, каждая из которых подчиняется своему закону, будет всего одна сила, а стало быть, один закон. Таким образом, единая теория поля станет более всеобъемлющим объяснением природы, чем существующая ныне сборная солянка теорий. Более того, подобная единая теория может оказаться максимально близкой к возможному для нас полному физическому объяснению того, почему мир таков, какой он есть. Однако эта конечная теория физики все же оставит осадок тайны: почему именно эта сила, именно этот закон? В ней не будет ответа на то, почему она конечна, и поэтому она не удовлетворяет принципу достаточной причины, который требует наличия объяснения для каждого факта.
На первый взгляд, единственная теория, удовлетворяющая этому принципу достаточной причины, это теория Ничто. Поэтому и удивительно, что теория Ничто оказывается ложной и существует мир Нечто. А любая теория мира Нечто, какой бы простой и фундаментальной ни была, неспособна пройти тест достаточной причины.
Или все-таки способна? Может ли существовать такая теория мира, которая не оставляет ничего без объяснения и сокращает осадок тайны до нуля? Создание такой теории равноценно ответу на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Адольф Грюнбаум и его единомышленники могут считать, что не стоит пытаться найти такую теорию, особенно если поиски заводят в область сверхъестественного, но их аргументы, хотя и внушительны, не убеждают меня в том, что поиски следует прекратить. Больше всего я не люблю преждевременное завершение интеллектуальных поисков.
Тем вечером мне предоставилась возможность лично заглянуть в бездну небытия. Планы на вечер выглядели неплохо: Адольф Грюнбаум, в сопровождении жены Тельмы, должен был заехать за мной в гостиницу, затем мы должны были отправиться в ресторан, расположенный на вершине нависшей над Питтсбургом горы Маунт-Вашингтон, откуда, как говорят, открывается чудесный вид. Адольф сидел за рулем последней модели «Мерседеса», а его жена, очаровательная и несколько задумчивая женщина его лет, сидела рядом с ним. Я, словно их сын, расположился на заднем сиденье.
Когда мы выехали на скоростное шоссе вдоль реки Аллегейни, у меня заколотилось сердце. Адольф, тщедушный человечек, сморщенный прожитыми годами, едва возвышался над приборной доской. Не обращая внимания на плотный поток машин, движущихся вокруг нас на высокой скорости, он без умолку говорил, пытаясь найти правильную дорогу. Раз за разом мы чудом избегали столкновений, но Адольф и его жена будто не замечали сердитых гудков других автомобилей. Чем дольше мы ехали, тем дальше удалялась от нас Маунт-Вашингтон – словно мы попали в жестокое воплощение парадокса Зенона. Кое-как мы добрались до другой стороны горы, где, напротив, плотность и скорость транспортного потока только увеличились. Сердитое гудение вокруг нас продолжалось, и вероятность избежать серьезной аварии стремилась к нулю. Удастся ли мне выбраться живым из дымящихся обломков машины? Скорее всего, да, ведь это все-таки «Мерседес» последней модели. Тем не менее я невольно боялся, что драгоценное пламя моего сознания будет вот-вот погашено внешними силами, и мне грозит переход из Питтсбурга в Ничто.
На мои лихорадочные мольбы съехать с шоссе Адольф в конце концов отреагировал неожиданным маневром: остановился прямо посреди средней полосы. Проезжавший мимо полицейский заметил наше затруднительное положение и любезно проводил нас до ресторана на вершине горы. Добравшись до пункта назначения, я больше чем обычно нуждался в подкрепляющем бокале шампанского.
«Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! Не стоит ломать голову над причиной существования мира – это неверно поставленный вопрос!» – беззаботно посоветовал мне Грюнбаум с оттенком отеческой заботы, когда мы втроем уселись за столиком. Из окна действительно открывался потрясающий вид: под нами раскинулся весь Питтсбург. Я видел место слияния рек Аллегейни и Мононгахела с рекой Огайо. Мосты, украшенные мерцающими огнями, тянулись над водой во все стороны. Сам ресторан эксплуатировал тему пятидесятых годов прошлого века: официанты солидного возраста в черных галстуках, похожие на массовку в фильмах братьев Маркс, множество хрустальной посуды и парча повсюду. В противоположном конце зала певица в платье с блестками под аккомпанемент пианиста громко исполняла «Копакабану».
Я слушал своего знаменитого собеседника, заглушаемого музыкой. «Им нужны p и q, этим ребятам нужны p и q!» – воскликнул он, имея в виду некую пару посылок, в которых я уже запутался. На меня снизошла метафизическая грусть. Совсем недавно, на дороге, я едва не повстречался с Ничто. А теперь я сидел в провинциальном ресторане, который мне, как жителю Нью-Йорка, казался рудиментом давно ушедшего прошлого, прошлогодним снегом – «Копакабана» словно никогда не покидала Питтсбург. В этой пугающе нереальной обстановке я почти физически чувствовал спонтанность Ничто. Ладно, это было всего лишь настроение, а не философский аргумент. Тем не менее оно наполнило меня уверенностью, что убежденность Грюнбаума – при всей ее водонепроницаемости и пуленепробиваемости – не может быть истиной в последней инстанции. Тайна бытия все еще не раскрыта.
Обратно в гостиницу меня доставили без происшествий. Слегка захмелевший после шампанского и вина, я лег, не расправляя постель, и мгновенно уснул. Следующее, что я помню, это пробивающиеся сквозь шторы лучи восходящего солнца и звонящий телефон. Это был Великий отрицатель!
– Как спалось? – жизнерадостно спросил он.
Глава 5 Конечность или бесконечность?
По сравнению с вечным космосом в представлении древних наша собственная Вселенная скорее новичок: ей около 14 миллиардов лет. И ее будущее тоже может иметь предел. Согласно современным космологическим представлениям, после долгого существования ей суждено либо внезапно исчезнуть в результате Большого сжатия, либо постепенно превратиться в темное и холодное Ничто. Временна́я конечность нашего мира (сегодня он есть, вчера его еще не было, а завтра уже не будет) делает его существование ненадежным и зависящим от обстоятельств – а также загадочным. Кажется, что мир, стоящий на твердом онтологическом фундаменте, не должен вести себя подобным образом, а должен быть вечным и нетленным. Такой мир, в отличие от конечной Вселенной Большого взрыва, выглядел бы самодостаточным и мог бы даже содержать в себе причину собственного существования.
А что, если наш собственный мир, вопреки представлениям современной космологии, окажется вечным? Станет ли тайна бытия менее жгучей? Или ощущение тайны исчезнет совсем?
По поводу временно́й конечности нашего мира давно идут горячие споры между западными мыслителями. Аристотель считал, что космос вечен и не имеет начала во времени. Исламские философы с этим не соглашались. Например, великий суфийский мистик аль-Газали утверждал, что сама идея бесконечности абсурдна. В XIII веке Католическая Церковь объявила возникновение мира догматом веры, хотя Фома Аквинский, проявляя некоторую приверженность к учению Аристотеля, настаивал, что с философской точки зрения это недоказуемо. Иммануил Кант доказывал, что мир без начала приводит к парадоксу: как мог наступить сегодняшний день, если сначала должно было пройти бесконечное число дней? Витгенштейн тоже видел нечто странное в идее бесконечного прошлого. Допустим, говорил он, вам встретился человек, который считает про себя: «9… 5… 1… 4… 1… 3… готово!» – «Что готово?» – спросите вы его. «О, я произносил все цифры в числе ϖ в обратном порядке, от бесконечности до первой, и наконец добрался до конца!»
Однако есть ли какой-то парадокс в бесконечном прошлом? Некоторые мыслители отвергают идею бесконечного прошлого потому, что в таком случае к настоящему моменту должен был быть совершен бесконечный ряд действий, что, по их мнению, невозможно. Хотя нет ничего невозможного в совершении бесконечного ряда действий, если вы располагаете бесконечным временем для их совершения. Вообще-то математически возможно совершить бесконечный ряд действий за конечное время при условии, что вы совершаете их все быстрее и быстрее. Допустим, вы можете завершить первое действие за один час, тогда второе займет у вас полчаса, третье – четверть часа, четвертое – одну восьмую часа и так далее. В таком темпе вы завершите бесконечный ряд действий всего лишь за два часа. На самом деле, каждый раз, проходя из одного конца комнаты в другой, вы совершаете такое чудо – поскольку, как заметил античный философ Зенон Элейский, пройденное расстояние можно разделить на бесконечное число все более крохотных интервалов.
Таким образом, Кант и аль-Газали ошибались: нет ничего абсурдного в бесконечном прошлом. Теоретически вполне могла быть бесконечная последовательность рассветов до сегодняшнего утра – при условии, что у нас был бесконечный промежуток времени, в течение которого они могли произойти.
В большинстве своем ученые не разделяли подобных философских сомнений в бесконечности. Ни Галилей, ни Ньютон, ни Эйнштейн не испытывали затруднений, представляя бесконечную во времени Вселенную. Эйнштейн даже ввел в свои уравнения поля «поправочный коэффициент» (печально известную «космологическую константу»), чтобы получить в итоге статичную и вечную Вселенную. Впрочем, астрономические наблюдения вскоре показали, что, вопреки интуиции Эйнштейна, Вселенная вовсе не статична – она расширяется, словно после изначального взрыва. Несмотря на явные факты, некоторые космологи все еще цеплялись за надежду, что Вселенная может быть вечна. В конце 40-х годов XX века Томас Голд, Герман Бонди и Фред Хойл предложили теорию стационарной Вселенной, в которой мир оказывался одновременно и расширяющимся, и вечным. (Голд и Бонди утверждали, что эта идея пришла им в голову после просмотра фильма ужасов «Глухая ночь», в котором наполненный сновидениями сюжет бесконечно вращается вокруг себя самого.) В этой модели пустое пространство, оставленное позади всегда разбегающимися галактиками, постоянно наполняется новыми частицами материи, которые спонтанно возникают благодаря «полю творения». Таким образом, несмотря на непрекращающееся расширение, поддерживается постоянная плотность материи, и стационарная Вселенная всегда выглядит одинаково, не имея ни начала, ни конца.
Другая космологическая модель вечности называется «пульсирующая Вселенная» и была впервые предложена русским математиком Александром Фридманом в 20-е годы XX века. Согласно модели Фридмана, наша Вселенная, появившаяся на свет около 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва, возникла после сжатия предыдущей Вселенной и, подобно ей, тоже в конце концов перестанет расширяться и сожмется обратно в точку. Однако в результате получится не Большое сжатие, а новый огненный взрыв, который можно назвать Большим разжатием, – и так далее, до бесконечности. В этой модели время становится бесконечным циклом разрушения и возрождения, похожим на танец бога Шивы в индуистской космологии.
В теории стационарной Вселенной, как и в теории пульсирующей Вселенной, проблемы происхождения мира не возникает: если Вселенная бесконечно стара (другими словами, если она существовала всегда), то не надо объяснять акт ее «сотворения». К сожалению для любителей вечности, теория стационарной Вселенной больше не воспринимается космологами всерьез: она была опровергнута в 1965 году, когда обнаружили реликтовое излучение – эхо Большого взрыва, которое стало решающим доказательством того, что наша Вселенная все-таки имела начало.
Теории пульсирующей Вселенной повезло больше, но и в ней хватает теоретических пробелов. До сих пор никто так и не смог объяснить, какая неизвестная сила отталкивания способна преодолеть гравитационное притяжение в последний момент сжатия и заставить Вселенную снова «разжаться» вместо того, чтобы схлопнуться.
Поэтому, по крайней мере в настоящее время, более вероятно выглядит идея конечного прошлого нашей Вселенной. Но что, если наша Вселенная не единственная? Что, если она лишь часть чего-то большего?
Один из великих уроков в истории науки состоит в том, что реальность всегда превосходит доступное воображению. В начале XX века считалось, что наша Вселенная состоит только из галактики Млечного пути, которая плывет сама по себе в бесконечном пространстве. С тех пор мы узнали, что Млечный путь является всего лишь одной из сотен миллиардов подобных галактик – и это только в видимой нам части Вселенной. В настоящее время считается, что Большой взрыв лучше всего объясняет теория, названная «новая инфляционная космология». Согласно этой теории, взрывы, создающие вселенные, подобно Большому взрыву, случаются довольно часто. (Как заметил один из моих друзей, было бы очень странно, если бы Большой взрыв поставлялся с этикеткой «Этот механизм срабатывает лишь однажды».) Инфляционная космология полагает, что наша Вселенная (возникшая 14 миллиардов лет назад) появилась из пространства-времени уже существовавшей Вселенной и не является единственной физической реальностью, а представляет собой лишь невообразимо крохотную часть мультивселенной[13]. Хотя каждый из миров внутри мультиверсума имеет определенное начало во времени, вся самовоспроизводящаяся структура в целом может быть бесконечно старой – таким образом, мы вновь обретаем вечность, которая казалась потерянной с открытием Большого взрыва.
Для бесконечного во времени мира (неважно, соответствует ли он инфляционной или какой-то другой теории) не существует необъяснимого «момента творения», в нем нет места «первопричине», нет произвольных «начальных условий». Поэтому кажется, что вечный мир удовлетворяет принципу достаточной причины: его состояние в любой момент времени можно объяснить его состоянием в предыдущий момент. Достаточно ли этого, чтобы развеять остатки ощущения тайны? Многие считают именно так, включая столь выдающегося мыслителя, как Дэвид Юм. В книге Юма «Диалоги о естественной религии» персонаж по имени Клеанф, чья позиция ближе всего к авторской, выдвигает два аргумента, показывающих, что вечный мир не нуждается в объяснении своего существования. Для начала он спрашивает, может ли Нечто, существующее в вечности, иметь причину, ведь причина предполагает предшествование во времени и начало существования? Здесь предполагается, что объяснение должно назвать причину, а причина должна быть прежде следствия. Однако ничто не может предшествовать бесконечному прошлому, поэтому такой мир не может иметь первопричину, а стало быть, и объяснение своего существования.
К первому аргументу есть два возражения. Во-первых, концепция причинности не утверждает, что причина всегда должна предшествовать следствию во времени. Представьте себе локомотив, который тянет вагон: движение первого заставляет двигаться последний, но оба движения происходят одновременно. Более того, не все объяснения требуют обращения к причине. Например, подумайте об объяснении правила в бейсболе или хода в шахматах.
Второй аргумент Юма лучше первого. Допустим, говорит автор устами Клеанфа, что история мира является цепью событий. Если мир вечен, то эта цепь бесконечна, в ней нет ни первого, ни последнего звена. Каждое событие в цепи можно объяснить предшествующим ему событием. Поскольку ни одно событие не остается без объяснения, кажется, что все объяснено. «Так в чем же сложность?» – спрашивает Клеанф. Его не впечатляет очевидное возражение: даже если каждое событие в цепи объясняется предыдущим событием, цепь событий в целом остается необъясненной. Он настаивает, что цепь событий в целом сводится лишь к событиям, из которых состоит. «Я отвечу, что объединение этих частей в целое, подобно объединению нескольких стран в королевство или нескольких разных членов в одно тело, есть произвольный акт ума и не влияет на природу вещей», – говорит Клеанф. Когда объяснены все части, то нет оснований требовать дальнейшего объяснения целого.
С этой точки зрения вечный мир есть причина самого себя, поскольку все в нем вызвано чем-то внутри него. Поскольку он не требует внешнего источника для своего существования, то является causa sui, что обычно считают качеством Бога.
Однако здесь чего-то не хватает. Этот бесконечный мир похож на железнодорожный поезд с бесконечным числом вагонов, каждый из которых тянет за собой последующий – а локомотива нет! Его также можно сравнить с вертикальной цепью с бесконечным числом звеньев, каждое из которых держит нижележащее звено – но что держит всю цепь в целом?
Представьте еще один ряд, не имеющий ни начала, ни конца, – бесконечную последовательность копий одной и той же книги, например «Бхагавад-гиты». Допустим, что каждая книга тщательно скопирована писцом, буква за буквой, с предшествующей книги. Для любой отдельной копии «Бхагавад-гиты» ее текст полностью объясняется текстом предыдущей копии, с которой она снята. Но почему целая серия книг, протянувшаяся бесконечно далеко назад во времени, должна быть копиями именно «Бхагавад-гиты»? Почему не копиями, к примеру, «Дон Кихота»? И почему вообще должны быть какие-то книги?
Описанный выше мысленный эксперимент, в основном восходящий к Лейбницу, несколько экзотичен, но его можно доработать и сделать более научным. Допустим, мы хотим объяснить, почему Вселенная именно такая, какая она есть в данный момент своей истории. Если Вселенная вечна, то всегда можно найти более ранние состояния в этой истории, которые связаны с объясняемым состоянием причинно-следственными связями. Однако нам недостаточно просто знать эти предыдущие состояния, мы должны также знать законы, управляющие переходом Вселенной из одного состояния в другое. В более точных терминах рассмотрим полную энергию-массу Вселенной в настоящий момент, обозначив ее М. Почему М имеет именно такое значение? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно указать, что вчера полная энергия-масса Вселенной тоже равнялась М. Однако само по себе это не является объяснением ее сегодняшнего значения. Нам также нужно указать закон – в данном случае закон сохранения энергии-массы. Полная энергия-масса Вселенной сегодня имеет значение М, потому что, во-первых, полная энергия-масса Вселенной вчера имела значение М, и, во-вторых, энергия-масса не создается и не уничтожается. Вот теперь мы получили полное объяснение.
Или не получили? Похоже, что существуют два варианта, в которых Вселенная могла быть совершенно другой: она могла бы иметь другое значение полной энергии-массы (например, М' вместо М) или другой закон, управляющий энергией-массой (например, закон мог бы позволять энергии-массе периодически меняться от М до М' – возвращаясь к примеру с «Бхагавад-гитой», текст книги мог бы время от времени меняться с английского на санскрит и обратно). У нас все еще нет объяснения, почему существует именно такой закон и именно такое значение полной энергии-массы – они оба выглядят произвольными. К тому же мы до сих пор не объяснили, почему вообще должна быть энергия-масса, не говоря уж про управляющие ею законы. Вечный мир все еще остается загадкой.
Впрочем, мы уже знали это интуитивно. Если нечто является causa sui, его существование по-прежнему выглядит произвольным. К тому же сущности необязательно быть вечной, чтобы быть причиной самой себя: она может описывать круги во времени, замыкаясь на себе таким образом, что не имеет ни начала, ни конца. Нечто подобное случается в снятом в 1980 году фильме «Где-то во времени». Главный герой, которого играет Кристофер Рив, получает золотые часы от какой-то пожилой женщины. Затем он путешествует обратно во времени и отдает часы той же женщине, когда она была еще молодой, – те же самые часы, которые она через несколько десятков лет передаст ему. Откуда взялись эти часы? За все время своего существования, на протяжении нескольких десятилетий, они ни разу не побывали на часовой фабрике. Они существуют, хотя никто их не создал, и выглядят как причина себя. Существование этих золотых часов так же необъяснимо, как было бы необъяснимо существование стихотворения «Кубла-хан» в том случае, если бы я совершил путешествие во времени в осень 1797 года и продиктовал его благодарному Кольриджу, который затем опубликовал бы это стихотворение, чтобы через двести лет я мог выучить его наизусть.
Можно ли придумать большее оскорбление принципа достаточной причины, чем поэма, сочинившая себя, или самовозникающие часы? Может ли быть нечто менее самоочевидное, чем пульсирующая Вселенная, вечно раздувающаяся и сжимающаяся, как космический аккордеон, или инфляционная мультивселенная, бесконечно пенящаяся, как только что открытая бутылка «Вдовы Клико»? Почему космос так абсурдно кипуч? Почему он вообще существует – неважно, конечный или бесконечный?
Почему не Ничто?
Интерлюдия: Ночные размышления в «Кафе де Флор»
«А вам, месье? Чашечку кофе?» – устало спросил официант с оттенком нетерпения в голосе. Вообще-то в Париже был поздний зимний вечер, и время близилось к закрытию. День выдался тяжелый, и мне требовалось кое-что покрепче, чем кофе. Мой спутник, стареющий, но привлекательный любитель плотских радостей по имени Джимми Дуглас предложил крепкую спиртовую настойку на травах, о которой я никогда не слышал, но Джимми настаивал, что она встряхнет мою печень.
Судя по его виду, настойка действительно работала: несмотря на многочисленные излишества и беспечное удовлетворение своих ненасытных аппетитов всех видов, Джимми оставался необычно молодым. Друзья прозвали его Дорианом Греем. Вероятно, свою роль в этом сыграло и то, что ему, как наследнику огромного состояния, не нужно было зарабатывать себе на жизнь в поте лица. В 50-е годы XX века он стал любовником Барбары Хаттон, прозванной «бедная маленькая богачка», после ее развода с международным плейбоем, дипломатом и звездой поло Порфирио Рубиросой, брак с которым продлился 53 дня. В 60-е Джимми устроил совместную вечеринку с «Битлз» и «Роллинг стоунз» в своей роскошной квартире в округе Сен-Жермен, по соседству с бывшим премьер-министром Франции. Теперь, десятки лет спустя, он рассказывал мне истории о бароне Готфриде фон Крамме, Нэнси Митфорд и Ага Хане и убеждал меня переехать из Нью-Йорка в Париж, где, по его утверждению, ночные клубы лучше, а бактериальная флора позволяет сохранить вечную молодость.
Потягивая бодряще жгучую травяную настойку, принесенную официантом, я поглядывал вокруг. В этот час «Кафе де Флор» вряд ли представляло собой «полноту бытия», описанную Сартром. За столиком в глубине я заметил Карла Лагерфельда с его характерной прической – хвостом, темными очками и высоким белым воротником. Карл о чем-то тихо разговаривал с одной из своих муз, губы которой были накрашены черной помадой. А больше в кафе почти никого и не было – Пустота.
И вдруг в зал ворвалась шумная волна активности: в дверь вошла женщина (судя по ее возрасту, давняя знакомая Джимми) в сопровождении парочки, похожей на кубинских жиголо, одетых в спортивные костюмы. Хихикающая троица уселась за наш столик и принялась болтать без умолку. На землистом лице женщины застыла маска веселья, ее низкий хриплый голос напомнил мне Жанну Моро. Я слушал с ироничным пренебрежением, но настроение у меня упало. Пожалуй, пора прощаться.
Поздним вечером воздух был холодным и влажным. По дороге обратно в гостиницу я оглянулся на пустынную площадь у аббатства Сен-Жермен-де-Пре, построенного тысячу лет назад. Там, в одной из боковых часовен, покоилось тело Декарта – во всяком случае, бо́льшая часть его тела, ибо местонахождение черепа и указательного пальца правой руки до сих пор неизвестно.
Интересно, а Сартр, писавший в «Кафе де Флор», чувствовал присутствие Декарта поблизости? Дух Декарта был не единственным философским привидением, бродившим по этим окрестностям. Прямо напротив кафе, на другой стороне бульвара Сен-Жермен, есть рю Гозлин, улица протяженностью всего в один квартал. Это все, что осталось от рю Сент-Маргерит, средневековой улицы, которую поглотил бульвар во время модернизации Парижа в середине XIX века бароном Османом. Несколько веков назад там стоял «Отель де Ромэн», где Лейбниц прожил два года из четырех очень счастливых лет, проведенных в Париже. Что он делал в Париже? Как обычно, за этим визитом стояла интрига. В 1672 году Лейбниц прибыл в столицу Франции с секретной дипломатической миссией, чтобы убедить Людовика XIV напасть на безбожный Египет, а не на христианскую Германию. Миссия не увенчалась успехом. «Что касается идеи Священной войны, – вежливо ответил Лейбницу „король-солнце“, – вы знаете, что со времен Людовика Благочестивого подобные затеи вышли из моды». (В данном случае Франция напала на Голландию.)
Однако в Париже Лейбниц времени не терял. Именно в «Отеле де Ромэн» на тридцатом году жизни (который стал для него выдающимся годом) он изобрел математический анализ, включая общепринятые ныне обозначение dx и удлиненное S как знак интеграла. И именно в этой гостинице, в комнате с видом на место, где сейчас стоит «Кафе де Флор», Лейбниц заложил основы своей метафизической философии, высшим достижением которой стал самый глубокий из всех вопросов: почему существует Нечто, а не Ничто?
И Лейбниц, и Декарт пытались разрешить тайну бытия рациональными способами. Оба решили, что единственным твердым онтологическим основанием для случайного мира вроде нашего может быть только сущность, которая заключает логическую гарантию собственного существования в самой себе. Такой сущностью, по их мнению, мог быть только Бог.
Подобно своим философским предшественникам, Сартр тоже был рационалистом. В отличие от них, он считал, что сама идея Бога насквозь пронизана противоречиями. Существо либо обладает сознанием, либо не обладает. Если оно обладает сознанием, то это оно «для самого себя», это деятельность, а не сущность, «ветер, дующий из ничто в сторону мира». Если существо не обладает сознанием, то оно «в себе», является полным и неизменным объектом. Бог, если бы он существовал, должен был бы быть «для самого себя» и «в себе» одновременно, то есть обладающим и сознанием, и полнотой – а это, по утверждению Сартра, невозможно. Тем не менее такое богоподобное сочетание текучести и неподвижности не может не привлекать нас, людей. Сартр считал, что наше желание быть абсолютно свободными и в то же время полностью безопасными в своей идентичности есть не что иное, как желание быть Богом, сокрытие истины от себя самого, разновидность первородного греха. Именно это, по мнению Сартра, и демонстрировал мой официант: «Его движения скоры, немного чересчур точны и чересчур быстры… Он наклоняется вперед чуть более усердно; его взгляд и голос выражают чуть больше предупредительности, чем следовало бы проявить для такого посетителя… Он играет, он забавляется. Но во что же он играет? Нам не придется наблюдать слишком долго, чтобы понять, что он играет в официанта в кафе»59. Однако сознание не может иметь никакой сущности, вроде работы официантом или божественности. Таким образом, Бог – это абсурдная идея. А человек – «бесполезная страсть».
Вот какие размышления занимали меня по дороге – мимо изящно освещенного театра «Одеон», по краю Люксембургского сада, в направлении Монпарнаса: моя гостиница оказалась расположена недалеко от кладбища, где похоронены Сартр и Симона де Бовуар (а также Сьюзен Зонтаг). После полуночи в Париже царила такая тишина, что на некоторых улицах слышно было эхо шагов (немыслимая вещь для Нью-Йорка!), и мои мысли казались прозрачными, убедительными и верными.
Однако на следующее утро меня снова окутал метафизический туман. Может быть, в «Кафе де Флор» царила некая нездоровая атмосфера? Парадоксы Сартра представлялись мне простыми, а его онтологическое отчаяние – слегка неуместным. В конце концов, куда Сартру до таких философов, как Лейбниц и Декарт? А они оба были убеждены, что мир произвольного бытия (тот самый мир, который Сартр считал столь слащавым и абсурдным, пропитанным Ничто) должен покоиться на надежном и необходимом онтологическом основании.
Наверняка и сейчас некоторые серьезные мыслители согласны с этой точкой зрения, но найти их на Левом берегу будет не так-то просто – по крайней мере, в этом веке. Лучше поискать в более уединенном, средневековом месте. Поэтому, перекусив бутербродом с кофе, я доехал на метро до Северного вокзала, где сел на поезд в Лондон. Через несколько часов я прибыл на вокзал Ватерлоо, добрался на метро до Паддингтона, где пересел на местный поезд до Оксфорда, и задолго до ужина прибыл в «город дремлющих шпилей».
«Здесь я уже бывал», – подумал я, проходя по Хайстрит. Я и впрямь приезжал сюда всего несколько месяцев назад на свадьбу друга. Теперь была середина зимы, зимний триместр, и сложенные из песчаника стены оксфордских колледжей сияли оранжевым светом в прозрачных лучах предзакатного солнца. Колокольный звон доносился со всех сторон. Студенты торопливо шагали кто куда через готический лабиринт переходов, галерей, переулков и внутренних двориков. Повсюду вокруг меня чувствовалось мягкое дыхание тысяч лет обучения. Но довольно фальшивой поэзии; где искать следующий ключик к тайне существования мира?
На этот счет у меня была неплохая идея. Много лет назад, в кипе гранок, присланных мне на рецензию, мое внимание привлекла тонкая книжка под ничем не примечательным названием «Существует ли Бог?». Подобных книжек пруд пруди, так что удивился я не названию, а автору: книгу написал Ричард Суинберн, религиозный философ, приверженец так называемой «естественной теологии», а также философ науки, автор научных работ в области пространства, времени и причинности. И он явно относился к мыслителям, которых занимает тайна бытия: «Поразительно, что вообще что-то существует, – гласила цитата на задней обложке. – Ведь наиболее естественное состояние вещей – это полная пустота, где нет ни Вселенной, ни Бога, где нет ничего. Тем не менее что-то все-таки есть. Причем много всякого разного. Случайность вполне могла создать отдельный электрон, но ведь существует огромное множество частиц!»
Чем можно объяснить существование столь богатой и изобильной Вселенной? И чем объяснить множество ее удивительных черт, таких как порядок в пространстве и времени, тонкая настройка значений, необходимых для жизни и сознания, пригодность для существования человека?
«Сложность, индивидуальные особенности и конечность Вселенной просто требуют объяснения», – пишет Суинберн, делая вывод, что простейшей гипотезой, объясняющей существование такого мира, является гипотеза создания Вселенной Богом. Надо признать, эта мысль не очень оригинальная, зато методология Суинберна действительно уникальна: он не пытается доказать существование Бога абстрактными логическими умозаключениями, как это делали Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский или Декарт, только используя современные научные обоснования. Суинберн пытается показать, что гипотеза Бога по крайней мере вероятна – более вероятна, чем ее отрицание, – а следовательно, вера в Бога обоснованна.
«Те же самые критерии, которые применяют ученые для доказательства своих теорий, приводят нас к выходу за пределы этих теорий к божественному Творцу, который является источником всего сущего»60, – пишет Суинберн. Каждый шаг в его доказательстве тщательно обоснован канонами индуктивной логики. Особенно ловко он обращается с теоремой Байеса – математической формулой, описывающей, как новые данные увеличивают или уменьшают вероятность гипотезы. Используя подтверждающую теорию Байеса, Суинберн пытается показать, что, основываясь на всей совокупности фактов (которая включает не только существование Вселенной, но и ее законы, ход истории и даже наличие в ней зла), существование Бога более вероятно.
Суинберн поразил меня блестящей техникой рассуждений, хотя я знал, что не все находят ее поразительной. Его коллега, философ науки Адольф Грюнбаум, весьма презрительно отозвался о попытке Суинберна обосновать деизм, назвав ее «совершенно неудовлетворительной». Как заявил Грюнбаум, рассуждения Суинберна в защиту деизма были «необоснованны» и «ошибочны», полны «отвлекающих маневров» и «фальшивых аргументов». На протяжении многих лет Суинберн и Грюнбаум неоднократно схватывались друг с другом на таких форумах, как британский журнал по философии науки British Journal for the Philosophy of Science. Когда я перечитывал их препирательства в старых выпусках журнала, это было похоже на наблюдение за ожесточенной игрой в замысловатый метафизический пинг-понг. «Ну почему, скажите мне, почему Суинберн вместе с Лейбницем считают, что само по себе существование Вселенной неизбежно требует „причины, действующей извне“?»61 – однажды раздраженно спросил меня Грюнбаум.
Ричард Докинз тоже относится к доказательствам Суинберна по меньшей мере скептически. В книге «Бог как иллюзия» он насмехается над утверждением Суинберна о научной простоте гипотезы Бога, называя его рассуждения «захватывающей дух интеллектуальной наглостью». Каким образом, вопрошает Докинз, существо, сотворившее и поддерживающее столь сложную Вселенную, как наша, существо, которое предположительно способно следить за мыслями всех своих созданий и отвечать на их молитвы («Вот это пропускная способность!»), может быть простым? А что касается аргумента Суинберна о том, что существование всемогущего и бесконечно любящего Бога может быть уравновешено миром, содержащим зло и страдание, то это просто «за гранью сатиры». По словам Докинза, он припоминает телевизионную дискуссию, в которой Суинберн «попытался оправдать холокост на том основании, что он дал евреям замечательную возможность продемонстрировать мужество и благородство» – в ответ на что другой участник дискуссии, кембриджский химик и главный антидеист Питер Эткинс, прорычал: «Чтоб ты сгнил в аду!»62
«Если человек способен столь смело рассуждать о космосе и вызывать такие злобные реакции у своих противников, то с ним явно стоит пообщаться», – решил я. Суинберн недавно ушел на покой с должности почетного профессора философии христианской религии в Ориельколледже и, когда мне удалось связаться с ним, весьма любезно пригласил меня к себе в Северный Оксфорд на беседу за чашкой чая. На следующий день я вышел из гостиницы на Хай-стрит, спустился по Квинс-лейн, прошел под Мостом вздохов, мимо Бодлианской библиотеки и Эшмоловского музея и, наконец, оказался на широкой Вудсток-роуд, которая через пару миль привела меня в Северный Оксфорд. Я заметил православную церковь, когда свернул с главной дороги в поисках данного мне Суинберном адреса. По искомому адресу обнаружился многоквартирный дом в стиле модернизма 50-х годов прошлого века, окруженный рядом симпатичных кирпичных домов эдвардианской эпохи. В неподвижном зимнем воздухе без умолку звенели птичьи песни. «Добрый знак», – подумал я.
Глава 6 Индуктивный деист из Северного Оксфорда
«Дальний путь вы проделали», – приветствовал меня Ричард Суинберн у порога своего дома. «Да уж, – подумал я, – путь действительно дальний: от „Кафе де Флор“ в современном Париже до кельи философа-монаха в средневековом Оксфорде».
Родившийся в 1934 году, Суинберн выглядел подтянутым и молодым для своих семидесяти с лишним лет, с приятными чертами лица и безмятежным видом. Узкое лицо с высоким лбом украшала густая седая шевелюра. Он говорил тихо, слегка в нос, отчетливо выговаривая гласные и с бесконечными оттенками переливов. Одет он был в прекрасно сшитый темный костюм и заправленный в брюки свитер. Как оказалось, Суинберн жил один в уютной, обставленной по-спартански двухуровневой квартире. По узкой лестнице мы поднялись в кабинет с висящим на стене распятием. Отлучившись на минуту, хозяин вернулся с чайником чая и сахарным печеньем.
Я упомянул, что провел интересный день с Адольфом Грюнбаумом, великим космологическим противником Суинберна, и что Грюнбаум весьма пренебрежительно отозвался об убеждениях Суинберна, в особенности о вере в то, что само по себе существование мира отчаянно требует какого-то объяснения.
– Грюнбаум неверно меня понимает, – мягко ответил Суинберн с видом викария, говорящего о пасторе, с которым трудно ужиться. – Он считает, будто я говорю, что реальность должна была бы получить Ничто и получение Нечто удивительно и необычайно. Но я вовсе не это имею в виду. Моя позиция основана на эпистемологическом принципе: простейшее объяснение с наибольшей вероятностью оказывается истинным.
– Почему же, – поинтересовался я, – простота обладает таким эпистемологическим достоинством?
– Это можно продемонстрировать на многочисленных примерах, и не только из области науки. Совершено какое-то преступление – ограблен банк, например. Есть три улики. Некто по имени Джонс был замечен на месте преступления в момент ограбления. На сейфе найдены отпечатки Джонса. Деньги из банка обнаружены у Джонса на чердаке. Правдоподобное объяснение состоит в том, что преступление совершил Джонс. Почему мы так думаем? Потому что если гипотеза о виновности Джонса верна, то подобные улики, скорее всего, нашлись бы; а если она неверна, то, скорее всего, не нашлись бы. Однако существует бесчисленное множество других гипотез, которые отвечают этому двойному условию, – например, можно предположить, что кто-то, шутки ради, оделся как Джонс и случайно проходил мимо банка; кто-то другой, независимо от первого, имел зуб на Джонса и нанес отпечатки его пальцев на сейф; а кто-то третий, независимо от первых двух, положил на чердак Джонса деньги, добытые с помощью какого-то другого ограбления. Эта гипотеза также отвечает двойному условию истинности, однако что бы мы подумали об адвокате, который выдвинул бы такую версию? А почему? Да потому, что первая версия проще. Наука всегда выбирает самое простое объяснение. В противном случае невозможно было бы двинуться дальше сбора фактов. Отказаться от принципа простоты означает отказаться от размышлений о внешнем мире.
Суинберн помолчал немного с серьезным видом, затем спросил:
– Еще чашечку чая?
Я кивнул, и он снова наполнил мою чашку.
– Описания реальности можно расставить по порядку, в зависимости от их простоты, – продолжил Суинберн. – Априори простая Вселенная более вероятна, чем сложная. А самая простая Вселенная – та, которая не содержит ничего: ни объектов, ни свойств, ни отношений. Поэтому до получения фактов наибольшей вероятностью обладает именно гипотеза, утверждающая, что скорее существует Ничто, чем Нечто.
– Однако, – возразил я, – простота не может сделать эту гипотезу истинной, – и в подтверждение своих слов показал ему сахарное печенье.
– Верно, – ответил Суинберн. – Поэтому вопрос стоит так: какова простейшая Вселенная, содержащая это сахарное печенье, чайник, нас и все остальное? И я утверждаю, что простейшая гипотеза, способная все это объяснить, подразумевает существование Бога.
Идея, что гипотеза Бога проста, выводит из себя многих мыслителей-атеистов, например Ричарда Докинза, так что я не мог не спросить Суинберна об этом. Но сначала я задал менее сложный вопрос: имеет ли значение для его рассуждений о необходимости Бога конечность или бесконечность прошлого Вселенной?
– Я знаю, что многие смотрят на Большой взрыв сквозь метафизическую призму, – ответил он, – но не думаю, что проблема космического начала имеет большое значение. Фома Аквинский тоже так не думал, он считал, что, с точки зрения философии, Вселенная вполне может быть бесконечно старой, лишь христианское откровение появилось в определенный момент времени. Это одно из возможных прочтений Книги Бытие. Однако предположим, что Вселенная существовала всегда и всегда подчинялась тем же самым законам. Факт существования Вселенной, хотя ее могло бы и не быть, все равно остается фактом. Неважно, действовали ли законы, управляющие развитием Вселенной, на конечном или бесконечном промежутке времени, они все равно остаются теми же законами. И чтобы в результате их действия появились человеческие существа, сами законы должны быть довольно специфическими. Можно подумать, что при наличии бесконечного времени материя преобразует себя в достаточной степени, чтобы произвести разумные существа, однако это не так! Представьте себе шары, катающиеся по бильярдному столу, – даже за бесконечное время они не произведут все возможные конфигурации. Космос должен отвечать некоторым весьма точным условиям, чтобы в нем появились люди.
– А что, если наш мир – лишь одна из огромного множества Вселенных, в каждой из которых действуют свои собственные законы? Разве не найдется среди них такой, в которой непременно появятся подобные нам существа?
Да, я знаю, что идея мультивселенной получила широкое освещение в прессе, – сказал Суинберн. – Но в моем случае она не имеет никакого значения. Допустим, что каждая Вселенная производит дочерние вселенные, отличающиеся от материнской в разной степени. Откуда нам знать, что подобная дочерняя Вселенная существует? Только через изучение нашей Вселенной, через обратную экстраполяцию и открытие, что в какой-то момент от нее отделилась другая Вселенная. Наш единственный источник знаний о других мирах – тщательное изучение нашего собственного мира и его законов. Тогда как мы можем предположить, что другие вселенные управляются совершенно другими законами?
– Может быть, – возразил я, – законы, управляющие другими вселенными, точно такие же, но отличаются «константами», содержащимися в них, – списком из примерно двадцати чисел, определяющих относительную силу физических взаимодействий, относительные массы элементарных частиц и так далее. Если наш мир – всего лишь один из огромного множества миров, в которых эти константы меняются случайным образом, то не следует ли ожидать, что в некоторых из миров сочетание констант окажется подходящим для развития жизни? И тогда разве не окажется, что мы непременно должны жить в одной из вселенных, чьи характеристики случайно оказались подходящими для нашего существования? Разве этот «антропный принцип» не делает тонкую настройку параметров нашей Вселенной абсолютно тривиальной? И в таком случае так ли нам нужна гипотеза Бога для объяснения причин нашего существования?
Суинберн слегка усмехнулся, словно уже слышал этот аргумент бесчисленное множество раз:
– Хорошо, но тогда нам нужно будет найти закон изменения этих констант от Вселенной к Вселенной. Если простейшая теория состоит в том, что физические постоянные претерпевают некоторые изменения, когда материнская Вселенная дает начало дочерней, то возникает вопрос: почему мультивселенная именно такая, ведь возможны бесчисленные варианты того, какой она могла бы быть? И все эти другие мультивселенные не дали бы начало вселенным, содержащим жизнь. В любом случае постулирование триллионов триллионов других вселенных для объяснения того, почему наш мир обладает характеристиками, позволяющими появиться жизни, кажется мне слегка безумным, когда есть гораздо более простая гипотеза Бога.
А так ли проста гипотеза Бога? Я готов согласиться, что, в некотором смысле, Бог может быть простейшей сущностью, которую можно себе представить. Теологи дают определение Бога как сущности (или, выражаясь техническим языком, «субстанции»), обладающей всеми положительными качествами в бесконечной степени. Он обладает бесконечным могуществом, бесконечным знанием, бесконечной добротой, бесконечной свободой, существует вечно и так далее. Установка всех параметров на значение «бесконечность» позволяет легко определить такую сущность. В случае же конечного существа, обладающего вот таким размером и вот таким могуществом, знающего столько-то и не более того, появившегося в такой-то момент в прошлом и так далее, мы вынуждены составлять длинный и запутанный список атрибутов. С точки зрения науки, бесконечность, как и ее противоположность – ноль, очень удобны, ибо не требуют объяснений, в отличие от конечных чисел. Например, если в уравнении появилось число 2,7, то кто-нибудь может спросить: «А почему именно 2,7? Почему не 2,8?» Простота нуля и бесконечности предотвращает такие неудобные вопросы. То же самое можно сказать относительно Бога. Если создатель мира мог сотворить Вселенную именно такой массы и ни на грамм больше, то возникает вопрос, почему его могущество так ограниченно? С бесконечным Богом подобные пределы объяснять не требуется.
Итак, гипотеза Бога в самом деле обладает некоторой простотой. Однако Бог, по Суинберну, не просто бесконечная субстанция – Он также вмешивается в историю человечества: внимает молитвам, открывает истину, творит чудеса и даже воплощает себя в человеческом теле. Этот Бог действует в соответствии со сложными целями. Но разве способность к действиям по достижению сложных целей не предполагает соответствующей сложности того, кто действует? Я заметил, что Суинберн действительно исходит из такого предположения в некоторых из своих работ. Например, в эссе, написанном в 1989 году, он замечает, что мы, люди, можем иметь сложные верования и цели только благодаря нашему сложно устроенному мозгу63. Значит, чтобы достичь своих целей, Бог должен быть очень сложно – практически бесконечно сложно! – устроен, разве не так?
Этот вопрос заставляет Суинберна нахмуриться, но через мгновение его лоб снова разглаживается.
– Чтобы взаимодействовать с миром и приносить пользу друг другу, людям нужны тела, – отвечает он. – Отсюда и необходимость сложно устроенного мозга. Однако Богу не требуются ни тело, ни мозг. Он воздействует на мир напрямую.
– Но тогда, – возразил я, – если Бог сотворил мир с некой целью, если у Него есть сложные планы в отношении своих созданий, то Его мозг должен содержать сложные мысли, то есть божественный «мозг», даже если он нематериальный, все равно должен быть сложным средством отображения, верно?
– С точки зрения логики, нет необходимости обладать каким бы то ни было мозгом, чтобы иметь убеждения или цели, – ответил Суинберн. – Бог способен видеть все сущее без мозга.
– Разве способность видеть все сущее, с помощью мозга или без него, не предполагает нечто, помимо простоты? Если Бог обладает внутренним знанием всего мира, то сложность Его внутренней структуры должна быть как минимум равна сложности мира.
Суинберн задумчиво потер подбородок:
– Я вижу, к чему вы клоните. Однако есть множество вещей, которые я могу делать, не задумываясь о том, как я это делаю, – например, завязывать шнурки.
– Да, – согласился я, – но вы можете завязать шнурки только потому, что в вашем мозгу есть сложные нейронные сети.
– Это верно. Однако моя способность завязать шнурки не задумываясь – это один факт, а протекание определенных процессов в моем мозгу – это другой факт. Оба факта верны, но необязательно взаимосвязаны.
Я хотел было возразить против столь странного параллелизма между сознанием и телом (Суинберн явно считал, что умственные процессы протекают как-то независимо от процессов в мозгу), но побоялся, что начинаю надоедать ему.
– Давайте я сформулирую это несколько иначе, по аналогии, – предложил Суинберн. – Некоторые, вроде Докинза, могут заявить, что наука никогда не предполагает никаких «всеобъемлющих» свойств, например всеобъемлющего знания или всеобъемлющего могущества, которые мы приписываем Богу. Тем не менее взгляните на теорию гравитации Ньютона, которая постулирует, что каждая частица во Вселенной одновременно создает гравитационную силу и подчиняется ей, причем сила эта бесконечна: каждая частица влияет на все другие частицы во Вселенной, независимо от расстояния до них. Получается, что серьезные физики приписывают бесконечное могущество крохотным частицам. В науке считается вполне допустимым наделять всеобъемлющими свойствами очень простые объекты.
В вопросе простоты мы явно зашли в тупик, поэтому я попытался найти другое слабое место в рассуждениях Суинберна:
– Мне кажется, что Бог в вашем представлении ближе к абстрактному онтологическому принципу, чем к небесному Отцу, которому молятся верующие. Вполне может существовать, как вы и говорите, в высшей степени простая сущность, которая объясняет существование и природу Вселенной – и даже имеет некоторые личностные качества. Однако считать эту сущность эквивалентной той, которой поклоняются в церкви, похоже на притягивание за уши. Легко видеть, как современные религии выросли из анимистических культов и стали более сложными, как магические представления о мире превратились в научные, но эти примитивные культы не имели трансцендентальной основы.
– Я так не думаю, – довольно резко возразил Суинберн. – Я считаю, что трансцендентность присутствовала всегда. Бог в Новом и частично в Ветхом Завете является всемогущим, всеведущим и всеблагим Создателем. Уже во времена пророка Иеремии можно найти представления о том, что видимый мир содержит свидетельство трансцендентности. Иеремия говорит о «завете о дне и завете о ночи», которые создал Господь. Это значит, что регулярная смена дня и ночи показывает надежность Создателя. По сути, именно это – то, что философы называют «телеологическим доводом», – является одним из основных аргументов в пользу существования Бога. В раннем христианстве, иудаизме и исламе присутствует такой тип трансцендентного мышления на заднем плане, на нем просто не заостряют внимание, потому что в те времена вопрос был не в том, существует ли бог, а в том, какой Он и что Он сделал.
– Однако почему те, кто не был воспитан в одной из этих традиций, должен верить в такого бога, который обращает внимание на них и их судьбы? Почему не абстрактный и ни во что не вмешивающийся бог деистов XVIII века или не безличный бог Спинозы?
– А потому, – ответил Суинберн, – что эти концепции не принимают всерьез бесконечную доброту Создателя. Что сделал бы добрый Бог? Вряд ли бы Он создал Вселенную, а потом забыл о ней. Родители, не заботящиеся о своих детях, не очень хорошие родители. Естественно ожидать, что Бог поддерживает связь со Своими созданиями, и если что-то идет не так, то помогает людям исправить это. Он будет взаимодействовать со Своим творением, но не слишком очевидным образом. Как заведено у хороших родителей, Его будут раздирать сомнения: чрезмерно Он вмешивается в жизнь чада или недостаточно. Ему хочется, чтобы люди сами работали над своей судьбой, отличали добро от зла и так далее, без Его постоянного вмешательства. Поэтому Он будет держаться на расстоянии. С другой стороны, если в мире слишком много греха, Он захочет помочь людям справиться с этим, особенно тем, кто просит о помощи. Он слышит их молитвы и иногда отвечает на них.
Я упомянул, что, по мнению некоторых философов, Вселенную создал не Бог-создатель, а некий абстрактный принцип добра – именно так считал Платон.
– С философской точки зрения, платоновский принцип добра весьма подозрителен, – возразил Суинберн. – Но лично я, как христианин, особенно с ним не согласен. Подобный абстрактный принцип добра неспособен объяснить проблему зла. Как мы знаем, в мире существуют зло и страдание. У меня есть теодицея – оправдание того, почему Господь позволяет зло. Я думаю, что зло позволено, потому что оно логически необходимо для существования определенных типов добра, возникающих из нашего обладания свободой воли. Бог всемогущ. Он может совершить все что угодно, что логически возможно со вершить. И для Него логически невозможно дать нам свободу воли и одновременно сделать так, чтобы мы всегда использовали ее правильно.
Суинберн замолчал и сделал глоток из чашки с чаем. Когда он заговорил вновь, его тон был почти назидательным:
– Хороший родитель позволяет детям страдать, иногда для их собственного блага, иногда для блага других детей. Я думаю, что такой родитель обязан разделить страдание своего ребенка. Вот вам пример – возможно, поверхностный. Допустим, что моему ребенку требуется особое лекарство, которого мало. Мне повезло, и я могу дать своему ребенку много лекарства. Но предположим, что ребенок моего соседа тоже страдает от такого же заболевания и тоже нуждается в этом лекарстве. Если я поделюсь своими запасами лекарства, то мой собственный ребенок получит лишь столько, сколько необходимо для выживания. Считается общепринятым, что можно заставить моего ребенка страдать, чтобы другой ребенок тоже выжил. Однако если я так поступлю, то буду обязан разделить его страдания. Такая же обязанность есть и у Бога. Если Он имеет основания заставить нас страдать, то в какой-то момент должен разделить с нами эти страдания. Чего не в состоянии сделать абстрактный принцип добра.
Несмотря на серьезность аргумента, я заметил оттенок ликования в голосе Суинберна, словно он радовался своей интеллектуальной ловкости.
– Кроме того, существует христианская доктрина искупления, – продолжал он. – Если мои дети сделали друг другу что-то плохое, то они причинили вред и мне тоже, потому что я окружал их большой заботой, чтобы подобного не случилось. Таким образом, причиняя вред друг другу, мы вредим и Богу тоже. Что сделает Господь в ответ? – А что мы делаем, когда обидели кого-то? Мы искупаем свою вину. Искупление вины включает четыре элемента: раскаяние, извинение, возмещение вреда и покаяние. Люди обижают Бога в основном тем, что ведут неправедную жизнь. Как же нам искупить вину? У нас не очень много времени (и желания!) вести себя безупречно, поэтому мы не можем полноценно возместить ущерб. С другой стороны, если вы сами не в состоянии возместить ущерб, кто-то другой может вам с этим помочь. Христианство полагает, что Иисус прожил безупречную жизнь, такую, какую должны вести мы. И хотя мы живем неправедно, мы можем предложить жизнь Иисуса в качестве оплаты за свои недостатки. Поступая таким образом, мы показываем Богу, что относимся к своим недостаткам серьезно, поэтому Он должен нас простить. В этом и состоит христианская доктрина искупления – частично от Фомы Аквинского, частично от Ансельма Кентерберийского. Из самой природы доброты следует, что Господь должен быть вовлечен в жизнь Своего творения. Это как бы мостик между философией и христианством.
В его логике было Нечто непостижимое. Вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» привел этого философа не только к идее Бога, но и к Самому Иисусу Христу. Я обратил внимание на висящее на стене распятие. Принадлежал ли Суинберн к Римской католической Церкви? Или к англиканской?
– Ни то, ни другое, – ответил он. – Я православный.
– Ого! – вырвалось у меня от растерянности.
Впрочем, оказалось, что Суинберн не во всех отношениях правоверный. Я упомянул общепринятую теологическую аксиому о том, что Бог находится вне времени и способен окинуть взглядом всю историю Вселенной с точки зрения неизменной перспективы вечности. Схоластики вроде Фомы Аквинского считали, что подобная неподвластность времени является одним из божественных совершенств.
– Я не согласен с этим взглядом, – ответил Суинберн. – И думаю, что авторы Библии тоже с ним не согласны. Они мыслили Бога во времени, и я тоже. Идея, что для Бога есть «до» и «после», что имеет смысл фраза «Он сначала сделал это, а потом то», снова входит в моду.
– Интересно, – удивился я вслух, – почему философы религии так часто не могли прийти к согласию, рассуждая о столь принципиальных вопросах? И почему существует такая огромная метафизическая пропасть между Суинберном, который считает, что гипотеза Бога дает научно достоверное объяснение существованию мира, и философами вроде Грюнбаума, которые признают подобную идею абсурдной?
– Это интересный вопрос, – ответил Суинберн. – И не сводится лишь к философии религии. Такие радикальные разногласия есть в каждом разделе философии. И они могут иметь практические последствия. Люди изменяют свои взгляды на этические принципы войны, наказания, на целый ряд моральных проблем, основанных на философских аргументах. Однако философия – это очень сложный предмет, и разобраться в сложнейших вопросах на протяжении конечной человеческой жизни вряд ли возможно. К тому же наши рассуждения тоже несовершенны. Наши предрассудки незаметно проникают в философское мышление, особенно там, где это касается нашей жизни. Предрассудки заставляют нас рассматривать одни аргументы более тщательно, а другие – вовсе не замечать. Многие философы были воспитаны в глубоко религиозных семьях. В подростковом возрасте они обнаружили, что их религия противоречит очевидным вещам, и взбунтовались против нее. Позднее, когда им предложат более привлекательную религию, они откажутся от нее.
По мнению Суинберна, Бог не только сверхъестественное Существо, Которому следует поклоняться и повиноваться, но и конечное звено в цепи объяснений. В поисках ответа на тайну бытия нельзя зайти дальше Бога. Суинберн не верил в принцип достаточного основания и не считал, что должно быть объяснение для всего. Он полагает, что задача метафизики в том, чтобы найти правильную конечную точку в объяснении мира – такую, которая сводит к минимуму необъясненную часть реальности. И такая конечная точка должна быть простейшей гипотезой, охватывающей все имеющиеся у нас факты.
Тем не менее я не мог удержаться от вопроса, почему существует Сам Бог. Суинберн уже признал, что «наиболее естественным» состоянием была бы абсолютная пустота, в которой нет ни Вселенной, ни Бога. Он также думал, что реальность, содержащую Вселенную без Бога (то, во что верят атеисты), труднее всего вообразить. В этом Суинберн расходился со многими из своих теологических союзников – от Ансельма Кентерберийского до Декарта, Лейбница и современных философов-деистов (вроде Алвина Плантинга из университета Нотр-Дам), – которые считали, что существование Бога обязательно. В отличие от нашей случайной Вселенной, утверждали они, Господь не может не существовать, Он Сам Себе причина Своего существования. Они даже настаивали, что существование Бога можно доказать логически. Суинберн с этим не согласен. Там, где другие философы-деисты говорят о необходимости, он говорит о простоте, а простота, как он ее понимает, делает гипотезу лишь вероятной, но не безоговорочно несомненной. По его мнению, возможно отрицать существование Бога, не нарушая принципов логики. Однако зайдет ли Суинберн настолько далеко, чтобы назвать существование Бога установленным фактом?
– Да, я бы сказал, что это установленный факт, – ответил он. – Дело не в том, что у нас нет объяснения для существования Бога. Дело в том, что такого объяснения быть не может. Одно из свойств Бога – всемогущество. Если с Ним что-то происходит, то только потому, что Он позволил этому произойти. Таким образом, если что-то еще создало Бога, то только потому, что Он позволил ему Себя создать.
Подобных рассуждений мне прежде слышать не доводилось.
– То есть лично у вас не возникает вопроса, почему существует Бог? – поинтересовался я. – Или все-таки возникает?
Суинберн коротко хмыкнул и ответил:
– Я не думаю, что кто-то считал существование Богалогически необходимым – по крайней мере, до тех пор, пока не появился Ансельм Кентерберийский с его онтологическим доказательством, что произошло в середине двухтысячелетнего существования христианства. Онтологический аргумент Ансельма Кентерберийского был неудачными ненужным поворотом для теологии. Даже Фома Аквинский не верил в него на самом деле. Так что не только я считаю, что существование Бога не является чисто логической проблемой. Тем не менее я думаю, что Бог должен существовать в том смысле, что он не зависит от существования чего-либо еще. И в этом смысле Он есть онтологический Абсолют, абсолютное объяснение всего остального.
Я попросил Суинберна рассмотреть другую возможность (исключительно в порядке обсуждения): что, если Вселенная существует как установленный факт, без какого бы то ни было Бога, поддерживающего ее существование? Было бы ее существование необходимостью в вышеизложенном смысле, ведь она бы не зависела от существования чего-либо еще?
– Именно так! – ответил он.
То есть гипотеза Бога (даже если принять ее на том основании, что она более вероятна, чем альтернативная гипотеза о беспричинном существовании сложной Вселенной) не разрешает тайну бытия полностью.
– Должен признать, – сказал Суинберн, – что отчасти мне хочется знать, хочется иметь некую гарантию того, что Бог не может не существовать. Однако я понимаю, что логически невозможно иметь объяснение для всего. Можно объяснить А через Б, Б через В, В через Г, но в конце концов, все, что вы можете сделать, это найти простейшую гипотезу, которая объясняет возможно большую часть реальности. И на этом объяснение должно остановиться. И я утверждаю, что эта конечная интеллектуальная точка остановки есть Бог. На вопрос же о причинах существования Бога я ответить не могу. На этот вопрос у меня нет ответа.
Если бы мы могли задать этот вопрос Богу, как Его понимает Суинберн, сумел бы Он на него ответить? «Я есмь Сущий», – провозгласил голос из горящего куста Моисею. Но разве этот голос когда-либо вопросил: «Откуда Я?» Если есть какое-то объяснение существования Бога, то Бог, будучи всезнающим, должен его знать. А если никакого объяснения на самом деле нет, если Он действительно является Высшим установленным фактом, то тогда Он и это должен знать. Он должен знать, что Его собственное бытие как случайного существа, говоря словами Суинберна, «крайне невероятно». Будет ли божественный ум удивляться собственной необъяснимой победе над совершенной простотой Ничто?
Я не стал углубляться в эти потенциально нечестивые вопросы. Я и так слишком долго пользовался гостеприимством Суинберна, истощив его запасы чая и печенья – а возможно, и терпения. В окна кабинета заглядывали ранние сумерки. Пора было прощаться. Я рассыпался в благодарностях, а он порекомендовал мне, в каких ресторанах стоит поужинать в Оксфорде.
Когда я покинул квартиру Суинберна, птичьи песни давно стихли. Неторопливо шагая обратно к главной дороге, я снова обратил внимание на бросающееся в глаза здание православной церкви. Какое странное внедрение Византии на территорию Северного Оксфорда! Суинберн говорил, что исповедует православие. Ходит ли он в эту церковь? С его манерами духовника и вытянутыми, слегка резкими чертами лица, этот оксфордский философ вполне мог занять место в мозаике православной церкви, рядом с другими византийскими божествами:
О мудрецы, явившиеся мне,
Как в золотой мозаике настенной…[14]
Что это? Далекий соборный колокол? Нет, это звон Оксфорда, зовущий меня обратно на Хай-стрит. Добравшись до центра, я нашел один из ресторанов, рекомендованный Суинберном. Атмосфера в полупустом ресторане царила довольно оживленная, провинциально-академическая по сравнению с космополитическим «Кафе де Флор» в Париже. Заняв столик, я заказал копченую пикшу и салат из помидоров, а также маленькую бутылочку шампанского и полную бутылку австралийского шираза. За ужином я бездумно прочитал свежий выпуск «Гардиан». Когда я покинул ресторан, время близилось к полуночи. Шагая по почти безлюдной Хай-стрит обратно в гостиницу, я испытывал чувство глубокого удовлетворения, и тайна бытия временно перестала меня занимать.
Интерлюдия: Высший установленный факт
Похоже, Ричард Суинберн разрешил одну загадку ценой введения другой загадки: он объясняет существование Вселенной, предполагая существование Бога, сотворившего ее, но признает, что не может найти объяснение для Бога, Чье существование, по сравнению с абсолютной простотой Ничто, поражает Суинберна как «крайне невероятное». Способен ли деизм на нечто большее, чем закончить объяснение космоса необъяснимым существом, Высшим установленным фактом?
Традиционные философы-деисты так не думали. Они считали, что Бог, в отличие от мира, существует по самой своей природе, содержит в самом себе принцип собственного существования. Это называется по-разному: causa sui («причина себя»), самозарожденное, вечное и независимое бытие, реальнейшее сущее и необходимейшее сущее. Но есть ли хоть какие-то основания для столь обильного словоизвержения?
Рассмотрим, например, термин causa sui, вроде бы предполагающий, что Бог каким-то образом сам себя произвел на свет. Однако даже средневековые теологи отказывались заходить так далеко, считая, что никакое существо не может вызвать к жизни самого себя. Независимо от возможного могущества такого существа, оно должно уже существовать, прежде чем сможет проявить свои каузальные силы. Утверждать, что Бог есть causa sui, – это на самом деле утверждать, что Он не имеет причины. Его существование не нуждается в причине, потому что оно необходимо. Или, другими словами, Его существование не нуждается в объяснении, потому что самоочевидно.
И каким же образом можно показать существование такого самоочевидного существа? Один из традиционных способов – это космологический аргумент существования Бога, восходящий к Аристотелю, но наиболее детально разработанный Лейбницем и состоящий в следующем: Вселенная случайна, ее могло бы и не быть; учитывая, что она все же существует, этому должно быть какое-то объяснение; она должна была быть создана каким-то существом. Если это существо также случайно, то тоже требует объяснения своего существования – и так далее. Либо эта цепочка объяснений в конце концов заканчивается, либо не заканчивается. Если она заканчивается, то последнее существо должно быть самоочевидным. Если она идет до бесконечности, то надо объяснять всю цепочку, которая должна быть вызвана чем-то за пределами себя. В таком случае существование этой сущности должно быть самоочевидно. В любом случае существование случайного мира должно в конце концов объясняться чем-то, чье существование самоочевидно. Когда мы пришли к выводу о существовании самоочевидной сущности, нам потребуется лишь небольшое логическое усилие, чтобы показать, что эта сущность обладает свойствами, которые традиционно приписываются Богу. (Детали разработал Самуил Кларк, английский теолог и друг Исаака Ньютона.) Начнем с того, что самоочевидное существо должно существовать по необходимости. А если оно существует по необходимости, то должно существовать всегда и везде – то есть быть вечным и бесконечным. Оно также должно быть могущественным, потому что вызвало появление случайного мира. Более того, оно должно обладать интеллектом, потому что интеллект существует в мире, а стало быть, должен иметь причину. А поскольку оно также бесконечно, то должно быть бесконечно могущественным и бесконечно умным. Наконец, оно должно быть морально совершенным, потому что, будучи бесконечно умным, не может не понимать, что является истинным благом, а будучи бесконечно могущественным, не может иметь какие-либо слабости, способные помешать ему действовать в соответствии с этой истиной.
Вышеизложенное рассуждение, пытающееся показать, что необходимая сущность, выведенная из космологического аргумента, должна быть богоподобной, явно содержит многочисленные заблуждения, но как насчет самого космологического аргумента? Насколько он убедителен? По сути, Лейбниц попытался из случайности сделать вывод о необходимости: если мир случаен и все требует объяснения, то должно быть необходимое существо, которое и объясняет существование этого мира. Первая посылка Лейбница выглядит убедительно: мир действительно есть, и он, похоже, случаен. Вторая посылка, являющаяся знаменитым принципом достаточного основания Лейбница, более сомнительна. Даже Суинберн отрицает наличие объяснения для всего сущего. А без этой посылки космологический аргумент не работает.
Однако, независимо от его истинности или ложности, космологический аргумент обладает некоторой странностью: предполагается, что он приводит от эмпирических данных (возникающих из нашего опыта в реальной вселенной) к необходимому существу. Но если есть такое необходимое существо, то зачем нам использовать эмпирические данные, чтобы прийти к выводу о его существовании? Почему мы не можем сделать заключение о его существовании напрямую, через чистый разум?
Оказывается, есть печально известное рассуждение, которое именно это и пытается сделать, – так называемое «онтологическое доказательство существования Бога». В отличие от космологического доказательства существования Бога, онтологическое не нуждается в исходных условиях существования мира или наличии объяснения для всего. Онтологическое доказательство претендует на установление существования Бога только с помощью логики. Бог должен существовать как логическая необходимость, потому что Он обладает всеми совершенствами, а существование более совершенно, чем несуществование.
Онтологическое доказательство существования Бога было придумано в XI веке итальянским монахом Ансельмом, который со временем стал архиепископом Кентерберийским и впоследствии был канонизирован. Видимо, суть доказательства снизошла на монаха однажды утром во время молитвы. Господь, рассуждал Ансельм, по определению является Самым великим и Самым совершенным Существом, какое только можно вообразить. Представим себе, что Бог есть просто мысленный объект, существующий только в нашем воображении. Тогда мы могли бы представить себе другое существо, точно такое же, как Бог, за исключением того, что оно существует в действительности. Поскольку реальное существование больше, чем существование в воображении, то это существо будет более великим, чем Бог, – что есть абсурдно. Таким образом, несуществование Бога логически невозможно. «Итак, столь воистину обладаешь Ты бытием, Господи Боже мой, что небытия Твоего нельзя помыслить»64, – завершает Ансельм молитву, в которой изложил свое доказательство.
Может ли онтологическое доказательство существования Бога быть верным? Даже верующие считают, что оно слишком хорошо, чтобы быть правдой. Фома Аквинский не принимал его. Декарт признавал это доказательство, но излагал его в несколько другой форме. Лейбниц считал, что оно нуждается в дополнительной посылке, а именно в том, что Бог есть возможное существо (что сам же Лейбниц легко доказал, показав, что различные совершенства Бога вполне совместимы друг с другом). Шопенгауэр отвергал онтологическое доказательство, называя его «очаровательной шуткой». Бертран Рассел, напротив, описывает в автобиографии, как в молодости был поражен кажущейся истинностью этого доказательства:
«Я помню тот самый момент, в 1894 году, когда я шел по Тринити-лейн, и вдруг меня озарило (или я подумал, что меня озарило), что онтологическое доказательство истинно! Я вышел из дома, чтобы купить табак, а на обратном пути внезапно подбросил жестянку с табаком в воздух и, поймав ее, воскликнул: „Черт возьми! Онтологическое доказательство верно!“»65
Позднее Рассел пришел к выводу, что онтологическое доказательство на самом деле вовсе не истинно. Тем не менее он замечает, что «легче быть убежденным в его ошибочности, чем найти, в чем именно состоит ошибка». Слова Рассела подкрепляются современными антидеистами, чья критика онтологического доказательства существования Бога часто сводится лишь к насмешкам. Например, Ричард Докинз в книге «Бог как иллюзия» отмахивается от онтологического доказательства, называя его «инфантильным» и «пустопорожней игрой слов», однако не дает себе труда указать на конкретный логический изъян. Сама идея, что «великая истина о космосе должна следовать из простой игры слов»66, кажется Докинзу смехотворной, и на этом для него вопрос исчерпан.
Однако в чем же на самом деле изъян онтологического доказательства? Вкратце рассуждения Ансельма сводятся к следующему:
1. Бог есть величайшее из мыслимых существ.
2. Реальное существование более велико, чем существование только в воображении.
Таким образом,
3. Бог существует в реальности.
С первой посылкой вряд ли можно поспорить, ибо она является определением Бога. А вот вторая посылка выглядит несколько странно. Насколько более велико то, что существует в реальности, чем то, что существует лишь в воображении? Поскольку я реально существую, означает ли это, что я более велик, чем Император мороженого? Задумайтесь над смыслом «существования только в воображении». Хотя это вполне знакомый оборот речи, он приводит к весьма странным заключениям, если понимать его буквально: получается, что такое существо реально, но каким-то образом заключено лишь в крохотном пространстве нашей головы. Очевидно, что подобное, ограниченное пределами нашего черепа, существо менее велико, чем то, которое вольно проявлять себя где угодно в космосе. Но в действительности это не так! В нашей голове не сама вещь, а лишь идея вещи. А идея вещи не подобна самой вещи: например, вы можете ездить верхом на единороге, но не можете – на идее единорога. «Существование только в нашем воображении» – и в самом деле лишь оборот речи. Он не подразумевает подлинного существования даже в каком-то ограниченном смысле. Скорее, подразумевается нечто прямо противоположное: а именно, что у нас в голове есть определенная идея, понятие или образ, которым ничто реально существующее не соответствует. Идея Бога не является разновидностью Бога, хотя бы и менее совершенной, точно так же, как нарисованный фрукт не является разновидностью фрукта, хотя бы и менее питательной.
Впрочем, давайте забудем про «воображаемое существование» и просто примем, что бытие более совершенно, чем небытие. Тогда Бог, обладающий всеми совершенствами, должен существовать, верно? Так где же ошибка в рассуждениях Ансельма?
Самое известное возражение к онтологическому доказательству выдвинул Кант. По его мнению, существование не является настоящим предикатом, то есть «быть существующим» не есть обычное свойство объектов, в отличие от «быть красным» или «быть разумным». Это возражение обычно приводится всеми, кто отвергает онтологическое доказательство, – например, Докинзом. Если существование не является свойством, то не может быть и совершенством.
Насколько верно мнение Канта? Существование в самом деле выглядит странным свойством в том смысле, что оно универсально. В отличие от свойств красноты или разумности, абсолютно все обладает свойством существования. Попытайтесь назвать нечто, чего не существует. Санта-Клаус? Фраза «Санта-Клаус не существует» не означает, что мы придаем чему-то свойство несуществования, а всего лишь утверждает, что нет ничего, что соответствовало бы описанию веселого толстого человека, который живет с эльфами на Северном полюсе и раздает детям по всему миру игрушки на Рождество. Даже фраза «есть нечто, чего не существует» противоречит самой себе, поскольку «есть» утверждает существование того, что «не существует» признает несуществующим.
Непонятно, почему само по себе существование как универсальная принадлежность всего сущего не позволяет ему быть свойством. Однако Кант явно имел в виду нечто другое, когда сказал, что «бытие не есть реальный предикат». Похоже, он имел в виду, что существование не добавляет ничего к содержанию концепции. «Сто действительных талеров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров, – писал он. – Но мое имущество больше при наличии ста действительных талеров, чем при одном лишь понятии их (то есть возможности их)»67.
И в этом Кант, несомненно, прав. Возьмем понятие вроде «действующий член Сената Соединенных Штатов». Имеется ровно сто индивидов, соответствующих этому понятию. Допустим, я добавляю к нему существование и получаю «существующий действующий член Сената Соединенных Штатов». И вот чудеса, это новое понятие применимо к тем же ста индивидам, что и старое!
Таким образом, прибавление к понятию «существования» ничего нового не дает и никак не увеличивает экзистенциальные шансы определить возможный объект. В противном случае мы могли бы воплотить всевозможные замечательные вещи через простое их определение. На это указал самый ранний критик святого Ансельма, тоже монах, живший в XI веке, Гаунило из Мармутье: следуя логике Ансельма, можно показать, что где-то в океане должен быть идеальный «потерянный остров»68, поскольку совершенства этого острова обязательно включают его реальное существование.
Что происходит с точки зрения логики, когда мы отрицаем существование Бога? Допустим, мы примем то же самое теологически ортодоксальное определение Бога, которое использовал Ансельм Кентерберийский: Бог есть бесконечно совершенное существо. И для того чтобы дать сторонникам Ансельма преимущество, явно встроим существование в это определение:
х является Богом тогда и только тогда, когда х бесконечно совершенен и x существует.
Тогда фраза «Бога нет» будет выглядеть как
не существует такого х, что х бесконечно совершенен и х существует.
Что эквивалентно следующему выражению:
Для любого х, х либо не является бесконечно совершенным, либо х не существует.
В этом выражении нет никакого внутреннего противоречия. В самом деле, оно истинно в мире, где все сущее недотягивает до бесконечного совершенства, – как утверждают атеисты, именно в таком мире мы и живем.
Тем не менее у Ансельма были основания считать, что отрицание Бога внутренне противоречиво, потому что мы используем слово «Бог» не только как обозначение бесконечно совершенного существа, но и как имя собственное. Если Бог бесконечно совершенен и потому существует, как же Он может не существовать?
Чтобы понять, в чем ошибочность такого рассуждения, рассмотрим формально похожее описание – самого старого из ныне живущих людей. Неважно, кто он на самом деле, назовем его просто Мафусаилом. Теперь зададим вопрос: жив ли Мафусаил? Ну разумеется, он жив! По определению, он самый старый из ныне живущих людей. Разве может он быть неживым? Но если Мафусаил не может быть неживым, то он не может умереть, то есть должен быть бессмертным! Вот такие логические опасности поджидают тех, кто приклеивает имя к определению.
Таким образом, онтологическое доказательство в его классической версии, предложенной Ансельмом, не работает. Даже если встроить существование в само определение Бога, то отсюда не следует наличие существа, удовлетворяющего этому определению. Исчерпана ли на этом проблема? Оказывается, что не исчерпана. В последние десятилетия онтологическое доказательство воскресло на внешне более прочном основании: новая версия основана на разновидности логики, которая святому Ансельму и не снилась, – на модальной логике. Модальная логика превосходит возможности обычной логики: если обычная логика интересуется тем, что верно и что неверно, то модальная логика занимается тем, что должно быть верно, что может быть верно и что не может быть верно.
В создании модальной логики участвовали некоторые из самых выдающихся логиков XX века, включая Курта Геделя и Сола Крипке. Именно Гедель, автор скандально известных «теорем о неполноте», увидел в модальной логике способ возродить онтологическое доказательство в более сильной форме. Эта идея, видимо, пришла ему в голову еще в начале 40-х годов, однако он высказал ее лишь за несколько лет до своей смерти (он уморил себя голодом) в 1978 году. Неясно, верил ли сам Гедель в свое собственное доказательство, но он явно не отрицал существования Бога, утверждая, что возможно «только путем рассуждений» согласовать деистические воззрения «со всеми известными фактами»69.
Гедель был не единственным, кто заметил полезность модальной логики в решении теологических вопросов. Независимо от него несколько философов выдвинули сходные модернизированные варианты рассуждений Ансельма Кентерберийского. Самым выдающимся из них был Алвин Плантинга, профессор университета Нотр-Дам. Усилия Плантинга доказать существование Бога чисто логически даже привлекли внимание журнала «Тайм», который назвал его «ведущим философом Бога» и вознес до небес его «трезвый интеллектуализм»70. В модальном онтологическом доказательстве существования Бога разобраться нелегко: Гедель представил его в виде серии формальных аксиом и теорем, а Плантинга потратил бо́льшую часть своего трактата «Природа необходимости» на изложение деталей. Тем не менее суть дела можно пересказать в довольно простой форме.
Доказательство начинается с того, что действительно великое существо не теряет своего величия перед лицом случайности. Подобное существо не только обладает величием, но и сохранило бы его, если бы события повернулись иначе, чем произошло на самом деле. В соответствии с этим критерием, например, Наполеон не является действительно великим, потому что мог бы умереть от гриппа в детстве вместо того, чтобы вырасти и завоевать Европу. В самом деле, если бы его родители вели половую жизнь по другому расписанию, то Наполеона и вовсе могло бы не быть. В то время как максимально великое существо обладает таким величием, которое нельзя превзойти ни в одном из возможных миров. Такое существо, если бы оно существовало, было бы всезнающим, всемогущим и совершенно благим. И ни в какой возможной ситуации эти максимальные качества не могут быть ни в малейшей степени умалены. Отсюда следует, что такое существо не может быть случайным, существующим (подобно Наполеону) в одних возможных мирах и несуществующее в других. Если такое максимально великое существо вообще существует, то его существование безусловно, во всех возможных мирах. Для краткости назовем такое максимально великое существо «Богом». Пока все идет неплохо. А теперь мы подошли к неожиданному повороту. Существует ли Бог? «Почти наверняка нет», – ответит атеист вроде Ричарда Докинза. Тем не менее даже Докинз не станет спорить, что, несмотря на весьма низкую вероятность существования Бога, все же есть шанс, что Он существует – точно так же, как есть шанс (хотя и чрезвычайно маленький), что где-то на орбите вокруг Солнца вращается заварочный чайник.
И вот это допущение приводит атеиста к провалу. Утверждение, что чайник может вращаться по орбите вокруг Солнца, означает, что в некотором возможном мире существует такой чайник, вращающийся вокруг Солнца. И сказать, что Бог может существовать, означает, что есть некий возможный мир, в котором Бог существует. Однако Бог – это вам не чайник. По определению, Бог является максимально великим существом. В отличие от чайника, Его величие (а стало быть, и Его существование) стабильно во всех возможных реальностях. Таким образом, если Бог существует в одном возможном мире, то Он должен существовать во всех возможных мирах – включая наш реальный мир. Другими словами, если Бог может существовать, то Он обязательно существует. Вот к такому поразительному заключению приводит модальный онтологический аргумент. И это абсолютно истинное заключение – по крайней мере, в системе модальной логики (точнее, оно верно в системе модальной логики, известной как S5).
Как верно заметил Платинга: «Это заключение не нарушает никаких законов логики, не вызывает никаких недоразумений и полностью неуязвимо для критики Канта»71. В отличие от онтологического доказательства Ансельма Кентерберийского модальная версия не считает существование предикатом или совершенством, хотя и принимает обязательное существование за совершенство, но это вполне правдоподобно. Если существование не делает Нечто великим (просто потому, что все обладает этим свойством), то обязательное существование явно придает величие, ведь то, что обязательно существует, не зависит в своем существовании от чего бы то ни было еще и не может быть предотвращено либо уничтожено.
Наконец, не последнее из достоинств модального онтологического доказательства состоит в том, что оно дает надежду ответить на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Если Бог возможен, то Он необходимо существует, а потому Ничто невозможно. Возможен ли Бог? Или, в терминах модального онтологического доказательства, можно ли привести пример максимального величия? Задумайтесь о том, что означает «максимальное величие». Максимально великое существо, существующее в одной реальности, существует во всех реальностях. Это аналогично существу, которое можно обнаружить в каком-то месте мира, оно ухитряется быть везде, в том числе и прямо здесь; или существу, которое, существуя в какой-то момент истории, должно существовать во все моменты, включая настоящий. Максимально великий монарх – это такой монарх, который, имея королевство где-то во Вселенной, управлял бы всей Вселенной. А максимально великий человек из всех когда-либо живших должен жить вечно.
Очевидно, что концепция максимального величия выходит за рамки знакомой нам реальности. Тогда откуда же нам знать, возможно ли подобное существо? Гедель состряпал сложнейшее рассуждение, доказывающее, что идея максимально великого существа не является внутренне противоречивой (в том смысле, в каком внутренне противоречива, например, идея наибольшего числа). Отсюда, заключил Гедель, следует логическая возможность существования подобного существа. А поскольку все возможные миры покрывают все логические возможности, то существует мир, в котором есть максимально великое существо. Однако если такое существо есть в одном возможном мире, то оно должно существовать в каждом возможном мире – включая наш собственный, реальный мир.
К несчастью для сторонников онтологического доказательства, эта логика о двух концах: нет ничего, никакого внутреннего противоречия в предположении, что максимально великое существо не существует. Действительно, сам Плантинга называет свойство несуществования максимально великого существа термином «отсутствие максимальности». Таким образом, по аналогии можно сказать, что должен быть возможным мир, в котором нет максимально великого существа. Однако если Бога нет в одном из возможных миров, то Его нет во всех возможных мирах – в том числе в нашем собственном реальном мире.
Так какое же из двух заключений верно? Если, следуя модальной логике, мы принимаем утверждение, что Бог существует, то мы обязаны признать необходимость Его существования. Если же мы принимаем, что Бога не существует, то мы обязаны признать невозможность Его существования. Оба заключения не могут быть верны одновременно. Тем не менее с чисто логической точки зрения возможность существования Бога не более убедительна, чем возможность Его несуществования. Может, нам просто монетку подбросить, чтобы выбрать одно из утверждений?
Признавая силу этого контраргумента, Плантинга соглашался, что «разумный и здравомыслящий человек»72 вполне может отрицать утверждение о возможности максимально великого Бога, а «хитрый атеист» наверняка так и сделает. Без этого утверждения современная версия онтологического доказательства, разумеется, рассыпается, как карточный домик. Тем не менее Плантинга рекомендует согласиться с этим утверждением в интересах «упрощения» теологии – точно так же, как можно принять экстравагантные утверждения квантовой теории в интересах упрощения физики.
Критики модального онтологического доказательства и слышать об этом не хотят. «Утверждение, что вполне вероятно существование чего-то, что своим величием превосходит все остальное, выглядит невинным»73, – пишет оксфордский философ (и ярый атеист) Джон Мэкки. Однако, предупреждает он, на самом деле это троянский конь: тот, кого еще не убедили в истинности традиционного деизма, имеет все основания отвергнуть эту ключевую посылку модального онтологического доказательства. Таким образом, хотя оно может представлять интерес как логическая странность, оно бесполезно для обоснования деизма.
Здесь мы имеем дело с более глубокой проблемой: можно ли только на основании логики ответить на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»? Можно ли только размышлениями обосновать существование позитивной реальности, которая непременно берет верх над Ничто?
«Каждый философ хотел бы ответить „да“, – говорит Бертран Рассел, – потому что задача философа – понять мир, размышляя о нем, а не наблюдая его»74. Если «да» является правильным ответом, добавляет Рассел, то существует «мост» между мыслью и бытием.
Насколько устойчив этот мост предложенным онтологическим доказательством? Бог, существование Которого оно вроде бы обосновывает, есть обязательное Существо. Его существование – это истина чистой логики, тавтология. Однако тавтологии пустопорожни, они верны независимо от реальности и не содержат объяснения. Каким образом подобное тавтологическое божество могло быть источником случайного мира вокруг нас? Каким образом тавтология могла проявить свободную волю в его создании? Пропасть между необходимым и случайным пересечь не легче, чем пропасть между бытием и небытием.
Бог в понимании Ричарда Суинберна явно не похож на Бога онтологического доказательства. Бог Суинберна не является продуктом логики, а обладает свободной волей, превосходящей любую тавтологию. Он существует во времени и даже не обладает максимальным величием, по крайней мере в том смысле, как это требуется в онтологическом доказательстве, поскольку Его всезнание ограничено Его неспособностью заранее знать, как мы, Его творения, воспользуемся нашей свободой воли. Такой Бог – подходящее онтологическое основание для случайного мира, хотя сам онтологического основания не имеет. Его сущность не включает в себя существование, Он не является логической необходимостью. Его могло бы и не быть. Могло бы не быть ни Его, ни чего бы то ни было еще.
Суинберн постулирует такого Бога, потому что, по его мнению, это «простейшая точка остановки» в задаче объяснения существования Вселенной и ее характеристик. Гипотеза Бога сводит к минимуму ту часть реальности, которая остается необъясненной. Постулируя существование такого Бога, Суинберн добавляет новый, неожиданный элемент в картину мира. Кант был прав: космологический аргумент в пользу существования Бога работает, только если подкреплен онтологическим доказательством. Если онтологическое доказательство рассыпается, то Бог не является обязательным, а потому и самоочевидным, существом.
Тогда остается вроде бы наивный детский вопрос: «Мама, а кто создал Бога?» И он приводит к заманчивой мысли: что, если существует более глубокое объяснение как мира, так и Бога (если Он действительно существует)? Как глубоко можно зайти в таком объяснении?
В окрестностях Оксфорда жил один человек, который, как я слышал, способен ответить на этот вопрос. Однако прежде, чем побеседовать с ним, похоже, мне самому придется кое-что объяснить.
Глава 7 Чародей мультивселенной
Что, если объяснениям нет предела? Что, если возможно понять реальность во всех отношениях? Что, если реальность сама определяет степень своей постижимости?
Думаете, это просто фантазии, пустые гносеологические мечтания? Только глупец способен поверить, что реальность можно заставить выдать все свои секреты живущим в ней существам вроде нас!
Тем не менее я знал, что в окрестностях Оксфорда живет человек, который в это верит, и он далеко не глуп. Зовут его Дэвид Дойч, и он широко известен как один из самых смелых и разносторонних научных мыслителей наших дней. Как написал о нем один из ветеранов журналистики: «Похоже, что Дойч относится к вопросам о том, что такое реальность, что на самом деле существует и почему, с бо́льшим энтузиазмом, чем любой другой ученый, с которым мне доводилось встречаться»75. Кроме того, Дойч добился необычайного достижения: в 1985 году он продемонстрировал теоретическую возможность существования универсального квантового компьютера, способного симулировать любую физически возможную реальность.
Идею использовать странности квантового мира для усиления вычислительных способностей компьютера первым высказал не Дойч. Еще Ричард Фейнман в начале 80-х годов размышлял об этом. В то время Дойч едва окончил Кембриджский университет и, кое-как получив проходной балл по математике, поехал в Соединенные Штаты, где искал встречи со знаменитыми физиками вроде Джона Арчибальда Уилера и Брайса Де-Витта. Изучая поведение квантованных полей в искривленном пространственно-временном континууме, Дойч увлекся «многомировой» интерпретацией квантовой теории, которую создал в 50-е годы Хью Эверетт III, выпускник Принстона, ставший стратегическим планировщиком Пентагона и скончавшийся в 1982 году. Согласно многомировой интерпретации, наша Вселенная – это всего лишь один из слоев в огромном многообразии (мультиверсуме), каждый из которых представляет собой Вселенную, отличную от нашей. Некоторые слои отличаются от нашей Вселенной совсем незначительно и почти не взаимодействуют с ней, но та тень взаимодействия, которая между ними все-таки есть, позволяет объяснить многие странности квантовой теории.
Дойч заинтересовался вопросом о том, что получится, если применить квантовую теорию к информатике. Можно ли заставить различные параллельные Вселенные мультиверсума работать вместе в одном вычислении? Дойч начал с классической теории вычислимости, разработанной перед Второй мировой войной англичанином Аланом Тьюрингом. Среди открытий Тьюринга была программа для «универсального» компьютера, который мог бы в совершенстве имитировать результат работы любой специальной машины. Дойч занялся переформулировкой работы Тьюринга в квантовых терминах и сумел создать квантовую версию машины Тьюринга, то есть единичный квантовый оператор («оператор Гамильтона», как его называют специалисты), который может выполнять работу любой возможной вычислительной машины – от привычного нам компьютера до квантового компьютера, придуманного Фейнманом. Кроме того, универсальный квантовый компьютер Дойча обладает еще одним замечательным свойством: в принципе, он может симулировать любую физически возможную среду, то есть является идеальной машиной «виртуальной реальности». Дойч, которому в то время было слегка за двадцать (он родился в Израиле в 1953 году), позднее скромно назвал свое доказательство существования универсального квантового компьютера «относительно простым»76. Он поехал в Калифорнийский технологический институт, чтобы представить его Ричарду Фейнману, уже страдавшему от рака, от которого и скончался в 1988 году. После того как Дойч записал на доске первые формулы своего доказательства, тяжело больной Фейнман внезапно вскочил с места, схватил мел и закончил вывод сам.
Для Дойча универсальный компьютер стал ни более ни менее как ключом к пониманию реальности. Подобная машина, способная создавать любые физически возможные миры, стала бы конечной целью физических познаний. Это был бы одиночный физический объект, который можно построить и который способен описывать или имитировать с превосходной точностью любую часть квантовой мультивселенной. А поскольку постройка универсального компьютера возможна, Дойч пришел к выводу, что где-то в мультивселенной он уже в самом деле построен. Всезнание существует! Такие полеты воображения легко даются Дойчу, который после возвращения из Соединенных Штатов в Англию стал физиком-исследователем в Кларендонской лаборатории в Оксфорде. В 1997 году Дойч изложил свои взгляды в книге «Ткань реальности». В ней он утверждает, что для глубокого научного понимания реальности мы должны использовать не только квантовую механику и теорию вычислимости, но и теорию эволюции (он восхищенно отзывается о Ричарде Докинзе). Жизнь и мышление, согласно Дойчу, определяют каждую нить основы и утка квантовой мультивселенной. Тогда как физические структуры, такие как созвездия и скопления галактик, случайным образом меняются от Вселенной к Вселенной, структуры знания (воплощенные в физических сознаниях) возникают в результате эволюционного процесса, который обеспечивает их почти полную идентичность в различных Вселенных. С точки зрения квантовой мультивселенной в целом, сознание является вездесущим организационным принципом, подобным гигантскому кристаллу.
Очевидно, Дойч – это человек, стремящийся полностью понять то, что он назвал «тканью реальности». Включает ли это полное понимание в себя и тайну бытия? Даст ли оно ответ на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»? Я очень надеялся это узнать. Много лет назад я опубликовал рецензию на книгу Дойча в «Уолл-стрит джорнел» – помнится, рецензия была похвальной. Я был уверен, что он не откажется поговорить со своим поклонником, особенно если тот не поленился приехать в Оксфорд. Так что я послал ему сообщение по электронной почте, представился и упомянул положительную рецензию, написанную на его книгу в США более десяти лет назад. Дойч написал в ответ: «Я только что нашел рецензию в „Гугле“: „Книга написана в высокомерном тоне и изобилует логическими неточностями“77. Это вы про нее говорили?» Вот те на! Похоже, моя память сыграла со мной злую шутку. Я сам поискал рецензию в «Гугле» и обнаружил, что процитированное Дойчем предложение полностью выглядит так: «Написанная в высокомерном тоне и изобилующая логическими неточностями, эта книга тем не менее полна прорывных прозрений на тему виртуальной реальности, времени и путешествий во времени, математической достоверности и свободы воли». Ну, вообще-то звучит не так уж плохо. В рецензии я также называл Дойча «злым сумасшедшим, с которым опасно иметь дело» – первоначально эта фраза относилась к лорду Байрону. Я снова написал Дойчу по электронной почте, указав, что эта фраза замышлялась как этакий шуточный комплимент.
«На мой взгляд, Байрон и в самом деле был злым сумасшедшим, с которым опасно иметь дело – в частности, потому, что он был намеренно небрежным мыслителем, – отозвался Дойч. – Так что сравнение с Байроном я в качестве комплимента не рассматриваю».
Наш диалог с самого начала как-то не задался. Однако когда такт и лесть безуспешны, униженная мольба иногда срабатывает. Поэтому, рассыпаясь в извинениях, я принялся умолять его о встрече.
«Ну конечно, я был бы не прочь поболтать, – ответил он. – Но я бы хотел получить кое-что взамен. Пожалуйста, укажите мне конкретное место, где в „Ткани реальности“ впервые встречается логическая неточность и где именно впервые становится ясно, что книга написана высокомерным тоном».
К счастью, я привез с собой в Оксфорд старые гранки книги, так что весь день я провел в крохотной комнатке в гостинице на Хай-стрит, лихорадочно пытаясь расшифровать свои критические замечания, неразборчиво нацарапанные на полях. Наконец я нашел то, что мне показалось логической неточностью: у Дойча принцип Тьюринга предполагает, что нет предела числу физически возможных вычислительных шагов, что в свою очередь означает, что Вселенная должна со временем схлопнуться в Великом сжатии, потому что только такой огненный финал может дать бесконечную энергию, необходимую для бесконечных вычислений. Таким образом, заключает Дойч, нашей судьбой должно быть Великое сжатие. «Но этого не может быть», – подумал я. В настоящее время космологические данные скорее указывают на противоположную судьбу – вместо того чтобы в конце концов схлопнуться, наша Вселенная будет расширяться бесконечно, растворяясь в холодном Ничто. Если рассуждения Дойча приводят к другому результату, то наверняка он допустил где-то логическую нестыковку. Об этом я и написал Дойчу в электронном сообщении. Он признал, что в моем замечании что-то есть, однако указал, что данное утверждение приводится далеко не в начале книги. «Получается, что первая логическая неточность встречается в последней главе?» – спросил он.
Тем не менее он был достаточно любезен, чтобы пригласить меня к себе на чашку чая. На мгновение меня охватило параноидальное подозрение, что он хочет меня отравить (подходящая месть автора нахальному рецензенту!), но потом я принял приглашение.
Оказалось, что Дойч живет не в самом Оксфорде, а в близлежащем поселке под названием Хедингтон, где, как рассказал мне один из моих оксфордских друзей, жили Джон Рональд Руэл Толкиен и Исайя Берлин. Я решил пойти туда пешком. Проходя по мосту Магдален-бридж над рекой Червелл, я на минуту остановился, чтобы понаблюдать на студентами, лениво плывущими по реке на плоскодонках. Затем я обошел круговую развязку на краю города и стал подниматься вверх по извилистой дороге, ведущей к вершине холма, вдоль древней каменной стены. Мимо проехала женщина на велосипеде, с привязанным к нему чурбаном и ветками, которая напомнила мне «женщину с поленом» из фильма «Твин Пикс». Через несколько миль я вышел на относительно ровную местность, где располагались маленькие кирпичные домики, ресторан под названием «Кафе Бонжур» и «Домино Пицца» – это и был Хедингтон. По указанному Дойчем адресу я обнаружил небольшой двухэтажный дом, скрытый за раскидистыми деревьями. Перед домом висели три флага: британский, израильский и американский. Неподалеку валялся выброшенный телевизор. Я нажал на кнопку звонка, но он не работал, так что пришлось постучать в застекленную входную дверь. Через несколько мгновений дверь открыл невероятно моложавый человек с большими глазами, довольно прозрачной кожей и очень светлыми волосами до плеч. За его спиной виднелись кипы бумаги, сломанные теннисные ракетки и прочий мусор. Я знал, что Дойч знаменит тем, что, как выразился один известный журналист, «устанавливает международные стандарты по неопрятности»78, но это было больше похоже на экспериментальную компостную кучу внутри дома.
Дойч пригласил меня войти, и, минуя груды мусора, мы прошли в комнату с большим телевизором и велотренажером. На диване сидела привлекательная молодая блондинка (почти подросток) и ела макароны с сыром. Дойч назвал ее «Лули». Она подвинулась, освобождая мне место на диване. Наша беседа началась не слишком многообещающе.
– Я не уверен, что могу сказать что-нибудь по вопросу «Почему существует Нечто, а не Ничто?», за исключением разве что одной шутки, – сказал Дойч. – Дайте-ка вспомнить… А, вот: даже если бы не было ничего, вы бы все равно продолжали жаловаться!
Я объяснил ему, что шутка принадлежит Сидни Моргенбессеру, американскому философу, который умер несколько лет назад.
– Первый раз о нем слышу, – отозвался Дойч.
Как он может столь безразлично относиться к тайне бытия? Ведь он не верит в существование одного-единственного мира, а считает, что реальность состоит из огромного множества миров, существующих параллельно, – это и есть мультивселенная. Мультивселенная для Дойча – то же, что Бог для Суинберна: простейшая гипотеза, объясняющая наблюдаемые факты, особенно странности квантовой механики. Если, как считает Дойч, физические законы, управляющие мультивселенной, предписывают собственную постижимость, то разве не должны они предписывать постижимость реальности в целом?
– Я не думаю, что полное постижение реальности возможно, – он покачал головой. – Это не означает, что, по-моему мнению, есть предел нашим объяснениям. Мы никогда не упремся в кирпичную стену с надписью «Дальше никаких объяснений». С другой стороны, я не думаю, что мы обнаружим кирпичную стену, на которой написано: «Это окончательное возможное объяснение для всего». На самом деле обе стены были бы практически одинаковы. Если вдруг вы бы нашли окончательное объяснение, то столкнулись бы с философской проблемой: почему именно это является истинным объяснением? Почему реальность такая, а не какая-то другая? И это была бы абсолютно неразрешимая проблема… Минутку, кажется, чайник кипит!
Он вышел на кухню. Лули улыбнулась мне, не отрываясь от макарон. Когда Дойч вернулся в комнату с чайником и тарелкой печенья, я спросил у него, не удивляет ли его существование мультивселенной. Что он думает о вопросе «Почему существует Нечто, а не Ничто»? Имеет ли этот вопрос глубокий смысл или он неверно поставлен?
– Гм, – он почесал висок, – глубокий вопрос… не верный вопрос… Знаете, я не могу исключить возможность того, что существует какое-то основание реальности. Однако если оно существует, то проблема причины его существования будет по-прежнему неразрешима. Возьмем, например, аргумент «первопричины» – идею, что существование мира должно объясняться неким событием создания. Это безнадежно ограниченный подход! Идея, что вещи всегда вызываются предшествующими им во времени вещами, не имеет ничего общего с логикой или объяснением как таковым. Можно представить себе объяснение, где нечто было вызвано чем-то, случившимся в разное время, в прошлом и в будущем. Или объяснение, вообще никак не связанное со временем или с причинами. В действительности вы ищете ответ на вопрос «почему Нечто такое, какое оно есть», а не «что было до него».
Я осторожно отхлебнул из чашки, но чай вроде не был отравлен.
– Невозможно дать пригодное во всех случаях определение «объяснения», – сказал Дойч. – На самом деле важные прорывы в понимании часто меняют значение «объяснения». Мой любимый пример – революция Ньютона – Галилея, которая не только принесла новые законы физики, но и изменила самое понятие физического закона. До нее законы были правилами, которые утверждали, что происходит. Например, законы Кеплера описывают, как движутся планеты вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Законы Ньютона другие, они не говорят о планетах или эллипсах, а являются правилами, которым подчиняются любые подобные системы. Это другой тип объяснения, раньше о нем даже не думали и не рассматривали как объяснение. Подобная же революция с пониманием произошла на пару сотен лет позже с Дарвиным. До него люди спрашивали: «Почему это животное обладает именно такой формой?», ожидая услышать в ответ какую-нибудь характеристику формы: что она эффективна, создана Богом и так далее. После Дарвина ответ состоит не в описании свойств формы, а в том, как она появилась в результате эволюции. Это опять другой тип объяснения.
Дойч говорил, расхаживая туда-сюда. Я сидел на диване рядом с Лули, которая уже доела макароны с сыром.
– Вообще-то этот пунктик об изменчивой природе объяснения – мой любимый конек, – продолжал Дойч, оживляясь все больше. – Я думаю, нам понадобится другой тип объяснения для решения проблем вроде свободы воли и сознания. Это фундаментальные философские, а не технические проблемы. Вряд ли искусственный интеллект будет создан до того, как мы продвинемся в философском понимании природы сознания. Мы не могли бы создать искусственную жизнь без концепции гена-репликатора, и у нас до сих пор нет эквивалентной концепции для со знания. Нельзя запрограммировать то, что мы не можем определить.
Эта точка зрения выглядела на удивление свежо и поразительно отличалась от преобладающего мнения в среде сторонников искусственного интеллекта, которые, похоже, думают, что тайна сознания отпадет сама по себе с пришествием суперумных компьютеров, которые вот-вот появятся. Однако вернемся к мультивселенной. Откуда она взялась? Почему вообще существует «ткань реальности»?
– В моем понимании, – ответил Дойч, – на этот вопрос можно ответить, только обнаружив более широкую ткань, частью которой является мультивселенная. Однако конечного ответа не будет.
– Возможно ли представить себе, какую форму могла бы принять более широкая ткань реальности?
Я бы начал с принципа постижимости. Вот, например, квазар далеко в космосе, на расстоянии миллиардов световых лет от нас. А в нашем мозгу есть модель этого квазара, имеющая удивительные свойства. Это не просто образ квазара в нашем мозгу, это структурная модель, обладающая теми же самыми причинными и математическими отношениями. Перед вами два объекта, физически настолько различных, насколько это вообще возможно: квазар, то есть черная дыра с потоками вещества, и наш мозг, химическая пена, – и тем не менее они воплощают в себе те же самые математические соотношения!
– Интересная мысль, – вставил я, – но какое отношение она имеет к предмету разговора?
– Чтобы это произошло, законы физики должны иметь совершенно особое свойство: они должны позволять (и даже предписывать) свою собственную постижимость. И здесь можно пойти еще дальше: если мир действительно постижим и мы способны его понять, тогда, чтобы понять поведение людей, мы должны понять все остальное! Потому что структура квазаров представлена в мозгах ученых, а поведение ученых зависит от поведения квазаров. Чтобы предсказать, какие статьи физик напишет в следующем году, нужно знать кое-что о квазарах. Развивая эту мысль, приходим к выводу, что для познания людей необходимо познать все, что есть.
Дойч замолчал, словно собираясь с мыслями.
– Мы постепенно продвигаемся вперед, в направлении все большего улучшения объяснений. Именно поэтому у нас никогда не может быть конечного объяснения. Любое объяснение, претендующее на «конечность», будет плохим объяснением, потому что не останется ничего, что объяснило бы, почему именно это объяснение верно – почему мир устроен именно так, а не иначе.
Дойч давно утверждает, что квантовая теория является ключом к пониманию структуры реальности. А в квантовой теории, насколько я понял, вроде бы можно получить Нечто из Ничто. Например, частица и античастица могут спонтанно возникнуть из вакуума. Некоторые ученые пришли к выводу, что Вселенная появилась как вакуумная флуктуация – возникла из пустоты с помощью туннельного эффекта. Может ли квантовая теория объяснить, почему вообще мир существует?
– Ни в малейшей степени! – ответил Дойч. – Квантовая теория слишком узка, чтобы рассматривать вопрос существования. Когда вы говорите о частице и античастице, возникающих из вакуума, речь вовсе не идет о возникновении из ничего. Квантовый вакуум имеет очень сложную структуру, подчиняющуюся глубоким и сложным законам физики. В философском смысле это вовсе не пустота. Это даже не та маленькая пустота, которая образуется на вашем банковском счете при отсутствии денег: у вас ведь хотя бы есть сам банковский счет! Квантовый вакуум гораздо более регулярен, чем пустой банковский счет, потому что имеет структуру. В нем происходят процессы.
– То есть законы, управляющие квантовой мультивселенной, не могут ничего нам сказать про причину существования мультивселенной?
– Нет, ни один из наших законов физики не в состоянии ответить на вопрос о причине существования мультивселенной. Законы этим не занимаются.
Дойч пересказал пример, который приводил Джон Арчибальд Уилер, его бывший преподаватель:
– Возьмите все лучшие законы физики, напишите их на бумажках и положите бумажки на пол, говорил Уилер. Потом отойдите, посмотрите на них и скажите: «Лететь!» Они не полетят, а так и останутся на полу. Квантовая теория может объяснить, почему произошел Большой взрыв, но не может ответить на вопрос, который вас интересует, на вопрос существования. Сама концепция существования слишком сложна и нуждается в расшифровке. Я полагаю, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» имеет несколько уровней. Даже если вам удастся найти ответна одном уровне, у вас все равно останется следующий.
Щелк! Мой диктофон выключился. Довольно грустно, что вторая сторона кассеты закончилась, а мы так и не продвинулись ни на шаг к разгадке тайны бытия.
Стоило ли удивляться? В конце концов, на первых страницах книги «Структура реальности» Дойч написал: «Я не верю, что мы, теперь или когда-либо в будущем, приблизимся к пониманию всего»79. Тем не менее ему удалось донести до меня важный урок: реальность гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Та ее часть, которую мы населяем, не только крохотная, но и не может представлять все целое, давая нам лишь частичный и искаженный взгляд. Мы словно узники, прикованные в пещере иллюзий в знаменитой аллегории Платона. Может быть (хотя Дойч сказал, что считает это невозможным), мы вообще существуем в симулированной реальности, созданной некими высшими существами, подобными злому гению Декарта, которые намеренно запрограммировали неправильные законы физики. Но даже если бы мы были узниками такой частичной и искаженной реальности, наше стремление к постижению со временем выведет нас за пределы виртуальных стен.
«Мало того, что узники не могут наблюдать происходящее снаружи, – написал Дойч в „Ткани реальности“, – созданная среда будет такой, что для объяснения происходящего внутри им не понадобится постулировать наличие чего-то внешнего. Другими словами, эта среда будет самодостаточна в плане объяснений. Однако я сомневаюсь, что какая-то часть реальности, кроме всего целого, обладает таким свойством»80.
Но если реальность как целое самодостаточна в плане объяснений, то, предположительно, она содержит и объяснение собственного существования как причины победы над абсолютной пустотой. Так что, возможно, надежда все же есть.
Мне было немного грустно прощаться с Дойчем. Несмотря на холодный прием в начале нашего знакомства, он проявил подлинную любезность и интеллектуальную щедрость. А Лули, сидевшая рядом со мной с тарелкой макарон и внимательно слушавшая наш разговор, не сводя восхищенного взгляда с Дойча, выглядела настоящим ангелом. Мне даже стало уютно среди нагроможденных вокруг куч мусора: я решил, что они похожи на исследования в домоводстве с повышенной энтропией.
Обратно в Оксфорд я возвращался в одиночестве, когда оранжево-розовые лучи солнца пробились сквозь туманный горизонт. Из колледжей опять доносился отдаленный колокольный звон. Я попытался представить себя жителем мультивселенной Дойча. В бесчисленных параллельных мирах мои квантовые копии тоже спускались с такой же горы, тоже слышали колокольный звон, тоже радовались сияющему солнцу на склоне зимнего дня. Как и я, они размышляли над тайной существования мультивселенной. Их мысли – мои мысли – воплощались в физические структуры, которые тянулись, словно многомерный кристалл, через параллельные Вселенные. Наверняка один из моих двойников, отражающих меня где-то в обширной ткани реальности, продвинулся дальше меня в полном понимании. Интересно, о чем он думает? Или разгадка тайны бытия каким-то образом закодирована в этой кристаллической структуре как в целом, превосходя уровень обитателей какого-то определенного квантового мира?
Гудок проезжающего мимо автобуса вывел меня из задумчивости, и мое красочное видение растаяло без следа.
Интерлюдия: Конец объяснений
Согласно философским байкам, Бертран Рассел однажды читал лекцию по космологии, когда его прервала пожилая леди из аудитории. «Все, что вы тут наговорили, полная чепуха! – громогласно заявила она. – На самом деле мир плоский и лежит на гигантском слоне, стоящем на спине черепахи». Рассел решил с ней не спорить и просто спросил, на чем же держится черепаха. «Там черепахи до самого низу!» – решительно ответила пожилая леди.
Когда дело дошло до постижения реальности, Дэвид Дойч оказался сторонником подхода «там черепахи до самого низу». Он утверждает, что наш путь к пониманию Вселенной будет бесконечным, что нет какого-то фундаментального принципа, объясняющего абсолютно все (включая сам этот принцип). Нет никакой «суперчерепахи», которая держит на себе всех остальных черепах, а также саму себя.
Однако предположим, что Дойч ошибается. Допустим, что существует фундаментальное объяснение всего. Как оно может выглядеть? Как мы его узнаем, когда найдем? Первым об этом задумался Аристотель в своем сочинении «Вторая аналитика» и заметил, что существуют три способа доказательства.
Во-первых, оно может пойти по кругу: А верно, потому что B, а B верно, потому что А. (Круг можно расширить за счет множества промежуточных истин: А потому что B, B потому что С… Y потому что Z, Z потому что A.) Однако такое доказательство по кругу не годится. Сказать, что «А, потому что B, потому что А», – это окольный способ сказать «А, потому что А», а ни одна истина сама себя не объясняет.
Во-вторых, объяснение может идти бесконечно: А1 верно, потому что А2, А2 верно, потому что А3, А3 верно, потому что А4, и так далее, до бесконечности. Но и такой способ не годится, ибо бесконечное углубление не дает фундаментального объяснения знанию.
Остается только третий способ – доказательство, имеющее конечное число шагов: А1 – потому что А2, А2 – потому что А3, и так далее, до некой конечной истины Х. Какого же рода истиной является Х?
Видимо, есть две возможности. Во-первых, Х может быть просто фактом, не имеющим какого-либо объяснения. Однако если истина Х не имеет объяснения, заметил Аристотель, то она вряд ли может служить основанием для других истин. Вторая возможность состоит в том, что Х является логически очевидной истиной, чем-то, что не может быть иначе. Согласно Аристотелю, это и есть единственный удовлетворительный способ завершить цепь объяснений – единственная альтернатива доказательству по кругу, бесконечной цепи доказательств и ни на чем не основанному, свободно висящему объяснению.
Однако, при всем уважении к Аристотелю, как может что-то объяснить логически очевидная истина? В особенности как она может объяснить нечто логически произвольное – например, факт существования мира? Если бы существование мира можно было вывести из логически очевидной истины, то оно бы тоже было логически очевидно – а оно таковым не является. Хотя мир существует, его могло бы и не быть. Нельзя исключить Ничто как логическую возможность. Даже самая многообещающая попытка вывести бытие чисто логически (онтологическое доказательство существования Бога) в конце концов ни к чему не приводит.
Таким образом, пытаясь достичь полного понимания, мы не можем завершить цепь объяснения логически очевидной истиной, и нам остается выбирать между тремя видами зол: доказательство по кругу, бесконечная цепь объяснений или просто установленный факт. Из этой троицы установленный факт выглядит наименее предосудительным. А есть ли какой-нибудь способ сделать висящий в воздухе установленный факт в конце цепочки доказательств менее произвольным?
Гарвардский философ Роберт Нозик внес интересное предложение по этому поводу. Единственный способ получить доказательство, которое ничего не оставляет необъясненным, – это использовать в цепочке доказательства самоочевидную истину. Но как может истина быть самоочевидной? «Х, потому что Х» – это не объяснение, а уход от него. Ни один ребенок, задав вопрос «Почему небо голубое?», не удовлетворится ответом «потому что голубое». Мы снова вернулись к доказательству по кругу. Именно поэтому философы, от Аристотеля до Ричарда Суинберна, твердо стояли на том, что ничто не может быть самоочевидным, что доказательство, говоря математически, «нерефлексивно».
Тем не менее Нозик заглянул глубже. Он признал, что «Х, потому что Х» непригодно в качестве удовлетворительного доказательства, но увидел другой способ вывести истину из самой себя. Допустим, что наш самый фундаментальный принцип – тот, который объясняет все законы природы, – оказался таким: «Любой закон, имеющий свойство С, является истинным». Давайте назовем этот самый глубокий принцип «принцип Р». Принцип Р объясняет, почему остальные законы верны: потому что они обладают свойством С. Однако что доказывает истинность самого принципа Р? Допустим, что принцип Р тоже обладает свойством С – тогда истинность Р логически следует из самого Р! В этом случае принцип Р является, по выражению Нозика, «самокатегоризированным».
«Самокатегоризация – это способ, которым принцип обращается на себя, производит себя, применяется к себе, ссылается на себя»81, – пишет Нозик. Он признает, что использование самокатегоризации для доказательства – это ловкость рук. Однако по сравнению с альтернативами – доказательством по кругу, бесконечной цепью и висящим в воздухе установленным фактом – она выглядит не так уж плохо.
Разумеется, доказательство, что принцип обладает свойством самокатегоризации, не доказывает истинность этого самого принципа. Рассмотрим вот такое высказывание: «Каждое предложение, состоящее из семи слов, истинно». Назовем его «предложение S». Поскольку S состоит ровно из семи слов, то истинность S вытекает из него самого, делая его самокатегоризированным. Однако очевидно, что S ложно. (Доказательство этого я предоставлю читателю.) Предложение «Все обобщения истинны» – это еще один пример самокатегоризированного утверждения, являющегося ложным. Тем не менее в случае, когда самокатегоризированный принцип истинен, он в некотором смысле действительно объясняет, почему он истинен. (В конце концов, что такое это объяснение, как не категоризация по определенному закону?)
«Я предполагаю, что фундаментальный принцип, являющийся верным, объясняет себя путем самокатегоризации, – пишет Нозик. – Будучи глубоким фактом, достаточно глубоким, чтобы самокатегоризировать себя и произвести самого себя, этот принцип не останется висеть в воздухе без какого-либо объяснения»82.
Таким образом, в качестве конечного звена доказательства самокатегоризированный принцип явно предпочтительнее, чем установленный факт. Тем не менее самокатегоризация сама по себе не убирает все «хвосты» доказательства. Рассмотрим еще раз самокатегоризируемое утверждение S: «Каждое предложение, состоящее из семи слов, истинно». Хотя S ложно, мы можем вообразить себе мир, в котором оно истинно. Но даже в этом мире S не удовлетворит нас в качестве фундаментального объяснения. Во-первых, оно выглядит произвольным. Почему должно быть истинно именно S, а не, например, «Каждое предложение, состоящее ровно из восьми слов, истинно»? Во-вторых, S не выглядит фундаментальным, первичным объяснением. Если оно верно, то мы будем искать более глубокое объяснение того, почему оно верно: почему мир и язык устроены именно таким образом? Хотя самокатегоризация не гарантирует первичность, она хотя бы может быть признаком первичности объяснения. Допустим, говорит Нозик, что мы обнаружили «самокатегоризированное утверждение, которое достаточно глубоко, чтобы произвести все остальное в данной области, в то время как многократные усилия найти более глубокую истину, объясняющую это утверждение, не увенчались успехом»83. В таком случае, настаивает Нозик, «было бы разумно предположить, не считая это предположение окончательным, что мы достигли фундаментальной истины». Другими словами, мы нашли нашу суперчерепаху.
Может ли подобный принцип, придуманный Нозиком, дать ответ на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»? Дэвид Дойч считает, что подобный ответ невозможен, что нет конца цепочке объяснений. Ричард Суинберн думает, что лучшее, что мы можем сделать, это найти правильную «точку остановки», гипотезу, обладающую максимальной простотой и силой, – и считает, что это гипотеза Бога. Однако Суинберн признал, что существование Самого Бога не имеет объяснения, «потому что ничто не в состоянии объяснить самое себя»84. Нозик, напротив, видит способ, которым принцип может объяснить самого себя, не превращаясь в доказательство по кругу. Таким образом, идеал самокатегоризации Нозика выглядит шагом вперед по сравнению с идеалом простоты Суинберна.
Однако какого рода принцип самокатегоризации может объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто? Нозик считает, что нашел возможный ответ: он предложил «принцип плодовитости». Это наиболее либеральный из всех онтологических принципов, и он утверждает, что все возможные миры существуют. Принцип плодовитости не Нозик придумал: по сути, эта идея, известная также как «принцип изобилия», восходит к Платону, а ее разновидности высказывались на всем протяжении истории человеческой мысли. Внесенная Нозиком новизна состоит в утверждении, что принцип плодовитости, являясь самокатегоризированным, доказывает сам себя. «Если факт того, что все возможности имеют место, является фундаментальным, то этот факт, будучи возможностью, имеет место, благодаря фундаментальному факту того, что все возможности имеют место»85.
Реальность, управляемая принципом плодовитости, была бы самой богатой и обширной из всех вообразимых реальностей, однако представляла бы собой довольно странную структуру. Существовали бы все возможные миры, но они существовали бы «параллельно», в логической изоляции друг от друга. Некоторые из них были бы очень большими и сложными. Самый большой мир, который можно назвать максимальным, содержал бы в себе все возможности, отражая богатство всего ансамбля возможных миров, составляющих реальность в целом. На другом конце диапазона возможностей был бы минимальный или нулевой мир, воплощающий возможность того, что не существует вообще ничего. Между ними расположились бы миры промежуточных размеров и сложности: миры, содержащие один электрон и один позитрон, которые обращаются по орбитам вокруг друг друга; миры, очень похожие на наш; миры, содержащие греческих богов; миры, сделанные из сыра, и так далее.
Если принцип плодовитости истинен, то реальность бесконечно превосходит все, что мы можем себе вообразить, и наша маленькая Вселенная выглядит невероятно скромно. Достоинство подобной реальности в том, что она устраняет тайну бытия – во всяком случае, так считает Нозик. Минимальный мир, одна из отдельных возможностей, реализованная в соответствии с принципом плодовитости, и есть наш старый знакомый Ничто. Тогда почему существует Нечто, а не Ничто? «Существует и то и другое»86, – отвечает Нозик.
Но погодите, похоже, что с логикой здесь не все в порядке: не могут Нечто и Ничто существовать одновременно. Если есть реальность, состоящая из кусочков Нечто, и вы добавляете к ней кусочек Ничто, то у вас все равно остается Нечто. И это не единственная нелепость. Принцип плодовитости утверждает, что все возможности реализованы. Возьмем одну из возможностей:
R: Все красного цвета.
Другая возможность:
не-R: Существует по крайней мере один объект не красного цвета.
Таким образом, принцип плодовитости подразумевает R и не-R одновременно – а это противоречие, и любое утверждение, подразумевающее противоречие, должно быть ложно.
У Нозика есть ответ на это возражение. Хотя обе возможности, R и не-R, реализованы, «они существуют в независимых, не взаимодействующих друг с другом областях»87. Мы можем представить их как две разные планеты: «планета Красного» и «планета не-Красного». Это один способ выбраться из противоречия, хотя и не очень хороший. Ведь даже если R и не-R присутствуют на разных планетах, то невозможно существование такой планеты, где они присутствовали бы одновременно. Другими словами, невозможно существование «планеты Плодовитости» среди всех возможных планет. Даже если бы существовали все возможные планеты, среди них не было бы той, на которой реализованы все возможности. Таким образом, плодовитость не является самокатегоризируемой в конечном счете. Для Нозика это жестокая дилемма: либо его фундаментальный принцип приводит к противоречию, либо он оказывается несамокатегоризированным.
Самокатегоризированный фундаментальный принцип подобен парикмахеру, который бреет всех мужчин в деревне, включая себя самого. В этом нет ничего логически неверного, проблема в самом принципе плодовитости: он позволяет слишком много возможностей – включая такую парадоксальную возможность, когда парикмахер, который бреет всех и только тех мужчин, которые не бреются сами. С учетом этого фатального логического дефекта принцип плодовитости явно не в состоянии быть фундаментальным объяснением.
Означает ли это, что поиски самокатегоризированного принципа реальности безнадежны? К сожалению, сам Нозик больше ничего предложить не может: он умер в 2002 году, в возрасте шестидесяти трех лет, от рака желудка. Возможно, его онтологические рассуждения, несмотря на их крайнюю сумасбродность, с точки зрения его коллег-философов, на самом деле недостаточно сумасбродны. Если философия, подобно теологии до нее, так и не сумела предложить требуемое, то, возможно, пришло время поискать в другом месте, в еще более сумасбродных идеях современной физики. Вряд ли я найду там столь желанную «суперчерепаху», однако я слышал, как физики говорили о Вселенной как о «бесплатном обеде», что тоже звучит неплохо.
Глава 8 Бесплатный обед?
Наука не может ответить на самые глубокие вопросы. Как только вы задаетесь вопросом, почему есть Нечто вместо Ничто, вы выходите за пределы науки.
Аллан Сэндидж, отец современной астрономииНаука не в состоянии объяснить тайну бытия – по крайней мере, так часто утверждается. Особенно страстно высказался на эту тему Джулиан Хаксли, светский гуманист и эволюционный биолог: «Ясный свет науки, как нам часто говорят, уничтожил тайну, оставив лишь логику и мышление. Это совсем не так. Наука сняла покрывало тайны со многих явлений, что принесло много пользы человеческому роду, однако она ставит нас перед основной и универсальной тайной – тайной бытия… Почему существует мир? Почему он состоит именно из того, из чего он состоит? Почему он обладает не только материальными и объективными аспектами, но и ментальными или субъективными? Мы не знаем… Но мы должны научиться жить с этим, принимать его и наше существование как одну главную тайну»88.
Предполагается, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» слишком велик, чтобы наука могла на него ответить. Ученые могут объяснить, как устроена физическая Вселенная, могут проследить причинные взаимодействия отдельных объектов и сил в ней. Они могут пролить свет на эволюцию Вселенной в целом, как она развивалась из одного состояния в другое. Однако когда дело доходит до первоисточника реальности, им нечего сказать. Это загадка, которую лучше предоставить метафизике, или теологии, или поэтическому восхищению, или молчанию.
Пока считалось, что Вселенная вечна, ее существование не слишком мучило ученых. Эйнштейн в своих гипотезах просто принял, что Вселенная вечна, и подправил уравнения теории относительности соответствующим образом. Однако с открытием Большого взрыва все изменилось. Мы явно живем в расширяющихся, охлаждающихся остатках гигантского космического взрыва, который произошел около 14 миллиардов лет назад. Что могло вызвать этот первозданный взрыв? И что ему предшествовало – и предшествовало ли ему что-нибудь вообще? Эти вопросы определенно входят в компетенцию науки, но любая попытка науки на них ответить натыкается на кажущееся непреодолимым препятствие, известное как «сингулярность».
Допустим, мы возьмем законы общей теории относительности, управляющие эволюцией космоса на макроуровне, и экстраполируем их назад в прошлое, к началу Вселенной. Рассматривая развитие нашей расширяющейся и охлаждающейся Вселенной в обратном порядке, мы увидим, как ее содержимое сжимается и нагревается. В момент времени t=0 (в момент Большого взрыва) температура, плотность и кривизна Вселенной стремятся к бесконечности – на этом месте уравнения общей теории относительности дают сбой и теряют смысл. Мы достигли сингулярности, края или границы самого пространства-времени, точки, в которой сходятся нити причинности. Если у этого события была причина, то она должна выходить за пределы пространства-времени, то есть быть вне досягаемости для науки.
Концептуальный сбой на Большом взрыве настолько беспокоил космологов, что они стали искать сценарии, позволяющие избежать первоначальной сингулярности. Однако в 1970 году физики Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз показали, что эти попытки не могут увенчаться успехом. Хокинг и Пенроуз начали со вполне логичного предположения о том, что гравитация всегда притягивает, и приняли плотность материи во Вселенной примерно равной измеренной. На основе этих двух допущений они с математической точностью доказали, что в начале Вселенной должна лежать сингулярность.
Означает ли это, что первоисточник Вселенной навсегда покрыт тайной? Необязательно. Это просто означает, что Большой взрыв не может быть полностью понят «классической» космологией, то есть космологией, основанной только на общей теории относительности Эйнштейна, – потребуются и другие теории.
Какие именно, можно понять, если учесть, что через долю секунды после своего рождения вся наблюдаемая Вселенная была не больше атома. В таких масштабах классическая физика неприменима: в микромире правят законы квантовой теории. Поэтому космологи (самая заметная фигура среди них – это Стивен Хокинг) стали задаваться вопросом: «А что, если квантовую теорию, которая раньше использовалась только для описания субатомных явлений, применить ко всей Вселенной в целом?» Так родилась квантовая космология, названная физиком Джоном Гриббином «наиболее значительным шагом вперед в науке со времен Исаака Ньютона»89.
Квантовая космология предлагает способ обойти проблему сингулярности. Классические космологи полагали, что сингулярность, притаившаяся за Большим взрывом, – это что-то вроде точки с нулевым объемом. Однако квантовая теория запрещает столь точно определенное состояние, утверждая, что на самом фундаментальном уровне природа обладает неизбежной размытостью, поэтому невозможно указать точный момент возникновения Вселенной, t=0.
То, что квантовая теория разрешает, еще более интересно, чем то, что она запрещает. А разрешает она спонтанное возникновение частиц из вакуума. Такой способ создания Нечто из Ничто дал квантовым космологам увлекательную идею: что, если сама Вселенная, по законам квантовой механики, возникла из ничего? Тогда причина того, что существует Нечто, а не Ничто, состоит в неустойчивости пустоты, как они это называют.
Утверждение физиков «пустота неустойчива» иногда осмеивается философами как неверное словоупотребление. «Пустота» не является названием объекта, говорят они, поэтому не имеет смысла приписывать ей какие-то качества, например неустойчивость. Однако о пустоте можно думать не только как об объекте, но и как об описании состояния. Для физика «пустота» описывает такое состояние, когда нет частиц и все математические поля равны нулю. Возможно ли такое состояние в действительности? То есть согласуется ли оно логически с физическими принципами? Одним из наиболее глубоких принципов, лежащих в самой основе нашего квантового понимания природы, является принцип неопределенности Гейзенберга, утверждающий, что определенные пары свойств (так называемые «канонически сопряженные переменные») связаны друг с другом таким образом, что не могут быть точно измерены вместе. Одна такая пара переменных – координаты и импульс частицы: чем точнее вы установили положение частицы, тем менее точно вам известно значение ее импульса, и наоборот. Другой парой сопряженных переменных являются время и энергия: чем точнее вам известен промежуток времени, в течение которого произошло какое-то событие, тем меньше вы знаете о энергии, связанной с этим событием, и наоборот.
Квантовая неопределенность также запрещает точное определение значений поля и скорости изменения этого значения. (Это аналогично утверждению, что вы не можете знать точную цену акции и скорость изменения этой цены одновременно.) И если подумать, то это в общем-то исключает пустоту. По определению, пустота – это состояние, в котором все значения полей постоянно равны нулю, однако принцип неопределенности Гейзенберга говорит, что если мы точно знаем значение поля, то скорость его изменения совершенно случайна, то есть не может быть равна нулю. Таким образом, математическое описание неизменной пустоты несовместимо с квантовой механикой – точнее, пустота неустойчива.
Имеет ли это какое-то отношение к космогенезу? Впервые такая мысль пришла в 1969 году к физику из Нью-Йорка по имени Эд Трайон. Витая в облаках во время лекции, которую читал знаменитый физик из университета Колумбии, Трайон вдруг выпалил: «Может быть, Вселенная – это квантовая флуктуация!»90 Говорят, что несколько присутствующих нобелевских лауреатов разразились насмешливым хохотом, но Трайон наткнулся на нечто ценное. Идея, что Вселенная, содержащая сотни миллиардов галактик в одном только маленьком регионе, доступном для нашего наблюдения, могла появиться из пустоты, выглядит невероятной. Как показал Эйнштейн, любая масса представляет собой замороженную энергию. Однако огромному количеству положительной энергии, запертой в звездах и галактиках, должна противостоять отрицательная энергия гравитационного притяжения между ними. В «закрытой» Вселенной (той, которая со временем снова сожмется) положительная и отрицательная энергии должны точно уравновешивать друг друга. Другими словами, общая энергия такой Вселенной равна нулю.
Возможность создания целой Вселенной из нулевой энергии поражает воображение. Во всяком случае, Эйнштейн был поражен, когда его коллега-физик Георгий Гамов рассказал ему об этой идее во время прогулки по Принстону. По воспоминаниям Гамова, «ошеломленный Эйнштейн встал как вкопанный, а поскольку мы как раз переходили дорогу, то несколько машин были вынуждены остановиться, чтобы нас не переехать»91.
С точки зрения квантовой механики Вселенная с нулевой энергией представляет собой интересную возможность, за которую и ухватился Трайон. Допустим, что полная энергия Вселенной точно равна нулю. Тогда, благодаря взаимосвязи в неопределенности между энергией и временем (как диктует принцип Гейзенберга), неопределенность во времени становится бесконечной. Другими словами, как только такая Вселенная возникнет из пустоты, то сможет существовать вечно, подобно займу бытия, который никогда не будет выплачен. Что же касается причины, по которой Вселенная возникла, то это просто квантовая вероятность. «В ответ на вопрос о том, почему это случилось, – написал Трайон позднее, – я могу выдвинуть скромное предположение, что наша Вселенная – это просто одно из тех явлений, которые случаются время от времени»92.
Является ли это примером сотворения из пустоты? Не совсем. В сценарии происхождения мира по Трайону энергия и материя действительно равны нулю и в этом смысле похожи на «получение Нечто из Ничто». Однако то состояние, из которого спонтанно возникла Вселенная, называется «квантовый вакуум», и оно совсем не похоже на философскую концепцию Ничто. Во-первых, это что-то вроде пустого пространства, а пространство – это не Ничто. К тому же оно на самом деле не пустое. Квантовый вакуум – это сложная математическая структура, которая изгибается и растягивается, как резина; она наполнена энергией полей, и в ней кипит активность виртуальных частиц. Квантовый вакуум – это физический объект, настоящий маленький протокосмос сам по себе.
Почему вообще существует такое явление, как квантовый вакуум? Как заметил физик Алан Гут: «Предположение, что Вселенная появилась из пустого пространства, выглядит не более фундаментальным, чем предположение, что Вселенная родилась из куска резины. Оно может быть верным, но все равно возникает вопрос о том, откуда взялся кусок резины»93.
Видимо, ближе всех к решению «резиновой проблемы» подошел Александр Виленкин. Он родился на Украине, где после получения диплома физика работал ночным сторожем в зоопарке. В 1976 году Виленкин переехал в США и меньше чем за год получил степень доктора философии по физико-математическим наукам. Теперь он преподает в университете Тафтса возле Бостона, где также занимает должность директора Института космологии Тафтса. Виленкин известен тем, что на семинарах носит темные очки в стиле Анны Винтур, предположительно, из-за чувствительности глаз к свету.
Когда Виленкин говорит о возникновении Вселенной из «Ничто», он именно это и имеет в виду, как я узнал из разговора с ним несколько лет назад. «Ничто есть Ничто! – настаивал он с некоторой горячностью. – Это не просто отсутствие материи, это отсутствие пространства, отсутствие времени – полное отсутствие всего».
Но как может физик хотя бы определить состояние полной пустоты? И вот здесь Виленкин проявил изобретательность. Представьте себе пространство-время как поверхность сферы (такое пространство-время называется «замкнутым», потому что оно искривлено само в себя; оно ограниченно, хотя не имеет границ). Теперь предположим, что эта сфера сжимается, как воздушный шарик, из которого выпускают воздух. Радиус становится все меньше и меньше и со временем (попытайтесь это вообразить) превращается в ноль. Поверхность сферы полностью исчезает, а с ней и само пространство-время. Мы дошли до полной пустоты – и одновременно до точного определения пустоты: это замкнутое пространство с нулевым радиусом. Это и есть самая полная и совершенная пустота, которую можно описать научно. Она не только лишена какого-либо содержимого, в ней также нет ни координат, ни продолжительности.
С таким определением Виленкин сумел произвести интересные вычисления. Используя принципы квантовой механики, он показал, что из такого начального состояния пустоты может спонтанно появиться крохотный кусочек наполненного энергией вакуума. Насколько крохотный? Возможно, размером всего лишь в одну стотриллионную сантиментра. Однако оказывается, что этого вполне достаточно для космогонических целей. Под действием отрицательного давления «инфляции» этот кусочек энергетического вакуума испытает безудержное расширение. Через пару микросекунд он достигнет космических размеров, испустив поток света и материи – Большой взрыв!
Таким образом, по мнению Виленкина, переход от Пустоты к Бытию происходит в два этапа: на первом крохотный кусочек вакуума появляется из абсолютного Ничто; на втором он раздувается в наполненную материей предшественницу той Вселенной, которую мы сейчас видим вокруг. С точки зрения науки эта схема безупречна. На данный момент принципы квантовой механики, управляющие первым этапом, являются самыми надежными принципами в науке. Что касается теории инфляции, которая описывает второй этап, то с момента своего создания в начале 80-х годов она была успешно подтверждена не только теоретически, но и эмпирически – в частности, распределением реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва, по данным наблюдений спутника СОВЕ.
Итак, вычисления Виленкина выглядят верными. Однако, разговаривая с ним, я вынужден был признаться, что мое воображение отказывается представить сотворение из ничего. Пузырек ложного вакуума, из которого родился космос, должен ведь был откуда-то взяться. Тогда Виленкин довольно ехидно предложил мне представить пузырек газа в шампанском – а потом убрать шампанское.
Даже вообразив себе эту картинку (не слишком-то убедительную), я остался в замешательстве. Пузырек в шампанском формируется с течением времени, а пузырь Виленкина, возникающий из пустоты, представляет собой пузырь пространства-времени. Поскольку само время (вместе с пространством) создается в процессе перехода из Ничто в Нечто, то и сам переход не может происходить во времени. Похоже, что переход разворачивается не во времени, а в логике. Если Виленкин прав, то у Ничто никогда не было ни единого шанса: законы физики требуют, чтобы, с некоторой ненулевой вероятностью, существовала Вселенная. Но на каком онтологическом основании стоят эти законы? Если они логически предшествуют миру, то где именно они были написаны?
«Если угодно, можете сказать, что они в уме Бога», – отвечает Виленкин. После разговора с ним я подумал, что, может быть, это лучшее, на что способна наука. Она может показать, что законы, объясняющие, как устроен мир, также объясняют, почему мир вообще должен быть – а значит, почему существует Нечто, а не Ничто. Законы классической физики, включая общую теорию относительности Эйнштейна, на это не способны. Они могут описать эволюцию Вселенной, но не могут объяснить, как она появилась, – в точке ее возникновения они перестают работать. Квантовая космология – это шаг вперед. Она может рассматривать возникновение мира как одно из квантовых событий, которому, к счастью, не требуется первопричина. Квантовая теория может показать, что с онтологической точки зрения Вселенная в самом деле может быть «бесплатным обедом».
Тем не менее квантовая космология не может быть последним словом в науке. Проблема состоит в том, что до сих пор никто не смог объяснить, каким образом можно связать гравитацию с квантовыми явлениями. В конце концов, именно гравитация определяет общую структуру Вселенной. На уровне Вселенной в целом общая теория относительности Эйнштейна успешно объясняет, как работает гравитация. Однако когда вся масса Вселенной упакована в объем размером с атом – как это было сразу после Большого взрыва, – квантовая неопределенность вызывает нарушение гладкой геометрии общей теории относительности, и невозможно предсказать, как поведет себя гравитация. Чтобы понять зарождение космоса, нам нужна квантовая теория гравитации, которая «объединит» общую теорию относительности и квантовую механику. Сам Стивен Хокинг с этим согласен: «…Квантовая теория гравитации является неотъемлемой частью общей теории, если мы хотим описать раннюю Вселенную», – провозгласил Хокинг в 1980 году во время своей инаугурационной лекции при вступлении на кафедру Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете. «Такая теория также нужна, если мы хотим ответить на вопрос: действительно ли время имеет начало…»94 Сегодня, по прошествии более чем тридцати лет, физики все еще ищут такую теорию, которая бы аккуратно связала все силы природы, включая гравитацию, в единое математическое целое. Пока неясно, какую форму будет иметь эта теория. На данный момент физики возлагают надежды на теорию струн, которая пытается представить всю физическую реальность как состоящую из крохотных энергетических струн, вибрирующих в многомерном пространстве. Несогласные с этой общепринятой теорией ищут другие подходы. Некоторые физики считают, что сама идея объединения взаимодействий – это иллюзия.
Что может сказать нам окончательная теория, или «теория всего», как ее иногда называют, о происхождении Вселенной? Скорее всего, она сможет заглянуть глубже, чем квантовая космология Хокинга, Виленкина и других. Например, теория струн позволяет представить себе реальность до Большого взрыва, когда сами понятия пространства и времени не имели смысла. Но сможет ли она дать убедительное объяснение самой себя? Если это в самом деле окончательная теория, то она должна объяснить, почему она верна. Может ли теория всего оказаться самокатегоризированной?
Я знал, что лучше всего на этот вопрос может ответить Стивен Вайнберг: как никто другой из физиков, он стоял в центре усилий по созданию окончательной теории. В 1979 году Вайнберг получил Нобелевскую премию по физике за свой вклад десятилетием раньше в объединение двух из четырех фундаментальных взаимодействий: электромагнитного и слабого (вызывающего радиоактивный распад). Оба взаимодействия представляют собой лишь низкоэнергетические аспекты базовой «электрослабой» силы. Это и другие достижения в данной области дают Вайнбергу хорошее основание считаться отцом «стандартной модели» физики частиц – наиболее полного имеющегося на данный момент понимания физического мира на микроуровне.
Кроме того, Вайнберг еще и исключительно красноречивый популяризатор науки. В 1977 году он опубликовал книгу «Первые три минуты» – красочное, захватывающее описание первобытной Вселенной в мгновения после Большого взрыва. На последней странице именно этой книги он сделал заявление, вскоре ставшее широко известным: «Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной».
В 1993 году он опубликовал книгу «Мечты об окончательной теории», в которой объясняется на глубоком философском уровне, к чему мы на самом деле стремимся в попытках объединить законы природы. Вайнберг описывает, как физики, ведомые своим чувством математической красоты, ищут все более и более глубокие принципы, позволяющие связать стандартную модель с общей теорией относительности Эйнштейна во всеобъемлющую окончательную теорию. В этой точке сойдутся все направления объяснений: каждое «почему» поглотится окончательным «потому что». Вайнберг объясняет, почему он думает, что современная физика может стоять на грани открытия именно такой теории, и даже признает, что это отчасти печально: «Открытие окончательной теории может принести разочарование, так как природа станет более обычной, в ней останется меньше чудес и тайн»95.
Какая часть космической тайны останется после открытия теории всего, по мнению Вайнберга? Он довольно явно отрицает, что эта теория действительно объяснит абсолютно все. Например, Вайнберг считает, что наука никогда не сможет объяснить существование моральных истин, поскольку между научным и этическим лежит логическая пропасть. Но может ли наука объяснить существование мира? Может ли обосновать победу Нечто над Ничто?
Мне не терпелось задать эти вопросы Вайнбергу. На самом деле мне не терпелось с ним познакомиться: из всех ныне живущих физиков он вызывает у меня наибольшее восхищение. И ни один другой физик (не считая Фримэна Дайсона) не обладает таким даром излагать свои идеи в столь сжатой форме. Кроме того, судя по описаниям в прессе, Вайнберг – человек достаточно неординарный. «С его розовыми щечками, слегка азиатскими глазами и седыми волосами с легкой рыжинкой Стивен Вайнберг похож на большого, степенного эльфа, – написал один журналист после встречи с ним. – Из него получился бы отличный Оберон, король фей в пьесе „Сон в летнюю ночь“»96.
Чувствуя себя Ником Боттомом, я связался с Вайнбергом, который преподает в Техасском университете в Остине, куда он перешел в 1982 году из Гарварда. Я предложил приехать в Остин, чтобы поговорить с ним о тайне бытия. Вайнберг любезно отозвался на мое покушение отнять у него время: «Раз уж вы приедете сюда из самого Нью-Йорка, то я угощу вас обедом».
«Надо же, – подумал я, – не только Вселенная оказывается бесплатным обедом!»
Перспектива впервые посетить Остин добавляла заманчивости. Из того, что я слышал о городе, мне рисовался замечательный бастион авангардной культуры и богемной жизни, стоящий посреди в общем-то отсталого штата, который еще и считается теологически продвинутым.
Когда я спросил Вайнберга, яростного противника религии («С религией или без будут добрые люди, делающие добро, и злые люди, творящие зло. Но чтобы добрые люди начали творить зло, необходима религия»97), как он может быть счастлив в таком рассаднике баптизма, как Техас, он заверил меня, что далеко не все общины баптистов одинаково фанатичны, а некоторые даже настолько либеральны, что их не отличить от унитариев. А еще меня впечатлила репутация Остина как мировой столицы живой музыки, хотя я не поклонник инди-рока.
Так что я, не раздумывая, забронировал билет на рейс в Остин и заказал номер в гостинице «Интерконтиненталь», предвкушая восхитительные выходные, полные пищи для ума, – и не зная, что мои планы окажутся расстроены небольшим вторжением Ничто в мою жизнь.
Интерлюдия: Тошнота
Вскоре после полудня в субботу мой самолет приземлился в аэропорту Остина. Температура и влажность были на удивление высокие для конца весны, так что я чувствовал себя несколько некомфортно в своем, как всегда элегантно помятом, полотняном костюме.
По дороге в центр города я обратил внимание на оживленные толпы на улицах: похоже, начинался какой-то музыкальный фестиваль на свежем воздухе. Устроившись в гостинице, я вышел прогуляться в центр старого города. К этому времени фестиваль уже был в самом разгаре: на каждом углу играли любительские рок-группы; накачанные пивом толпы ломились в бары и обратно на улицу; посреди перекрытых для движения машин улиц жарили гамбургеры. Шум стоял оглушительный. Запахи тоже валили с ног.
Пробираясь сквозь какофонию звуков и толпу людей под палящими лучами солнца, я притворился Рокантеном, героем романа Сартра «Тошнота». Я попытался вызвать в себе то отвращение, которое он испытывал к избытку Бытия, выплеснувшемуся на улицы Остина: к его липкой густоте, к его грубости, к его абсурдной непредсказуемости. Откуда все это появилось? Как низменный беспорядок восторжествовал над девственным Ничто? Рокантен, потрясенный студенистыми кусками бытия, окружавшими его со всех сторон в его одиноком блуждании по Бувилю, невольно закричал: «Мерзость! Какая мерзость!» Я мог бы последовать его примеру, но мое озарение было слишком тусклым, чтобы оправдать столь яростный выплеск эмоций. К тому же все вокруг меня явно веселились вовсю.
К вечеру улицы Остина немного утихли. Я спросил у консьержа в гостинице, где можно поужинать, и он посоветовал мне ресторан под названием «Гриль на берегу», расположенный возле озера Леди Берд – водохранилища на протекающей через город реке Колорадо, которое явно назвали в честь покойной жены президента Линдона Джонсона. В ресторане я увидел группу нарядно одетых старшеклассников: в школах Остина был выпускной, и они пришли на торжественный ужин перед тем, как идти на танцы. Через несколько недель выяснилось, что в этот же вечер в этом же ресторане ужинал и Стивен Вайнберг – только меня метрдотель усадил в другом зале. Как оказалось позднее, это было кратчайшее расстояние между нашими мировыми линиями, которые так и не пересеклись.
Уже в сумерках я заканчивал ужин среди компании старшеклассников. Выходя из ресторана, я заметил большую и довольно молчаливую толпу, собравшуюся на мосту через озеро Леди Берд. Кажется, они чего-то ждали. Я спросил одного из них, что происходит. Он указал под мост. «Летучие мыши, – ответил он вполголоса. – Они все вместе вылетят через несколько минут. Так происходит каждый вечер, и на это стоит посмотреть».
Приглядевшись, я заметил, что в темноте под мостом висят полчища летучих мышей – говорят, их там больше миллиона, и принадлежат они к виду бразильский складчатогуб. Вечером, в хорошую погоду, туристы и местные жители выстраиваются вдоль берега озера в ожидании драматического момента, когда мыши, в нетерпеливом предвкушении ужина из насекомых, одним гигантским облаком вылетают в темнеющее небо.
Делать мне было особо нечего, поэтому я уселся на травянистый берег озера и тоже стал ждать. Проходили минуты. Мыши не шелохнулись. Мимо проплыла лодка. Минуты проходили за минутами. Мыши так и висели неподвижно. Темнело. Разочарованная толпа начала расходиться. Я поднялся и пошел обратно в гостиницу, думая о том, что несбывшееся ожидание не предвещало ничего хорошего для моей завтрашней встречи с Вайнбергом.
Войдя в комнату, я заметил мигающий огонек на телефоне – кто-то оставил мне сообщение. Оказалось, что мне звонила супружеская пара, которая заботилась о моей собаке, маленькой длинношерстной таксе по имени Рензо, пока я был в отъезде. Я немедленно перезвонил им. Они сообщили, что в этот день с Рензо приключился какой-то припадок. Пес, резвившийся в загоне для кур на их загородной ферме в Пенсильвании, вдруг завыл и упал. Они завернули полубессознательную собаку в мокрое полотенце и отвезли в ближайшую ветеринарную клинику.
Я представил себе, как Рензо лежит в одиночестве в темном и незнакомом месте, может быть, умирающий, и в моменты проблеска сознания думает обо мне. Выбора не оставалось. После часа препирательств с различными авиалиниями я взял билет на первый утренний рейс до Нью-Йорка. Вайнбергу я отправил электронное сообщение с извинениями, сославшись на «семейные обстоятельства», которые вынудили меня отменить запланированный на завтра совместный обед. Потом я повалился в постель и уснул, периодически просыпаясь и снова засыпая из-за шумного кондиционера, который то включался, то выключался.
Когда я позвонил в ветклинику на следующее утро, мне сказали, что Рензо стало лучше. Он немного поел и попытался укусить одного из ветеринаров. Обрадованный новостями, я кое-как пережил утомительную череду авиарейсов. Однако когда я воссоединился со своим четвероногим другом в конце долгого дня, от моего оптимизма не осталось и следа: что-то было не так.
Последующие рентгеновские снимки подтвердили мои худшие опасения. Ветеринар сказал, что в легких и печени Рензо обнаружены признаки рака. Скорее всего, рак дал метастазы в мозг, что и привело к судорожному припадку. Похоже, пес потерял зрение и нюх, а это значит, что части коры головного мозга, ответственные за восприятие зрительной и обонятельной информации, разрушены. Когда-то богатый сенсорный мир пса начал растворяться в пустоте. Рензо мог только слепо крутиться на месте, жалобно повизгивая. Он немножко успокаивался, только когда я брал его на руки. Следующие десять дней я провел, держа пса на руках. Иногда он лизал мою руку или даже немного вилял хвостом, но ему явно становилось все хуже. Он перестал есть. Он не мог спать и всю ночь кричал от боли. Когда даже самые сильные болеутоляющие перестали действовать, я понял, что пришло время неизбежного.
Во время эвтаназии я оставался в комнате с моим псом. Весь процесс занял примерно полчаса. Сначала Рензо вкололи успокаивающее. От этого он перестал корчиться и повизгивать. Растянувшись на столе, в первый раз за много дней он был спокоен и внезапно стал выглядеть гораздо моложе своих четырнадцати лет. Он медленно дышал, и его глаза, хотя и незрячие, оставались открытыми. Потом в его лапу ввели катетер для смертельной инъекции.
Ветеринар, которая руководила процессом, была похожа на Голди Хоун в юности. Она и ее помощница по очереди гладили Рензо вместе со мной во время подготовки. Я не хотел разрыдаться у них на глазах.
К счастью, я знаю одну хорошую уловку, позволяющую сохранить внешнее спокойствие в подобных ситуациях. Она основана на прелестной маленькой теореме о простых числах, восходящей к Ферма. Выберите простое число – например, 13. Посмотрите, остается ли в остатке 1 при делении на 4. Если да (как в случае с числом 13), то, согласно теореме, это простое число всегда можно выразить через сумму двух квадратов. И точно, 13=4+9, каждое из которых является квадратом.
Мой способ сохранять самообладание в моменты, когда эмоции невыносимы, состоит в том, чтобы мысленно перебирать числа, проверяя теорему на каждом из них. Сначала я выясняю, является ли число простым и остается ли в остатке 1 при делении на 4. Если да, то я мысленно разбиваю это число на два квадрата. Для маленьких чисел это просто. Например, сразу видно, что 29 является простым числом, дающим в остатке 1 при делении на 4, а также просто определить, что 29 есть сумма двух квадратов – 4 и 25. Однако когда вы выходите за пределы 100, обе задачи становятся гораздо сложнее, если не пользоваться бумагой и карандашом.
Возьмем, например, число 193. Придется повертеть его немного, чтобы убедиться, что оно подходит под условия теоремы. После этого может понадобиться дольше, чем несколько секунд, чтобы сообразить, что оно разбивается на 49 плюс 144.
Я добрался до 193 и все еще не плакал, когда ветеринар сделала Рензо последнюю инъекцию, которая должна была парализовать его нервную систему и остановить его маленькое сердечко. Укол сработал очень быстро: уже через мгновение после того, как шприц опустел, Рензо судорожно выдохнул. «Это его последний вздох», – сказала ветеринар. Тут пес вздохнул еще раз и замер. «Хороший песик, молодец».
Ветеринар и ее помощница оставили меня в комнате одного, чтобы я мог посидеть немного рядом с бездыханным телом Рензо. Я открыл ему пасть и посмотрел на зубы – при жизни он мне этого никогда не позволял. Я попробовал закрыть ему глаза. Еще через несколько минут я вышел из комнаты и оплатил счет, включавший «совместную кремацию» с другими собаками, которых тоже усыпили. С одним лишь одеялом Рензо в руках я зашагал домой.
На следующий день я позвонил Стивену Вайнбергу в Остине, чтобы поговорить о том, почему мир существует.
Глава 9 В ожидании окончательной теории
– Значит, «Гриль на берегу» вам не понравился? Я думал, что там неплохо готовят. Дороговато для Остина, но по меркам Нью-Йорка вполне нормально. Кстати, я совсем забыл, почему мы с вами решили пообщаться, – из телефонной трубки раздавался звучный голос Вайнберга, с легкой ироничной хрипотцой.
Я напомнил ему, что пишу книгу о том, почему существует Нечто, а не Ничто.
– Отличная идея для книги! – сказал он, с ударением на слове «отличная».
Комплимент мне польстил, но как относится Вайнберг к этому вопросу? Находит ли он поразительным сам факт существования мира, как Витгенштейн и многие другие? Считает ли существование мира чем-то необычным?
– С моей точки зрения, – ответил Вайнберг, – это часть более общего вопроса, а именно: почему мир устроен именно так? Вот над чем мы, ученые, работаем в поисках глубинных законов. У нас пока нет того, что я называю окончательной теорией. Когда мы ее найдем, возможно, она прольет свет на вопрос о том, почему вообще что-то существует. Законы природы могут диктовать необходимость существования чего-нибудь. Например, эти законы могут запрещать пустоту как устойчивое состояние. Однако удивление от этого не уменьшится. Мы все еще будем спрашивать, почему законы именно такие, а не какие-то другие. Мне кажется, что мы обречены на вечную тайну. И я не думаю, что вера в Бога поможет. Я уже говорил это раньше и скажу снова: если под «Богом» вы подразумеваете нечто конкретное – существо, которое любит, ревнует или делает что-то еще, – то перед вами встает вопрос, почему Бог именно такой, а не какой-то другой? А если вы не имеете в виду ничего конкретного, когда говорите о том, что Бог стоит за существованием Вселенной, то зачем вообще использовать это слово? Поэтому я думаю, что от религии толку нет. Это часть человеческой трагедии: мы стоим перед лицом тайны, которую не можем понять.
Вайнберг не считал, что и его коллеги-физики способны пролить свет на первопричину Вселенной:
– К этому я отношусь весьма скептически, потому что мы на самом деле не понимаем физику. Общая теория относительности перестает работать, когда мы сталкиваемся с условиями чрезвычайно высокой плотности и температуры сразу после Большого взрыва. Я также весьма скептически отношусь к любому, кто ссылается на теоремы о неизбежности сингулярности – на теоремы Хокинга и так далее. Эти теоремы ценны тем, что они предполагают, что в определенный момент в процессе, например, сжатия звезды наши теории больше не годятся. Но это все, что можно сказать. На данном этапе мы просто слишком мало знаем.
Такая эпистемологическая скромность выглядела необычно после всех безумных рассуждений, которые я выслушивал на протяжении последнего года. Я чувствовал себя так, словно общаюсь с современным Монтенем или Сократом. А что думает Вайнберг по поводу усилий его более смелых коллег найти объяснение самому бытию? Я упомянул мнение Александра Виленкина, что наша Вселенная могла раздуться из крошечного кусочка «ложного вакуума», который сам возник из полной пустоты в результате туннельного эффекта – это физика или метафизика?
– Виленкин действительно очень умен, и его предположения весьма интересны, – ответил Вайнберг. – Проблема в том, что в настоящее время у нас нет никакого способа определить, верны они или нет. У нас не только нет данных наблюдений, у нас даже нет теории.
– Когда теория у нас появится, окончательная теория физики, то это будет последним словом в вопросе о том, как возникла Вселенная. Но сможет ли эта теория объяснить и то, почему Вселенная существует?
– Этого мы не знаем. Все зависит от того, чем окажется окончательная теория. Допустим, она будет похожа на теорию Ньютона. В теории Ньютона есть четкое разделение на законы и начальные условия. Например, ньютоновская физика ничего не говорит о начальных условиях в Солнечной системе. Сам Ньютон это понимал – и считал, что начальные условия были заложены Богом.
Если окончательная теория оставит без объяснений начальные условия (некоторые более широко говорят о граничных условиях[15]), то, даже если она полностью объяснит процесс развития Вселенной, истоки возникновения Вселенной останутся покрытыми мглой. Кто или что установили эти начальные условия? Я подумал об одном из «сообщений из невидимого мира», которые великий Алан Тьюринг оставил после своей смерти: «Наука есть дифференциальное уравнение. Религия есть граничное условие».
– Если окончательная теория окажется такой, – продолжал Вайнберг, – то я буду разочарован. Хокинг и другие надеются, что окончательная теория установит все начальные условия, не оставив Вселенной никакой свободы выбора в способе возникновения. Однако пока мы этого не знаем.
– Ладно, – сказал я, – давайте будем надеяться на лучшее. Давайте предположим, что окончательная теория объяснит абсолютно все во Вселенной, включая начальные условия. Тогда все равно остается открытым вопрос о том, почему окончательная теория имеет именно такую форму. Почему она описывает мир квантовых частиц, взаимодействующих через определенные силы? Или мир вибрирующих струн энергии? Или вообще какой-то мир? Очевидно, что окончательная теория не может диктоваться только логикой. Есть больше чем один логически непротиворечивый вид, который могла бы принять реальность, но возможна лишь одна логически непротиворечивая окончательная теория, которая описывает реальность, достаточно богатую для того, чтобы иметь в себе разумных наблюдателей вроде нас.
– Это было бы действительно интересно, – ответил Вайнберг. – Есть ли тут чему удивляться? Я только недавно переписывался с философом в Корнелле на тему так называемого антропного принципа. Этот философ думает, если я правильно его понял, что Вселенная должна была быть такой, чтобы позволить наблюдателям в ней развиться, – другими словами, Вселенная без разумных наблюдателей была бы логически противоречива. Поэтому он не удивляется тому факту, что наша Вселенная на удивление тонко настроена для существования в ней жизни. Лично меня эта очевидная тонкая настройка поражает. Единственное объяснение этому, помимо теологического, можно дать только в терминах мультивселенной – то есть Вселенной, состоящей из многих частей, каждая из которых имеет разные законы природы и разные значения констант, например космологической константы, управляющей расширением космоса. Если есть мультивселенная, состоящая из множества миров, причем большинство из них непригодно для жизни, но некоторые ей благоприятствуют, то нет ничего удивительного в том, что в нашем мире условия благоприятны.
– Тем не менее, – заметил я, – у нас по-прежнему остается вопрос о том, почему существует этот огромный ансамбль миров.
– Я не утверждаю, что мультивселенная разрешит все философские вопросы. Она лишь избавит нас от удивления по поводу того, что условия в нашей Вселенной так хорошо подходят для развития жизни и разума. Однако мы все равно будем стоять перед загадкой того, почему законы природы именно таковы, почему они произвели мультивселенную, частью которой является наш мир. И я не вижу никакого решения этой загадки. Вера в то, что теория способна произвести на свет мир, – это что-то вроде веры в онтологическое доказательство существования Бога, придуманное святым Ансельмом. Ансельм Кентерберийский спрашивает, способны ли вы вообразить нечто такое, совершеннее чего ничего не может быть? Если вы достаточно глупы, чтобы ответить «да», то Ансельм Кентерберийский докажет вам, что поскольку существование является совершенством, то существо, которое вы вообразили, должно существовать, поскольку если оно не существует, то вы могли бы придумать нечто более совершенное: то же самое существо, только существующее!
Онтологическое доказательство много раз опровергали и потом снова вытаскивали его на свет. В университете Нотр-Дам есть современный теолог по имени Алвин Платинга, который утверждает, что создал неопровержимую версию этого доказательства. Лично я думаю, что это чепуха. Мне кажется очевидным, что нельзя перейти от размышления о чем-либо к заключению, что оно существует. Мне также кажется очевидным, что законы природы не требуют, чтобы они описывали нечто реальное. Ни одна теория не может сказать вам, что то, о чем она говорит, существует.
– Может быть, – сказал я, – в таком случае дает нам надежду на лучшее объяснение бытия? Она не только объясняет события в мире, но и – в отличие от своей предшественницы, классической физики, предлагает объяснение того, как Вселенная возникла. Квантовая теория говорит, что благодаря квантовой неопределенности из пустоты внезапно появляется пузырек космоса. Так что та же самая теория, которая объясняет, как устроен мир, может обосновать существование мира снаружи.
– Да, это может быть плюсом квантовой теории, – согласился Вайнберг. – Однако кое-что в ней меня огорчает. Квантовая теория на самом деле стоит на пустой сцене: она ничего не говорит вам сама по себе. Я думаю, что именно поэтому Карл Поппер был неправ, когда сказал, что научная теория должна быть открыта для фальсифицирования[16]. Нельзя опровергнуть квантовую теорию, поскольку она не делает предсказаний. Это очень общая схема, внутри которой вы можете формулировать более частные теории, делающие предсказания. Физика Ньютона не формулируется в квантовой механике, но все наши современные теории формулируются. Квантовая теория сама по себе ничего не говорит о спонтанном возникновении Вселенной. Чтобы прийти к такому выводу, нужно объединить ее с другими теориями.
– Тогда с чем же мы остаемся?
– Я бы сказал, что почти ни с чем. В конечном итоге хотелось бы иметь действительно единую теорию – не только квантовую механику плюс что-то еще, но теорию, которая объединяет все в единое неделимое целое. И пока что мы ничего подобного не видим. Я имею в виду, что можно создать квантовую теорию гравитации, или квантовую электродинамику, или стандартную модель, но этим мы просто добавляем игроков на квантовой сцене. Мы по-прежнему далеки от окончательной теории.
Когда я заговорил о теории струн, в голосе Вайнберга послышалась нотка меланхолии.
– Я надеялся, что теория струн будет развиваться быстрее, но результаты довольно удручающие. Я не из тех, кто говорит плохо о теории струн, я все равно думаю, что это лучшая попытка в продвижении за пределы нам известного, но из нее получилось совсем не то, чего мы ожидали. Уравнения теории струн имеют неимоверное множество различных решений, что-то вроде десяти в пятисотой степени. Если каждое из этих решений как-то реализовано в природе, то теория струн обеспечивает естественную мультивселенную, причем довольно большую – достаточно большую для того, чтобы в ней работал антропный принцип.
Вайнберг имел в виду то, что в теории струн называют «ландшафтом» – невообразимо огромное количество «карманных вселенных», каждая из которых воплощает различные возможные решения уравнений теории струн. Эти карманные вселенные различаются в самых фундаментальных характеристиках: число пространственных измерений, виды частиц, составляющих их материю, сила взаимодействий и так далее. Большинство из них будут недружелюбными к жизни, «мертвыми вселенными», в которых нет ни жизни, ни разума. Однако некоторые из огромного числа этих миров непременно будут обладать характеристиками, идеально подходящими для возникновения разумных наблюдателей, которые с удивлением обнаружат, что живут в мире, поразительно тонко настроенном для их удобства. Некоторые физики в восторге от такой теоретической картины, рисуемой теорией струн. Другие презрительно рассматривают ее как reductio ad absurdum, доведение до абсурда.
– Кстати, – добавил Вайнберг, – есть и другой, чисто философский подход к мультивселенной. Его придумал Роберт Нозик, философ из Гарварда, ныне покойный. Нозик считал, что реальное существование всего, что только можно себе вообразить, является философским принципом.
– Верно, – ответил я, – это называется «принцип плодовитости».
– Точно! Итак, в картине мира Нозика есть все различные возможные миры, не связанные друг с другом причинно-следственными связями и подчиняющиеся совершенно разным законам. Существует мир, в котором действует механика Ньютона, и другой мир, в котором всего две частицы, вечно обращающиеся друг вокруг друга, и третий, совершенно пустой мир. Можно обосновать принцип плодовитости, как это сделал Нозик, указав, что он обладает определенной приятной самосогласованностью. Этот принцип утверждает, что все возможности реализованы, но сам принцип является лишь одной из этих возможностей, так что в соответствии с самим собой он должен быть реализован.
Я возразил, что принцип плодовитости далек от самосогласованности и может быть столь онтологически щедр, что на самом деле приводит к противоречию. Он подобен множеству всех множеств – которое, тоже являясь множеством, должно содержать само себя. Но если некоторые множества содержат сами себя, то можно также рассмотреть множество всех множеств, которые не содержат себя. Назовем его множество R. Теперь спросим, содержит ли R само себя? Если да, то по определению не содержит; а если нет, то по определению содержит. Противоречие! (Вайнберг, разумеется, сразу узнал парадокс Рассела.) Принцип плодовитости, заявил я, страдает от подобного логического дефекта. Если все возможности реализованы и некоторые возможности включают сами себя, тогда как другие не включают, то возможность, что все самоисключающие возможности реализованы, должна быть реализована. И эта возможность столь же самопротиворечива, как и множество всех множеств, не содержащих себя.
Это привело к длительному спору между мной и Вайнбергом об истинном значении того, что одна возможность исключает другую. Спор не пришел ни к какому завершению, поскольку мы оба согласились с тем, что он не более чем «метафизическое развлечение». После непродолжительной болтовни о жизни в Нью-Йорке (Вайнберг родился здесь в 1933 году в семье иммигрантов и учился в самой известной школе Бронкса – первой в Нью-Йорке средней школе с углубленным изучением математики и естественных наук, но признался, что много лет не бывал в городе) мой разговор с отцом стандартной модели в теории элементарных частиц завершился.
Удалось ли мне заглянуть поглубже в тайну бытия? Признаться, я был удивлен, что Вайнберг, такой стойкий скептик и решительный ученый, заявил, что открыт столь метафизически экстравагантной идее, как принцип плодовитости. Я снова обратился к его книге «Мечты об окончательной теории», чтобы посмотреть, что он говорит о материи. Принцип плодовитости, писал Вайнберг, «предполагает, что существуют совершенно разные вселенные, подчиняющиеся совершенно разным законам. Но если все эти вселенные недостижимы и непознаваемы, утверждение об их существовании, похоже, не имеет никакого смысла, кроме возможности избежать вопроса, почему они не существуют. Похоже, проблема в том, что мы пытаемся рассуждать логически по поводу вопроса, не поддающегося логическому анализу: что должно или не должно вызывать в нас ощущение чуда»98.
Похоже, Вайнберг считает, что максимум, чего могут добиться физики в вопросе объяснения удивительного, это найти свой святой грааль, окончательную теорию.
«Это может произойти через сто лет или через двести, – пишет он. – И если это произойдет, то я думаю, что физики дойдут до крайних пределов того, что они способны объяснить»99.
Окончательная теория, о которой мечтает Вайнберг, обещает шагнуть гораздо дальше современной физики в прояснении вопроса о происхождении Вселенной. Например, она может показать, как пространство и время появились из более фундаментальных сущностей, о которых мы пока и понятия не имеем. Однако непонятно, как даже окончательная теория могла бы объяснить, почему существует Вселенная, а не пустота. Разве законы физики могут как-то сообщить Бездне, что в ее чреве зреет Бытие? Если так, то где живут сами законы физики? Парят ли они над миром, подобно разуму Бога, повелевающему быть? Или они встроены в сам мир и сводятся лишь к тому, что в нем происходит?
Такие космологи, как Стивен Хокинг и Александр Виленкин, иногда размышляют над первой возможностью, но не находят выхода из тупика. Например, Виленкин так говорит о «квантовом туннельном эффекте», с помощью которого, как он считает, Вселенная должна была возникнуть из полной пустоты: «Процесс туннелирования управляется теми же фундаментальными законами, которые описывают последующую эволюцию Вселенной. Следовательно, законы должны быть „на месте“ еще до того, как возникнет сама Вселенная. Означает ли это, что законы – не просто описания реальности, а сами по себе имеют независимое существование? В отсутствие пространства, времени и материи на каких скрижалях могут быть они записаны? Законы выражаются в форме математических уравнений. Если носитель математики – это ум, означает ли это, что ум должен предшествовать Вселенной?»100 Вопрос о том, чем такой ум может быть, Виленкин обходит молчанием.
Хокинг тоже признавался, что озадачен онтологическим статусом и явной мощью законов физики: «Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?.. Почему Вселенная идет на все хлопоты существования?»101
Если фундаментальные законы физики, подобно вечным и неизменным формам Платона, обладают собственной реальностью, то это приводит к новой загадке – точнее, к двум загадкам. Первая из них – та самая, которая озадачила Хокинга: что придает этим законам их силу, что оживляет их? Каким образом они воздействуют на мир и создают его? Как они заставляют события подчиняться? Даже Платону понадобился божественный мастер, демиург, чтобы выполнить работу по созданию мира в соответствии с планом, представленным формами.
Вторая загадка, возникающая, если законы физики обладают собственной реальностью, относится к основаниям еще более глубоким: почему эти законы существуют? Почему именно эти, а не какие-то другие или, еще проще, вообще никаких законов? Если законы физики – сами по себе Нечто, то они не могут объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто, потому что они есть часть Нечто, требующего объяснения.
Теперь давайте рассмотрим другую возможность: допустим, что законы физики не имеют собственного онтологического статуса. С этой точки зрения они не парят над миром и не существуют прежде него в какой бы то ни было форме. Скорее, они представляют собой самое общее возможное описание типов событий в мире. Тогда планеты обращаются вокруг Солнца не потому, что «подчиняются» закону гравитации, а закон гравитации (или, точнее, общая теория относительности, сменившая его) представляет сжатое выражение определенной природной закономерности – включая сюда и подразумеваемые этой закономерностью орбиты планет.
Предположим, что законы физики – даже относящиеся к самым глубоким ее основаниям и составляющие ту самую окончательную теорию, на которую возлагаются такие надежды, – всего лишь обобщают то, что происходит в природе. Тогда как они вообще могут что-то объяснить? Может, и не могут. Людвиг Витгенштейн считал именно так: «В основе всего современного мировоззрения, – написал он в своем „Трактате“, – лежит иллюзия, что так называемые законы природы объясняют природные явления. Таким образом, люди останавливаются перед естественными законами как перед чем-то неприкосновенным, как древние останавливались перед богом и судьбой»102.
Вайнберг явно не разделяет скептицизм Витгенштейна. Физики не жрецы и не оракулы, они действительно объясняют. Объяснение – это то, что заставляет физиков восклицать: «Ага!». Вайнберг настаивает, что объяснить событие с научной точки зрения означает показать, как оно вписывается в схему закономерностей, встроенных в некий физический принцип. В свою очередь, объяснить принцип означает показать, что он может быть выведен из более фундаментального принципа. Например, химические свойства многих молекул могут быть выведены из более глубоких принципов квантовой механики и электростатического взаимодействия – а стало быть, объяснены. Согласно Вайнбергу, со временем все такие объяснительные цепочки сольются и приведут к единому основанию, самому глубокому, и выстроятся на нем в самую полную и всеобъемлющую окончательную теорию.
Вполне можно себе представить, что физики будущего привнесут в эту грандиозную дедуктивную схему само существование Вселенной. Возможно, используя окончательную теорию, они смогут вычислить, что зародыш инфляционной мультивселенной был связан с туннельным переходом из Ничто. Но что будет означать такое вычисление? Объяснит ли оно, почему существует Нечто, а не Ничто? Нет. Оно просто покажет, что законы, описывающие закономерности внутри мира, несовместимы с несуществованием этого мира. Например, если принцип неопределенности Гейзенберга говорит, что значение поля и скорости его изменения не могут быть одновременно равны нулю, то мир в целом не может состоять из неизменной ничтовости.
Для метафизического оптимиста это может показаться не таким уж плохим результатом. Это будет означать, что мир в некотором смысле является самокатегоризированным, поскольку его существование влечет за собой – или, по крайней мере, делает возможными – закономерности внутри него. Однако для циника это выглядит как замкнутый круг. Так как логически мир предшествует закономерностям внутри него, эти внутренние закономерности не могут объяснить существование мира.
Разговор с Вайнбергом углубил мое понимание того, как работает научное объяснение. Кроме того, я также согласился с его мнением о том, что никакое объяснение не сможет рассеять тайну бытия. Вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» лежит за пределами даже окончательной теории. Несмотря на невероятно изобретательные идеи космологов вроде Стивена Хокинга, Эдварда Трайона и Александра Виленкина, удовлетворительный ответ, если он существует, нужно искать в каком-то другом месте, вне области, подвластной теоретической физике.
Окажутся ли поиски безуспешными? Возможно. От этого они только становятся более возвышенными, чем-то вроде сизифова труда. В конце концов, свою книгу «Первые три минуты» Вайнберг завершил так: «Попытка понять Вселенную – одна из очень немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии»103.
Интерлюдия: О многих мирах
Существование одного-единственного мира уже достаточно загадочно, что тогда говорить о существовании многих миров? Столь буйный расцвет Бытия делает поиски окончательного объяснения еще более безнадежными. К уже трудноразрешимым вопросам «почему Нечто?» и «почему это?» добавляется еще и третий вопрос – «почему так много?». Тем не менее гипотеза о множественности миров, очевидно, вполне приемлема для некоторых мыслителей, с которыми я встречался. Стивен Вайнберг, несмотря на свой общий скептицизм, не стесняется принять ее – как и (гораздо менее скептичный) Дэвид Дойч. Они оба считают, что существование множества вселенных делает менее загадочными некоторые глубинные характеристики нашей собственной Вселенной: ее иначе необъяснимое квантовое поведение (Дойч) и ее невероятную пригодность для жизни (Вайнберг).
В противоположность им, Ричард Суинберн объявил гипотезу о «триллионе триллионов других вселенных» «верхом абсурда»104. И не он один придерживается такой мрачной точки зрения. Великий популяризатор науки и разоблачитель мошенников Мартин Гарднер настаивал, что «нет ни единого факта, свидетельствующего о существовании какой-либо другой Вселенной помимо той, в которой мы обитаем»105. Теории о множестве вселенных Гарднер назвал «фривольными фантазиями». А физик Пол Дэвис в дебатах на страницах газеты «Нью-Йорк таймс» провозгласил, что «ссылаться на бесконечные невидимые вселенные для объяснения странных свойств той Вселенной, которую мы видим, столь же безосновательно, как и ссылаться на невидимого Творца»106. В обоих случаях, по мнению Дэвиса, требуется «прыжок веры». Верить ли нам во множественные вселенные или не верить? А повлияет ли наше решение на более глубокий вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»?
Прежде чем перейти к этим вопросам, нужно прояснить один семантический момент. Если Вселенная – это «все существующее», то разве не получается по определению, что она одна-единственная? Получается так, но когда физики и философы говорят о двух разных областях пространства-времени как о «двух вселенных», они обычно подразумевают, что: 1) они очень, очень большие; 2) они изолированы друг от друга и не имеют причинно-следственных связей – а следовательно, 3) не могут узнать о существовании друг друга непосредственно из наблюдений. Оснований утверждать, что две области являются отдельными вселенными, становится еще больше, если 4) они обладают совершенно различными свойствами: например, в одной из них три пространственных измерения, а в другой – семнадцать. И наконец, есть экзистенциально соблазнительная возможность: две области пространства-времени могут называться раздельными вселенными, если они 5) «параллельны», то есть содержат несколько различных версий тех же самых сущностей. Например, они могут содержать различные копии вашего «я». Те, кто допускает возможность существования множества вселенных, в одном или нескольких из перечисленных смыслов, используют термин «мультивселенная» (иногда «мегавселенная») для обозначения всей совокупности миров. Есть ли у нас основания верить, что мультивселенная действительно существует?
Поскольку другие вселенные не могут быть обнаружены непосредственным наблюдением по определению, доказательство их существования должно быть представлено теми, кто утверждает, что другие миры существуют. Сторонники мультивселенной обычно выдвигают два вида аргументов.
Первый аргумент «за» (хороший аргумент) состоит в том, что существование других вселенных следует из свойств нашей собственной Вселенной и теорий, лучше всего объясняющих эти свойства. Например, измерения реликтового излучения (эха Большого взрыва) показывают, что пространство, в котором мы живем, бесконечно и материя распределена в нем случайным образом. Следовательно, любые возможные комбинации распределения материи где-то существуют – включая точные и неточные реплики нашего собственного мира и существ в нем. Черновые вычисления показывают, что ваша точная копия должна существовать где-то на расстоянии от 10 до 10 в 28-й степени (1028) метров (или миль, или ангстремов, или световых лет – единица измерения неважна при столь огромных значениях) от вас. Поскольку скорость света конечна, то эти параллельные миры (и наши двойники в них) недоступны для нас и навсегда останутся недоступными, если Вселенная продолжит ускоренно расширяться.
Другой, более экстравагантный вид мультивселенной следует из хаотической теории инфляции, предложенной в 80-е годы русским физиком Андреем Линде, чтобы объяснить, почему наша Вселенная выглядит именно так: большая, однородная, плоская, с низкой энтропией. Эта теория также предсказывает, что Большой взрыв должен быть вполне заурядным событием. Согласно теории инфляции, мультивселенная состоит из бесчисленных изолированных друг от друга «вселенных-пузырьков», которые не появились из ничего, а, напротив, сформировались из предшествовавшего им хаоса. Таким образом, хаотическая теория инфляции не отвечает на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?», однако, как заметил Стивен Вайнберг в нашей беседе, она предлагает красивое решение другой загадки – загадки нашего существования. В инфляционной космологии законы природы имеют, в общем, ту же самую форму во всей мультивселенной в целом, но в разных вселенных случайным образом различаются в деталях: в точном значении сил, в относительных массах частиц, в числе измерений пространства и так далее. Случайные значения возникают в результате квантовых флуктуаций в момент рождения различных вселенных. Если наша собственная Вселенная – всего лишь один из огромного множества миров, различающихся значениями физических констант, то вполне ожидаемо, что некоторые из этих миров должны иметь подходящее для разумной жизни сочетание констант. Добавьте к этому банальную истину о том, что раз уж мы существуем, то наверняка находимся во Вселенной, где условия благоприятствуют появлению жизни (так называемый «антропный принцип»), и предполагаемая тонкая настройка нашей Вселенной для существования жизни становится вполне заурядной. Нет никакой надобности обращаться к гипотезе Бога, чтобы ответить на вопрос «Почему мы здесь?».
Поэтому если научные наблюдения дают основание предполагать существование других миров, то некоторые загадки нашей Вселенной разрешаются – так сказать, в качестве дополнительного бонуса. Так считает Вайнберг, но некоторые предпочитают развернуть эти рассуждения в обратную сторону и настаивают, что другие миры должны существовать именно для того, чтобы разрешить загадки нашего. И это второй вид аргумента в пользу существования мультивселенной – плохой аргумент, поскольку он никак не основан на эмпирических наблюдениях.
Одна из версий этого аргумента происходит из попыток понять квантовую теорию. Возьмем знаменитый парадокс кота Шредингера: несчастный кот заперт в коробке, и, пока коробка заперта, его состояние определяется квантовой суперпозицией, и поэтому кот одновременно и жив, и мертв. В соответствии с «многомировой» интерпретацией квантовой механики Вселенная в мысленном эксперименте Шредингера расщепляется на две параллельные копии, в одной из которых кот жив, а в другой – мертв (и в каждой из них также есть ваш собственный двойник). Физики, благосклонно относящиеся к этой интерпретации – а среди них есть много известных ученых, например Ричард Фейнман, Марри Гелл-Манн и Стивен Хокинг, – утверждают, что каждая Вселенная расщепляется на копии каждую секунду – и таких копий что-то около 10 с последующей сотней нулей, и все эти вселенные одинаково реальны. Тем не менее, поскольку квантовая теория запрещает любое (кроме самого призрачного) взаимодействие между параллельными мирами, то мы не можем убедиться в их реальности экспериментально.
Еще одну версию этого обратного аргумента в пользу множества вселенных до последнего отстаивал ныне покойный философ из Принстона Дэвид Льюис. Льюис шокировал своих коллег-философов утверждением, что все логически возможные миры реальны – столь же реальны, как и наш собственный мир. Почему он так решил? Потому, говорил он, что их реальность четко разрешит широкий спектр философских проблем. Возьмем проблему альтернативной истории. Что означает фраза «если бы Джон Кеннеди не поехал в Даллас, то война во Вьетнаме закончилась бы раньше»? Согласно Льюису, это альтернативное высказывание может быть верно только в том случае, если существует мир, подобный нашему, в котором Кеннеди не поехал в Даллас и вьетнамская война закончилась раньше. Возможные миры Льюиса также полезны для понимания высказываний типа «когда рак на горе свистнет».
Подобные сомнительные аргументы в пользу идеи мультивселенной вызвали столь же сомнительные возражения против нее:
1. Это ненаучно. Пол Дэвис и Мартин Гарднер считают, что утверждение «мультивселенная существует» не имеет эмпирического содержания и поэтому является пустой метафизикой. Однако некоторые теории, предполагающие существование мультивселенной (например, хаотическая теория инфляции), приводят к предсказаниям, которые можно проверить экспериментально. Более того, эти предсказания подтверждаются собранными на данный момент данными. В течение последующих десяти лет уточненные измерения значений реликтового излучения и распределения материи во Вселенной вполне могут еще надежнее подтвердить – или опровергнуть – эти теории. А это вполне научно.
2. Альтернативные вселенные должны были быть отсечены бритвой Оккама. Дэвис и Гарднер жалуются, что идея мультивселенной слишком экстравагантна. «Безусловно, гораздо проще и легче поверить в предположение о существовании лишь одной Вселенной и ее Создателя, чем в бесчисленные миллиарды миллиардов миров»107, – пишет Гарднер. В самом ли деле проще? Наша Вселенная появилась в результате Большого взрыва, и, как заметил канадский философ Джон Лесли, было бы невероятно странно, если бы механизм возникновения миров имел этикетку с надписью «Этот механизм срабатывает лишь однажды». Компьютерная программа, печатающая целую последовательность чисел, проще, чем та, которая печатает лишь одно, очень длинное число.
3. Если мультивселенная действительно существует, то это низводит наш собственный мир на уровень компьютерной имитации, как в фильме «Матрица». Это возражение, выдвинутое Дэвисом, наверняка самое странное из всех. Дэвис утверждает, что если в самом деле существуют мириады вселенных, то в некоторых из них есть высокоразвитые технологические цивилизации, которые могут использовать компьютеры для моделирования бесконечного множества виртуальных миров. Численность этих виртуальных миров будет намного превосходить численность реальных вселенных, составляющих мультиверсум. Таким образом, если принимать многомировую интерпретацию буквально, то гораздо более вероятно, что мы сами населяем придуманный мир, а не реальную физическую Вселенную. Если эта теория верна, то, говорит Дэвис, «нет никаких оснований ожидать, что наш мир – тот, в котором вы это в данный момент читаете, – реален и не является компьютерной симуляцией»108. Он считает, что опровергает идею мультивселенной, доводя ее до абсурда. Однако аргумент Дэвиса никуда не годится по двум причинам как минимум. Если бы рассуждения Дэвиса были верны, то это исключало бы существование технологически развитых цивилизаций в нашей Вселенной, ведь теоретически они тоже могут моделировать огромное множество миров. Кроме того, гипотеза о том, что мы живем в искусственно созданном мире, не имеет никакого эмпирического содержания: ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы даже не можем осмысленно рассуждать о ней, потому что, как указал Хилари Патнэм, наши слова способны описать только то, что находится «внутри» предположительно искусственного мира.
Среди тех, кто серьезно относится к идее мультивселенной, самое большое разочарование вызывает наличие множества ее различных версий. Например, «квантовая мультивселенная» и «инфляционная мультивселенная» – это одно и то же или нет? Как я уже упоминал, квантовая мультивселенная призвана объяснить квантовые странности. Первым ее выдвинул в 50-е годы физик Хью Эверетт III, предположив, что возможные различные значения квантовых измерений соответствуют параллельным вселенным, которые сосуществуют в некой более обширной реальности. Инфляционная мультивселенная, напротив, была предложена из космологических соображений и охватывает бесконечное множество «пузырьков» вселенных, каждый из которых возник в результате собственного Большого взрыва из первичного хаоса. Миры, составляющие инфляционную мультивселенную, отделены друг от друга непроходимыми областями пространства, поскольку удаляются друг от друга быстрее скорости света, тогда как миры, составляющие квантовую мультивселенную, отделены друг от друга… вообще-то, никто точно не знает, чем же они отделены друг от друга. Образ квантовых миров, отпочковывающихся друг от друга, предполагает, что они в некотором смысле близки друг к другу, – то же самое предполагает идея параллельных миров, слегка толкающих друг друга (как в экспериментах с двумя щелями).
Учитывая все эти разности, можно подумать, что речь идет о совершенно различных видах мультивселенной, но некоторые знаменитые физики, как ни странно, спокойно объединяют их. Среди таких физиков и Леонард Сасскинд, один из создателей теории струн: «Мультивселенная Эверетта на первый взгляд сильно отличается от вечно расширяющейся Вселенной. Однако я думаю, что на самом деле они могут представлять собой одно и то же»109. Убеждение Сасскинда в идентичности этих двух внешне различных теорий мультивселенной удивляло меня, поэтому я упомянул его в беседе со Стивеном Вайнбергом. «Меня это тоже удивляет, – ответил Вайнберг. – Я говорил с другими об этом, и они тоже этого не понимают». Хотя сам Вайнберг положительно относится к многомировой интерпретации квантовой механики, по его мнению, инфляционная мультивселенная «перпендикулярна» этой интерпретации. Другими словами, Вайнберг не видит причины приравнивать две мультивселенные друг к другу по примеру Сасскинда. «По этому вопросу я с Сасскиндом не согласен, – сказал Вайнберг. – И я не знаю, почему он так считает».
Являются ли придуманные физиками мультивселенные одним целым или различными сущностями, они определенно не являются необходимыми: ничто в них не объясняет, почему они существуют. А индивидуальные миры, составляющие мультивселенную, хотя и различаются в своих свойствах случайным образом, все равно подчиняются тем же самым законам природы – законам, которые почему-то имеют именно такую форму, а не какую-то другую. Поэтому даже самая экстравагантная мультивселенная, понимаемая в чисто физических терминах, оставляет нерешенными несколько фундаментальных вопросов: почему именно эти законы? И почему должна быть мультивселенная, в которой действуют эти законы, а не совсем ничего?
«Вполне может быть, что здесь есть какая-то тайна, которую мы пока не открыли»110, – заметил великий американский философ XIX века Чарльз Пирс – тот самый, который насмешливо сожалел, что вселенных «не так много, как ежевики». Физики сами по себе, похоже, не в состоянии раскрыть эту тайну, поэтому некоторые из них стали заигрывать с мистическими представлениями о реальности, восходящими к Платону, а то и к Пифагору.
Глава 10 Размышления о Платоне
Мистицизм и математика давно знакомы друг с другом: именно последователи мистического культа Пифагора в античные времена изобрели математику как дедуктивную науку. «Все есть число», – провозгласил Пифагор, видимо, подразумевая, что мир в буквальном смысле построен на математике. Неудивительно, что пифагорейцы поклонялись числам как божественному дару. Они также верили в переселение душ и запрещали есть бобы. Сегодня, две с половиной тысячи лет спустя, математика все еще склонна к некоторому мистицизму. Большинство современных математиков (типичная, хотя и оспариваемая оценка – две трети) верят в нечто божественное – не в небеса, населенные ангелами и святыми, а в мир совершенных и вечных объектов своего изучения: в n-мерные сферы, бесконечные числа, квадратный корень из —1 и так далее.
Более того, они верят, что общаются с этим миром с помощью чего-то вроде экстрасенсорного восприятия. Математиков, принимающих эту иллюзию, называют платонистами, поскольку их математические небеса напоминают совершенный мир, описанный Платоном в его «Государстве». Геометры, замечает Платон, рассуждают об окружностях, которые идеально круглы, и бесконечных, совершенно прямых линиях. Однако такие идеальные сущности невозможно отыскать в мире, который мы воспринимаем через наши органы чувств. То же самое Платон считал верным в отношении чисел. Число 2, например, должно состоять из пары совершенно одинаковых единиц, но в реальном мире никакие две вещи не являются совершенно одинаковыми. Платон приходит к выводу, что объекты рассуждений математиков должны существовать в другом мире, вечном и идеальном, и современные математики – последователи Платона с этим согласны. Среди наиболее известных платонистов можно назвать Алена Конна, заведующего кафедрой анализа и геометрии в Коллеж де Франс, который утверждает, что «существует независимая от человеческого ума, неизменяемая математическая реальность»111. Другой современный платонист Рене Том, прославившийся в 70-е годы как создатель теории катастроф, провозгласил: «Математики должны набраться смелости выразить свои глубочайшие убеждения и таким образом заявить, что математические формы действительно существуют независимо от ума, их изучающего»112.
Вполне естественно, что платонизм столь привлекателен для математиков: он утверждает, что изучаемые ими сущности не просто изобретения человеческого ума – математические понятия открываются, а не изобретаются. Математики подобны провидцам, вглядывающимся в платоновский космос абстрактных форм, невидимый для прочих смертных. Один из самых ярых сторонников платонизма, великий логик Курт Гедель, утверждал, что «мы в самом деле обладаем чем-то вроде восприятия» математических объектов, «несмотря на их отдаленность от сенсорного опыта»113. И Гедель был вполне уверен, что платонический мир, будто бы воспринимаемый математиками, вовсе не является коллективной галлюцинацией. «Я не вижу причины меньше доверять этому виду восприятия, то есть математической интуиции, чем чувственному восприятию», – заявил он. (Гедель также верил в существование привидений, но это уже другой вопрос.)
Многих физиков тоже привлекают взгляды Платона. Математические сущности не только кажутся существующими (вечными, реальными, неизменными), они также выглядят повелителями физической Вселенной. Как еще можно объяснить то, что физик Юджин Вигнер назвал «невероятной эффективностью математики в естественных науках»114? Математическая красота раз за разом оказывалась надежным показателем физической истины, даже в отсутствие эмпирических свидетельств. «Истину можно распознать по ее красоте и простоте, – говорил Ричард Фейнман. – Когда вы нашли красивое решение, совершенно очевидно, что оно верно»115. Если, выражаясь словами Галилея, «книга природы написана языком математики», то это может означать лишь то, что мир в самой своей основе математический. Как образно выразился астроном Джеймс Джинс, «Бог – математик»116. Правда, для благочестивого платониста подобная ссылка на Бога всего лишь излишний поэтизм. Кому нужен создатель, если математика сама по себе вполне способна породить Вселенную и обеспечить ее существование? Математика выглядит чем-то реальным, а мир кажется математическим. Может ли математика дать нам ключ к тайне бытия? Если, как утверждают платонисты, математические сущности в самом деле существуют, то они существуют необходимо, целую вечность. Возможно, это вечное математическое изобилие каким-то образом изливается в физический космос, который настолько сложен, что породил разумные существа, способные установить контакт с платоновским миром идей, породившим все сущее. Это заманчивая картинка, но может ли принять ее всерьез кто-то, кроме поедателей листьев лотоса?
У меня сложилось впечатление, что как минимум один из вполне здравомыслящих ученых действительно принимает эту идею всерьез – это сэр Роджер Пенроуз, заслуженный профессор математики в Оксфордском университете. Пенроуз относится к самым титулованным математическим физикам из ныне живущих. Его коллеги-физики, в частности Кип Торн, хвалили его за возвращение математики в теоретическую физику после долгого перерыва, когда две области не общались друг с другом. В 60-е годы вместе со Стивеном Хокингом Пенроуз, используя сложные математические методы, доказал, что расширение Вселенной после Большого взрыва представляет собой процесс, в точности обратный сжатию звезды в черную дыру. Другими словами, Вселенная должна была начаться с сингулярности. В 70-е годы Пенроуз разработал «гипотезу космической цензуры», утверждающую, что каждая сингулярность скрыта за «горизонтом событий», защищающим остальную Вселенную от нарушения физических законов. Пенроуз также стоял у истоков идеи твисторов – нового подхода, согласующего общую теорию относительности с квантовой механикой. В 1994 году королева Елизавета пожаловала Пенроуза рыцарским званием за эти достижения. Пенроуз также знаменит своим интересом к странностям. Еще студентом он стал одержим идеей «невозможных фигур», то есть физических объектов, которые вроде бы неподвластны логике трехмерного пространства. Ему удалось успешно «сконструировать» одну из таких невозможных фигур, а именно треугольник Пенроуза, который вдохновил Эшера на создание двух знаменитых литографий: «Спускаясь и поднимаясь», изображающей монахов, бесконечно поднимающихся (или спускающихся?) по лестнице, ведущей в никуда, и «Водопад» с вечно ниспадающим потоком воды. Однажды я слышал, как философ Артур Данто сказал, что каждая кафедра философии должна иметь невозможную фигуру, чтобы внушать чувство метафизического смирения.
Я знал, что Пенроуз не стесняется своей приверженности учению Платона. В своих трудах и публичных лекциях он много раз ясно давал понять, что считает математические сущности реальными и столь же независимыми от человеческого ума, как гора Эверест. И он даже прямо упоминает Платона. «Я считаю, что когда ум воспринимает математическую идею, он входит в контакт с миром математических концепций Платона», – написал он в своей книге «Новый ум короля», опубликованной в 1989 году. «Каждый математик, входя в этот контакт, может представлять в каждом случае что-то свое, но общение между математиками возможно, потому что каждый из них напрямую связан с одним и тем же вечно существующим миром Платона!»117
Больше всего меня заинтересовали периодические намеки Пенроуза на то, что и в нашем собственном мире мы то и дело натыкаемся на обнажения из мира Платона. Я впервые обратил внимание на эти намеки, читая его вторую научно-популярную книгу «Тени разума», которая вышла в 1994 году и, подобно своей предшественнице, стала невероятным бестселлером.
Пенроуз начинает с утверждения, основанного на теореме о неполноте Геделя, что человеческий ум обладает способностью к математическим открытиям, превосходящей способности любого мыслимого компьютера. Эта способность, согласно Пенроузу, должна быть квантовой по сути, и понять ее можно будет только тогда, когда физики откроют квантовую теорию гравитации – святой грааль современной физики. Такая теория наконец закроет зияющую брешь между квантовым миром и классической реальностью – и попутно выявит, каким образом человеческий мозг перепрыгивает через ограничения механических вычислений в «полноцветное» сознание.
Многие нейробиологи скептически отнеслись к идеям Пенроуза о сознании. Покойный Фрэнсис Крик раздраженно заметил: «Его аргумент состоит в том, что квантовая гравитация загадочна и сознание загадочно, поэтому было бы здорово, если бы одно объяснило другое»118. На самом деле Пенроуз хочет большего, само название его книги, «Тени разума», имеет двойной смысл. С одной стороны, оно должно означать, что электрическая активность клеток мозга, которую обычно считают источником нашего ума, – это всего лишь «тени» глубинных квантовых процессов, происходящих в мозгу и являющихся истинным источником сознания. С другой стороны, «тени» – это отсылка к Платону, а именно к его аллегории пещеры в VII книге «Государства». В этой аллегории Платон сравнивает нас с узниками, прикованными в пещере и обреченными наблюдать только каменную стену перед собой. На этой стене они видят игру теней, которую и принимают за реальность. Откуда им знать о реальном мире за их спиной, который и является источником теней? Если освободить одного из узников, то сначала он будет ослеплен солнечным светом за пределами пещеры. Когда его глаза привыкнут к свету, он начнет понимать, где оказался. Но что случится, если он вернется в пещеру и расскажет своим собратьям о реальном мире? Непривычный к темноте после солнечного света, он не сможет заметить тени, которые когда-то считал реальностью. Его рассказы о реальном мире за пределами пещеры вызовут только смех. Остальные узники скажут, что «он вернулся из путешествия наверх с испорченным зрением» и что «не стоит пытаться выбраться наверх». Внешний мир в аллегории пещеры представляет собой вечный мир форм, настоящую реальность. Платон считал обитателями этого мира абстракции вроде Добра или Красоты, а также совершенные математические объекты. Когда Пенроуз предлагает нам считать реальность состоящей из теней подобного мира, это просто неоплатонический мистицизм или его не имеющее себе равных понимание квантовой теории и теории относительности, сингулярностей и черных дыр, высшей математики и природы сознания позволило ему заглянуть в тайну бытия?
Мне не пришлось далеко ехать, чтобы получить ответ на этот вопрос. Однажды, в ожидании лифта в вестибюле здания факультета математики Нью-Йоркского университета, я заметил объявление о скором приезде Пенроуза, которого пригласили прочитать серию лекций на тему его вклада в теоретическую физику. Вернувшись домой, я позвонил представителю Пенроуза в издательстве Оксфордского университета, чтобы узнать, можно ли договориться об интервью. Через пару дней она сообщила, что «сэр Роджер» согласился выделить немного времени для беседы со мной о философии. Как оказалось, Пенроуза поселили в представительских апартаментах в особняке на западной стороне Вашингтон-сквер, всего в нескольких шагах от моего дома в Гринвич-Виллидж. В назначенный день я отправился через площадь, где, благодаря замечательной весенней погоде, царила обычная неразбериха. Джазовый оркестр играл для слушателей, отдыхающих на траве; будущий Боб Дилан самозабвенно терзал гитару. У большого фонтана в центре группа гомосексуалистов, утрирующих свою мужественность, показывала импровизированную гимнастику любопытствующим европейским туристам; поблизости, на площадке для выгула собак, псы лаяли и резвились. Я вышел с площади на северо-западном углу, где шахматные жулики собираются возле шахматных столов на улице в ожидании наивных прохожих, которые готовы с ними поиграть и потерять немного денег. Посмотрев на здание гостиницы «Эрл», я вспомнил, что где-то читал, что именно здесь много десятилетий назад The Mamas and The Papas написали свой хит California Dreamin’. Разумеется, именно эта мелодия звучала у меня в голове, когда я вошел в вестибюль дома, где остановился Пенроуз. Привратник в ливрее направил меня в фешенебельный пентхауз.
Сэр Роджер сам открыл дверь. Похожий на эльфа, с густыми рыжеватыми волосами, он выглядел гораздо моложе своих лет (его год рождения – 1931-й). Апартаменты были роскошными, в стиле довоенного Нью-Йорка: высокие потолки украшены затейливой лепниной, из больших створных окон открывался вид на верхушки деревьев на Вашингтон-сквер. Чтобы завязать светскую беседу, я показал ему огромный вяз, который считается самым старым деревом на Манхэттене и известен как «висельное дерево», потому что в конце XVIII века использовался для казни через повешение. Сэр Роджер любезно кивнул в ответ на непрошеную информацию и пошел на кухню за чашкой кофе для меня.
Усевшись на диване, я мимоходом подивился, почему все, кроме меня, считают, что напитки с кофеином в большей степени, чем алкоголь, способствуют размышлениям о тайне бытия?
Когда сэр Роджер вернулся, я спросил у него, действительно ли он верит в мир Платона, существующий над физическим миром? Не будет ли идея двух миров несколько расточительной с онтологической точки зрения?
– На самом деле существуют три мира, – ответил он, оживляясь. – Целых три! И все они отдельны друг от друга. Есть платоновский мир, есть физический мир и есть еще ментальный мир, мир нашего сознательного восприятия. Взаимосвязи между этими тремя мирами таинственны. Пожалуй, главная загадка, над которой я работаю, это связь ментального мира с физическим: как определенные виды высокоорганизованных физических объектов (наш мозг) производят сознание. Другая тайна, не менее глубокая с точки зрения математической физики, это взаимоотношения между платоновским миром и физическим. В поисках наиболее глубокого понимания закономерностей поведения мира мы приходим к математике. Можно подумать, что физический мир построен на математике!
Да он больше чем платонист, он пифагореец! Или по крайней мере заигрывает с мистической доктриной Пифагора, утверждающей, что мир состоит из математики: все есть число. Тем не менее я заметил, что Пенроуз пока не сказал ни слова об одной из взаимосвязей между этими тремя мирами. Он упомянул о связи ментального мира с физическим и физического мира с платоновским миром абстрактных математических идей – а как насчет предполагаемой взаимосвязи между платоновским миром идей и ментальным миром? Каким образом наши умы входят в контакт в бестелесными формами Платона? Если мы хотим изучить математические сущности, то должны как-то «воспринимать» их, выражаясь словами Геделя. А восприятие объекта обычно означает установление каузальных отношений с ним. Например, я воспринимаю кошку на коврике, потому что испущенные ею фотоны попали на сетчатку моих глаз. Но формы Платона – это не кошка на коврике, они не живут в мире пространства и времени, не испускают фотонов, которые мы можем уловить. Значит, мы не можем их воспринимать. А если мы не можем воспринимать математические объекты, то откуда нам вообще что-то о них знать? Платон верил, что подобные знания получены в прежних жизнях, до нашего рождения, когда наши души непосредственно соприкасаются с формами. Таким образом, то, что мы знаем о математике – а также о Красоте и Добре, – состоит из «воспоминаний» этого бестелесного существования, которое предшествовало нашей земной жизни. В наше время эту идею никто не воспринимает всерьез. Тогда какое еще объяснение можно предложить? Сам Пенроуз писал, что человеческое сознание «прорывается» к платоновским формам, когда мы размышляем о математических объектах. Но сознание зависит от физических процессов в мозгу, и непонятно, как нефизическая реальность может на эти процессы повлиять.
Когда я озвучил это возражение Пенроузу, он нахмурился и замолчал.
– Я знаю, что этот вопрос беспокоит философов, – заговорил он наконец, – но не уверен, что верно пони маю этот аргумент. Платоновский мир существует, и мы имеем к нему доступ. В конце концов, наш мозг создан из материала, который сам непосредственно связан с платоновским миром математики.
То есть он утверждает, что мы можем воспринимать математическую реальность потому, что наш мозг каким-то образом сам является частью этой реальности?
– Все несколько сложнее, – поправил меня сэр Роджер. – Каждый из трех миров – физический мир, мир сознания и платоновский мир – возникает из крохотной частички одного из двух других. И это всегда самая со вершенная частичка. Возьмем человеческий мозг. Если посмотреть на физический мир в целом, то наш мозг – это его очень, очень крохотная часть. Но это самая совершенно организованная часть. По сравнению со сложностью мозга галактика выглядит не более чем неуклюжей глыбой. Мозг представляет собой самую утонченную частичку физической реальности, и именно эта частичка дает начало ментальному миру, миру сознательной мысли. Подобным же образом лишь маленькая часть нашей сознательной мысли связывает нас с платоновским миром, но это самая безупречная часть – та, которая состоит из наших размышлений о математической истине. Наконец, всего лишь несколько частичек математики в платоновском мире необходимы для описания всего физического мира – но это самые мощные и поразительные его части!
«Вот уж действительно слова настоящего математического физика!» подумал я. Но могут ли эти «мощные и поразительные» части математики – те самые, которые так занимают Пенроуза, – создать физический мир сами по себе? Имеет ли математика онтологическую силу?
– Да, что-то в этом роде, – ответил Пенроуз. – Может быть, философы слишком переживают о менее значимых вещах, не осознавая, что самая великая тайна состоит в том, каким образом платоновский мир «управляет» физическим. – На мгновение задумавшись, он добавил: – Я не говорю, что у меня есть ответ на этот вопрос.
Мы еще немного поговорили о Геделевской теореме о неполноте, квантовых вычислениях, искусственном интеллекте и сознании животных.
– Я понятия не имею, обладает ли морская звезда сознанием, – сказал Пенроуз, – но должны быть какие-то наблюдаемые признаки.
На этом мой визит к сэру Роджеру завершился. Я оставил его в мире платоновских идей на крыше небоскреба и после стремительного спуска на лифте вернулся в эфемерный мир сенсорного восприятия на Земле.
По дороге через Вашингтон-сквер обратно домой я прошел под «висельным деревом», мимо шахматных жуликов, мимо оживленной толпы у центрального фонтана, пробираясь сквозь тот же хаос движения, ярких цветов, резких запахов и экзотических звуков.
«Вот народ! – думал я. – Что они знают о безмятежном и вечном платоновском мире?»
Туристы, уличные музыканты, попрошайки, подростки-анархисты или даже профессора культурологии Нью-Йоркского университета, выбирающие более короткий путь через площадь по дороге на лекции, – неважно, кто они: сознание всех этих людей никогда не соприкасается с эфемерным миром математической абстракции, который является истинным источником реальности. Они и понятия не имеют, что, несмотря на яркое солнце, прикованы в аллегорической темноте пещеры Платона, обреченные жить в мире теней. Они не могут познать истинную реальность – она доступна лишь тем, кто способен постичь вечные формы, лишь настоящим философам вроде Пенроуза.
Однако со временем чары сэра Роджера стали рассеиваться. Каким образом формальные математические абстракции Платона могли создать буйство жизни на Вашингтон-сквер? Действительно ли эти абстракции дают ответ на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»?
Структура бытия, нарисованная Пенроузом, казалась способной сотворить и поддерживать себя каким-то чудесным образом. Существуют три мира: платоновский мир, физический мир и ментальный мир, и каждый из них как-то создает один из двух других. Платоновский мир посредством математической магии создает физический мир. Физический мир посредством магии химических процессов в мозгу создает ментальный мир. А ментальный мир посредством магии сознательной интуиции создает платоновский мир – который, в свою очередь, создает физический мир, создающий ментальный мир, и так далее, по кругу. С помощью этой замкнутой причинной цепочки – математика создает материю, материя создает ум, ум создает математику – все три мира взаимно поддерживают друг друга, паря без всякой опоры над бездной Ничто, подобно одной из невозможных фигур Пенроуза.
Однако, несмотря на первое впечатление от этой картинки, три мира не равны онтологически. По мнению Пенроуза, именно платоновский мир является источником реальности. «Для меня мир совершенных форм первичен (как и для Платона) – существование этого мира является чуть ли не логической необходимостью, – оба же прочих мира суть его тени»119, – написал он в «Тенях разума». Другими словами, платоновский мир должен существовать на основе лишь логики, тогда как миры материи и ума проистекают из него в качестве побочного продукта.
Эти рассуждения вызвали у меня два вопроса. Действительно ли существование платоновского мира обеспечивается самой логикой? И если так, то что заставляет его отбрасывать тени?
Что до первого вопроса, то я не мог не заметить повышенной нервозности Пенроуза. Он сказал: «почти является логической необходимостью». Но почему «почти»? Логическая необходимость либо есть, либо ее нет. Пенроуз придает большое значение утверждению о том, что платоновский мир математики «существует вечно», вне времени. Однако то же самое может быть верно в отношении Бога – если Бог существует. Однако Бог не является логически необходимым существом: Его существование можно отрицать, не впадая в логическое противоречие. Чем математические объекты лучше Бога в этом отношении?
Веру в то, что объекты чистой математики необходимо существуют, можно назвать «древней и почтенной»120, однако при ближайшем рассмотрении она не выдерживает критики. Основывается она на двух допущениях: 1) математические истины логически необходимы; 2) некоторые из этих истин утверждают существование абстрактных объектов. Возьмем, например, предложение 20 из «Начал»
Евклида, утверждающее, что существует бесконечное множество простых чисел. Это явно выглядит как утверждение о существовании. Более того, оно кажется верным логически. В самом деле, Евклид доказал, что отрицание существования бесконечного множества простых чисел приводит к абсурду. Допустим, что существует конечное число простых чисел. Тогда, умножая их все вместе и прибавляя 1, можно получить новое число, которое будет больше всех простых чисел и при этом не делится ни на одно из них, – противоречие! Евклидово доказательство бесконечности множества простых чисел способом доведения до абсурда называют первым действительно элегантным доказательством в истории математики. Но дает ли это какие-то основания верить в существование чисел как вечных платоновских сущностей? Не совсем. На самом деле, существование чисел предполагается в доказательстве. В действительности Евклид показал, что если существует бесконечное множество объектов, ведущих себя как числа 1, 2, 3…, то среди них должно существовать бесконечно много объектов, ведущих себя как простые числа. Всю математику можно рассматривать как состоящую из подобных «если… то» утверждений: если такая-то структура удовлетворяет определенным условиям, то эта структура должна также удовлетворять определенным другим условиям. Эти «если… то» истины действительно логически необходимы, но они не делают необходимым существование какого бы то ни было объекта, абстрактного или материального. Например, утверждение «2+2=4» говорит, что если бы у вас было два единорога и вы прибавили бы к ним еще два единорога, то всего у вас получилось бы четыре единорога. Однако это «если… то» утверждение верно, даже если никаких единорогов не существует – или если в мире вообще ничего не существует.
Математики фактически придумывают сложные фантазии. Некоторые из этих фантазий могут иметь аналоги в физическом мире – они составляют то, что мы называем прикладной математикой. Другие, подобные тем, что постулируют существование высших бесконечностей, являются чисто гипотетическими. В создании своих воображаемых вселенных математики ограничены только необходимостью быть логически последовательными – и создавать нечто красивое. «Воображаемые вселенные гораздо прекраснее глупо устроенной настоящей»121, – заявил великий английский математик Годфри Харди. Если набор аксиом не ведет к противоречию, то вполне может быть, что он описывает Нечто. Именно поэтому, выражаясь словами Георга Кантора, разработавшего теорию бесконечности, «сущность математики заключена в ее свободе»122.
Итак, существование математических объектов логикой не предписывается, как считает Пенроуз, а просто дозволяется – а это гораздо более слабый вывод. В конце концов, практически все позволено логикой, но для некоторых современных платонистов еще более радикального толка этого вполне достаточно. С их точки зрения, внутренняя непротиворечивость сама по себе гарантирует математическое существование. То есть если набор аксиом не ведет к противоречию, то описываемый ими мир не только может существовать, но и существует в реальности.
Один из таких радикальных платонистов, Макс Тегмарк, молодой американский космолог шведского происхождения, преподает в Массачусетском технологическом институте. Подобно Пенроузу, Тегмарк верит в то, что Вселенная по своей сути имеет математическую природу, а также в то, что математические сущности абстрактны и неизменны. Тегмарк идет дальше сэра Роджера в том, что утверждает, будто каждая математическая структура, обладающая непротиворечивым описанием, существует в реальном физическом смысле. Каждая из этих абстрактных структур представляет собой параллельный мир, а все вместе эти параллельные миры образуют математическую мультивселенную. «Элементы этой мультивселенной не находятся в одном и том же пространстве, но существуют вне пространства и времени»123, – писал Тегмарк. Их можно представить себе в виде «статичных скульптур, представляющих математическую структуру физических законов, которые ими управляют».
Доведенный до крайности платонизм Тегмарка предлагает очень легкое решение тайны бытия: как признает сам Тегмарк, это фактически математическая версия принципа плодовитости Роберта Нозика, утверждающая, что реальность включает в себя все логические возможности и настолько богата и разнообразна, насколько можно себе представить. Все, что может существовать, на самом деле существует – поэтому Нечто преобладает над Ничто. Этот принцип привлекает Тегмарка онтологической силой, присущей, как он считает, математике. Математические структуры, говорит Тегмарк, «очень странным образом похожи на настоящие»124. Они приносят непредусмотренные плоды, удивляют нас, «дают сдачи». Мы получаем от них больше, чем вложили. А если Нечто ощущается столь реальным, то оно должно быть реальным.
Но почему мы должны поддаться этому «ощущению реальности», независимо от того, насколько оно похоже на истину?
Тегмарк и Пенроуз ему поддались, однако другой великий физик, Ричард Фейнман, устоял. «Это всего лишь ощущение»125, – пренебрежительно бросил Фейнман как-то раз, когда его спросили, могут ли математические объекты существовать независимо.
Бертран Рассел занял еще более жесткую позицию по вопросу подобного математического романтизма. В 1907 году еще довольно молодой Рассел восторженно восхвалял прелести математики: «С определенной точки зрения математика обладает не только истиной, но и величайшей красотой – холодной и строгой красотой скульптуры». Однако после восьмидесяти он пришел к выводу, что его юношеские восторги «по большей части чушь». Математика, писал постаревший Рассел, «перестала казаться мне нечеловеческой в отношении ее объекта. Я осознал, хотя и с неохотой, что она состоит из тавтологий. Боюсь, что тому, кто обладает достаточным интеллектом, вся математика покажется тривиальной – столь же тривиальной, как и утверждение, что всякое животное на четырех ногах является животным»126.
Каким образом романтический платонизм Пенроуза, Тегмарка и других может одолеть холодный цинизм Рассела? Если ни логика, ни ощущения не могут подтвердить существование вечных математических форм, то, возможно, на это способна наука. В конце концов, наши лучшие научные теории включают довольно много математики – например, общая теория относительности Эйнштейна. Описывая, как форма пространства-времени определяется распределением материи и энергии во Вселенной, теория Эйнштейна использует множество математических сущностей, таких как «функции», «континуум», «тензоры». Если мы считаем теорию относительности истинной, то разве не должны мы принять существование этих сущностей? Разве не будет интеллектуальной нечестностью притворяться, что они не существуют, если они незаменимы для нашего научного понимания мира?
Вкратце именно в этом состоит аргумент незаменимости для математического существования. Впервые его предложил Уиллард Ван Орман Куайн, выдающийся американский философ XX века – тот самый, который заявил: «Быть – значит быть значением переменной»127.
Куайн стоял на позициях крайней «натуральной» философии. Для него высшим судьей бытия была наука. И если наука неизбежно обращается к математическим абстракциям, значит, эти абстракции существуют. Хотя мы не можем наблюдать их непосредственно, мы нуждаемся в них для объяснения того, что мы наблюдаем. Как выразился один философ: «Причина нашей веры в числа и другие математические объекты та же самая, по которой мы верим в существование динозавров и темной материи»128.
Аргумент незаменимости называют единственным аргументом в пользу математического существования, который стоит рассматривать всерьез. Однако даже если он окажется верным, это вряд ли утешит платонистов вроде Пенроуза и Тегмарка, потому что он лишает математические формы их трансцедентности: они становятся всего лишь теоретическими положениями, помогающими объяснить наши наблюдения, – наравне с физическими понятиями вроде «субатомных частиц», поскольку встречаются в тех же самых объяснениях. Каким образом они могут быть причиной существования физического мира, если они сами являются частью ткани этого мира?
И на этом огорчения платонистов не исчерпаны. Оказывается, математика не так уж незаменима для науки: мы вполне можем объяснить, как устроен физический мир, не прибегая к математическим абстракциям, – подобно тому, как мы научились это делать, не прибегая к понятию Бога.
Одним из первых на эту возможность указал американский философ Хартри Филд. В своей книге «Наука без чисел», опубликованной в 1980 году, Филд показал, что ньютоновская теория гравитации (которая кажется математической до мозга костей) может быть сформулирована так, что в ней не будут использоваться какие бы то ни было математические понятия. Тем не менее такая «ньютоновская теория без чисел» дает те же самые предсказания, хотя и гораздо более окольными путями. Если «номинализация» науки (то есть избавление ее от математической зависимости) может быть распространена на теории вроде квантовой механики и общей теории относительности, то это будет означать, что Куайн ошибался и математика не является «незаменимой», а ее абстракции не требуются для понимания физического мира. Они всего лишь отличный инструмент для расчетов – удобный на практике (поскольку быстрее приводит к выводам), но теоретически поддающийся замене. Для существ, обладающих более высоким интеллектом, математика может быть вовсе не нужна. Числа и прочие математические абстракции окажутся не вечными и трансцедентными сущностями, а всего лишь изобретениями земного разума. Мы можем изгнать их из нашей онтологии, подобно герою рассказа Бертрана Рассела «Кошмар математика», криками: «Прочь! Вы всего лишь удобные символы!»129
Однако означает ли это, что платонизм неспособен послужить ключом к тайне бытия? Может быть, все-таки способен. Помните, в платонической модели Роджера Пенроуза кое-чего не хватало? Он утверждал, что миры материи и сознания являются лишь «тенями» платоновского мира математики. Но если принять эту метафору, то что является источником света, позволяющим формам отбрасывать тени? Сэр Роджер признал, что не знает, каким образом математические абстракции могут что-то создавать. Подобные абстракции должны бы быть каузально инертными, неспособными ни сеять, ни жать. Как могут пассивные формы, даже если они совершенны и вечны, выйти за пределы себя и создать мир?
В теории самого Платона такого пробела не было. Для него источником света служило метафорическое Солнце, форма Добра. Согласно метафизике Платона, Добро возвышается над более низкими формами, включая математические, – и даже над формой Бытия: «Добро само по себе не является бытием, но далеко превосходит бытие в достоинстве». Форма Добра «дарует бытие всему» – не по своему свободному выбору, как сделал христианский Бог, а в силу логической необходимости. Добро есть онтологическое Солнце, испускающее лучи Бытия на меньшие формы, а они, в свою очередь, отбрасывают тени, из которых состоит наш мир.
Вот так Платон представлял себе Добро в качестве источника реальности, подобного Солнцу. Должны ли мы отмахнуться от этой идеи как от поэтической глупости? Похоже, что в вопросе разрешения тайны бытия толку от нее еще меньше, чем от математического платонизма Пенроуза.
Как можно вообразить абстрактное Добро создателем космоса, подобного нашему, в котором столько всякого недоброго?
И все же, к моему удивлению, есть по крайней мере один мыслитель, который думает именно так. Еще больше я удивился, когда узнал, что он сумел убедить некоторых ведущих мировых философов в том, что его идеи не совсем безумны. И почему-то меня не удивило, что живет он в Канаде.
Интерлюдия: Все из бита
Математический платонизм в конце концов оказался неподходящим объяснением Бытия, однако его недостатки наводят на более глубокие размышления о природе реальности. Из чего состоит реальность на самом фундаментальном уровне? Классический ответ на этот вопрос дал Аристотель:
реальность = материя + форма.
Эта доктрина Аристотеля известна под названием «гилеморфизм», от греческого «гиле» (материя) и «морфе» (форма, структура). Она утверждает, что в действительности существует лишь то, что состоит из формы и материи. Материя без формы есть хаос – что для древних греков было равнозначно Ничто. А форма без материи есть лишь призрак бытия, онтологическая улыбка Чеширского кота.
Но верно ли это?
На протяжении последних нескольких веков наука неустанно подкапывала под основание аристотелевского понимания реальности. Чем лучше становятся наши научные теории, тем меньше «материи» в них остается. Дематериализация природы началась с Исаака Ньютона, чья теория гравитации использует кажущееся сверхъестественным понятие «действия на расстоянии». В теории Ньютона Солнце дотягивается до Земли силой своего гравитационного притяжения, хотя между ними нет ничего, кроме пустого пространства. Чем бы ни был этот механизм влияния тел друг на друга, никакой промежуточной «материи» он не включает. Сам Ньютон по этому поводу скромно заявил: Hypotheses non fingo, гипотез не измышляю.
Если Ньютон дематериализовал природу на самых больших расстояниях, от Солнечной системы и дальше, то современные физики сделали то же самое на самых маленьких возможных расстояниях – от размера атома и меньше. В 1844 году Майкл Фарадей заметил, что материю можно распознать только по силам, действующим на нее, и спросил: «Почему мы вообще должны считать, что она существует?»130 Физическая реальность, по мнению Фарадея, на самом деле состоит не из материи, а из полей – то есть является чисто математическими структурами, заданными точками и числами. В начале XX века атомы, которые долго считались образцом твердости, оказались состоящими в основном из пустоты. А квантовая теория показала, что составляющие их субатомные частицы (электроны, протоны и нейтроны) ведут себя скорее как сгустки абстрактных свойств, чем как маленькие бильярдные шарики. На каждом более глубоком уровне то, что считалось материей, оказывалось чистой структурой. Последним достижением в этом многовековом процессе дематериализации природы является теория струн, которая строит материю из чистой геометрии.
Само понятие непроницаемости, на котором основано наше повседневное понимание материального мира, оказывается чем-то вроде математической иллюзии. Почему мы не проваливаемся сквозь пол? Почему камень отскакивает, когда доктор Джонсон его пинает? Потому что два твердых объекта не могут проникнуть друг в друга, вот почему. Однако причина, по которой они этого не могут, не имеет никакого отношения к некой присущей материи внутренней твердости – скорее, дело в числах. Чтобы сжать два атома вместе, нужно поместить электроны в этих атомах в идентичные квантовые состояния, а в квантовой теории это запрещено принципом Паули, который разрешает двум электронам сидеть друг на друге, только если их спины противоположны.
Что касается устойчивости отдельного атома, то это тоже в основном математическая проблема. Что не позволяет электронам в атоме упасть на ядро? Если бы электроны находились на ядре, мы бы знали точное местоположение каждого из них (прямо в центре атома), а также их скорость (нулевую). И это нарушило бы принцип неопределенности Гейзенберга, который не позволяет одновременно определить координаты и количество движения частицы.
Таким образом, твердость обычных материальных объектов вокруг нас – столов, стульев, камней и так далее – является следствием принципа запрета Паули и принципа неопределенности Гейзенберга. Другими словами, она сводится к паре абстрактных математических отношений.
На самом фундаментальном уровне наука описывает элементы реальности в терминах их отношений друг с другом, игнорируя любые «материальные» черты, которыми могут обладать эти элементы. Например, наука говорит нам, что электрон имеет определенную массу и заряд, но они являются всего лишь свойствами, позволяющими другим частицам и силам действовать на электрон определенным образом. Наука говорит нам, что масса эквивалентна энергии, но не объясняет, что такое энергия – помимо того, что это некое число, которое, будучи правильно вычисленным, сохраняется во всех физических процессах. Как заметил Бертран Рассел в своей книге «Анализ материи», изданной в 1927 году, когда дело доходит до истинной природы сущностей, составляющих мир, наука хранит молчание. Она дает нам только гигантскую паутину взаимоотношений – только структура и никакой материи. Сущности, из которых состоит физический мир, подобны шахматным фигурам: значение имеет не материал, из которого она сделана, а роль, предопределенная для каждой фигуры системой правил, согласно которым она может двигаться.
С точки зрения физики реальность очень похожа на то, как Фердинанд де Соссюр, отец современной лингвистики, представлял себе язык больше века назад. Соссюр утверждал, что язык является лишь системой отношений, слова не имеют внутренней сущности. Сам по себе характер издаваемых нами звуков не имеет отношения к общению – важна система контрастов между этими звуками. Именно это имел в виду Соссюр, когда писал: «В языке существуют лишь различия без положительных элементов»131.
Утверждение Соссюром превосходства структуры над материей вдохновило движение структуралистов, которое смело экзистенциализм во Франции в конце 50-х годов. В антропологии сторонником этой идеи был Клод Леви-Стросс, в литературной теории – Ролан Барт. Ее расширение на Вселенную в целом вполне можно назвать «космическим структурализмом». Если реальность в самом деле лишь чистая структура, то ее можно описывать совершенно другими способами – например, способом Пенроуза и Тегмарка. С их точки зрения, реальность по сути своей является математической: ведь математика – это наука о структуре, она ничего не знает о материи и абсолютно в ней не нуждается. Структурно одинаковые миры, сделанные из разных субстанций, для математика идентичны. Такие миры называются изоморфными, от греческого «изос» (одинаковый) и «морф» (форма). Если Вселенная снизу доверху есть лишь структура, то она может быть полностью описана с помощью математики. И если математические структуры существуют объективно, то Вселенная должна представлять собой одну из таких структур. По крайней мере, именно это, видимо, имеет в виду Тегмарк, когда говорит, что «все математические структуры существуют физически»132. Если в действительности никакой материи нет, то математическая структура равнозначна физическому существованию. Кому нужна плоть, если достаточно костей?
Есть несколько отличающийся от этого взгляд на безматериальную реальность: мир состоит не из математики, а из информации. Этот взгляд физик Джон Арчибальд Уилер выразил чеканным лозунгом: «Все из бита». Уилер, который работал с Альбертом Эйнштейном и преподавал Ричарду Фейнману, обладал даром чеканить подобные фразы – именно он придумал «черную дыру», «кротовую нору» и «квантовую пену».
Теория «все из бита» выглядит следующим образом. В самом основании наука нам говорит только о различиях: как различия в распределении массы/энергии связаны с различиями в форме пространства-времени, например, или как различия в заряде частицы связаны с различиями в силах, которые она испытывает и прилагает. Таким образом, состояния Вселенной могут рассматриваться как чисто информационные состояния. Как сказал однажды британский астрофизик сэр Артур Эддингтон: «Наши знания о природе объектов, изучаемых физикой, полностью состоят из показаний стрелок на циферблатах приборов»133. «Среда», в которой реализуются эти информационные состояния, чем бы она ни была, не играет никакой роли в объяснении физических явлений. Поэтому о ней можно полностью забыть – отрезать ее бритвой Оккама. Мир представляет собой лишь поток чистых различий, безо всякой подлежащей субстанции. Информации («бита») достаточно для существования («всего»).
Некоторые сторонники теории «все из бита» заходят еще дальше и рассматривают Вселенную как гигантскую компьютерную симуляцию. Эд Фредкин и Стивен Вольфрам, разделяющие эту точку зрения, считают, что Вселенная является «матричным автоматом», который использует простую программу для создания сложных физических результатов. Пожалуй, самый радикальный из сторонников идеи космоса как компьютера – это американский физик Фрэнк Типлер. Удивительная особенность представлений Типлера в том, что в них нет никакого реального компьютера: весь космос есть лишь программа, без устройства. В конце концов, компьютерная симуляция – это работа программы, а программа, по сути, является правилом преобразования цепочки чисел на входе в цепочку чисел на выходе. Таким образом, любая компьютерная симуляция (например, симуляция физической Вселенной) соответствует последовательности чисел – то есть является чисто математической сущностью. И если математические сущности обладают вечным платоновским бытием, то, по мнению Типлера, существование мира полностью объяснено: «на самом фундаментальном онтологическом уровне физическая Вселенная является концепцией»134.
А как насчет симулированных существ, каким-то образом являющихся частью этой «концепции», – существ вроде нас? Поймут ли они, что время – это иллюзия, что они сами не более чем застывшие биты в вечной платоновской видеопленке? Типлер считает, что не поймут. У них не будет никакого способа узнать, что их реальность состоит из «последовательности чисел». Тем не менее именно их смоделированные состояния сознания дают математической концепции, частью которой они являются, физическое существование. Поскольку, по словам Типлера, «именно это мы имеем в виду под существованием, то есть когда сознающие и чувствующие существа осознают и чувствуют свое существование».
Вселенная как абстрактная программа, «все из бита», кажется некоторым мыслителям необычайно красивой – а также логически не противоречащей представлению науки о природе как о сети математических отношений. Но все ли сводится только к этому? В самом ли деле в мире нет никакой субстанции? Действительно ли он представляет собой лишь структуру – вплоть до самого базового уровня?
Похоже, в этой метафизической картине нет места одному аспекту реальности – нашему сознанию. Подумайте о вкусе мандарина, звуке виолончели, розовом небе на рассвете. Подобные качественные ощущения (философы называют их первичными) обладают внутренней природой, выходящей за пределы их роли в паутине причинности. По крайней мере, так считают философы вроде Томаса Нагеля: «Субъективные особенности процессов сознания, в отличие от их чисто физических причин и следствий, не могут быть охвачены чистой мысленной формой, подходящей для взаимодействия с физическим миром, на котором основаны внешние проявления»135.
Австралийский философ Фрэнк Джексон предложил яркую иллюстрацию этого утверждения. Представим себе, говорит Джексон, ученого по имени Мэри, которая знает все, что можно знать о цвете: нейробиологические процессы восприятия цвета, физику света, состав спектра и так далее. Допустим, что Мэри провела всю жизнь в черно-белом мире и цвета никогда не видела. Несмотря на полное научное представление о цвете, есть кое-что, чего Мэри не знает: она не знает, как выглядят цвета. Она не знает, на что похоже ощущение красного цвета. Отсюда следует, что это ощущение (которое является субъективным и качественным) не описывается объективными, количественными фактами науки. Похоже, что этот субъективный аспект реальности также не может быть смоделирован на компьютере. Рассмотрим теорию под названием «функционализм», утверждающую, что состояния сознания являются по сути вычислительными состояниями. Согласно функционализму, состояние сознания определяется не его внутренней природой, а его местом в компьютерной схеме процесса: как оно причинно связано с воспринимаемой информацией на входе, с другими состояниями сознания и с поведением на выходе. Например, боль определяется как состояние, вызываемое повреждением тканей, что, в свою очередь, приводит к поведению избегания и издаванию определенных звуков (вроде «ой!»). Подобная схема причинно-следственных связей может быть воплощена компьютерной программой, которая, если ее запустить на компьютере, симулирует состояние боли.
Но сможет ли эта программа симулировать то, что нам кажется самым реальным в боли, – ее ужасное ощущение? По мнению философа Джона Серля, сама идея выглядит, «честно говоря, довольно безумной»: «Почему кто-либо в здравом уме предполагает, что компьютерная модель процессов сознания в самом деле обладает процессами сознания?»136 Допустим, говорит Серль, что программа, симулирующая ощущение боли, запущена на компьютере, состоящем из пивных банок, связанных вместе бечевкой и получающих энергию от ветряных мельниц. Неужели мы в самом деле верим, что такая система способна испытывать боль?
Философ Нед Блок придумал другой мысленный эксперимент, основанный на тех же принципах. Представим себе, что получится, если население Китая будет изображать работу мозга. Допустим, каждый китаец моделирует работу одного конкретного нейрона (нейронов в человеческом мозге раз в сто больше, чем всех китайцев вместе взятых, но это неважно). Синаптические контакты между клетками моделируются мобильной связью между китайцами. Сможет ли народ Китая таким способом симулировать программу мозга и получить состояния сознания, превосходящие состояния сознания отдельных индивидов? Сможет ли он, например, ощутить вкус мяты?
Вывод, к которому приходят философы на основе подобных мысленных экспериментов, состоит в том, что сознание не сводится лишь к обработке информации. Если это верно, то наука, в той мере, в какой она описывает мир как обмен информацией, кажется, оставляет за кадром часть реальности – ее субъективную, не поддающуюся разложению на составляющие, качественную часть.
Разумеется, можно просто отрицать, что реальность имеет такую субъективную часть. Некоторые философы так и делают – например, Дэниел Деннет, который отказывается признавать, что сознание содержит какие бы то ни было присущие ему качественные элементы. По его мнению, первичные ощущения – это философский миф. Если нечто нельзя описать чисто количественными параметрами и отношениями, то это просто не является частью реальности. «Постулировать особые внутренние качества, которые не только индивидуальны и ценны сами по себе, но и не могут быть обнаружены и исследованы, это мракобесие», – утверждает Деннет137.
Такие слова оставляют Серля и Нагеля в полном недоумении: подобное отрицание кажется намеренно слепым к самой сути того, что означает быть сознательным. Как сказал Нагель: «Мир не таков, каким он представляется с высоко абстрактной точки зрения»138, то есть с точки зрения науки. Внутренняя природа сознания дает причину думать, что мир не сводится к чистой структуре. Впрочем, помимо проблемы сознания, есть более общие основания подозревать, что космический структурализм неадекватно описывает реальность. Структура сама по себе кажется недостаточной для истинного бытия. Британский философ-идеалист Тимоти Спригг выразил это так: «То, что обладает структурой, должно иметь и нечто большее, чем структура»139.
Возможно, Аристотель был прав, и материя тоже необходима. Материя – это то, что дает существование структуре, что реализует ее. Однако в таком случае каким образом мы можем познать фундаментальную субстанцию реальности? Как мы уже видели, наука показывает лишь структуру материи, но не говорит нам, как описываемые ей количественные различия происходят из различий в качественной субстанции. Таким образом, наши научные познания о реальности, говоря словами Спригга, «очень похожи на знание о музыкальном произведении того, кто родился глухим и чье музыкальное образование полностью основано на изучении нот»140.
Впрочем, с одной частью реальности мы знакомы и без посредства науки – с нашим собственным сознанием. Мы ощущаем присущие состояниям сознания качества напрямую, изнутри. У нас к ним есть то, что философы называют «исключительный доступ». Нет ничего, в чьем существовании мы были бы больше уверены.
Отсюда вытекает интересная возможность: что, если та часть реальности, которую мы знаем опосредствованно, через науку, то есть физическая часть, имеет ту же самую внутреннюю природу, что и часть, знакомая нам непосредственно, через самонаблюдение, то есть сознательная часть? Другими словами, может быть, вся реальность – как субъективная, так и объективная – сделана из одного и того же? Эта гипотеза отличается приятной простотой, но не слишком ли она безумна?
Бертран Рассел безумной ее не считал. Более того, он в общем-то пришел к именно такому заключению в книге «Анализ материи». Великому физику сэру Артуру Эддингтону она тоже не казалась безумной. В книге «Природа физического мира», изданной в 1928 году, Эддингтон громко заявил, что «мир состоит из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя»141. Сумасбродная это идея или нет, она приводит к одному очень странному следствию: если она верна, то сознание должно пропитывать всю физическую природу. Субъективный опыт не может быть привязан лишь к мозгу существ, подобных нам, он должен присутствовать в каждом кусочке материи – в ее огромных частях, таких как галактики и черные дыры, и в крохотных частичках, вроде кварков и нейтрино, а также в средних, вроде цветов и камней.
Представление о том, что сознание присуще всему в мире, называется панпсихизм и восходит к примитивным верованиям вроде анимизма (вера в то, что в деревьях и ручьях живут духи). Тем не менее оно вызывает немалый интерес среди современных философов. Несколько десятилетий назад Томас Нагель показал, что панпсихизм, несмотря на свою очевидную глупость, является неизбежным следствием из некоторых вполне разумных предпосылок. Наш мозг состоит из материальных частиц. Эти частицы в определенных сочетаниях производят субъективные мысли и чувства. Физические свойства сами по себе не могут объяснить субъективность: как может невыразимое ощущение вкуса клубники возникнуть из уравнений физики? Далее, свойства сложной системы, такой, как мозг, не возникают на пустом месте – они должны происходить из свойств элементов этой системы. Стало быть, элементы системы сами должны обладать субъективными чертами, которые в правильных комбинациях складываются в наши внутренние мысли и чувства. Но электроны, протоны и нейтроны, составляющие наш мозг, ничем не отличаются от тех, что составляют остальной мир. Таким образом, вся Вселенная должна состоять из маленьких кусочков сознания.
Австралийский философ Дэвид Чалмерс – еще один современный мыслитель, серьезно относящийся к панпсихизму. В панпсихизме Чалмерса привлекает возможность легкого решения двух метафизических проблем одновременно: проблемы материи и проблемы сознания. Панпсихизм не только предлагает изначальную субстанцию (элементарное вещество, внутренне обладающее природой ума, но внешне воспринимаемое как материя), но и может наполнить плотью чисто структурный мир, описываемый физикой. Он также объясняет, почему серый физический мир наполнен разноцветным сознанием: сознание не «возникло» во Вселенной каким-то таинственным образом, когда определенные частицы материи случайно сложились в нужную конфигурацию, а было присуще ей с самого начала, поскольку сами частицы являются частичками сознания. Таким образом, единая онтология лежит в основании субъективных информационных состояний нашего мозга и объективных информационных состояний физического мира – отсюда и лозунг Чалмерса: «опыт есть информация изнутри; физика – извне»142.
Если это метафизическое предложение кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, должен сказать, что у панпсихизма есть свои проблемы. Прежде всего, это проблема сочетания: сколько маленьких кусочков элементарной материи требуется для формирования большего ума? Например, ваш мозг состоит из множества элементарных частиц. Согласно панпсихизму, каждая из этих элементарных частиц является крохотным центром протосознания, со своими собственными (предположительно очень простыми) состояниями. Что именно заставляет все эти микросознания объединиться в ваше собственное макросознание? Проблема сочетания оказалась непреодолимым препятствием для Уильяма Джемса, который в остальном относился к панпсихизму довольно дружелюбно. «Как могут многие сознания одновременно быть одним сознанием?» – в удивлении спрашивал Джемс143. Он привел пример, иллюстрирующий этот вопрос: «Возьмем предложение из дюжины слов, и возьмем двенадцать человек, и скажем каждому по одному слову. Затем поставим их в ряд или соберем их в одну кучу, и пусть каждый из них изо всех сил думает о своем слове; сознание всего предложения не появится нигде… Отдельные сознания не собираются в высшее сознание»144.
Многие современные противники панпсихизма согласны с возражением Джемса. Какой смысл, говорят они, предполагать, что электроны и протоны обладают внутренним сознанием, если вы понятия не имеете, как их микросознания объединяются в цельное человеческое сознание?
Тем не менее несколько неустрашимых мыслителей заявляют, что у них есть решение – и, как ни странно, дает его квантовая теория. Одно из поразительных ее нововведений – понятие «квантовой запутанности». Когда две отдельные частицы входят в состояние квантовой запутанности, то они теряют свою индивидуальность и ведут себя как единая система. Любое изменение в одной из частиц немедленно «ощущается» другой частицей, даже если они разделены расстоянием во много световых лет. В классической физике этому нет аналогий. Когда случается квантовое запутывание, целое становится больше, чем сумма его частей. Квантовое запутывание настолько отличается от того, к чему мы привыкли в повседневной жизни, что Эйнштейн назвал его «пугающим».
Квантовую теорию нередко применяют в физической онтологии, состоящей из частиц и полей, и нет никаких причин, почему ее нельзя применить к онтологии, состоящей из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя. В самом деле, такая «квантовая психология» могла бы дать ключ к пониманию единства сознания, которое рассматривалось Декартом и Кантом в качестве отличительной черты сознания? Если физические объекты могут терять свою индивидуальность и сливаться в единое целое, то вполне можно себе представить, что протосознательные сущности тоже на это способны и – как выразился Уильям Джемс – «объединяются в высшее сознание». Таким образом, квантовая запутанность как минимум предлагает намек на решение проблемы сочетания.
Сам Роджер Пенроуз обращался к подобным квантовым принципам для объяснения того, как физическая активность мозга создает сознание. В «Тенях разума» он пишет, что «единство отдельного сознания может возникнуть… только если некая форма квантовой когерентности распространяется на достаточно большую часть мозга»145. И с тех пор он пошел еще дальше, признав панпсихическую идею, что атомные составляющие мозга, вместе с остальной физической Вселенной, построены из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя. «Я думаю, что нечто в этом роде действительно необходимо», – провозгласил Пенроуз в публичной лекции, когда был поднят этот вопрос.
Панпсихизм подходит не всем. Джон Серль, например, безо всяких аргументов отрицает его как «абсурд»146. Однако у панпсихизма есть одно несомненное достоинство, а именно онтологическая простота. Он утверждает, что на самом элементарном уровне космос сделан из одного и того же материала, и это монистический взгляд на реальность. А если вы пытаетесь разрешить тайну бытия, то монизм – это очень удобная метафизическая позиция, поскольку вы должны объяснить, как появилась одна единственная субстанция. Дуалистам приходится труднее: надо объяснить, почему существует материя и почему существует сознание.
Итак, в самом ли деле реальность в конечном счете состоит из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя? Является ли реальность не более (или не менее) чем громадной, бесконечно извернутой мыслью или даже сном? В поисках дополнительного авторитетного мнения по поводу столь безумного заключения я обратился к тому, что до сих пор служило мне неоспоримым источником, – к «Словарю сатаны», в котором обнаружил следующее, весьма уместное, определение:
Реальность, сущ. – мечта сумасшедшего философа.
Глава 11 Этическая необходимость существования… Нечто
«Я нашел ответ, который мне нравится, и был этим очень горд. А потом, к своему ужасу и отвращению, обнаружил, что Платон получил тот же самый ответ две с половиной тысячи лет назад!»
Космолог Джон Лесли – тот самый обладатель ответа, который казался совершенно оригинальным, когда впервые пришел ему в голову в подростковом возрасте, – принадлежит к небольшой группе «умозрительных космологов», разбросанной по разным странам и включающей около сотни ученых с философскими наклонностями и философов, подкованных в науке, таких как барон Рис из Лудлоу, нынешний королевский астроном Британии; Андрей Линде, физик из Стэнфорда, создатель хаотической теории инфляции; Джек Смарт, глава австралийской реалистической философии; а также преподобный сэр Джон Полкинхорн, физик-теоретик из Кембриджа, ставший англиканским священником. В этом разбросанном по всему миру разношерстном сообществе Джон Лесли пользуется значительным уважением – как за смелость своих гипотез, так и за изобретательность в их доказательстве. Англичанин по происхождению, Лесли закончил Оксфорд в начале 60-х годов, затем переехал в Канаду, где тридцать лет преподавал философию в университете Гельфа и в конце концов был избран в Лондонское королевское общество. За время своей научной деятельности он написал множество книг и статей, в которых техническая точность сочетается с полетом фантазии. В книге «Вселенные», изданной в 1989 году, Лесли тщательно разбирает следствия гипотезы «тонкой настройки» космоса для существования мультивселенной. В книге «Конец мира», вышедшей в 1996 году, он показывает, как чисто вероятностные рассуждения приводят к сценарию «конца света», в котором человечество будет неизбежно уничтожено. В книге «Защита бессмертия», изданной в 2007 году и основанной на положениях современной физики (в первую очередь на теории относительности Эйнштейна и квантовой запутанности), Лесли утверждает, что, несмотря на биологическую смерть, в некотором вполне реальном смысле каждый из нас будет жить вечно. В качестве дополнительного развлечения Лесли изобрел новую настольную игру под названием «Шахматы-заложники» – гибрид западных шахмат и японской игры сеги. Один из шахматных гроссмейстеров назвал изобретение Лесли «самой интересной и увлекательной разновидностью шахмат, в которую можно играть обычными шахматами»147. Однако Лесли говорит, что хотел бы, чтобы его помнили как автора ответа на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» – даже если первым был Платон. (Разве не говорил Альфред Нот Уайтхед, что вся философия есть лишь примечание к Платону?)
Лесли называет свое решение «крайним аксиархизмом», поскольку оно утверждает, что реальность управляется абстрактными ценностями: в переводе с греческого «аксиа» означает «ценность», а «археин» – «управлять».
– Вы – самый главный авторитет в мире в вопросе о том, почему существует Нечто, а не Ничто, – сказал я ему в начале нашего разговора. Лесли сидел в своем доме на западном побережье Канады, одетый в теплый шерстяной свитер для защиты от осенних холодов, а я парил в ноосфере.
– Сомневаюсь, что в этом вопросе вообще есть авторитеты, – отмахнулся он. – Я специалист по разнообразным догадкам, которые высказывались. Однако у меня есть и мои собственные идеи, которые, как я говорил, восходят к Платону. Платон считал, что есть сфера необходимо существующих возможностей, и я думаю, что в этом он был прав.
– Необходимо существующие возможности?
– Ну, даже если бы в мире не было ничего, то все равно существовали бы различные логические возможности. Например, было бы верно, что яблоки, в отличие от женатых холостяков, логически возможны, хотя на самом деле их нет. Точно так же было бы верно, что если могут существовать два множества двух яблок, то могут существовать и четыре яблока. Даже если бы ничего не было, подобные условные истины, вида «если… то» все равно были бы верны.
– Ладно, – сказал я, – но как вы перейдете от таких возможностей – от так называемых «если… то» истин – к реальному существованию?
Платон рассмотрел эти истины и обнаружил, что некоторые из них больше, чем «если… то». Допустим, у вас есть пустая Вселенная, где нет вообще ничего. Факт, что такая пустая Вселенная была бы лучше, чем Вселенная, полная людей, испытывающих страдания. А это значит, что была бы этическая нужда в продолжающейся пустоте, а не в замещении ее Вселенной с бесконечным страданием. Но может быть и другая этическая нужда, в противоположном направлении, – нужда заместить пустоту хорошей Вселенной, полной счастья и красоты. И Платон считал, что этическое требование существования хорошей Вселенной само по себе достаточно, чтобы создать Вселенную.
Лесли обратил мое внимание на «Государство» Платона, в которой именно форма Добра дарует бытие вещам. По словам Лесли, его собственный ответ на тайну бытия, в сущности, модернизирует утверждение Платона.
– Итак, – сказал я, пытаясь сдержать недоверие, – вы действительно полагаете, что Вселенная каким-то образом возникла из абстрактной потребности в добре?
Лесли остался невозмутим.
– Если вы согласны, что в целом этот мир хороший, то идея, что он был создан из потребности существования хорошего мира, по крайней мере, имеет некоторое основание. Со времен Платона множество людей пришли к этому выводу. Те, кто верит в Бога, таким образом даже получили объяснение существования Самого Бога: Он существует, потому что есть этическая потребность в совершенном Существе. Идея, что добро может быть источником бытия, имеет довольно долгую историю – которая, как я уже говорил, оказалась для меня огорчительной неожиданностью, потому что я бы хотел считать себя перво открывателем.
В мягком, отточенном произношении Лесли мне все время чудилась усмешка, а также нечто, что заставило меня подозревать иронический подтекст в его платоновской истории творения. А если он всерьез утверждает, что Вселенная возникла в ответ на этическую потребность в добре, то как он объяснит, почему она в конце концов не оправдала ожиданий – в этическом и эстетическом смысле? Почему она оказалась безнадежно убогой, а то и вовсе злой?
Именно тогда я узнал, что, с точки зрения Лесли, реальность далеко превосходит то, что о ней знают все остальные.
Для начала, если бытие возникло из потребности в добре, то оно должно быть в основном духовным. Другими словами, бытие должно на самом деле состоять из сознания. По мнению Лесли, причина этого проста: чтобы Нечто было ценным само по себе, в отличие от ценности как средства, ведущего к цели, эта вещь должна обладать единством. Она должна представлять собой нечто большее, чем собрание отдельно существующих частей. Бесспорно, можно создать нечто полезное для чего-то, объединив бесполезные части – например, телевизор. Телевизор ценен тем, что может доставлять удовольствие тому, кто его смотрит. Однако ощущение удовольствия – это состояние сознания, и оно обладает единством, которое выходит за пределы лишь механической организации частей. Именно поэтому такое ощущение может быть ценно само по себе. Джордж Эдвард Мур, тот самый, который вместе с Бертраном Расселом стал основателем современной аналитической философии, первым подчеркнул ключевую роль того, что он назвал «органическим единством» в существовании внутренней ценности. Настоящее органическое единство, в отличие от обычного структурного единства, как в автомобильном двигателе или куче песка, реализуется только в сознании. Как заметил Уильям Джемс: «Каким бы сложным ни был объект, мысль о нем является единым, неделимым состоянием сознания»148. Таким образом, если мир действительно возник из потребности в добре, то на самом фундаментальном уровне он должен состоять из сознания.
Все это я уже почерпнул из ранних книг Лесли, например, из опубликованной в 1979 году «Ценность и существование». К чему я не был готов, так это к тому, насколько расширилась его космическая система за прошедшие годы.
– В моем представлении, – сказал он, – космос состоит из бесконечного числа бесконечных сознаний, каждое из которых знает абсолютно все, что стоит знать. А одна из вещей, которые стоит знать, это структура такой Вселенной, как наша.
Итак, сама физическая Вселенная, с ее сотнями миллиардов галактик, является лишь продуктом размышления одного из тех бесконечных сознаний – вот что говорит мне Лесли. И то же самое верно в отношении обитателей Вселенной, то есть нас, и наших состояний сознания. Так что мой вопрос остается: если бесконечное сознание все это выдумало, то почему существуют зло, страдание, несчастья и просто уродства? Почему мы живем в таком мрачном мире?
– Но наша Вселенная – лишь одна из структур, которые придумало бесконечное сознание, – ответил он. – Оно также знает структуру бесконечного числа других вселенных. И вряд ли наша окажется лучшей из них. Лучше всего, когда есть огромное число вселенных, одновременно существующих как умозрительные схемы в бесконечном сознании. Что касается безупречно прекрасной Вселенной, которую вы бы предпочли, то, может быть, одна из них как раз такая. Тем не менее существует и наша Вселенная тоже. Я подозреваю, что из всего бесконечного множества миров, созерцаемого бесконечным сознанием, мы далеко не первые по добру в целом. И все же я думаю, что вам пришлось бы продвинуться гораздо ближе к концу списка, чтобы найти мир, которому вообще не стоило бы быть.
Тут Лесли явно усмехнулся, но, тут же приняв серьезный вид, предложил мне рассмотреть Луврский музей в качестве аналогии. Как бесконечное сознание содержит множество миров, так Лувр содержит множество произведений искусства. Одно из этих произведений (например, «Мона Лиза») лучшее. Но если бы в Лувре были только безупречные копии «Моны Лизы», то как музей он был бы менее интересен, чем сейчас, когда в нем огромное число не таких хороших работ, добавляющих разнообразия. В целом лучший музей – это музей, в котором, помимо самых лучших шедевров, есть также все менее ценные произведения искусства – если только они вообще имеют эстетическую ценность, то есть не являются явно плохими. Подобным же образом лучшее бесконечное сознание – это сознание, которое созерцает все космические структуры, имеющие положительную ценность, – от самого лучшего из возможных миров до миров неопределенного качества, где добро едва перевешивает зло. Такое разнообразие миров, каждый из которых в целом немножечко лучше, чем полная пустота, является самой ценной реальностью – именно такая реальность способна возникнуть из платоновского требования добра.
Лесли ответил на одно очевидное возражение против его космического устройства – на проблему зла. Наш собственный мир явно не «Мона Лиза»: он запятнан жестокостью, страданием, произволом и мусором. Тем не менее, несмотря на все его этические и эстетические дефекты, в целом он все же придает реальности некоторую ценность – подобно тому, как заурядная картина посредственного художника может придавать некоторую ценность всему собранию Лувра. Поэтому наш мир достоин быть частью большей реальности, то есть достоин созерцания бесконечным сознанием.
Однако остается еще более серьезное возражение против аксиархической теории Лесли. Почему потребность в добре должна породить бесконечное сознание (или вообще что бы то ни было)? Другими словами, почему «должен существовать» подразумевает «в самом деле существует»? В реальном мире ничего подобного не наблюдается. Если несчастный ребенок умирает от голода, то было бы хорошо, если бы вдруг появилась чашка риса, чтобы спасти его от смерти. Тем не менее мы ни разу не видели, чтобы чашка риса появилась перед ребенком из ниоткуда. Почему же целый космос должен вести себя по-другому?
Когда я высказал это возражение, Лесли протяжно вздохнул.
– Люди, подобные мне, те, кто согласен с Платоном, что Вселенная существует, потому что она должна существовать, вовсе не утверждают, что абсолютно все этические требования удовлетворяются. Мы признаем, что не все бывает гладко. Если вам нужен упорядоченный мир, устроенный по законам природы – а это очень интересный и элегантный способ устройства мира, – нельзя материализовывать чашки с рисом из ниоткуда. Более того, сам факт, что у ребенка нет чашки риса, очень даже может быть следствием неправильного использования данной людям свободы, ведь нельзя иметь добро в мире, где действующие лица обладают свободой принимать собственные решения, если не предоставить им также свободу принимать неверные решения.
– Я так понял, что потребности в добре могут противоречить друг другу, причем некоторые из них способны перевешивать. Но почему вообще добро должно воплощаться? Чем оно отличается от, например, красноты? Краснота, совершенно очевидно, неспособна воплощать себя – в противном случае все вокруг было бы красным.
– Ричард Докинз однажды выдвинул то же самое возражение. Он спросил у меня, каким образом такая чепуховая концепция, как добро, способна объяснить существование мира? Точно так же можно взывать к «Шанели номер пять»! Я не считаю, что добро подобно другим качествам, прилагаемым к вещам, вроде аромата или слоя краски. Добро – это необходимое существование, в очень нетривиальном смысле. Только тот, кто сумеет это понять, достиг первой ступени в понимании того, что такое этика.
Представьте себе что-нибудь очень хорошее – например, прекрасный и гармоничный мир, в котором избыток счастья. Если такой мир воплотится, то его существование будет обусловленно этической необходимостью. Именно в этом состоит суть идеи Платона: вещь может существовать, потому что ее существование обусловлено добром. Связь между добром и необходимым существованием не логическая, но тем не менее она необходима – по крайней мере, так считают сторонники Платона вроде Лесли. Мы можем быть не в состоянии осознать, почему это так. Мы обычно думаем, что ценность способна вызвать к жизни Нечто только с помощью некоего механизма – как выразился Лесли, «с помощью некой комбинации, возможно, через движение поршня, притяжение электромагнитных полей или людей, прилагающих усилие воли». Однако подобный механизм никогда не сможет объяснить существование мира. Он неспособен объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто, потому что является частью Нечто, которое нужно объяснить. Учитывая ограниченность нашего понимания, мы удовлетворяемся простым пониманием, что этическая потребность и созидательная сила указывают в одном направлении – в направлении Бытия. Идея Платона о необходимой связи между ними не является неоспоримой логической истиной, однако и к абсурду не приводит – во всяком случае, так утверждает Лесли.
Я предложил ему подумать о материи с другой точки зрения: даже если абстрактная потребность в добре сама по себе не обеспечивает убедительную причину существования космоса, то, по крайней мере, она дает некоторую причину. А в отсутствие противоборствующей силы – то есть причины, противящейся существованию мира, – одного лишь добра вполне может оказаться достаточно для уверенной победы Бытия над Небытием. Ведь с физической точки зрения Вселенной ничего не стоит ее полная энергия, то есть негативная гравитационная энергия, уравновешенная позитивной энергией, запертой в материи, равна нулю.
Лесли понравилось это рассуждение.
– В отсутствие разрушительной силы, сопротивляющейся существованию вещей, любая весомая причина для их существования с большой вероятностью приведет к их воплощению. Можно придумать некоего демона, который против бытия, но тогда возникает вопрос, откуда этот демон взялся? – сказал он.
– А как насчет Хайдеггера? Ведь он же верил в абстрактную разрушительную силу – в Ничто, которое «ничтит»?
– Может быть, он в это верил, а я не верю, – ответил Лесли. – Если вы почитаете Хайдеггера внимательно, то он очень туманен в вопросе бытия. Однако теолог Ханс Кюнг истолковал Хайдеггера в том смысле, что слово «Бог» является лишь обозначением творческого этического принципа, производящего мир. Так что Хайдеггер вполне может быть на стороне Платона и Лесли!
Сам Лесли, несмотря на все теологические разговоры о «божественных сознаниях», не особо симпатизирует традиционной концепции Бога.
– Если я прав, – говорит он, – то существует бес численное множество бесконечных сознаний, каждое из которых знает абсолютно все, что стоит знать. Если угодно, можно каждое из них назвать «Богом» или можно сказать, что Бог – это все бесчисленное множество со знаний. Или даже можно считать, что Бог – это просто абстрактный принцип, на котором они основаны.
Я вспомнил слова православного философа Ричарда Суинберна. Бог не может быть абстрактным принципом, настаивал Суинберн, когда я беседовал с ним в Оксфорде, потому что абстрактный принцип не может страдать. А когда мы страдаем, наш Создатель обязан страдать вместе с нами – так же, как родитель обязан страдать вместе с ребенком. Мир не был бы таким хорошим, если бы не был создан Богом, разделяющим наши страдания, – так считает Суинберн. А абстрактный принцип страдать не может.
Лесли протяжно хмыкнул.
– Похоже на аргумент в пользу существования Верховного мазохиста. Мне трудно согласиться с утверждением, что увеличение страдания делает мир лучше. И это относится к значительной части христианской доктрины: Джонс совершает преступление, а зло искупается путем распятия Смита, и всем становится лучше.
Возможно, Лесли больше склоняется к пантеизму, по примеру Спинозы, у которого Бог не является действующей персоной, подобно традиционному божеству иудаизма и христианства. Спиноза скорее приравнивает Бога к бесконечной, самосоздающейся субстанции, включающей в себя всю природу.
– Многие считают, что Спиноза говорил вовсе не о Боге, и называют его атеистом, – ответил Лесли. – Если угодно, назовите меня атеистом, мне все равно. Слова «деизм», «атеизм» и «Бог» настолько затасканные, что практически потеряли смысл. Какая на самом деле разница? Впрочем, я действительно считаю себя сторонником Спинозы по двум причинам. Во-первых, я думаю, что Спиноза был прав и мы всего лишь крохотные области в бесконечном сознании. И я согласен с ним в том, что материальный мир, мир, описываемый наукой, является структурой божественной мысли. Однако я также считаю, что сам Спиноза в действительности был платонистом. Разумеется, это не совпадает с общепринятой точкой зрения. В «Этике» Спиноза доказывает, что мир существует в силу логической необходимости. Но «Этика» не лучшая книга Спинозы. Его лучшая книга – более ранний «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье», где он довольно отчетливо высказывает мнение, что именно ценность создает все сущее – что мир существует, потому что это хорошо. К тому времени, как он принялся за написание «Этики», он хотел доказать все в стиле геометрии, поэтому дал «логическое» (хотя и не очень убедительное) доказательство существования бесконечной субстанции. Последовательность – это добродетель ограниченного ума, а Спиноза был великим мыслителем, поэтому он постоянно непоследователен.
Придерживался ли Лесли точки зрения Платона или Спинозы, его представления о реальности обладали определенной красотой – красотой онтологического бреда. Несмотря на всю силу его аргументов (а у него всегда находился ответ на мои возражения), можно ли принимать всерьез его аксиархизм («главное – ценность!») в качестве объяснения причины существования всей Вселенной?
Как оказалось, многие мыслители относятся к аксиархизму вполне серьезно. Например, оксфордский философ (и ярый атеист) Джон Мэки в своем рассуждении в защиту существования Бога длиной в целую книгу под названием «Чудо деизма» посвятил аксиархизму Лесли отдельную главу, озаглавленную «Заменители Бога».
«Идея, что всего лишь этическая потребность в чем-либо сама по себе может обусловить появление этой вещи в реальности, без воздействия какого-либо человека или сознания, осознающего эту потребность и действующего для удовлетворения ее, без сомнения, кажется поначалу странной и парадоксальной, – пишет Мэки. – Тем не менее именно в ней великая сила крайнего аксиархизма»149. Теория Лесли, по мнению Мэки, предлагает единственно возможный ответ на вопрос, лежащий в основании любой космологической дискуссии, а именно: «Почему вообще что-то существует?» или «Почему должен быть какой-то мир вместо пустоты?».
Разумеется, замечает Мэки, никакое объяснение в терминах «первопричины» не может ответить на фундаментальный вопрос бытия, поскольку такое объяснение всего лишь ставит вопрос о причине существования самой первопричины – неважно, является ли она Богом, или нестабильным участком ложного вакуума, или чем-то еще более экзотичным, тогда как объяснение существования мира, согласно Лесли, такого изъяна не имеет. Объективная потребность в добре, постулируемая Лесли, является не столько причиной, сколько фактом – необходимым фактом, который не требует дальнейших объяснений. Добро – это не субъект действия и не механизм, создающий Нечто из Ничто, это причина, почему существует мир, а не пустота. Правда, в конце концов Мэки не принимает аксиархизм Лесли на веру, поскольку не убежден, что «ценность чего-либо сама по себе способна вызвать к жизни эту вещь».
Меня аксиархизм тоже не убедил.
– Метафизика – это, конечно, хорошо, – сказал я Лесли, – но какие у вас есть доказательства для подобных невероятно спорных утверждений о существовании мира?
– Я всегда удивляюсь, когда говорят, что для моих утверждений нет никаких оснований, – ответил Лесли с едва скрываемым раздражением. – Я бы сказал, что есть одно весьма существенное основание, а именно само существование мира. Почему оно сбрасывается со счетов? Уже само существование Нечто, а не Ничто, просто требует объяснения. И где конкуренты моей платоновской теории?
В этом он был прав. Пока ни одно из других известных мне предложенных решений – те, что основаны на квантовой космологии, на математической необходимости или Боге, – ни одно из них не выдерживало критики. На данный момент платоновская идея добра выглядит единственным подозреваемым.
Тем не менее в рассуждениях Лесли мне почудилось круговое доказательство. Мир появился благодаря добру. А откуда мы знаем, что добро вызвало к жизни мир? Потому что мир существует! Если аксиархизм представляет собой нечто большее, чем пустую тавтологию, то Лесли придется привести какие-то дополнительные доказательства в его защиту – что-то помимо простого существования мира.
И Лесли это удалось.
– Еще одним доказательством является наличие в мире множества упорядоченных структур, – сказал он. – Почему Вселенная повинуется закону причины и следствия? Почему эти законы такие простые, а не гораздо более сложные? За последнее столетие философы науки высказывали сомнение в том, что причинная упорядоченность Вселенной будет когда-либо объяснена. И она действительно требует объяснения. В конце концов, порядок не является чем-то само собой разумеющимся, его наличие неожиданно, ведь существует гораздо больше способов устроить в мире полный беспорядок, чем аккуратный порядок. Так почему же элементарные частицы исполняют свои математически элегантные пируэты? Для платониста вроде меня подобные закономерности объясняются так же, как и существование Нечто, а не Ничто, – а именно своей этической необходимостью.
– «Причинная упорядоченность» явно обладает больше эстетической ценностью, чем этической, – заметил я.
Я никогда не мог провести границу между ними, – ответил Лесли. – Любая ценность – это то, что должно существовать. Кстати, есть и третье доказательство в защиту моей платоновской теории – это тонкая настройка фундаментальных физических констант для разумной жизни.
Я возразил, что настройка физических констант может быть объяснена наукой, разве нет? Допустим, как считают физики вроде Стивена Вайнберга, наша Вселенная есть лишь часть мультивселенной. Теперь предположим, что физические константы имеют различные значения в различных частях мультивселенной. Тогда, согласно антропному принципу, вполне ожидаемо обнаружить, что в нашей части мультивселенной эти константы благоприятствуют эволюции разумных существ, подобных нам. Если есть мультивселенная, то Платон не нужен!
– На это у меня есть пара возражений, – сказал Лесли. – То, что гипотеза мультивселенной является альтернативой аксиархизму, не означает, что наличие тонкой настройки не может быть доказательством обеих точек зрения одновременно. Я приведу вам в пример небольшую притчу, притчу об исчезнувшем сокровище. Вы находитесь на необитаемом острове и зарыли там сундук с сокровищами. На острове, помимо вас, есть только два человека – Смит и Джонс. Однажды вы пришли туда, где зарыли сокровище, чтобы его выкопать, – а его там нет! Факт исчезновения сокровища увеличивает вероятность того, что оно украдено Джонсом, а также вероятность альтернативной гипотезы, состоящей в том, что вором является Смит. Точно так же открытие тонкой настройки констант увеличивает вероятность того, что гипотеза мультивселенной верна, а также вероятность того, что моя аксиархическая гипотеза тоже верна.
Далее он перешел к более сложному доказательству – насколько я знаю, совершенно оригинальному, – заявив, что гипотеза мультивселенной на самом деле не объясняет загадку тонкой настройки.
– Обратите внимание, – сказал Лесли, – что для развития жизни во Вселенной каждая из космических констант должна быть определенным образом тонко настроена в силу множества различных причин одновременно. Например, сила электромагнитного взаимодействия должна лежать в определенном узком диапазоне, во-первых, для того, чтобы материя могла отделиться от излучения, и вам было бы из чего создавать живые существа; во-вторых, для того, чтобы все кварки не превратились в лептоны, что означало бы полное отсутствие атомов; в-третьих, для того, чтобы протоны не распадались слишком быстро, иначе вскоре атомов не останется, не говоря уже о том, что организмы не выживут в потоке радиации от распада; в-четвертых, протоны не должны отталкивать друг друга слишком сильно, иначе химия будет невозможна, то есть основанные на химии существа вроде нас не смогут воз никнуть.
Лесли перешел к пятой, шестой, седьмой и восьмой причинам, причем каждая последующая отличалась все большей технической сложностью.
– А теперь, – сказал Лесли, закончив нудное перечисление, – ответьте мне на вопрос: каким образом один и тот же поворот космического регулятора силы электромагнитного взаимодействия способен удовлетворить все эти требования сразу? Непохоже, что модель мультивселенной может ответить на этот вопрос, ведь, согласно этой модели, сила электромагнитного взаимодействия меняется случайным образом от Вселенной к Вселенной. Однако даже для того, чтобы единственное значение силы, пригодное для жизни, стало возможным, сами фундаментальные законы физики должны иметь определенную форму. Другими словами, эти законы, которые, кстати, предполагаются одинаковыми во всей мультивселенной, должны обладать встроенным в них потенциалом для разумной жизни. И именно поэтому они должны быть такими законами, которые бесконечному сознанию будет интересно созерцать.
Аксиархизм Лесли был ужасно аккуратно упакован. Что бы вы ни думали о его умопомрачительных предпосылках (платоновская реальность добра, созидательная сила ценности), невозможно не восхищаться цельностью и связностью его мыслительной конструкции. И я, конечно же, восхитился, но не уверовал. Она не совсем отвечала моим глубинным экзистенциальным представлениям. А также не удовлетворяла мою жажду конечного объяснения. Честно говоря, я спрашивал себя: а насколько глубоко сам Лесли вовлечен в свою теорию – в эмоциональном смысле? Чувствует ли он к ней псевдорелигиозную привязанность?
– Ну… гм… – он запинался, едва выдавливая слова. – Меня всегда смущала идея, что я должен быть привязан к своей системе, потому что, ну, было бы очень здорово, если бы она оказалась верной. Это все пустые мечтания, и мне это очень не нравится. Я не испытываю ничего похожего на религиозную веру в свою платоновскую историю создания. Ведь я не доказал, что она истинна. По моему мнению, почти ничего из того, что представляет философский интерес, может быть доказано. Я бы сказал, что моя уверенность немного превышает пятьдесят процентов. Очень часто я чувствую, что Вселенная просто существует – вот и все.
– Беспокоит ли вас возможность, что мир может просто существовать без всякой на то причины?
– Да, – признался Лесли, – по крайней мере, на интеллектуальном уровне меня это беспокоит.
– Тем не менее, – добавил я, – наверняка лестно сознавать, что значительное меньшинство философов согласилось с его точкой зрения?
– Или с другими, столь же безумными, точками зрения, – ответил он.
Является ли аксиархизм Лесли долгожданной разгадкой тайны бытия? Был ли получен ответ на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» в самом начале развития западной философии в виде платоновского понимания Добра? Если так, то почему многие последующие мыслители (Лейбниц, Уильям Джемс, Витгенштейн, Сартр, Стивен Хокинг и многие другие) его не увидели? Были ли все они узниками в платоновской пещере?
Чтобы воспринимать аксиархизм всерьез, нужно верить в три вещи. Во-первых, вы должны верить в объективную ценность добра, в то, что есть факты, позволяющие различить добро и зло, и эти факты вечны и необходимо истинны, независимо от человеческих концепций, и что они останутся истинны даже в отсутствие всего сущего.
Во-вторых, вы должны верить, что этические необходимости, возникающие из подобных фактов о добре, могут быть созидательной силой и способны произвести на свет вещи и поддерживать их существование без помощи какого-либо посредника, силы или механизма.
В-третьих, вы должны верить, что существующий мир (частью которого являемся мы сами, хотя можем видеть лишь его крохотную часть) является такой реальностью, которую создало бы абстрактное добро.
Другими словами, вы должны верить в то, что: 1) ценность объективна, 2) ценность созидательна и 3) мир хороший. Если вы согласны со всеми тремя положениями, то вы получили вашу разгадку тайны бытия.
Первое из этих положений как минимум спорно с философской точки зрения. Самый радикальный из лагеря его противников, чьим родоначальником был Дэвид Юм, утверждает, что объективного добра не существует. Согласно сторонникам Юма, наши суждения о том, что хорошо и что плохо, определяются только нашими чувствами, которые мы проецируем на мир и считаем частью ткани бытия. Подобные моральные суждения не имеют никакого отношения к объективным истинам и к рассуждениям вообще. Как выразился сам Юм: «Предпочесть уничтожение целого мира царапине на моем пальце логике не противоречит».
Тут уж, конечно, неверие в ценности заходит слишком далеко. Тем не менее даже философы, придерживающиеся противоположной точки зрения и упорно защищающие объективность ценности, сомневаются в том, что этические потребности могут быть абсолютно свободны от интересов и нужд разумных существ вроде нас. Как однажды спросил Томас Нагель, стоило бы сохранение коллекции картин Фрика уничтожения всех разумных существ?
Когда дело доходит до ценности, самого Лесли можно назвать «объективным субъективистом»: «субъективистом», потому что он верит, что ценность в конечном итоге существует только в состояниях сознания, а не в чем-то лежащем за пределами сознания; «объективным», поскольку он верит, что счастье объективно лучше, чем страдание, а не просто потому, что нам оно больше нравится.
Почему мир счастливых разумных существ лучше, чем Ничто? Ну, можно сказать, что если бы существовал мир счастливых разумных существ, то его уничтожение было бы злом с точки зрения этики. Однако предположим, что мы начинаем из состояния «ничтовости». Если бы совсем ничего не было, было бы объективно лучше, если бы мир счастливых разумных существ вдруг появился? Может быть, и так. В конце концов, сумма счастья изменилась бы с нуля до какого-то положительного значения, что объективно выглядит как нечто хорошее. Кроме того, кажется объективной истиной утверждение, что возникшие разумные существа получили пользу (хотя было бы странно утверждать, что если бы эти разумные существа никогда не появились, то им бы это нанесло какой-то ущерб).
Однако, переходя ко второму пункту, даже если добро истинно объективно, то каким образом эти истины могут что-то сделать? Как они могут создать мир из полной пустоты? Даже если ценности объективны, они не где-то там далеко, подобно галактикам и черным дырам (в этом случае они были бы бесполезны для объяснения причины существования Нечто, а не Ничто, потому что являлись бы частью того, что требует объяснения). Утверждать, что ценности объективны, означает утверждать, что у нас есть объективные причины делать определенные вещи. А причины требуют субъектов действия для оказания воздействия на реальность. Причины без субъекта бессильны. Те, кто уверен в противоположном, заигрывают с опровергнутым наукой представлением Аристотеля о «конечной причине», или «имманентной телеологией»: весной идет дождь, потому что это хорошо для урожая.
И все же не стоит торопиться с выводами. Имеет ли смысл причина, которая может вызвать к жизни нечто, даже в отсутствие лица, способного действовать под влиянием этой причины? Другими словами, возможна ли причина не «делать», но «быть»? Как вы помните, мы ищем объяснение, почему вообще что-то существует, – то есть причинное объяснение. Есть несколько видов причинных объяснений. Есть событийная причинность, когда одно событие (например, распад определенного скалярного поля) вызывает другое событие (Большой взрыв). Есть причинность, обусловленная действующим лицом, когда это лицо (например, Бог) вызывает какое-то событие (Большой взрыв). Очевидно, что ни одно из этих видов объяснений не способно объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто, ибо каждое из них уже предполагает существование чего-то. Однако есть и третий вид причинного объяснения, а именно фактическая причинность, объясняющая то, что случилось Q, тем, что перед этим случилось P. В большинстве случаев знакомой нам фактической причинности факт Р включает нечто уже существующее, например «Джонс умер, потому что выпил яд». Тем не менее если Q – это факт существования Нечто, а не Ничто, то вызывающий его факт Р необязательно должен ссылаться на нечто уже существующее: на действующее лицо, субстанцию или событие. Вызывающий факт может быть просто абстрактной причиной. И если нет никакого дополнительного факта, который противодействует этой абстрактной причине или уничтожает ее, то такая причина способна стать адекватным причинным объяснением. Похоже, что это единственная надежда избежать доказательства по кругу в разгадке тайны бытия.
Однако, переходя к третьей части аксиархических условий, насколько правдоподобно объяснение, что мир существует, потому что он лучше, чем онтологическая пустота? Вообще-то аксиархисты придерживаются еще более радикальной точки зрения: они верят, что мир не просто лучше, чем пустота, но и что это наилучшая, бесконечно хорошая, самая превосходная реальность, которая только возможна.
С тех пор как Лейбниц выступил с глупо звучащим утверждением, что мы живем в «лучшем из всех возможных миров» (за что над ним безжалостно посмеялся Вольтер), апологеты добра как источника творения пытались объяснить очевидное зло, которым пронизан мир. Возможно, говорят они, зло не обладает истинной реальностью, а является всего лишь отрицанием, локальным отсутствием добра, как слепота есть отсутствие зрения, – это так называемая привативная теория зла. А может быть, зло есть неизбежный побочный продукт добра свободы, которое не может существовать без возможности быть использованным во вред. Или же немножко зла делает реальность лучше как «органичное целое» – точно так же, как диссонанс в струнном квартете Моцарта делает его еще прекраснее или как смерть необходима для эстетической силы трагедии. В конце концов, целиком добрый мир пресен: наличие зла, которое нужно преодолевать через благородную борьбу, придает ему пикантности. А иногда зло само по себе может выглядеть гламурным и романтичным. Чем был бы потерянный рай без мятежной гордости сатаны?
Сам Лесли признает существование зла: «многое в нашей Вселенной далеко не так замечательно» – от головной боли до массовых убийств или уничтожения целых галактик через провал ложного вакуума. Тем не менее Лесли утверждает, что проблему зла можно решить, если считать наш мир крохотной частью гораздо большей реальности, состоящей из бесконечного множества бесконечных сознаний, каждое из которых созерцает все ценное. Пока мир вокруг нас добавляет хоть немного ценности в эту общую бесконечную реальность, его существование одобрено абстрактной потребностью в добре. Мир может не быть идеальным, но, учитывая его причинную упорядоченность, пригодность для жизни и бо́льшую благоприятность для счастливых состояний сознания, чем для несчастных, он достаточно хорош, чтобы заслуживать включения в максимально ценную реальность.
По крайней мере, так утверждает Лесли. «Интересно, – подумал я, – а не проецирует ли он свое собственное счастливое состояние сознания на суровый и безразличный космос?» Лесли показался мне удивительно жизнерадостным человеком, а его скептицизм и ироничность только усиливали интеллектуальное удовольствие, которое он получает от столь тщательно разработанной картины мира. Честно говоря, Лесли показался мне современным Спинозой: его собственные метафизические представления, как он охотно признал, очень похожи на представления Спинозы (хотя и «гораздо богаче» их, с учетом бесконечного множества пантеистических сознаний). Подобно Спинозе, Лесли считает все отдельные вещи рябью на поверхности моря единой божественной реальности. Говорят, Спиноза относился к этой реальности с глубоким интеллектуальным уважением. Согласно Бертрану Расселу, мягкая верность своим принципам сделала Спинозу «самым благородным и самым привлекательным из всех великих философов»150. Человеческое страдание, которого и на его долю выпало немало (собратья евреи подвергли его остракизму за отступничество, а христиане – за опасный атеизм), Спиноза считал незначительным диссонансом в большой космической гармонии. Похоже, Лесли разделяет его взгляды. Кроме того, подобно Спинозе он в некотором роде живет в изгнании – в Канаде.
Очень соблазнительно присоединиться к Спинозе, и Лесли. У космического оптимизма есть свои преимущества, особенно когда он не только помогает нам избежать отчаяния перед лицом зла, но и обещает объяснение тайны бытия. Однако и у противоположной точки зрения есть свои преимущества. В XIX веке Шопенгауэр сказал, что реальность – это в основном театр страдания и небытие лучше бытия. С ним соглашался Байрон: «Скорбь – знание, и тот, кто им богаче, Тот должен был в страданиях постигнуть, Что древо знания – не древо жизни…» После Байрона Камю заявил, что единственной настоящей философской проблемой является суицид, а Эмиль Чоран сочинял бесконечные афоризмы о «проклятии» бытия. Даже Бертран Рассел, несмотря на восхищение характером Спинозы, не мог согласиться с его мнением о том, что отдельные акты зла нейтрализуются поглощением в большее целое. «Каждый акт жестокости, – настаивал Рассел, – вечно остается частью Вселенной».
Сегодня наиболее непримиримым противником космического оптимизма является Вуди Аллен. В интервью, которое он дал в 2010 году (что интересно, интервью брал католический священник), Аллен говорил о «невыносимой мрачности» Вселенной. «Для меня человеческое существование – это жестокий опыт, – сказал он. – Жестокий и бессмысленный, мучительно бессмысленный, опыт с отдельными проблесками восторга, некоторым очарованием и покоем, но их очень мало»151. Аллен утверждает, что в человеческом существовании нет ни справедливости, ни рациональности. Каждый делает все, что в его силах, чтобы облегчить «агонию человеческой жизни». Кто-то искажает ее с помощью религии; кто-то гоняется за деньгами или любовью. Сам Аллен снимает фильмы – и жалуется («От жалоб мне становится немного легче»). Однако в конце концов «каждый бессмысленным образом оказывается в могиле».
Убежденный аксиархист мог бы сказать, что Вуди Аллен смотрит на реальность слишком узким взглядом. На земле и на небесах есть многое, что не вмещается в болезненное воображение невротика с Манхэттена. Тем не менее можно сказать, что, скорее, это Джон Лесли, запертый в своем домике среди скал западного побережья Канады, вдалеке от всех центров цивилизации, смотрит на мир слишком узким взглядом. Лесли считает, что причинная упорядоченность Вселенной и ее тонкая настройка для существования жизни самоочевидны, поскольку так и должно быть. Но перевешивают ли они все огромное количество страдания, которое часто причиняют друг другу разумные существа?
Возможно, Лесли прав в том, что мир действительно обязан своим существованием какому-то абстрактному принципу. Однако маловероятно, что этот принцип, подобно добру, должен быть неразрывно связан с человеческими нуждами и суждениями. Придуманная Лесли «созидательная ценность» слишком похожа на призрак иудеохристианского божества – божества, которое мы придумали по собственному образу и подобию.
Существует ли какая-то другая платоновская возможность – пусть даже более странная и непривычная для нас, – которая способна объяснить существование мира и ответить на вопрос: почему существует Нечто, а не Ничто? Чтобы найти подходящий ответ на тайну бытия, я должен расширить круг поисков. Как оказалось, мне придется привыкнуть к новому и странному понятию «селектор».
Прежде чем попрощаться с Лесли, я хотел поблагодарить его за такое множество познавательных, а также занимательных идей.
– Из всех современных философов, которых я читал, вы наверняка самый остроумный, – сказал я.
– Очень любезно с вашей стороны, – отозвался он, а потом добавил: – Правда, я неуверен, что это комплимент.
Интерлюдия: Гегельянец в Париже
«Чистое бытие образует начало…»
Я читал эти слова, сидя – в который раз – за столиком в «Кафе де Флор». На этот раз я сидел на террасе, выходящей на оживленный бульвар Сен-Жермен, прямо напротив «Брассери Лип», где можно отведать квашеной капусты с колбасой.
Это был один из тех редких дней ранней весной, когда нежно-серое парижское небо сменяется ослепительным солнцем и яркой голубизной. Необычно хорошая погода отвлекала меня от чтения, и я поднял взгляд от книги, надеясь заметить в проходящей мимо толпе знакомое лицо. Не повезло. Тогда я допил заказанный эспрессо (четвертую чашку) и вернулся к книге – к «Науке логики» Гегеля. На первый взгляд, это довольно странный выбор для ленивого послеобеденного времяпрепровождения в модном (и чересчур дорогом) кафе. Однако ничего странного здесь нет, ведь я нахожусь там, где несколько десятилетий назад Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар бывали каждый день. Именно здесь, зимой 1941–1942 годов, во время немецкой оккупации Парижа, Сартр начал писать свой самый знаменитый философский трактат «Бытие и Ничто». Та зима была очень холодной, но владелец кафе, месье Бубаль, ухитрялся раздобыть на черном рынке достаточно угля, чтобы хоть как-то обогревать зал, и достаточно табака, чтобы снабжать своих курящих посетителей. Сартр и де Бовуар обычно приходили рано утром и садились за самый теплый стол, возле печной трубы. Сартр заказывал чашку чая с молоком – это был его единственный заказ на целый день. Затем, все еще закутанный в ярко-оранжевое пальто из искусственного меха, он часами писал и писал, лишь иногда, по воспоминаниям де Бовуар, отвлекаясь от этого занятия только для того, чтобы поднять с пола и запихать себе в трубку брошенный кем-то окурок.
А как начинает Сартр свое эпическое исследование отношений между бытием и Ничто? С описания этого самого кафе как «полноты бытия», за которым следует длинное отступление о диалектике бытия, приведенное Гегелем в его «Логике». Так что неудивительно, что я выбрал именно Гегеля.
Впрочем, у меня была серьезная цель: я пытался увидеть мир в максимально абстрактном виде. Мне казалось, что это лучший из оставшихся способов разобраться, почему мир вообще существует. Все мыслители, с которыми я обсуждал этот вопрос, не сумели достичь полной онтологической абстракции и смотрели на мир с какой-либо ограниченной точки зрения. Ричард Суинберн считает мир воплощением божественной воли; Александр Виленкин видит в нем неуправляемую флуктуацию квантового вакуума; Роджер Пенроуз – выражение математической сущности по Платону; Джон Лесли – обнажение вечной ценности. Каждая из этих точек зрения предлагает ответ на вопрос о причине существования мира, но ни один из этих ответов не показался мне удовлетворительным. Они не достигали самого корня экзистенциальной тайны – того, что Аристотель в «Метафизике» называл «бытие как бытие». Что означает «быть»? Является ли бытие неким качеством, которым обладает все сущее? Является ли оно действием? Очевидно, что для понимания причины существования бытия надо сначала разобраться, что же такое бытие.
И вот, подобно Сартру до меня, я обратился к Гегелю. Насколько я знаю, его доктрина чистого бытия стала самой влиятельной в истории всей философии. И именно в «Логике» он эту доктрину изложил в самой понятной форме.
«Чистое бытие образует начало, – с первой же страницы утверждает Гегель, – потому что оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная простая непосредственность».
«Неплохо для начала», – подумал я. Философские рассуждения никуда не приведут, если не признать, что существует Нечто. Но что мы можем сказать об этом «чистом Бытии»? Как пишет Гегель, в своей чистейшей форме оно «простое и неопределенное», не имеющее определенных качеств вроде числа, размера или цвета. С этим тоже можно согласиться: чистое бытие непохоже на яблоко, мячик для гольфа или дюжину яиц.
Однако вскоре нить рассуждений Гегеля делает интересный поворот: «Это чистое Бытие, являясь чистой абстракцией, следовательно, абсолютно негативно». Другими словами, поскольку чистое бытие никакими свойствами не обладает, оно равно отрицанию всех свойств.
И что из этого следует? Что чистое Бытие «есть Ничто».
Кажется, я слышу барабанную дробь?
Гегель осознает явную абсурдность этого вывода. «Не требуется большого ума, чтобы посмеяться над утверждением, что Бытие и Ничто есть одно и то же», – читаю я.
Тем не менее эти два понятия на самом высшем уровне одинаково пусты. Каждое из них содержит в себе другое – это два диалектических близнеца. И все же, несмотря на такое родство, Бытие и Ничто остаются взаимопротиворечащими понятиями и противостоят друг другу. Таким образом, отмечает Гегель, их следует примирить. Они должны быть сведены в единство, которое превосходит обе эти вечные категории, не уничтожая их индивидуальность.
И что же может восстановить единство? Становление!
С этого и начинается великая диалектика Гегеля. Тезис: реальность есть чистое Бытие. Антитезис: реальность есть Ничто. Синтез: реальность есть становление. Чистое становление будет казаться таким же пустым, как чистое Бытие или как чистое Ничто. Тем не менее, говорит Гегель, в нем есть потенциал, оно является неустойчивым волнением, которое переходит в устойчивый результат. (Тут я вспомнил про ложный вакуум, из которого, согласно принятой ныне космологической теории, произошел Большой взрыв – тоже в своем роде чистое становление.)
В результате некоторых дополнительных усилий со стороны Гегеля становление производит всяческие более сложные определения: количество, качество, мера, природа и история, искусство, религия и философия, – а весь диалектический процесс завершается тем, что он считал совершенством Пруссии, – или тем, что я считаю совершенством района Сен-Жермен в прекрасный весенний день.
«Так вот как это все появилось здесь!» – подумал я, поднимая взгляд от книги.
Моя игривость вполне простительна: Гегель обладал даром веселить своих читателей. Разве не выразился Бертран Рассел о «Логике» Гегеля следующими словами: «Чем хуже ваша логика, к тем более интересным выводам она приводит»152? Разве не насмехался Шопенгауэр над Гегелем, приписывая ему авторство «онтологического доказательства всего на свете»153?
То, как Гегель приравнивает мысль к реальности, делает его рассуждения абсурдными. С его точки зрения, мир в конечном итоге является игрой понятий. Это ум, познающий себя. Но чем объяснить существование самого этого ума? В каком психическом месте должна происходить диалектическая оргия Гегеля?
Пролистав «Логику» до конца, я начал понимать ответ. Этот ум порождает самого себя путем формирования сознания. Подобно богу Аристотеля, это мысль, думающая сама себя, – только Гегель называет ее не богом, а «абсолютной идеей».
Я нашел у Гегеля определение абсолютной идеи: «идея, как единство субъективной и объективной идеи, есть понятие идеи, предметом которого является идея как таковая и для которого она есть объект, охватывающий все определения в их единстве».
Рассел назвал это определение «весьма туманным»154. Я думаю, что это он еще мягко выразился. Риторический туман Гегеля не помешал французским философам вроде Сартра и Мерло-Понти, наслаждавшимся видимой глубиной, которую оно придавало его диалектике, и пытавшимся воспроизводить его в своих работах. Они считали Гегеля образцом того, как, по выражению Сартра, интеллектуал мог «овладеть миром», размышляя в уединении.
Сегодня французские философы все еще впитывают Гегеля с молоком матери – или, в крайнем случае, подростками во время учебы в лицее. И вот я, американец, воспитанный на более сухом виде логики, оказался в полной интеллектуальной прострации после всего пары часов, потраченных на попытки овладеть его диалектикой. «Может быть, – подумал я, – пора снова покинуть интеллектуально насыщенную атмосферу Парижа ради более чистого метафизического воздуха Британских островов».
А может быть, это всего лишь результат злоупотребления кофеином. Чтобы прийти в себя, я решил заказать стаканчик моего любимого шотландского виски. Через несколько минут мне удалось привлечь внимание официанта.
– Большой стакан «Гленфиддиха», пожалуйста, – сказал я. – Без льда.
– «Глен-фи-диш», – без улыбки ответил официант в уверенности, что поправляет мое произношение.
И в самом деле, пора покинуть Париж.
Глава 12 Последнее слово от Всех душ
Нет более великого вопроса, чем вопрос о причине существования Вселенной: почему существует Нечто, а не Ничто?
Дерек ПарфитЯ всегда знал, что поиски ответа на тайну бытия приведут меня обратно в Оксфорд. И вот я стою на пороге его самого возвышенного редута, Колледжа Всех душ, праведно в Оксфорде усопших, или Колледжа Всех святых, чувствуя себя, как Дороти на пороге Изумрудного города. Внутри сидит волшебник, который вполне может иметь окончательный ответ на вопрос: почему существует Нечто, а не Ничто? Я надеялся, что он соизволит поделиться этим ответом со мной, – в некотором роде так и произошло. Я только не рассчитывал получить еще и бесплатный обед впридачу.
По дороге из Парижа обратно в Оксфорд я остановился на пару дней в Лондоне, но не для развлечений, а для серьезной учебы. Я забронировал себе комнату в клубе «Атенеум» на Пэлл-Мэлл. Когда я приехал в субботу, клуб был закрыт, но на мой звонок вышел портье и впустил меня. Через сумрачный вестибюль портье провел меня мимо роскошной лестницы, над которой висели большие часы. Посмотрев на них, чтобы узнать время, я заметил, что на циферблате было две цифры 7 и ни одной 8, и выразил свое удивление вслух. «Никто толком не знает, почему так, сэр», – отозвался портье и, кажется, подмигнул.
Загадка.
В дальнем конце вестибюля был старый крохотный лифт, на котором мы поднялись на последний этаж клуба. Портье проводил меня через лабиринт узких коридоров в отведенную мне спальню. Комната оказалась довольно маленькой, два небольших окна выходили на статую Афины Паллады над портиком клуба со стороны площади Ватерлоо. К счастью, имелась еще и просторная ванная комната с большой старомодной ванной в центре.
Клуб «Атенеум» обладает внушительной библиотекой, но я привез свой собственный материал для чтения, состоявший из романа Троллопа (в котором несколько эпизодов происходят как раз на фоне дорических колонн того самого портика), а также из эссе, вырезанного из старого выпуска «Лондонского книжного обозрения», автором которого был Дерек Парфит. Эссе называлось «Почему Нечто? Почему это?»155.
Мое знакомство с Парфитом как с редкой оригинальности мыслителем началось еще во времена, когда я был студентом. Однажды во время летних каникул, путешествуя по Европе, я случайно захватил с собой небольшую антологию по философии сознания. Последняя статья в этой антологии под названием «Идентичность личности» принадлежала Парфиту, и я никогда не забуду, насколько она изменила мое привычное ощущение собственного «я», когда я наконец прочитал ее во время долгого путешествия на поезде из Зальцбурга в Венецию. (А также я никогда не забуду, как чудовищные количества хлеба, сыра и колбасы, поглощенные во время этой поездки, укрепили мое ощущение телесности.) С помощью ряда блестящих мысленных экспериментов Парфит приходит к выводу, который поразил бы даже Пруста: важна вовсе не идентичность личности. Постоянная идентичность «я» на самом деле есть не факт, а фикция. Нельзя с определенностью ответить на вопрос, является ли зеленый юнец по имени Джим Холт, прочитавший эссе Парфита в студенческие годы, тем же самым Джимом Холтом, который сейчас пишет эти строки. Вот так я впервые услышал о Парфите. Несколько лет спустя, в 1984 году (когда я уже изучал философию в Колумбийском университете), он опубликовал книгу под названием «Причины и персоны», в которой тщательно расписал следствия своей теории личной идентичности для морали и здравого смысла, для наших обязательств перед будущими поколениями и для нашего отношения к смерти. Многие из выводов Парфита (о том, что мы не те, кем себя считаем; что часто более рационально действовать против наших личных интересов; что наша стандартная мораль логически противоречит самой себе) вызывали как минимум беспокойство.
«Истина сильно отличается от того, во что мы склонны верить», – хладнокровно заявлял автор156. Однако аргументы Парфита отличались такой силой и ясностью, что книга вызвала оживленную полемику в англоязычных философских кругах.
Теперь Парфит обратился к вопросу, который занимал меня больше всего и который он сам считал самым важным из всех: почему существует Нечто, а не Ничто? Ему удалось изложить свои мысли по этому поводу в скромном эссе – и я знал, что мне лучше как следует его изучить, прежде чем встречаться с автором.
А автор согласился на встречу.
«Я все еще очень интересуюсь вопросом: почему существует Нечто, а не Ничто?», – ответил Парфит, когда я написал ему несколько месяцев назад. Что касается моей просьбы об интервью, то он заверил меня, что с удовольствием со мной побеседует, однако добавил, что поскольку ему требуется много времени для формулировки своих мыслей, то предпочел бы, чтобы я не использовал его слова в качестве цитат. Вместо этого он попытается ответить на любые вопросы о его произведениях просто «да» или «нет» или чем-то столь же кратким.
В те выходные я провел много времени, нежась в ванне под самой крышей «Атенеума», читая книгу, потягивая кларет, любезно принесенный портье из винного погреба клуба, и размышляя. Уинстону Черчиллю это понравилось бы.
Есть два широких вопроса о мире, которые мы можем задать: почему он есть и каков он есть. Большинство мыслителей, с которыми я общался до этого, верили, что сначала должен идти вопрос «почему?». По их мнению, когда вы знаете, почему существует мир, вы уже многое знаете о том, как он устроен. Допустим, по примеру Джона Лесли (или как Платон и Лейбниц до него), что мир существует, потому что должен существовать. Тогда вполне ожидаемо, что мир должен быть очень хорошим. А если часть мира, доступная вашему наблюдению, не особо хороша, то вы должны прийти к выводу (как это сделал Лесли), что это всего лишь крохотный кусочек огромной реальности, которая в целом является очень хорошей – даже бесконечно хорошей.
Таким образом, один из способов рассуждения о мире идет от «почему?» к «как?». Другой, менее очевидный, путь лежит в противоположном направлении. Допустим, вы оглянулись вокруг и заметили какое-то особое свойство, выделяющее этот мир из всех возможных реальностей. Возможно, вы считаете, что эта особенность строения мира способна дать ключ к причине его существования.
Я обнаружил, что путь от «как?» к «почему?» составляет суть подхода Парфита, и это, противоположное традиционному, направление заставило меня увидеть тайну бытия в совершенно новом свете.
Парфит начинает с того, что предлагает рассмотреть все возможные варианты устройства реальности. Одним из вариантов, разумеется, является наш собственный мир – Вселенная, которая появилась 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва. Однако реальность может включать в себя и другие миры, существующие параллельно нашему, даже если мы не имеем к ним прямого доступа. Эти миры могут отличаться от нашего в каких-то важных чертах: в своей истории, в управляющих ими законах (или в их отсутствии), в природе вещества, их составляющего. Каждый из этих отдельных миров Парфит называет «локальной» возможностью, а все множество отдельных миров, которые могут сосуществовать, складывается в «космическую» возможность.
«Космические возможности, – утверждает Парфит, – покрывают все, что вообще существует, и являются различными способами существования реальности в целом. Только одна из этих возможностей действительна, то есть реально существует. Локальные возможности являются различными вариантами того, какой может быть какая-то часть реальности или локальный мир. Если некоторые локальные миры существуют, то это ничего не говорит о существовании других миров».
Так какие же виды космических возможностей у нас есть? Один из вариантов признает существование любого мира, какой только можно себе представить. Парфит называет эту самую полную из всех реальностей возможностью «всех миров». На другом конце стоит космическая возможность полного отсутствия всех миров, которую Парфит называет «нулевой» возможностью. Между «всеми мирами» и «нулевым миром» раскинулся бесконечный диапазон промежуточных космических возможностей, одной из которых является возможность существования только хороших миров – то есть все миры в целом этически лучше, чем Ничто. Это составляет «аксиархическую» возможность Джона Лесли. Другой вариант – это существование нашего мира и еще 57 других миров, сходных с ним, но слегка от него отличающихся; его можно назвать возможностью «58 миров». Еще один вариант – это существование только таких миров, которые подчиняются определенному набору физических законов, например законов теории струн. В соответствии с современной теорией струн, таких миров примерно 10 в пятисотой степени, и они составляют то, что физики называют «ландшафтом». Еще одна космическая возможность – это существование только тех миров, в которых нет сознания; ее можно назвать «вариант зомби». Другой вариант – существование ровно семи миров, каждый из которых имеет определенный цвет: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый соответственно; ее можно назвать «спектральным вариантом».
Полный набор подобных космических вариантов представляет собой все возможные реальности, какие только могут быть, включая даже чистую ничтовость в виде «нулевой» возможности. С другой стороны, логически невозможные варианты не считаются: ни один космический вариант не включает квадратные круги или женатых холостяков. И из всех возможных вариантов осуществиться должен только один.
Из чего возникают два вопроса: какой именно вариант воплотился и почему?
«Эти вопросы взаимосвязаны, – утверждает Парфит. – Если какую-то возможность проще объяснить, то у нас больше оснований считать, что она воплощается».
Из всех возможных космических вариантов наименее загадочной кажется «нулевая» – в ней вообще ничего нет. Как указывал Лейбниц, это самая простая из возможных реальностей. И к тому же единственная, не требующая причинного объяснения. Если нет вообще никаких миров, то не возникает вопроса, какая сила или сущность вызвала эти миры к жизни.
Однако «нулевая» возможность, очевидно, не та форма, которую выбрала реальность.
«Тем или иным способом Вселенная сумела возникнуть», – замечает Парфит.
А какая космическая возможность наименее загадочна и одновременно не противоречит факту существования Вселенной? Это возможность «всех миров»: существуют все возможные вселенные.
«Любая другая космическая возможность вызывает дальнейшие вопросы, – пишет Парфит. – Если наш мир единственный, то мы можем спросить: почему из всех возможных миров существует именно этот? В любом варианте гипотезы многих миров мы сталкиваемся с подобным же вопросом: почему существуют только эти миры, с этими элементами и законами? Однако если существуют все миры, то такого вопроса не возникает».
Таким образом, возможность «всех миров» является наименее произвольной из всех космических возможностей, поскольку ни одна локальная возможность не исключается. И, насколько нам известно, такая наиболее полная из всех возможностей вполне может быть той формой, которую на самом деле принимает реальность.
А как насчет прочих космических возможностей? Если бы общее количество добра в нашем мире было больше нуля, то он мог бы быть частью аксиархического ансамбля миров, чье существование было бы этически наилучшим. Или если бы законы, управляющие нашим миром (в форме окончательной теории, о которой мечтает Стивен Вайнберг), оказались исключительно элегантными, то наш мир мог бы быть частью самой красивой космической возможности. Или, если правы Шопенгауэр и Вуди Аллен, то наш мир вполне может быть частью наихудшей космической возможности.
Суть в том, что каждая из этих космических возможностей обладает какой-то особенностью: самая простая – «нулевая» возможность, самая полная – «все миры», самая лучшая – аксиархическая и так далее. Теперь предположим, что реально воплотившаяся возможность тоже обладает какой-то характерной чертой. Возможно, это неслучайно. Может быть, эта возможность воплотилась, потому что она обладает этой чертой. В таком случае эта характерная черта фактически выбирает, какой вид принимает реальность. Именно это Парфит называет «селектором».
Не каждая особенность реальности может стать эффективным селектором. Например, допустим, что воплотилась упомянутая выше возможность 58 миров. Число 58 обладает особым свойством: это наименьшее число, являющееся суммой семи разных простых чисел (2+3+5+7+11+13+17=58). Однако никому не придет в голову, что такое свойство способно объяснить, почему реальность оказалась именно такой. Гораздо разумнее предположить, что число миров просто случайно оказалось равно 58. Другое дело – такие качества, как самый лучший, самый полный, самый простой, самый красивый или наименее произвольный: трудно себе представить, что они оказались случайными. Более вероятно, что космическая возможность стала реальностью, потому что обладала таким свойством.
И все же разве подобное объяснение причины не таит в себе некоторую загадку? Парфит признает, что так и есть. Тем не менее, указывает он, даже обычная причинность загадочна. Кроме того, по его словам, «если есть некое объяснение реальности в целом, то мы не должны ожидать, что это объяснение точно попадет в какую-то знакомую категорию. Такой экстраординарный вопрос может иметь экстраординарный ответ».
Я осознал, что Парфиту удалось переформулировать тайну бытия, сделав ее гораздо менее загадочной. Пока все остальные пытались перебросить мост через непреодолимую пропасть между бытием и «ничтовостью», он играл в онтологическую лотерею. Или это больше похоже на конкурс красоты «Мисс Космос»? В число участниц входят все различные варианты реальности – все космические возможности. А поскольку реальность должна принять некую определенную форму, то одна из этих космических возможностей должна выиграть в силу логической необходимости. Никакой другой альтернативы нет, а потому нет и надобности в любом «скрытом механизме», обеспечивающем выбор. Таким образом, селектор, воздействуя на результат, не прилагает никакой реальной силы и не совершает никакой работы.
Но что, если нет никакого селектора?
После выходных, проведенных в одиночестве за чтением, размышлениями, принятием ванны и дремотой, было приятно спуститься в просторный обеденный зал клуба «Атенеум» утром в понедельник и увидеть там пару десятков молодых обитателей лондонского Сити в сшитых на заказ костюмах и дорогих рубашках. Это напомнило мне, что, помимо всякой метафизической ерунды, в мире есть и другие (хотя и необязательно более важные) вещи. Я взял «Дейли телеграф», выбрал пустой столик и заказал большой и калорийный английский завтрак из яиц, копченой рыбы и тушеных помидоров. Вкуснятина! Через пару часов, чувствуя себя более сытым, чем обычно в это время дня, я садился на поезд, идущий в Оксфорд с вокзала Паддингтон.
По дороге в Оксфорд я продолжал размышлять над вопросом о природе возможного селектора для нашего мира. Очевидно, что это не простота, в противном случае результатом соревнования миров наверняка была бы «нулевая» возможность. А какими бы ни были западные пригороды и торговые районы Лондона, через которые проезжал в данный момент мой поезд – при всей их тусклости, обшарпанности и унылости, – они все-таки не Ничто.
Что касается платоновского Добра в роли селектора, как считает Джон Лесли, я уже давно оставил позади эту слишком жизнерадостную идею – кстати, Парфит с этим согласен.
«Сомнительно, что наш мир может быть даже наименее доброй частью в самой лучшей из возможных Вселенных», – пренебрежительно отозвался он.
Однако если этот мир не отличается максимальной этичностью, то он все же кажется особенным в другом: в нем есть упорядоченные причинные связи. Более того, законы, им управляющие, на самом фундаментальном уровне представляются весьма простыми – настолько простыми, что, если прав Стивен Вайнберг, ученые сегодня на пороге их открытия. Эти две черты – причинная упорядоченность и номологическая простота – явно выделяют реальный мир из огромной кучи запутанных и беспорядочных космических возможностей.
Подобные рассуждения привели Парфита к предварительному выводу о том, что могут быть по крайней мере два «частичных селектора» для реальности: управляемость законами и наличие простых законов. Возможны ли какие-то другие селекторы, которых мы пока не заметили? Вполне. «Однако наблюдение может нам помочь преодолеть только часть пути, – считает Парфит. – Чтобы продвинуться дальше, нам нужна чистая логика».
Такая логика нацелена на самый высокий принцип, управляющий миром, – тот самый принцип, который пытаются обнаружить физики. Таким образом, как говорит Парфит, «между философией и наукой нет четкой границы».
Ну вот, поезд уже въезжает в Оксфорд, ровно в полдень.
От станции до центра города можно легко дойти пешком – маршрут мне уже знаком.
«Приходите в Колледж Всех душ на Хай-стрит в час дня и попросите швейцара позвонить мне из сторожки возле ворот», – написал Парфит.
Раз уж у меня было время, я зашел в «Блэквеллс» на Броуд-стрит, лучший книжный магазин для студентов и ученых во всем англоязычном мире. Спустившись по лестнице в огромный отдел философии, я полистал выложенные тома и обнаружил отличную книгу с фотопортретами величайших из ныне живущих философов, фотографии для которой сделал Стив Пайк. В ней был и портрет Парфита. Внешность у него, конечно, поразительная: удлиненное лицо с тонкими губами, рубленым носом и большими задумчивыми глазами обрамляет буйная копна седых волос, которые доходят почти до подбородка. Под каждой фотографией приводилось личное высказывание самого философа, и под фотографией Парфита я прочитал: «Больше всего меня интересуют метафизические вопросы, ответы на которые могут повлиять на наши эмоции, а также обладают рациональным и моральным значением. Почему существует Вселенная? Что делает нас тем же самым человеком на протяжении всей нашей жизни? Есть ли у нас свобода воли? Является ли течение времени иллюзией?»157
Четверть часа спустя я смотрел сквозь внушительные ворота Колледжа Всех душ. «Колледж закрыт» – сообщала одна из табличек. «Пожалуйста, соблюдайте тишину» – призывала другая. За воротами виднелся двор с двумя аккуратно подстриженными газонами. Я представился сурового вида швейцару и стал ждать, пока он созвонится с Парфитом.
О Колледже Всех душ ходит немало историй. «Все души, ни одного тела» – гласит одна из шуток. Кристофер Хитченс, иногда бывавший в Колледже Всех душ во время учебы в Оксфорде в 60-е годы прошлого века, описал его как «вычурное античное заведение, не принимавшее студентов, охранявшее высокие привилегии своих „членов“, логово беззакония для любого сторонника равноправия и место, где серебряные канделябры и кубки украшают ежевечернюю оргию из оленины и портвейна»158. Члены Колледжа Всех душ, в количестве семидесяти шести человек, выбираются из наиболее почитаемых представителей академической и общественной жизни Британии. Не обремененные преподавательскими обязанностями, окруженные роскошью, они могут целиком посвятить себя чистой науке и размышлениям – вероятно, скрашивая свои дни интригами и сплетнями. Парфит оказался здесь в 1967 году, в самом начале своей карьеры, что несколько необычно – сразу после окончания Бейлиол-колледжа.
И вот он идет ко мне быстрым шагом, наискосок через газон – долговязый, улыбающийся, с непокорной шевелюрой седых волос – в точности такой, каким я только что видел его на фотографии. Ярко-красный галстук отлично подходил к его румяному лицу. Мы пожали друг другу руки в знак приветствия, и я пригласил его пообедать в одном из лучших ресторанов на Хай-стрит.
– Нет, – ответил он. – Это я угощу вас обедом.
Он провел меня в здание колледжа.
– Отсюда открывается лучший вид во всем Оксфорде, – сказал он, указывая на большое окно, выходившее на Рэдклифф-камеру, старинную оксфордскую библиотеку. – Купол проектировал Хоксмур!
Я вспомнил, что Парфит увлекается фотографированием архитектуры.
Обед членам Колледжа Всех душ подавали в «буфете» – готической столовой с высокими кессонными потолками и отличной акустикой. По совету Парфита я взял в буфете тарелку салата с авокадо и хлеб. Мы сели за стол и разговорились.
Парфит рассказывал о себе. В раннем детстве он был очень набожным ребенком, но лет в восемь или девять от религии отказался. Вспоминал, что, глядя на картины, изображающие Распятие, больше всего жалел плохого вора: «потому что, в отличие от Иисуса и хорошего вора, он после страданий и смерти на кресте окажется в аду». Потом Парфит заговорил о математике, в которой, как он признался, ничего не понимал. Удивительно, что математика может быть такой сложной! Один из математиков сказал ему, что процентов на восемьдесят вся математика имеет дело с бесконечностью. Причем – какой ужас! – бесконечностей может быть больше одной!
Хотя отец хотел сделать из него ученого, Парфит решил, что станет философом. Он ненавидит применение научных принципов в философии, чем, по его мнению, в первую очередь грешат Куайн и Витгенштейн. Он также ненавидит «натурализацию» эпистемологии – идею, что задача обоснования наших знаний должна быть отобрана у философов и отдана ученым-когнитивистам.
Затем разговор зашел о моральной философии, которая, как сказал Парфит, в данный момент занимает его больше всего. В отличие от многих современных моральных философов, он верит, что у нас есть объективные причины быть моральными – причины, не зависящие от наших наклонностей, – и добавляет, что «чувствовал бы себя неловко, если бы пришлось защищать это утверждение перед аудиторией вне университета». Уму непостижимо, какие сумасшедшие взгляды высказывают некоторые современные философы: например, утверждение, что только желания могут дать начало причинам. Парфит морщился, словно от боли, говоря об этих отвратительных взглядах, и часто взмахивал руками в раздражении. Столь же эмоционально он высказывал и свои собственные взгляды: наклоняясь ко мне, улыбаясь и энергично кивая.
После обеда мы удалились в соседнюю залу, чтобы выпить кофе перед камином и поговорить о том, почему существует Нечто, а не Ничто.
Как я уже упоминал, Парфит отказался давать развернутые ответы на эту тему, но согласился отвечать на мои вопросы кратким «да» или «нет». У меня было два основных вопроса: один простой и один сложный.
Простой вопрос был о «ничтовости». Парфит, очевидно, считает, что «ничтовость» является логически непротиворечивой идеей: по его мнению, это один из возможных способов воплощения реальности. «Вполне может быть, – писал он, – что ничего никогда не существовало: ни сознания, ни атомов, ни пространства, ни времени». Таким образом, «ничтовость» входила в его набор космических возможностей в виде «нулевого» варианта.
Однако может ли она быть и локальной возможностью тоже? То есть способна ли пустота сосуществовать с миром бытия? Философ Роберт Нозик, например, думал, что способна. Если реальность максимально полна и включает в себя все возможные миры, то один из этих миров вполне может состоять из Ничто. По крайней мере, Нозик в это верит. Поэтому, с его точки зрения, вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» может иметь простой ответ: «Существует и то и другое».
Рассуждения Нозика убедили некоторых ученых, включая бывшего гарвардского студента, а ныне специалиста по теории струн Брайана Грина: «В самой полной мультивселенной Вселенная, состоящая из ничего, действительно существует»159. То есть реальность содержит как Нечто, так и Ничто. С этим соглашается Жан-Поль Сартр, утверждая, с несколько иной точки зрения, что «„ничтовость“ неотступно преследует бытие».
Однако идея, что реальность содержит как Нечто, так и Ничто, производит на меня впечатление неверной, о чем я и сказал Парфиту. Какой может быть смысл в разговорах о соседстве «нулевого мира» с ансамблем «миров Нечто»? Это не то же самое, что добавить безжизненную планету или область пустого пространства. Потому что безжизненная планета – это Нечто. И почти все согласятся, что область пустого пространства – это тоже Нечто. У пространства есть свойства: например, оно может быть конечной или бесконечной протяженности. «Ничтовость» совсем иная.
Я хотел выразить свою мысль в виде уравнения:
Нечто + Ничто = Нечто.
Но и в таком виде она выглядела слишком неубедительно. Добавить «Ничто» к космической возможности – это бессмысленное действие, которое ничего не делает вообще.
Парфит согласился: по его мнению, Нозик и его последователи ошибаются. Ничто не является локальной возможностью, не может быть одним из многих миров. Единственная реальность, в которой может быть Ничто, это реальность, вообще не имеющая миров: «нулевая» возможность. Можно иметь два различных Нечто, но нельзя иметь и Нечто, и Ничто: тут исключительно или одно, или другое.
Мой второй вопрос к Парфиту был глубже. Допустим, что он прав и то, что он называет «селектором», способно объяснить, почему реальность выглядит именно так, как она выглядит. Будет ли вопрос на этом исчерпан? Остановится ли космическое объяснение на уровне селектора? Или может быть и более глубокое объяснение того, почему из всех возможных селекторов одержал верх именно этот?
Вспомним аналогию с конкурсом красоты «Мисс Космос». Участницы – все космические возможности, все способы, какими могла бы воплотиться реальность. Одну из участниц назвали победительницей. Допустим, ею оказалась этически лучшая из космических возможностей – мисс Бесконечное Добро. Тогда мы можем предположить, что в качестве селектора судьи использовали Добро. Но разве нельзя пойти дальше и спросить, почему судьи использовали в качестве селектора именно добро, а не, например, простоту, элегантность или полноту? С другой стороны, представьте, что победительница космического конкурса красоты не обладает никакими особенными чертами, то есть победила мисс Посредственность. Тогда можно предположить, что судьи вообще никаким селектором не пользовались: им безразлично, какими особыми качествами могут обладать конкурсантки, судьи просто вытягивали соломинки. Но разве нельзя спросить, почему судьи не использовали селектор для выбора победительницы?
Парфит признал необходимость дальнейших объяснений.
«Реальность могла просто получиться такой, какая она есть, или же мог действовать некий селектор, – писал он. – В любом из этих двух случаев это могло получиться просто так или в результате действия какого-то селектора более высокого уровня. Вот такие у нас есть варианты объяснений на следующем уровне, поэтому мы возвращаемся к двум вопросам: что именно воплотилось и почему?»
Таким образом, прежде всего вам нужен селектор, чтобы объяснить, почему реальность именно такая. Затем вам нужен метаселектор на следующем уровне объяснений, чтобы понять, почему на предыдущем уровне был выбран именно такой селектор, воплотивший мир как он есть. А потом вам понадобится метаметаселектор на еще более высоком уровне объяснений для понимания причины выбора метаселектора. И так далее. Есть ли конец у этого замкнутого круга объяснений? И если да, то как его достичь? С помощью некоего наивысшего селектора? Тогда не будет ли это фундаментальным голым фактом?
Когда я задал этот вопрос Парфиту, он признал, что поиски объяснений реальности, скорее всего, в конце концов приведут к подобному голому факту. Как этого избежать? Можно попытаться заявить, что селектор сам себя выбирает. Например, если добро окажется наивысшим селектором, то можно утверждать, что это потому, что оно лучшее. То есть добро выбрало себя в качестве правителя реальности. Однако Парфит с этим не согласен:
«Точно так же, как Бог не способен создать самого себя, так и селектор не может себя выбрать управляющим принципом на высшем уровне. Ни один селектор не может решить, будет ли он управлять, потому что он ничего не способен решить, пока он не управляет».
Тем не менее Парфит настаивал, что объяснение, упирающееся в голый факт, лучше, чем вообще никакого объяснения: ведь научные объяснения неизбежно принимают именно такую форму. Подобное объяснение по-прежнему может помочь нам выяснить, что на самом деле представляет собой реальность в самом широком масштабе, – например, оно может дать нам основания считать, что реальность содержит какие-то другие миры, помимо нашего собственного.
Пока Парфит потягивал кофе, я достал сделанную на выходных небольшую диаграмму, показывающую, как различные селекторы могут быть связаны друг с другом и с реальностью. В нижней части листа я нарисовал уровень реальности и указал некоторые из космических возможностей, о которых говорил Парфит. Над ними, на более высоком уровне (первом уровне объяснения), я набросал некоторые вероятные селекторы, а над ними (на втором уровне объяснения) – некоторые метаселекторы. Между разными уровнями я нарисовал стрелки, указывающие различные взаимоотношения между объяснениями. Вот что у меня получилось:
«Я вижу, вы продумали все логические следствия», – сказал Парфит, склоняясь над диаграммой и прищуриваясь.
Большинство из этих следствий были достаточно очевидны и уже указаны самим Парфитом. Например, селектор простоты выбирает нулевую возможность из всех космических возможностей. Таким образом, если бы в мире вообще ничего не было, то это можно было бы объяснить тем, что Ничто есть простейший способ воплощения реальности. Подобным же образом селектор добра выбрал бы аксиархическую возможность – Вселенную, состоящую только из хороших миров. И если бы реальность оказалась такой, то это можно было бы объяснить тем, что это лучший способ воплощения реальности. Однако если бы реальность в самом деле оказалась такой, могло бы это объяснить, почему работает именно селектор добра? Только если селектор добра, по причине своей хорошести, сам был выбран добром на метауровне. И тут, как заметил Парфит, мы сталкиваемся с проблемой: селектор не может выбрать сам себя. Он не может решить, будет ли он управлять, пока не стал управляющим. Другими словами, никакое объяснение реальности неспособно объяснить само себя.
Чтобы показать, что добро не может объяснить само себя, не впадая в круговое доказательство, я нарисовал «Х» на стрелке, ведущей от добра на уровне метаселектора к добру на уровне селектора.
Однако не все селекторы приводят к такого рода круговому доказательству, то есть не все селекторы выбирают себя, что отразилось в самой, на мой взгляд, интересной стрелке на диаграмме – от простоты на уровне метаобъяснения к нулевой возможности на уровне объяснения.
На эту стрелку меня тоже вдохновил Парфит, который в самом конце своего эссе «Почему нечто?» делает заманчивое наблюдение: «Точно так же, как простейшей космической возможностью является существование Ничто, простейшим возможным объяснением является отсутствие селектора». Я понял это так, что на уровне объяснений возможность «нет селектора» подобна нулевой возможности на уровне реальности: каждую из них можно объяснить простотой. Тогда если простота управляет на уровне метаобъяснений, то она не выберет себя как селектор на уровне объяснений, а просто установит полное отсутствие селектора.
Верно ли я понял мысль Парфита?
– Это верно, – улыбнулся он.
А как бы выглядела реальность, если бы не было селектора? Почти наверняка она не приняла бы особую форму Ничто, самой пустой из всех космических возможностей.
«Если селектора нет, – писал Парфит, – мы не должны ожидать, что и Вселенной не будет. Такое было бы весьма невероятным совпадением».
Из тех же соображений, как мне кажется, не следует ожидать и какой-то определенной формы воплощения Вселенной. Если бы селектора не было, то не следует ожидать, что реальность будет настолько полной, хорошей или плохой и так далее, насколько она могла бы быть. Скорее, следует ожидать, что слепо выбранная реальность окажется одной из бесчисленных космических возможностей, которые ничем особым не отличаются. Другими словами, реальность должна быть насквозь посредственной. Согласен ли Парфит с этими доводами?
Он кивнул, соглашаясь.
Таким образом, если простота является высшим селектором, то это объясняет, почему существует Нечто, а не Ничто! Хайдеггер в своих путаных рассуждениях, в конце концов, мог быть в чем-то прав: «„Ничто“ ничтит себя».
Если на уровне объяснений верх берет «ничтовость», то тогда нет никакого селектора, объясняющего, почему реальность получилась именно такой. Но если никакого селектора нет, то воплотился случайный вариант реальности. В этом случае было бы очень странно, если бы реальность оказалась «ничтовостью», потому что «нулевая возможность», являясь простейшей из космических возможностей, – это особый случай. Поэтому «ничтовость» (на уровне объяснений) «ничтит» себя (на космическом уровне), и в результате реальность представляет собой нечто большее, чем Ничто. А все потому, что на самом высоком уровне правит простота.
Если простота является фундаментальным объяснением мира, то это также объясняет, почему существующий мир столь печально посредственен, представляя собой нейтральную смесь добра и зла, красоты и уродства, причинного порядка и случайного хаоса, – он невообразимо огромен и в то же время очень далек от полного набора возможных сущностей. Реальность – это не чистое Ничто, но и не содержащее все возможности Все, а просто космическая куча мусора.
Именно к такому выводу я пришел на основе схемы Парфита, однако, к моему разочарованию, полного объяснения так и не получил. Если простота в самом деле правит на высшем уровне, то почему так получилось? Как насчет прочих метаселекторов, например полноты? (На диаграмме я поставил под ней вопросительный знак.) И что, если никакого метаселектора нет? (Еще один вопросительный знак на диаграмме.) Разве самое общее объяснение реальности неизбежно должно упереться в необъяснимый голый факт?
Парфит сделал свою часть работы и в значительной степени рассеял туман, окружающий тайну бытия. И к тому же угостил меня отличным обедом. Ему пора было возвращаться в кабинет, где он вновь погрузится в вопросы моральной философии, ценностей, желаний и причин. А мне пора было покинуть возвышенную обитель Всех душ и вернуться в грубый мир грешных тел.
Я поблагодарил Парфита, вышел к воротам колледжа и повернул на Хай-стрит, где клонящееся к горизонту солнце отбрасывало длинные тени.
Через неделю я уже снова был в Нью-Йорке, все еще размышляя над помятой диаграммой, которую я показывал Парфиту. И вот однажды вечером, когда я прогуливался в шуме и гаме Ист-Виллидж, за миллион миль от Всех душ, меня осенило. Последний кусочек логики встал на место – я получил доказательство.
Эпистолярная интерлюдия: Доказательство
Утро среды
Пятая авеню, д. 2, Нью-Йорк
Глубокоуважаемый профессор Парфит!
Я провел очень приятный день с Вами в Колледже Всех душ. Размышляя над нашим разговором, я подумал, что наткнулся на полное и оригинальное объяснение самой общей формы, которую принимает реальность, – и это объяснение наконец отвечает на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?».
Для начала примем два принципа:
1. Для каждой истины существует объяснение, почему она истинна.
2. Ни одна истина не объясняет саму себя.
Разумеется, первый из этих принципов есть принцип достаточного основания Лейбница, утверждающий, что не существует голых фактов. Я считаю, что принцип достаточного основания является не столько истиной сам по себе, сколько условным указателем для поиска – указателем, который говорит: «Всегда ищи объяснение, кроме тех случаев, когда оказался в ситуации, в которой дальнейшее объяснение невозможно».
Второй принцип является более общей версией Вашего утверждения, что ни один селектор не способен выбрать себя, и призван исключить круговое доказательство. Причина не может быть причиной самой себя. Логическое обоснование не может обосновать себя. Бог не может создать себя. Множество не может быть элементом самого себя – в теории множеств это называется аксиомой регулярности, поэтому я назову второе утверждение «принцип регулярности».
А теперь докажем, что существует одно и только одно полное объяснение формы, которую принимает реальность. На нулевом уровне (уровне реальности) у нас есть все «космические возможности», в которые может воплотиться реальность, в диапазоне от нулевой возможности до возможности всех миров, включая все бесчисленные промежуточные варианты, где существуют одни виды возможностей и не существуют другие. В силу логической необходимости одна из этих космических возможностей должна воплотиться – назовем ее возможность А (то есть «актуальная»).
На первом уровне (нижнем уровне объяснений) у нас находятся все возможные селекторы, то есть все возможные варианты, способные объяснить, почему реальность на нулевом уровне получилась именно такой. Селекторы включают в себя простоту, добро, причинную упорядоченность, полноту, а также возможность отсутствия селектора, то есть возможность того, что нет вообще никакого объяснения.
На втором уровне (на уровне метаобъяснения) находятся все мыслимые метаселекторы, то есть все возможные варианты, способные объяснить, почему именно такой селектор действует на первом уровне. Метаселекторы снова включают в себя простоту, добро, причинную упорядоченность, полноту, а также возможность отсутствия метаселектора.
Теперь давайте рассмотрим некоторые варианты.
Во-первых, предположим, что отсутствие селектора объясняет, почему реальность приняла именно такую форму, и что нет никакого дальнейшего объяснения того, почему никакого селектора нет. Тогда воплощение именно такой формы реальности является голым фактом, что нарушает принцип достаточного основания, и это тупик.
Далее, предположим, что один из селекторов на первом уровне в самом деле объясняет, почему реальность приняла форму А, – назовем этот селектор С. Тогда либо существует объяснение того, почему именно селектор С стал определять реальность, либо это является голым фактом – что нарушает принцип достаточного основания и приводит в тупик.
Теперь допустим, что существует объяснение того, почему именно вариант С является селектором. Другими словами, допустим, что существует метаселектор (на втором уровне), который выбрал селектор С (на первом уровне), – назовем его метаселектор М.
Спрашивается: чем может быть М?
Мы знаем, что М не может быть таким же, как С, поскольку это нарушит принцип регулярности. Например, если С будет добром (и в этом случае реальность должна будет принять этически наилучшую форму), объяснение не может состоять в том, что добро должно быть селектором, потому что это этически наилучший вариант. То же самое можно сказать о других селекторах, которые выбирают космические возможности в промежутке между нулевой возможностью и возможностью всех миров (например, селектор причинной упорядоченности, или математической элегантности, или зла). Все эти селекторы выбирают сами себя на метауровне, что приводит к замкнутому кругу. Фактически только два метаселектора на втором уровне способны быть селектором М, а именно простота и полнота. Ни один из них не выбирает себя, а следовательно, не нарушает принцип регулярности.
Если бы простота была метаселектором на втором уровне, то она бы не выбрала себя на первом уровне, а скорее выбрала бы вариант отсутствия селектора, поскольку это самое простое из возможных объяснений – когда никакого объяснения не требуется. А если бы полнота была метаселектором, преобладающим на втором уровне, то она бы не выбрала себя на первом уровне, а скорее выбрала бы все селекторы первого уровня.
Таким образом, принимая принцип регулярности, логически следует, что на втором уровне возможны только два метаселектора: простота и полнота. Один из них и должен быть фундаментальным объяснением.
Поэтому мы должны рассмотреть всего два варианта.
Вариант 1: простота является метаселектором. Тогда она выбрала бы возможность отсутствия селектора на первом уровне (точно так же, как простота на первом уровне выбрала бы нулевую возможность на нулевом уровне). Однако если на первом уровне селектора нет, то фактически воплотившаяся космическая возможность А была бы выбрана случайно. Тем не менее это не было бы голым фактом, а объяснялось бы простотой на уровне метаобъяснений.
Вариант 2: полнота является метаселектором. Тогда она выбрала бы все селекторы на первом уровне (точно так же, как полнота на первом уровне выбрала бы возможность всех миров на нулевом уровне). Однако логически невозможно, чтобы все селекторы на первом уровне диктовали реальности форму воплощения, поскольку они противоречат друг другу: реальность не может быть одновременно абсолютно полной и абсолютно пустой; этически наилучшей и наиболее причинно упорядоченной (поскольку случающиеся время от времени чудеса сделали бы реальность еще лучше); а тем более она не может быть одновременно этически наилучшей и максимально полной зла. В лучшем случае все селекторы первого уровня могли бы действовать вместе в качестве частичных селекторов. Тогда реальность А, то есть космическая возможность, выбранная на нулевом уровне в качестве реальности, была бы насквозь посредственной: одновременно как можно более пустой и как можно более полной; как можно более хорошей и как можно более плохой; как можно более упорядоченной и как можно более хаотичной; как можно более элегантной и как можно более уродливой и так далее.
В первом варианте реальность А случайным образом выбирается из всех космических возможностей. Во втором варианте реальность А будет самой посредственной из всех космических возможностей. Причем это единственные варианты нулевого уровня, которые не противоречат принципу достаточного основания и принципу регулярности. И они, скорее всего, будут выглядеть одинаково! Случайно выбранная космическая возможность, скорее всего, будет заурядна во всех отношениях, и дело тут просто в числе вариантов. Из всех мыслимых форм, которые может принять реальность, только исчезающе малая часть обладает особыми чертами вроде идеальной простоты, идеальной доброты или идеальной полноты. Подавляющее большинство возможностей никакими особыми чертами не отличаются, они заурядны.
А как будет выглядеть подобная заурядная реальность? Прежде всего, она будет бесконечна. Реальности, состоящие из бесконечного множества миров, намного превосходят в числе те, которые состоят из конечного множества миров. Этот вывод элементарно следует из теории множеств: число конечных подмножеств натуральных чисел, хотя и бесконечно, является бесконечностью меньшего масштаба, чем число бесконечных подмножеств натуральных чисел.
Но даже в своей бесконечности заурядная реальность не сумеет охватить все возможные варианты. Более того, в теории множеств дополнение к бесконечной заурядной реальности тоже будет бесконечно. Таким образом, заурядная реальность стоит бесконечно далеко как от возможности всех миров, так и от нулевой возможности. Являясь бесконечной, посредственная реальность, возможно, будет состоять из множества локальных областей, которые будут обладать особыми чертами по отношению друг к другу. Представьте себе бесконечную последовательность случайных подбрасываний монеты, где 1 представляет герб, а 0 – решку. Хотя в целом эта последовательность не обладает закономерностью, она наверняка содержит (чисто случайно) все мыслимые локальные упорядоченные последовательности. В ней будут промежутки идеальной полноты, состоящие из долгих последовательностей единиц, а также промежутки идеальной пустоты из долгих последовательностей нулей; промежутки, представляющие самые красивые из всех вообразимых последовательностей, и промежутки, представляющие самые уродливые из всех вообразимых последовательностей. Некоторые промежутки будут казаться осмысленными, якобы содержащими скрытые сообщения и цели. Однако каждое такое локальное значение или сообщение будет противоречить другому локальному значению или сообщению где-то в обобщенной реальности. Таким образом, в целом все они складываются в космическую бессмыслицу.
Вот такой, скорее всего, будет реальность, если метаселектором является простота (вариант 1) или полнота (вариант 2). А поскольку только эти два варианта логически не противоречат принципу достаточного основания и принципу регулярности, то именно такой и должна быть реальность, если эти принципы верны.
Таким образом, у нас есть полное объяснение той формы, которую имеет реальность, – без всяких голых фактов и невыясненных вопросов. Это объяснение отвечает на оба вопроса, с которых Вы начали свое метафизическое исследование: «Почему Нечто?» и «Почему именно такое?».
Что, если в результате последующей эмпирической проверки реальность окажется вовсе не обобщенной? Что, если, напротив, она окажется максимально хорошей этически, как убежден Джон Лесли? Или максимально плодовитой, как ее представляет себе Роберт Нозик? Или вдруг Бог проявляет себя как источник бытия? Тогда, предполагая, что мои рассуждения верны, принцип достаточного основания или принцип регулярности (или они оба) должен нарушаться. Тогда все-таки должен быть фундаментальный голый факт или самовоспроизводящаяся причина. Однако такое проявление космической уникальности вполне может быть иллюзией – одной из тех иллюзий, к которым так склонны люди в силу своего воображения, принимая заурядность реальности за целое, слишком ограниченные, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле.
Пожалуйста, не считайте себя обязанным мне отвечать. Я знаю, что Вы очень заняты более важными вещами. И еще раз спасибо за обед!
Искренне ваш, Джим ХольтВечер среды
Колледж Всех душ, Оксфорд
Дорогой Джим,
спасибо за Ваше письмо, я нашел его очень интересным. Я подумаю над этим как следует…
С наилучшими пожеланиями,
ДерекГлава 13 Мир как отрывок из куплета
Конец зимы на Манхэттене. За полдень. Звук сирены вдалеке. (Всегда должен быть звук сирены вдалеке.) Звонит телефон. Это Джон Апдайк.
Я ждал его звонка. В начале месяца я отправил Апдайку письмо с изложением моего интереса к тайне бытия. Я писал, что мне кажется, что наши интересы совпадают, и не согласится ли он поговорить на эту тему? Я указал номер своего телефона на случай, если вдруг действительно согласится.
Через неделю я получил обычную открытку, с адресом Апдайка и напечатанным на пишущей машинке параграфом текста, едва уместившимся на обратной стороне. Иногда встречающиеся опечатки были исправлены ручкой с помощью корректурных знаков «удалить» и «перенести». Под параграфом стояла подпись «Дж. А.» синими чернилами.
«Я буду рад обсудить с Вами вопрос о Нечто, а не о Ничто, – писал Апдайк, – но предупреждаю, что на этот счет у меня нет никаких мыслей». Затем, в трех кратких предложениях, он упомянул размерность реальности, возможные позитивные и негативные сущности, а также антропный принцип, по поводу которого загадочно добавил, что он «в некоторой степени работает на Нечто». Затем, словно в качестве комментария к этой загадке, Апдайк выдал еще более неожиданную фразу: «Честно говоря, понятия не имею, что тут к чему, но кто же не любит Вселенную?»
Любовь Апдайка к Вселенной давно не была для меня тайной. Его романы и рассказы наполнены чистой сладостью бытия. Мы «катимся по жгучему сиянию, которого не видим, потому что больше не видим ничего, – писал он в воспоминаниях о юности. – А на самом деле тут есть цветное, тихое, но неутомимое добро, которое словно утверждают вещи неподвижные, как кирпичная стена или камешек»160.
В этом отношении Апдайк полная противоположность Вуди Аллену, а в другом отношении – полностью с ним совпадает, разделяя его ужас перед вечным Ничто и убеждение, что секс позволяет отгородиться от этого ужаса психологически. Апдайк даже обнаружил, что для него фобия небытия обратно пропорциональна плотским радостям, о чем и рассказал в написанном в 1969 году стихотворении, выражающем его убеждения в краткой математической формуле:
ЗАД = 1 / СТРАХ.
Впрочем, не только эрос позволяет Апдайку справляться с ужасами Ничто, религия (а именно требующая слепой веры разновидность христианства), по его утверждению, тоже дает ему утешение и надежду на всеобъемлющее прощение и личное спасение. В этом его героями являются Паскаль и Кьеркегор, а более всего Карл Барт.
«Теология Карла Барта в какой-то момент моей жизни была единственным, что ее (жизнь) поддерживало»161, – однажды сказал Апдайк и признался, что разделяет веру Барта в то, что Бог есть totaliter aliter, нечто совершенно иное, и что божественные тайны не могут быть постигнуты разумом. Его также привлекает несколько мистическая мысль Барта о приравнивании Ничто к злу. В раннем собрании сочинений Апдайк мрачно расширяет идею «сатанинского Ничто»162, а затем, как бы в поисках метафизического облегчения, переходит прямо к эссе на тему гольфа.
Одержимость Апдайка сексом и смертью, а также благом бытия и злом небытия не слишком необычна для представителя литературной профессии, но только в произведениях Апдайка можно найти прямое обсуждение тайны бытия. В опубликованном в 1986 году романе «Россказни Роджера», веселом водевиле из теологии, науки и секса, есть виртуозный отрывок, который на протяжении десяти страниц объясняет, «как вещи возникли из пустоты». Объяснение происходит во время вечеринки и имеет целью потрясти как веру, так и дух персонажа по имени Дейл Колер, двадцати восьми лет от роду, убежденного последователя Иисуса и компьютерного гения, который набрался наглости попытаться доказать существование Бога с помощью компьютерного числового анализа Большого взрыва. Дейл также имел наглость переспать с женой Роджера Ламберта, заглавного героя средних лет, профессора богословия по специальности, от имени которого ведется повествование.
Подобно самому Апдайку, рогоносец Роджер является горячим поклонником Барта. Он обижен на молодого человека не только за незаконное овладение сексуально натренированной женой, но и за «непристойное космологическое подглядывание» в области божественного. Бог, чье существование можно научно доказать (не говоря уже о Боге, оставившем отпечатки пальцев на всем Большом взрыве), уже не будет Богом – по крайней мере, Богом как совершенно иной сущностью в понимании Барта. Поэтому в конце романа Дейла постигает двойная кара. Роджер собственноручно подвергает Дейла теологическому наказанию за ересь, а кроме того, обретает друга, молекулярного биолога по имени Майрон Кригман, который устраивает Дейлу засаду со стороны науки. На вышеупомянутой вечеринке Кригман заговаривает с Дейлом и приводит его в замешательство аргументами, будто бы доказывающими, что физическая Вселенная создала себя из ничего, совершенно не нуждаясь ни в какой божественной помощи.
«Как вы знаете, в пределах планковской длины и планковского времени существует пространственно-временная пена, в которой квантовые флуктуации из материи в нематерию с математической точки зрения особого значения не имеют. Когда поле Хиггса пробивает туннель в квантовую флуктуацию через энергетический барьер в состоянии ложного вакуума, получается пузырек с нарушенной симметрией, который экспоненциально расширяется под действием отрицательного давления, и через пару микросекунд получается Нечто, размером и массой с наблюдаемую ныне Вселенную и появившееся практически из Ничто. Выпить не желаете? Что-то у вас вид какой-то слишком трезвый».
Так начинает Кригман, говоря скороговоркой и с хрипотцой в голосе. Показав, как Вселенная возникла из «почти Ничто», он принимается объяснять ошеломленному Дейлу, что это «почти Ничто» появилось из абсолютного Ничто.
«Представьте себе пустоту, полнейший вакуум. Однако стойте, в ней что-то есть! Что? Точки, из которых могут сложиться фигуры. Как бы пылевидное облако безразмерных точек…»[17] В этом клубящемся облаке, продолжает он, точки случайно собираются в узлы или «вмерзают» в небольшое структурированное пространство-время. «Проросло семя, из которого разовьется Вселенная», – говорит Кригман. А когда вы получили семя, то «бум! Он, Большой взрыв».
А откуда взялась первозданная пыль из точек? Из абсолютного Ничто! Точка и антиточка отделяются друг от друга в пустоте, подобно +1 и —1, отделяющимся от нуля. «Вот, на месте Ничего мы имеем два объекта», – говорит Кригман. Антиточка – это просто точка, движущаяся назад во времени.
«Облако точек рождает время, время рождает облако точек, – заключает Кригман. – Красотища, правда?»
Так и хочется сказать вместо онемевшего Дейла, что это и впрямь красотища – в качестве примера доказательства по кругу. Чтобы возникла первозданная пыль из точек, требуется время. Однако именно конфигурация, принимаемая этими точками, и составляет время!
Безусловно, Апдайк не имел в виду, что мы слишком серьезно отнесемся к этим идеям. В конце концов, их высказывает персонаж романа, причем несколько нелепый персонаж. В присланной открытке Апдайк написал, что заимствовал большинство высказанных идей у британского химика и откровенного атеиста Питера Эткинса. Как я обнаружил, сам Эткинс понимал, что его космогоническая схема образует замкнутый круг, в котором время требуется для того, чтобы появились точки, а точки нужны, чтобы возникло время. Он назвал это «космическая самозагрузка»163 и на этом успокоился. Тем не менее Апдайк явно размышлял над тайной бытия с научной точки зрения, а также под теологическим углом. И это вполне достаточная причина, чтобы поинтересоваться, к каким выводам он пришел.
Апдайк позвонил мне из своего дома в городе Ипсвич в штате Массачусетс, к северу от Бостона. В трубке было слышно, как играют приехавшие к нему в гости внуки. Он заговорил характерным мягким и мелодичным голосом, и я представил себе его густые седые волосы, изогнутый клюв носа, пятнистую от псориаза кожу, а также его привычное выражение лица – как однажды выразился Мартин Эмис, Апдайк имеет вид человека, «зажатого смущением от аппетитных шуточек»164.
Я начал с того, что спросил у Апдайка, верно ли, что теология Карла Барта в самом деле помогла ему пережить трудные времена в жизни.
– Я действительно говорил такое, и это в самом деле так, – ответил он. – Я наткнулся на Барта, когда Кьеркегор перестал служить мне утешением и Честертон больше не помогал. Барта я обнаружил через серию выступлений и лекций под названием «Слово Бога и слово человека». Он не пытался играть в какие-то игры, рассматривая Священное Писание как исторический документ или что-то еще. Он просто заявил, что это вера: хотите – верьте, не хотите – не верьте. Так что да, я нашел в Барте утешение, и пара моих ранних (ну, вообще-то не совсем ранних) романов в какой-то мере написаны под его влиянием. «Кролик, беги» определенно выражает мнение Барта с точки зрения лютеранского священника. А в «Россказнях Роджера» доктрина Барта является для Роджера единственным убежищем от противников, осаждающих его со всех сторон и пытающихся лишить его веры, – как от науки, которую Дейл пытается использовать в пользу своих деистических представлений, так и от теологии, разбавленной либеральными ценностями. С другой стороны, эта книга в некотором роде содержит и критику взглядов Барта за их ужасную сухость и замкнутость на себе. Дейл по крайней мере пытается примирить свое христианство с наукой в ее нынешнем состоянии. А книга в целом – что-то вроде любовного треугольника, в котором Роджер, верно или неверно, воображает, что его жена завела интрижку с юным Дейлом и встречается с ним в ее студии. Поэтому конфликт между двумя мужчинами сводится к этакой борьбе за… как там ее…
– Эстер, – подсказал я.
– Точно, Эстер… Мне она нравится, она одета в такое полосатое, как у пчелки, платье… большие широкие полосы охватывают ее бедра. И вот Роджер старается организовать вечеринку, чтобы несколько ученых с хорошо подвешенным языком пришли и разнесли естественную теологию Дейла по кирпичику.
– Должно ли их описание возникновения Вселенной из пустоты быть убедительным?
– Не совсем, к стыду для науки. Наука, подобно теологии в былые времена, мечтает объяснить абсолютно все. Но как можно перепрыгнуть через громадную пропасть между Ничто и Нечто? Причем не просто «Нечто», а целой Вселенной. Она… Она такая огромная. Ух! Я хочу сказать, что Вселенная больше, чем то, что мы можем себе вообразить, в квадрате!
В голосе Апдайка слышалось искреннее восхищение.
– Интересно, что некоторые философы были поражены самим фактом того, что Нечто вообще существует, – сказал я. – Например, Витгенштейн написал в своем «Трактате», что загадка не в том, как мир устроен, а в том, что он вообще есть. И, конечно, Хайдеггер тоже много говорил об этом. Он утверждал, что даже люди, которые никогда не задумывались над тем, почему существует Нечто, а не Ничто, все равно ошеломлены этим вопросом – неважно, осознают они это или нет, – например, в моменты скуки, когда кажется, что лучше бы в мире вообще ничего не было, или в моменты счастья, когда все преображается и мир видится в новом свете. Однако я встречали таких философов, которых существование мира ничуть не удивляет. И порой я с ними соглашаюсь: бывает такое настроение, когда вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» кажется мне бесцельным. Но в другом настроении он, напротив, представляется чрезвычайно глубоким. А что вы об этом думаете? Вы когда-нибудь размышляли над этим вопросом?
– Уж слишком благородное слово «размышлять», но я в самом деле принадлежу к тем, кто считает существование мира чудом, – сказал Апдайк. – Это последнее прибежище естественной теологии, из-под которой уже выбили столько опор: первый принцип Аристотеля, движущая сила Фомы Аквинского… они ушли, но загадка осталась: почему существует Нечто, а не Ничто? Джордж Стайнер не столь известный мыслитель, как Витгенштейн, но я помню, что он поднимал этот вопрос. Последнее, что я слышал, – Стайнер считает существование мира удивительным и достаточно загадочным, чтобы поддержать какую-то веру.
– Я не знал, что Стайнер… – начал я.
– Да-да, я тоже удивился, что он интересуется этим вопросом, – продолжал Апдайк. – И я не могу вспомнить, где именно он про это писал. В произведениях Стайнера есть теологическая составляющая, но она не во всем заметна. Однако обыватель с научными склонностями видит основную надежду в объяснении «Нечто из Ничто» в квантовой физике, где виртуальные частицы постоянно появляются из вакуума и вновь в него возвращаются. Время их существования удивительно ничтожно, тем не менее нельзя отрицать сам факт их существования.
Я сказал Апдайку, что восхищен эпизодом, в котором персонаж «Россказней Роджера» объясняет, как Вселенная могла появиться из квантовой флуктуации. За десятилетия, прошедшие после написания книги, физики придумали несколько очень красивых сценариев спонтанного возникновения Нечто из Ничто в соответствии с квантовыми законами. Но тогда мы сталкиваемся с другой загадкой: а где эти законы записаны и что дает им силу командовать пустотой?
– Кроме того, эти законы есть просто забавный способ сказать, что Ничто равняется Нечто, – рассмеялся Апдайк. – Что и требовалось доказать! Я встречался с мнением, что, поскольку переход от Ничто к Нечто связан со временем, время не существовало до появления Нечто, и тогда этот вопрос не имеет смысла, так что не стоит им задаваться. Он выходит за пределы интеллектуальных возможностей нашего вида. Представьте себя на месте собаки. Собака быстро откликается, обладает интуицией, смотрит на нас глазами, в которых светится что-то вроде разума, и тем не менее собака наверняка не понимает большую часть того, что делают люди. Например, она явно понятия не имеет, как мы изобрели двигатель внутреннего сгорания. Возможно, нам стоит вообразить себя собакой, живущей в мире, который выходит за рамки ее понимания. Я не уверен, что принимаю эту точку зрения, но это один из способов показать, что тайна бытия неразрешима – по крайней мере, на нынешнем уровне развития человеческого мозга. Я даже сомневаюсь (и вы на это обидитесь) в стандартном научном объяснении о быстром расширении Вселенной из почти Ничто. Мысль, что наша планета и все видимые звезды, а также тысячи и тысячи невидимых нам звезд, когда-то помещались в точке – как это может быть? И на этом я перехожу к другим вопросам, – тихонько хмыкнул явно повеселевший Апдайк.
Сама идея инфляционного расширения, – продолжал он, – кажется выдвинутой от безысходности. Хотя, надо признать, что она в самом деле решает целый ряд затруднительных космологических проблем… Тем не менее если подумать, то мы, рационалисты – а мы все в той или иной степени рационалисты, – принимаем предположения о ранней Вселенной, которые более умопомрачительны, чем любое из библейских чудес. Воскресение человека из мертвых нам интуитивно понятно, поскольку это случается с людьми в глубокой коме или когда мы каждое утро просыпаемся от глубокого сна. Но как можно поверить в то, что вся неизмеримо огромная Вселенная однажды помещалась в крошечную точку? Я не утверждаю, что могу опровергнуть уравнения, на которых основана эта идея. Я только говорю, что в эту идею можно верить или не верить.
Здесь я решил ему возразить. Теории, предполагающие такую картину ранней Вселенной (общая теория относительности, стандартная модель физики элементарных частиц и так далее), отлично предсказывают результаты наших сегодняшних наблюдений. Даже теория инфляционного расширения, хотя и несколько спекулятивна, была подтверждена результатами измерений распределения реликтового излучения на телескопе Хаббла. Если эти теории так хорошо объясняют то, что мы видим сейчас, то почему мы не можем доверять экстраполяции ее выводов в прошлое, к началу Вселенной?
– Я только говорю, что не доверяю им, – ответил Апдайк. – Мой рептильный комплекс не позволяет мне в них поверить. Невозможно представить себе, что хотя бы Земля была когда-то размером с горошину, не говоря уже о целой Вселенной.
Я заметил, что некоторые вещи, которые невозможно себе представить, довольно легко описать математически.
– Тем не менее в истории человечества бывали и другие замысловатые системы! – Апдайк явно входил в азарт спора. – В Средние века схоласты создали весьма сложные интеллектуальные конструкции, всякие там эпициклы Птолемея и прочее… Все они были очень мудреными и даже обладали теоретической связностью, но в конце концов все эти конструкции рухнули. Впрочем, как вы говорите, доказательств становится все больше. Прошел уже не один десяток лет с тех пор, как была предложена стандартная модель, и она подтверждается с точностью до двенадцатого знака после запятой. Но вот теория струн… Никаких доказательств ведь так и не нашли, верно? Ничего, кроме математических формул. Некоторые ученые всю жизнь работают над теорией чего-нибудь, что может оказаться и вовсе не существующим.
– Даже в этом случае, – ответил я, – они производят красивейшую чистую математику в процессе работы.
– Красивейшую в вакууме! – воскликнул Апдайк. – В конечном итоге, что такое красота, как не истина? Красота есть истина, истина есть красота.
Я спросил Апдайка, относится ли он к естественной теологии с тем же презрением, что и Барт? Некоторые думают, что Бог существует, потому что они испытали религиозное переживание. Некоторые думают, что Бог существует, потому что верят священнику. А другие хотят доказательств, которые понятны рассудку. Именно этих людей может привлечь естественная теология, показав, каким образом наблюдения за окружающим миром способны привести к заключению о существовании Бога. Действительно ли Апдайк хочет оставить этих людей ни с чем только потому, что ему не нравится идея Бога, который позволяет «поймать себя в ловушку интеллекта»?
На пару секунд Апдайк задумался, затем сказал:
– Однажды меня пригласили на радиопередачу «Я верю в это». Как писатель, я не люблю формулировать свои убеждения, потому что, подобно квантовым явлениям, они меняются день ото дня, и вообще, высказываться так прямо вроде как плохая примета. В общем, на этой радиопередаче я признал, что исключение естественной теологии оставит за бортом слишком много людей и слишком много человеческого опыта. Пожалуй, даже закоренелый последователь Барта может признать по крайней мере одну часть естественной теологии, а именно изречение Христа: «По плодам их узнаете их», то есть многое из того, что мы принимаем за добродетель и героизм, вытекает из веры. Однако вера в абстрактную научную гипотезу никому не доставляет удовольствия, по крайней мере самим верующим. В этом нет никакого интеллектуального усилия. Вера подобна состоянию влюбленности. Как выразился Барт, путь к Богу лежит по самой короткой лестнице, а не по самой длинной. Барт неизменно утверждал, что именно движение Бога, а не усилие человека преодолевает эту пропасть.
Зачем же Богу совершать это движение? Зачем Он вообще создал Вселенную? Кажется, Апдайк как-то упоминал, что Бог мог создать мир из-за духовной усталости, что реальность была продуктом «божественной депрессии». Я спросил Апдайка, что он этим имел в виду?
– Разве я говорил, что Бог создал мир от скуки? Фома Аквинский сказал, что Бог создал мир для забавы – для забавы! Забавляясь, Он сотворил Вселенную. Я думаю, это ближе к истине. – Немного помолчав, он продолжил: – Некоторые ученые, верующие в Бога, например Фримэн Дайсон, попытались взяться за Вселенную с другого конца – описать Вселенную, в которой царит почти полная энтропия и отдельные частицы разделены расстояниями, превышающими размеры нынешней наблюдаемой Вселенной… Это невообразимо жуткий и бессмысленный вакуум. Я восхищаюсь их научным воображением, но сам не могу за ними последовать. В подобном пространстве может существовать только Бог и ничего, кроме Бога. В таком случае мог ли Господь заскучать настолько, что создал Вселенную? Это делает мир похожим на отрывок из водевильного куплета.
Какой восхитительно причудливый образ! Реальность – это не «пятно на пустоте»165, как однажды в раздражении решил персонаж романа Апдайка Генри Бек, а отрывок из куплета.
Я сказал Апдайку, что наш разговор доставил мне огромное удовольствие. Он ответил, что в начале едва мог дышать, поскольку перед этим играл в мяч с внуками.
– Большую часть своей жизни я играл в мяч, но в возрасте семидесяти пяти лет это уже непросто, – рассмеялся он. – Слышно, как стучит сердце и хрипят легкие. Хороший способ не забывать, на каком этапе жизни находишься.
Через несколько месяцев у Апдайка обнаружили рак легких. Через год его уже не было в живых.
Глава 14 Личность: существую ли я на самом деле?
Итак, я вещь истинная и поистине сущая; но какова эта вещь? Я уже сказал: я – вещь мыслящая.
Рене Декарт, «Размышления о первой философии»[18]Почему существует Нечто, а не Ничто? Я думал, что наконец нашел ответ – в форме доказательства, почти геометрического по стилю, которое Спиноза мог бы счесть конгениальным. И Шерлок Холмс тоже мог бы счесть его конгениальным, поскольку оно в точности следует совету Холмса своему верному, но не столь сообразительному компаньону доктору Ватсону, как следует проводить хорошее детективное расследование: «Сколько раз я говорил вам, отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался»[19].
И последняя строка моего доказательства не только обеспечивала существование непустой реальности, но и предписывала общую форму, которую эта реальность должна была принять, а именно бесконечная заурядность. Если принципы, на которых доказательство основывалось, верны, то мир должен быть одинаково далек как от того, чтобы содержать абсолютно все, так и от того, чтобы не содержать абсолютно ничего. Однако это заключение приводит к новой загадке: если мир бесконечно далек от онтологической полноты, то почему я являюсь его частью? Как мне удалось появиться на свет? И почему от мысли, что я существую, у меня слегка кружится голова?
Голый факт собственного существования был бы не столь загадочен, если бы этот мир, по сравнению с другими возможными реальностями, чем-то выделялся на их фоне, что сделало бы его особо пригодным для реализации. В этом случае мое личное существование можно было бы объяснить наличием той самой космической особенности. Например, допустим, что космос существует, потому что удовлетворяет абстрактную потребность в добре, как считает Джон Лесли. С точки зрения такого аксиархического платоновского представления, я должен быть здесь, потому что мое существование добавляет немного добра в космическую сумму. Или возьмем более причудливую возможность: предположим, что космос, как предлагает Джон Апдайк, есть «отрывок из куплета». Тогда причиной моего существования может быть та роль, которую я играю в космическом метрическом размере или даже в космической шутке. Любая такая особенность, выделяющая именно этот мир в качестве существующего, придала бы смысл моей жизни как элементу этого мира. У моей жизни была бы космическая цель: быть как можно лучше этически, или как можно более поэтичным, или что-то еще.
Однако реальность никакими особыми чертами не обладает. По крайней мере, к такому выводу привели меня поиски полного онтического понимания. Существование Вселенной можно полностью объяснить на основе одного-единственного предположения о том, что она посредственна во всех отношениях – обширный ведьмин шабаш посредственности. Даже его бесконечность и то заурядна, поскольку бесконечный космос все равно бесконечно далек от достижения предельной полноты. Он подобен случайно выбранному подмножеству натуральных чисел, включающему бесконечно много элементов, но и оставляющему бесконечно много элементов, не принадлежащих ему.
А если у реальности нет никакого особого качества, то мое присутствие в ней нельзя объяснить предположением, что я каким-то образом улучшаю это качество, что-то к нему добавляю. Таким образом, в моем существовании нет никакого космического смысла, или, точнее, единственный смысл моего существования состоит в том, что я существую. Сартр имел в виду нечто подобное, когда написал, что «существование предшествует сущности»166. В чем же тогда цель моей жизни? Антигерою одноименного романа Гончарова Обломову его друг Штольц мудро говорит: «Цель – жить». Эту тавтологию стоит запомнить.
Таким образом, с точки зрения космоса мое существование не имеет ни смысла, ни цели, ни необходимости. (И в этом нет ничего постыдного. То же самое было бы верно и в отношении Бога, если бы Он существовал.) Я существо случайное и произвольное. С большой долей вероятности меня могло бы вообще не быть.
С насколько большой? Давайте посчитаем. Как представитель рода человеческого, я обладаю определенной генетической идентичностью. В геноме человека около тридцати тысяч активных генов. Каждый из них имеет по меньшей мере два варианта, или аллеля. Таким образом, число генетически различных индивидов, которое может кодировать геном, составляет 2 в степени 30 000, что примерно равно единице с десятью тысячами нулей. Столько потенциальных индивидов позволяет структура нашей ДНК. А сколько из этих потенциальных индивидов на самом деле существовало? Предполагают, что около сорока миллиардов людей родились с тех пор, как возник наш вид. Давайте на всякий случай округлим до ста миллиардов. Это означает, что доля генетически возможных индивидов, которые уже родились, составляет меньше, чем 0,00000…000001 (на месте многоточия вставьте еще 9979 нулей). Подавляющее большинство этих генетически возможных индивидов являются нерожденными духами. В такой фантастической лотерее мне – и вам тоже – повезло выиграть, чтобы появиться на сцене. Вот уж действительно случайность в высшей степени!
То, что мы сумели выиграть, несмотря на такой невероятно малый шанс, делает нас «счастливчиками», как говорит Ричард Докинз. Софокл с ним явно не согласен: «Высший дар – нерожденным быть!» – утверждает хор в трагедии «Эдип в Колоне»[20].
Точка зрения Бертрана Рассела ближе к агностицизму: «Широко распространена вера (которую я никогда не понимал) в то, что существовать лучше, чем не существовать; на этом основании от детей требуют быть благодарными их родителям»167. Если бы ваши родители не встретились, то, разумеется, вы бы не родились. Однако гораздо большее, чем просто встреча ваших родителей или даже их занятия сексом в определенный момент времени, должно было сложиться невероятно удачным образом, чтобы вы появились на свет. Возможно, благодарности заслуживает не ваша мама или папа, а отважный маленький сперматозоид, нагруженный половиной вашей генетической идентичности, стойко пробирающийся мимо миллионов своих собратьев, чтобы воссоединиться с яйцеклеткой.
Появление на свет моей генетической идентичности в самом деле было маловероятной случайностью, но достаточно ли этого, чтобы появился я? Могла ли эта генетическая идентичность с той же легкостью произвести не меня, а, так сказать, моего близнеца? А если вы случайно оказались одним из однояйцевых близнецов, попробуйте провести такой мысленный эксперимент: представьте, что зигота, вскоре после оплодотворения разделившаяся пополам, чтобы получились вы и ваш близнец, вместо этого осталась целой. Уникальный малыш, который родился бы у ваших родителей через девять месяцев, был бы вами? Или вашим близнецом? Или ни тем ни другим?
И неужели я представляю собой всего лишь частный случай генетически определенного вида Homo sapiens? Я ведь могу представить свое «я» переселяющимся в некую нечеловеческую форму – например, в пингвина, или в робота, или в нематериальное существо вроде ангела. Так может быть, в конце концов моя сущность – это не биологический организм? Может быть, моя сущность заключается в чем-то другом? Хотя я не уверен, чем именно я на самом деле являюсь, одно мне известно наверняка: я существую. Это утверждение может быть условной истиной, но оно заведомо истинно: я не могу его отрицать, не противореча самому себе. (Я могу его отрицать в шутку, но только в смысле, что моя экономическая или социальная ценность ничтожна, а не в смысле, что я метафизический ноль.) Даже когда со всех сторон одолевают сомнения, факт моего существования остается маяком уверенности – по крайней мере, так утверждал Декарт. Его знаменитая фраза Cogito ergo sum означает «Я мыслю, следовательно, я существую». И от утверждения, что его существование самоочевидно уже из того факта, что он мыслит, Декарт прямо переходит к еще более решительному утверждению о том, что является по сути мыслящим существом, то есть чистым субъектом сознания. В этом качестве «я» в «я существую» должно относиться к чему-то отличному от физического тела – к чему-то нематериальному.
Означает ли это, что здесь Декарт зашел в своих выводах дальше, чем следовало? Как указывают многие из его комментаторов, начиная с Георга Лихтенберга в XVIII веке, «я» в посылке Декарта не совсем обоснованно. С уверенностью можно утверждать только то, что существуют мысли. Декарт нигде не доказал, что мысли требуют мыслителя. Возможно, местоимение «я» в его доказательстве является всего лишь грамматическим артефактом, вводящим в заблуждение, а не названием реальной сущности.
Предположим, что вы обратили свое внимание внутрь себя в поисках этого «я». Вы можете обнаружить не более чем постоянно меняющийся поток сознания, поток мыслей и чувств, в которых нельзя найти истинную самость. По крайней мере, именно это обнаружил Дэвид Юм, когда проводил мысленный эксперимент столетием позже Декарта. В «Трактате о человеческой природе» Юм написал: «Что касается меня, то, когда я самым интимным образом вникаю в нечто, именуемое мной своим „я“, я всегда наталкиваюсь на то или иное единичное восприятие тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или наслаждения. Я никак не могу уловить свое „я“ как нечто существующее помимо восприятий и никак не могу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия… Если же кто-нибудь после серьезного и непредубежденного размышления будет все же думать, что у него иное представление о своем „я“, то я должен буду сознаться, что не могу дальше спорить с ним»[21].
Так кто же прав: Декарт или Юм? Есть я или нет меня? И если меня нет, то о чем же я думаю, когда думаю, почему я существую? Даже сегодня природа самости является проблемой, которая вызывает среди философов споры и недоумение. Возможно, чуть больше философов склоняются к взгляду Юма на «я» как на некую фикцию, тень, отброшенную местоимением «я». Дерек Парфит, например, сравнивает «я» с клубом, который может с течением времени поменять членов, полностью распасться, а затем собраться вновь под тем же самым именем, но в другой форме. Дэниел Деннет говорит, что «личности являются не независимо существующими душами-жемчужинами, а артефактами социальных процессов, которые нас создают»168. Гален Стросон думает, что в потоке сознания каждого человека маленькие преходящие личности постоянно возникают и исчезают, ни одна из них не существует больше часа. «Попросту нет никакого „я“, которое проживает целый день бодрствования (не говоря уже о более длительных промежутках времени), – утверждает Стросон, – хотя в любой данный момент времени, несомненно, существует некоторое „я“ или самость»169. Более того, возникшее в конце каждого дня «я», по мнению Стросона, вскоре уничтожается забвением сна, и каждое утро просыпается новое картезианское «я». Даже Томас Нагель, обычно принимающий здраво реалистичную точку зрения на самость, думает, что ее истинная природа может быть частично скрыта от нас. «Я способен понять и использовать слово „я“ в отношении себя, не зная, что я на самом деле такое», – написал он170.
Если внутреннее «я» такое неуловимое, то, возможно, для этого есть причина. В конце концов, чем именно должно бы быть «я»? В современной посткартезианской философии предложены два широких концептуальных требования, которым должна отвечать самость. Во-первых, чем бы еще она ни была, самость есть субъект сознания. Все, что я переживаю в данный момент, – вижу полоску голубого неба в окне, слышу сирену вдалеке, чувствую легкую головную боль, думаю об обеде, – все это есть часть одного и того же сознания, потому что они принадлежат той же самости. Я могу идентифицировать ощущение головной боли как мое собственное без всякого сомнения. (Отсюда и абсурдность утверждения прикованной к постели миссис Грэдграйнд в романе Чарльза Диккенса «Тяжелые времена»: «Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, но я не могу утверждать с уверенностью, что это моя боль»[22].)
Второе требование состоит в том, что самость должна быть способна к самосознанию, то есть должна осознавать себя.
А нет ли фатального противоречия между этими двумя требованиями? Как может одна и та же сущность одновременно быть субъектом и объектом сознания? Пораженный Шопенгауэр назвал это «самым чудовищным противоречием, какое только можно придумать»171. Витгенштейн с ним согласился: «Я не являюсь объектом. «Я» объективно противостоит каждому объекту. Но не Мне»172. Подобно Шопенгауэру, до него Витгенштейн сравнил «я» с глазом: точно так же, как «я» есть источник сознания, глаз есть источник поля зрения и не может видеть себя.
Возможно, именно поэтому Юм не сумел найти свое «я». И, может быть, именно по этой причине (как думал Нагель) я не могу на самом деле знать, что я такое. И все же утверждение «я существую» имеет какой-то смысл. И содержание моего утверждения должно отличаться от содержания вашего утверждения, хотя вы говорите те же самые слова. Как это возможно? Что отличает один субъект сознания от другого?
Одна точка зрения состоит в том, что содержание сознания и составляет личность, – это психологический критерий самоидентичности. С этой точки зрения фраза «я существую» утверждает существование некоего более или менее непрерывного сгустка воспоминаний, ощущений, мыслей и намерений. Эти различные сгустки и делают меня мной, а вас – вами.
А что произойдет, если я испытаю амнезию и потеряю все воспоминания? Или если дьявольский нейрохирург сумеет стереть все мои воспоминания и заменить их вашими? А потом еще и произведет обратную операцию на вас? Обнаружит ли каждый из нас себя проснувшимся в чужом теле?
Если на последний вопрос вы ответили утвердительно, то подумайте над таким сценарием событий. Вам сообщили, что завтра вас будут пытать. Вы, конечно же, испугались. Однако перед пыткой, сказали вам, ваши воспоминания будут стерты дьявольским нейрохирургом и заменены на мои воспоминания. Останутся ли у вас причины бояться пытки? Если вы все равно боитесь, то это означает, что, несмотря на полную замену вас на меня психологически, именно вам придется выдержать боль. Такой мысленный эксперимент предложил в 1970 году философ Бернард Уильямс, чтобы показать, что психологический критерий личной идентичности должен быть ошибочным.
Если мою личную идентичность определяют не психологические факторы, то что же может ее определять? Очевидный ответ (одобренный Уильямсом, а позднее, с некоторыми колебаниями, и Томасом Нагелем) – это критерий физический. Моя идентичность определяется моим телом, а точнее, мозгом как физическим объектом, являющимся причиной существования и непрерывности моего сознания. С точки зрения гипотезы «я есть мой мозг», фактическое содержание вашего потока сознания не имеет значения для вашей идентичности. Имеет значение только определенный сгусток серого вещества в вашем черепе. Вы не можете пережить уничтожение этого сгустка. Вашу личность нельзя ни «загрузить» в компьютер, ни воскресить в некой бесплотной форме. Нагель пошел еще дальше, предположив, что даже если удастся воссоздать точную физическую копию вашего мозга, затем наполнить ее вашими воспоминаниями и вложить в клон вашего тела, то в результате «вас» все равно не получится (хотя «оно» будет думать, что оно – это вы).
Поэтому говоря «я существую», я, возможно, утверждаю лишь существование определенного (действующего!) мозга. Тогда вопрос «Почему я существую?» имеет чисто физический ответ: «Я существую, потому что в определенный момент в истории Вселенной определенная группа атомов случайно собралась вместе определенным образом».
Как указал Дерек Парфит, проблема с этим простым определением состоит в том, что даже физическая идентичность моего мозга не так уж однозначна. Допустим, говорит Парфит, что все клетки вашего мозга имеют некий дефект, который в итоге станет фатальным. Теперь предположим, что хирург может заменить эти клетки дубликатами без дефекта – например, с помощью серии из ста операций по пересадке. После первой операции останется 99 % вашего мозга. В середине процесса половина вашего мозга будет состоять из родных клеток, а половина – из дубликатов. А перед последней операцией ваш мозг будет на 99 % копией. В результате этой серии операций будет ли ваше «я» по-прежнему вашим, несмотря на полную замену мозга? А если «оно» – это уже не «вы», то в какой момент ваше «я» вдруг исчезло и заменилось новым?
Похоже, ни психологический, ни физический критерии не могут четко определить, кто я есть. Отсюда возникает неприятное подозрение: а что, если на самом деле мою идентичность определить невозможно? Что, если нет настоящего ответа на вопрос о том, существую ли я или нет? Хотя я имею в виду нечто, когда говорю «я», это нечто не имеет никакого онтического основания. Оно не входит в фундаментальную «обстановку» Вселенной. Оно существует лишь в форме постоянной смены состояний сознания, населяющих мой мозг, и постоянно меняющегося набора физических частиц, составляющих мое тело. Личность, по аналогии Юма, подобна нации или, как говорит Парфит, клубу. Мы можем проследить ее идентичность мгновение за мгновением, но вопрос о том, остается ли она той же самой на протяжении длительных промежутков времени или после больших физических и психологических разрывов, остается без ответа. Постоянная, материальная, самоидентичная личность – это фикция. Как выразился Будда, личность есть всего лишь общепринятое название множества элементов173. Юм, хотя и убежденный в истинности этого заключения, был им весьма огорчен: это привело его «в самое прискорбное состояние, какое только можно себе вообразить, погрузив в глубочайшую тьму»174. (К счастью, ему удалось найти облегчение, играя в нарды с друзьями.) Напротив, Дерек Парфит по примеру Будды нашел этот вывод «освобождающим и утешительным». Прежде, когда Парфит думал, что его «я» либо существует целиком, либо не существует вообще, «моя жизнь казалась мне стеклянным туннелем, сквозь который я двигаюсь с каждым годом все быстрее и в конце которого темнота». Когда же он освободился от «я», то «стены моего стеклянного туннеля исчезли. Теперь я живу на воле»175.
Допустим, что картезианское «я» (из утверждения «я мыслю, следовательно, я существую») на самом деле является иллюзией. Как она могла бы возникнуть? (Кроме того, можно еще спросить: для кого или для чего оно является иллюзией?) Быть «я» означает обладать самосознанием, так, может быть, «я» создается самим процессом размышления о себе? Другими словами, что, если «я» само себя создает?
Такую дерзкую гипотезу, хотя и «с большими сомнениями», выдвинул Роберт Нозик, чтобы объяснить «неподдающуюся» другим объяснениям проблему источника личности176. Согласно Нозику, когда картезианец утверждает: «Я мыслю», он не имеет в виду нечто уже существовавшее и не описывает уже существующее состояние. Скорее, существующее состояние становится истинным в результате этого утверждения. Сущность, определяемая местоимением «я», (каким-то образом) обретает очертания в самом процессе самоопределения, который выбирает «наиболее органично единую сущность», включающую сам акт определения. Каковы же границы этой органически объединенной сущности, создающей саму себя? «Ничто из прежде сказанного не устанавливает пределы, в которых эта самосоздающаяся сущность может создать себя», – пишет Нозик. Он даже допускает, что это «я» может быть «идентично субстанции, образующей Вселенную, как в теориях Веданты о том, что Атман есть Брахман».
Как только вы допустили, что «я» может создать себя, легко скатиться еще дальше по скользкому трансцедентному склону, у подножия которого лежит любопытная форма идеализма, утверждающая, что, создавая себя, «я» создает всю прочую реальность. При всей своей глупости эта идея постоянно повторяется в европейской философии со времен Канта. Ее разновидности можно найти у Гегеля, Фихте и Шеллинга в XIX веке, а также у Гуссерля и Сартра в XX веке. Возьмем Иоганна Готлиба Фихте, родившегося в семье бедного ткача и ставшего не только уважаемым философским преемником Канта, но и интеллектуальным отцом немецкого национализма. Фихте, подобно Нозику, утверждал, что «я» возникает в самом процессе «утверждения» себя.
Утверждение «я = я», как пример логического закона тождества, является очевидной истиной. Согласно Фихте, это вообще единственная очевидная истина, поскольку не имеет никаких предварительных условий. (Обычно истинность тождества «А = А» предполагает существование А в качестве условия, но существование «я» в «я = я» гарантировано природой самости, возникающей в процессе утверждения себя.) Как единственная очевидная истина, «я = я» должно быть основанием для всех остальных знаний. Таким образом, Фихте считал, что все знание в конечном итоге должно быть самопознанием. Трансцендентный субъект не только создает себя самоутверждением, но и создает весь мир – настоящий онтологический трюк! «Все искусство, вся религия, вся наука и общественные институты собраны в этом процессе, выражая какую-то часть великого духовного путешествия, в котором пустое „я = я“ обретает плоть, чтобы познать себя наконец как организованную и объективную реальность, а также освободиться», – так описал современный философ Роджер Скратон чудесную диалектику возникновения мира по Фихте177.
Эдмунд Гуссерль, основатель феноменологического движения в начале XX века, наделил «я» подобными же онтическими свойствами. «Объективный мир… – утверждал Гуссерль, – черпает… весь свой смысл и бытийную значимость… из меня самого, из меня как трансцендентального Я»178.
С моей точки зрения, вера в то, что «я» есть источник всей реальности, – это метафизическая чушь, если не безумие. Тем не менее чем бы ни было мое «я» – субстанцией, сгустком, ключевой точкой, вместилищем, пишущей себя поэмой, грамматической тенью или трансцендентным Эго, – оно в самом деле кажется центром мира. «Мир есть мой мир, – заявил Витгенштейн в положении 5.62 «Трактата» и усилил свое заявление в положении 5.63: – Я есть мой мир (микрокосм)»179.
Разумеется, мир мог бы быть моим миром (в противоположность вашему миру или ее миру), только если бы я был единственной истинной самостью – метафизическим «я». Не будучи солипсистом, я в это не верю. (Хотя в детстве верил, что могу накрыть мир темнотой, закрыв глаза.) Даже если я есть центр своего субъективного мира, я верю, что есть объективный мир, существующий независимо от меня, – огромная область пространства и времени, из которой мне известна лишь крохотная часть. Этот объективный мир существовал до моего рождения и будет существовать после моей смерти. Я также верю, что объективный мир не имеет центра или встроенной перспективы (какую он имел бы, например, если бы существовал в сознании Бога). А поскольку мир не имеет центра, то я должен попытаться его понять.
Эту бесцентровую точку зрения на мир Томас Нагель назвал запоминающимся термином «взгляд из ниоткуда». «Я», смотрящее на мир с этой точки зрения, он назвал «объективное» или «истинное „я“». По мнению Нагеля, «объективное „я“» несколько отличается от конкретного человека. Оно использует ощущения этого человека как некое окно в мир, создавая на их основе концепцию реальности без точки зрения. Однако в результате «объективное „я“» сталкивается с удивительной загадкой: «Как могу я, мыслящий обо всей Вселенной без центра, быть чем-то столь особенным – быть этим ничтожным, не имеющим оснований для бытия созданием, существующим в крохотном уголке пространства-времени, имеющим определенную, хотя и вовсе не универсальную, психическую и физическую структуру? Как я могу быть чем-то столь маленьким, определенным и особенным?»180
Рассматривая мир объективно, Нагель удивляется, что его сознание должно быть локализовано в конкретном человеческом существе: «Как это понять, что я – Томас Нагель?»181 Ему кажется чудесным, что он, недолговечный органический пузырек в океане реальности, оказался «мировой душой в скромном обличии». Чтобы избежать обвинений в метафизической мании величия, Нагель указывает на смягчающее обстоятельство: «Та же самая мысль доступна любому из вас. Вы все есть субъекты Вселенной, не имеющей центра, и любой человек или марсианин должны казаться вам случайностью. Я не утверждаю, что лично я есть субъект этой Вселенной; я лишь субъект, способный вообразить не имеющую центра Вселенную, где Томас Нагель есть ничтожная пылинка, которой вообще могло бы не быть»182.
Философы, желающие сбить спесь с «объективного „я“» Нагеля, заявляют, что утверждение «я есть Томас Нагель» верно тогда и только тогда, когда высказано самим Томасом Нагелем, и в нем нет ничего особенного, ничего удивительного и никакого более глубокого смысла, чем буквальный. Оно ничем не отличается от фразы «сегодня вторник», которая верна тогда и только тогда, когда высказана во вторник. Однако Нагель возражает, что подобный безличный семантический анализ оставляет пробел в нашем понимании мира. Даже если вся общедоступная информация о человеке по имени Томас Нагель будет включена в объективную концепцию, говорит он, «дополнительная мысль, что Т. Н. – это я, определенно содержит дополнительные данные. Причем эти данные поражают»183. (В обеденное время, напечатав предыдущий параграф, я отправился в ближайшую закусочную в Гринвич-Виллидж за сэндвичем с курицей и авокадо. В очереди к кассе с корзиной продуктов в руках неприметно стоял сам Томас Нагель – мировая душа в скромном обличии. Я ему кивнул, и он дружелюбно кивнул в ответ.)
Испытываю ли я схожие чувства, поражает ли меня, что я – Джим Холт? Зависит от настроения. Иногда эта мысль кажется мне глубоко загадочной, а иногда – абсолютно пустой. (В этом отношении она похожа на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?».) В отличие от Нагеля, я не очень удивляюсь, когда размышляю над собственной космической ничтожностью. Мне несложно представить себя «незначительной пылинкой».
Мог ли я быть кем-то другим, не Джимом Холтом, а какой-то другой пылинкой? Допустим, мировая история не изменилась, только я был бы Наполеоном, а Наполеон был бы мной. Что происходит, когда я пытаюсь вообразить такую возможность? Я могу представить себя человеком низкого роста, в треугольной шляпе, с рукой, заложенной за отворот мундира, созерцающим опустошение на поле боя под Аустерлицем. Однако, как проницательно заметил философ Бернард Уильямс, все, что я на самом деле здесь себе вообразил, это игру в Наполеона, что позволяет мне понять, как я мог бы быть Наполеоном, не более, чем наблюдение за Шарлем Буайе в роли Наполеона на экране позволяет мне понять, как он мог бы быть Наполеоном.
Если я скажу себе: «Я мог бы быть Наполеоном», местоимение «я» не может относиться к реальному Джиму Холту, который тихо-мирно жил в Северной Америке в конце двадцатого – начале двадцать первого века, потому что в этом случае данное утверждение будет прямым противоречием. Таким образом, «я» должно относиться к моей личности, какой она была бы без всего физического и психологического багажа, – к моему чистому, вечному и лишенному характерных черт картезианскому эго. Именно такое «я» я пытаюсь вообразить, представляя себя в роли Наполеона. А есть ли у меня такое «я»? А у вас?
Если у вас есть такое «я», то открывающиеся в этом случае возможности более ошеломительны, чем шанс поменяться местами с Наполеоном. Например, вы могли бы (как заметил Дерек Парфит) вдруг прекратить существовать в процессе чтения этого абзаца и заменить свое «я» на новое, которое будет населять ваше тело и в точности примет ваши психологические черты. Подобное происшествие никак не будет заметно снаружи.
Другая возможность состоит в том, что мир мог бы быть точно таким же, какой он есть, за исключением того, что ваше чистое картезианское эго никогда не существовало. Ваша эмпирическая личность с ее генетической идентичностью, воспоминаниями, социальными связями и всей прочей историей вашей жизни была бы здесь, но это были бы не вы, а ваш (идеальный) близнец. Крохотное пламя вашего сознания никогда бы не мерцало в этом мире.
В наши дни трудно найти философа, который бы всерьез воспринимал идею чистого картезианского эго. Парфит называет ее «невразумительной», а Нагель, несмотря на разговоры об «объективном „я“», не дает никаких указаний на то, что, по его мнению, такое «я» может быть полностью отдельным от физических и психологических якорей. (В самом деле, если мозг является сердцевиной личности, как предполагает Нагель, то даже после трансплантации моего мозга в тело Наполеона я все равно оставался бы Джимом Холтом, только ниже ростом и более бледным.) А если эго можно подобным образом отделить, задается вопросом Уильям, то что остается, чтобы отличить одно картезианское эго от другого? Что именно потеряет мир, если убрать меня?
«Изумление от того, что Вселенная содержит существо с уникальным свойством быть мной, – это очень глубокое чувство», – заметил Нагель. Я тоже отчасти разделяю его изумление фактом своего существования – тем, что Вселенная как-то произвела те самые мысли, которые сейчас пенятся в потоке моего сознания.
Тем не менее изумление, которое я испытываю от невероятности своего существования, имеет любопытную противоположность: мне трудно вообразить мое полное несуществование. Почему так трудно представить себе мир, в котором меня нет, в котором я никогда не появился на свет? В конце концов, я знаю, что вряд ли являюсь необходимым элементом реальности. Однако, подобно Витгенштейну, я не могу думать о мире, если не считаю его своим собственным. Хотя я являюсь частью реальности, реальность кажется частью меня. Я стою в ее центре, я – солнце, которое ее освещает. Вообразить, будто меня никогда не было, все равно что вообразить, будто мира никогда не было – будто вместо Нечто было только Ничто.
Я знаю, что ощущение, будто реальность мира зависит от моего существования, есть лишь иллюзия солипсизма, и тем не менее мне трудно от нее избавиться. Возможно, мне удастся вырваться из тисков этой иллюзии, если я буду постоянно помнить, что мир жил себе и не тужил многие тысячи лет до того момента, когда я вдруг очнулся, появившись на свет из тьмы беспамятства, и будет жить-поживать и после того неизбежного мгновения, когда я вернусь в эту тьму.
Глава 15 Возвращение в Ничто
К своему великому удивлению, человек внезапно осознает собственное бытие, после тысяч лет небытия; живет непродолжительное время; затем вновь наступает столь же длительный период, когда он не должен более существовать. Сердце протестует против этого, чувствуя, что так быть не может.
Шопенгауэр, «Тщетность бытия»Хотя мое рождение было случайностью, моя смерть есть необходимость. В этом я вполне уверен. Тем не менее мне трудно вообразить свою кончину – и в этом я не одинок. Фрейд говорил, что не может представить себе свою смерть, и то же самое говорил Гете до него: «Совершенно невозможно для мыслящего существа думать о собственном небытии, об окончании мышления и жизни» – и добавлял, что «в этом отношении каждый носит в себе, хотя и невольно, доказательство собственного бессмертия».
Подобное «доказательство» бессмертия, к сожалению, никакой ценности не имеет. Это всего лишь еще один пример того, что называют философским заблуждением, то есть ошибочное принятие нехватки воображения за прозрение в суть реальности. Более того, не все находят собственную кончину чем-то невообразимым. В величественной поэме «О природе вещей» Лукреций утверждал, что вообразить свое небытие после смерти не труднее, чем вообразить себя несуществующим до своего рождения. Дэвид Юм, очевидно, разделял это мнение и говорил, что небытие после жизни ничуть не страшнее, чем до нее. Когда Джеймс Босуэлл спросил Юма, пугает ли его мысль об исчезновении, Юм спокойно ответил: «Ничуть»184.
Подобная невозмутимость перед лицом смерти называется «философской». Цицерон заявил, что философствовать – это значит приуготовлять себя к смерти. И здесь примером является Сократ. Приговоренный афинским судом к смерти за нечестивость, Сократ спокойно и охотно выпил смертельный яд. Смерть, сказал он друзьям, может быть уничтожением и тогда похожа на долгое забытье без снов, а может быть переходом души из одного места в другое. В любом случае бояться нечего.
Почему перспектива собственного уничтожения должна волновать меня, если она не волновала Сократа или Юма? Я уже сказал, что не могу вообразить свою смерть. От этого она кажется загадочной и потому пугающей. Однако я не могу вообразить себя в полностью бессознательном состоянии, хотя вхожу в него каждую ночь и оно меня не пугает.
Ужас смерти не в перспективе бесконечного небытия, а в перспективе потери всех благ жизни, причем навсегда. «Чтобы понять, почему смерть считается плохой, – писал Томас Нагель, – нужно принять, что жизнь – это хорошо, а смерть, соответственно, является потерей или лишением»185. И если вы не испытываете ощущения потери после того, как перестали быть, это вовсе не делает эту потерю незначительной для вас. Допустим, говорит Нагель, что умный человек после повреждения мозга оказался в состоянии довольного жизнью младенца. Это, безусловно, огромная беда для этого человека, даже если он не воспринимает ее таким образом. Так разве не верно то же самое в случае смерти, где потеря еще более тяжелая?
А что, если в вашей жизни нет ничего хорошего? Что, если она состоит из нескончаемой агонии или невыносимой скуки? Не лучше ли небытие? У меня этот вопрос вызывает противоречивые чувства, однако рассуждения покойного британского философа Ричарда Уоллхайма, утверждавшего, что смерть есть несчастье, даже если жизнь целиком лишена удовольствий, впечатляют: «Дело не в том, что смерть лишает нас определенного вида удовольствия или удовольствия вообще. Она лишает нас чего-то более фундаментального, чем удовольствие, – чего-то такого, к чему мы получаем доступ, когда входим в свое нынешное состояние… Смерть лишает нас ощущения мира, а испытав это ощущение однажды, мы входим во вкус и не можем от него отказаться, даже если усиливается желание прекратить боль, перестать существовать»186.
Еще больше меня впечатлило признание Мигеля де Унамуно в его книге «О трагическом чувстве жизни у людей и народов»:
«И в самом деле, я должен признаваться, как ни тяжело в этом признаться, что никогда, во времена простодушной веры моего детства, меня не пугали описания мук ада, какими бы жестокими они ни были, и я всегда чувствовал, что небытие гораздо страшнее ада. Кто страдает, но все же живет, и живет страдая, тот любит и надеется, даже несмотря на то, что на дверях его тюрьмы начертано: „Оставь надежду, всяк сюда входящий“!», и лучше жить страдая, чем почить с миром. В сущности, дело в том, что я не мог верить в эту жестокость ада, жестокость вечного наказания, и не видеть того, что истинный ад – в небытии и в перспективе небытия»[23].
Ужас смерти выходит за рамки мысли о том, что суета жизни продолжится без нас, ведь даже солипсист, считающий, что от него зависит существование мира, боится смерти. И мой собственный страх смерти не станет меньше, если я буду думать, что умру в результате некоего общего катаклизма, который сотрет все живое с лица Земли или вообще уничтожит весь космос. Напротив, такая мысль лишь усилит мой страх смерти.
Нет, именно перспектива небытия вызывает у меня тошноту, а то и, подобно Унамуно, настоящий ужас. Как представить себе это небытие? С объективной точки зрения моя смерть, как и мое появление на свет, является заурядным биологическим событием, которое происходило миллиарды раз с представителями моего вида. Однако изнутри невозможно себе представить, что исчезнет мир в моем сознании, исчезнет все содержимое моего сознания, наступит конец субъективного времени. Это моя «самособственная смерть», как выразился американский философ Марк Джонстон, это затухание пламени моего «я», «конец места бытия и действия». Джонстон считает, что перспектива «самособственной смерти» ставит в тупик и приводит в ужас, потому что показывает, что мы, вопреки своим представлениям, не являемся ни центром мира, ни источником реальности, в которой обитаем187.
Нагель придерживается сходной точки зрения. Изнутри, пишет он, «мое существование представляется вселенной возможностей, которая стоит сама по себе, то есть не нуждается ни в чем для продолжения существования. И потому неизбежен жестокий шок, когда это частично неосознанное представление о себе сталкивается с грубым фактом того, что Томас Нагель умрет и я умру вместе с ним. Это исключительно сильная форма небытия… Оказывается, что я не такой, каким мне хотелось себя представлять: не набор ни на чем не основанных возможностей, а набор возможностей, ограниченных условиями реальности»188.
Не все философы рассматривают неизбежное возвращение в небытие в столь мрачном свете. Дерек Парфит, например, рассуждает о хрупкости «я», освободившей его от веры в то, что он либо существует, либо не существует: смерть всего лишь разорвет некоторые психологические и физические связи, оставив в целости остальные. «Вот и все, к чему сводится тот факт, что меня не будет среди живых, – пишет Парфит. – Теперь, когда я это увидел, моя смерть не кажется мне столь ужасной»189.
«Не кажется столь ужасной» – ну что же, это уже лучше. А нельзя ли сказать что-то хорошее про небытие? Как насчет идеи нирваны, задувания пламени личности, прекращения желаний? Может ли личное исчезновение, даруемое нам смертью, быть состоянием вечного покоя, как утверждает буддийская философия? Но как можно наслаждаться чем-то, если ты не существуешь? Отсюда и шутливое определение нирваны как «быть живым ровно настолько, чтобы наслаждаться смертью».
Под влиянием буддизма Шопенгауэр провозгласил, что все стремления есть страдание, поэтому конечной целью личности должно быть уничтожение – возвращение в бессознательную вечность, из которой она когда-то появилась: «Пробужденная к жизни из тьмы беспамятства, воля обнаруживает, что является индивидуумом в бесконечном и безграничном мире, среди бесчисленного множества других индивидов, которые стремятся к чему-то, страдают и ошибаются; и, словно сквозь кошмарный сон, она торопится обратно, в старое беспамятство»190.
Квазибуддийский взгляд Шопенгауэра на жизнь может показаться необоснованно скептическим, однако идея уничтожения как возвращения в потерянное состояние покоя способна вызвать мощный эмоциональный резонанс, уходящий корнями в наше детство. Мы воплощаемся в утробе, в теплом море бессознательного, а затем обнаруживаем себя у материнской груди, в состоянии полного удовлетворения желаний. Наше самосознание постепенно появляется в атмосфере абсолютной зависимости от наших родителей, причем у нашего вида эта зависимость длится гораздо дольше, чем у любого другого. В подростковом возрасте мы должны избавиться от этой зависимости, взбунтовавшись против родителей, отказавшись от домашнего комфорта и отправившись в большой мир самостоятельно. Там мы соревнуемся, чтобы оставить потомство, и таким образом цикл начинается сначала. Однако мир – это опасное место, полное незнакомцев, и наш бунт против родителей вызывает чувство отчуждения, чувство разрыва первородной связи. Только возвратившись домой, можем мы искупить вину существования, достичь примирения и восстановить единство.
Все вышеизложенное есть карикатура на гегелевскую диалектику семьи. Даже в таком приблизительном виде она все же придает некий психологический смысл ощущению реальности (то есть миру за пределами семейной утробы, миру, где происходит взросление) как месту отчуждения.
«В мире мы не чувствуем себя как дома, и потому в основании нашего состояния на самом деле лежит бездомность, – пишет Роджер Скратон об идее экзистенциального отчуждения. – Именно в этом корень первородного греха: благодаря сознанию мы „проваливаемся“ в мир, где мы чужие»191. Отсюда и наше глубоко укорененное желание вернуться в «изначальную точку покоя» – в мир детства и в безопасность семейного очага.
И где же конечный пункт желанного пути искупления, примирения и восстановления единства? В том теплом материнском море, из которого мы возникли, в вечном доме удовлетворенного беспамятства – в Ничто.
Как раз в то время, как я занимал себя столь соблазнительно туманными размышлениями, мне сообщили, что моя мать при смерти. Новость пришла внезапно, но нельзя назвать ее неожиданной. За полтора месяца до этого моя мать, которая жила в долине Шенандоа в Виргинии, где родился и я сам, обратилась к врачу по поводу, как она считала, затянувшегося бронхита. При осмотре в ее легких обнаружили опухоль. До этого момента, все семьдесят с лишним лет жизни, она не жаловалась на здоровье и даже выиграла местный теннисный турнир несколько лет назад. Однако после обнаружения рака ее состояние стало стремительно ухудшаться. Через неделю у нее онемели и отнялись ноги. Оказалось, что опухоль дала метастазы в спинной мозг. Ежедневные сеансы облучения результатов не дали. Больше врачи ничего сделать не могли. Поэтому мать перевели в хоспис. Первые две недели в хосписе она была счастлива: это было небольшое, по-домашнему уютное место, расположенное на уединенной поляне с видом на Голубой хребет. Ей понравились люди, которые за ней ухаживали, и кормили там тоже хорошо – сколько угодно бекона на завтрак. Мать звонила мне в Нью-Йорк каждый день. Друзья ее навещали. Она смотрела по телевизору Открытый чемпионат Франции по теннису. Болей она почти не чувствовала (сколько же морфина ей давали?). И казалось, она совсем не боится смерти. Всю жизнь она была набожной католичкой, каждый день посещала мессу и читала молитвы каждое утро, помимо всего прочего. Она прожила праведную жизнь, соблюдала все заповеди и была уверена, что отправится на небеса, где увидит моего отца, который десять лет назад скоропостижно скончался во сне от сердечного приступа после напряженного дня, проведенного за игрой в теннис и плаванием в море, а также, может быть, встретит там моего младшего брата, который умер несколько лет назад на вечеринке в результате передозировки кокаина.
Я думал, что моя мать уйдет не так скоро, ведь врачи давали ей полгода, но вдруг однажды рано утром позвонила медсестра и сказала, что матери внезапно стало хуже. Она перестала есть и не могла пить, потому что была не в состоянии проглотить даже жидкость, а вводить себе жидкости внутривенно она заранее запретила. Когда она спала, из ее горла вырывались хрипы, а спала она теперь почти все время. Похоже, в течение нескольких дней она умрет.
Я немедленно взял напрокат машину и отправился в восьмичасовое путешествие из Нью-Йорка в Виргинию. Когда я к вечеру добрался до хосписа, в комнате матери уже был священник – молодой, широко улыбающийся филиппинец, который едва мог объясниться по-английски, но тем не менее выглядел по-своему благочестивым. Он уже соборовал мою мать и дал ей отпущение грехов. Когда я подошел к ней, ее глаза открылись, и, кажется, она меня узнала. Пытаясь немного разрядить обстановку, я сказал священнику, что теперь моя мать получила все таинства Церкви, за исключением посвящения в сан, и таким образом опережала его на одно таинство. Веки матери задрожали, и она улыбнулась.
Весь следующий день я провел у ее постели, держа ее за руку и повторяя раз за разом: «Это я, Джим, я рядом, я тебя люблю». Она то приходила в себя, то снова впадала в забытье. В какой-то момент в комнату вошли несколько человек из ее церкви и принялись читать над ней надоедливо повторяющуюся молитву Деве Марии. Когда они наконец ушли, я заметил, что губы матери выглядят очень сухими, и смочил их прохладной водой. Ее веки задрожали, она открыла глаза и посмотрела на меня. «У тебя очень красивый лоб», – едва слышно прошептала она. «Спасибо!» – ответил я. Ее глаза снова закрылись. Через несколько часов я ушел, сомневаясь, что она переживет эту ночь.
Однако когда я вернулся следующим утром, моя мать была еще жива. Медсестра сказала, что она не приходила в сознание всю ночь. Ее глаза были закрыты, и она больше не реагировала на мой голос. Я остался с ней наедине. Положил руку ей на лоб. Поцеловал в щеку. Ее дыхание было ровным, а мышцы лица расслабленными – не похоже, чтобы она испытывала боль. Я спел сентиментальную песенку «Настоящая любовь», которую она часто пела вместе с моим отцом, перемежая пение взрывами смеха. Я заговорил о наших семейных путешествиях много лет назад. Никакой реакции. Я посмотрел сквозь застекленные двери комнаты на летние цветы, на птиц и бабочек. Какая красота! Около полудня зашла медсестра, чтобы перевернуть мать в постели. Ее ноги уже пошли пятнами, что было признаком остановки кровообращения, и пятна поднимались вверх по телу. «Ей осталось около часа», – сказала медсестра и вышла из комнаты.
Дыхание матери становилось все более поверхностным, глаза оставались закрытыми. Она выглядела умиротворенной и лишь иногда судорожно вздыхала. Потом, когда я стоял прямо над ней, держа ее за руку, ее глаза широко раскрылись, словно от испуга. Впервые за день она открыла глаза и, казалось, смотрела на меня. Она открыла рот, и я увидел, как язык дернулся пару раз – пыталась ли она что-то сказать? Через несколько секунд ее дыхание остановилось. Я склонился над ней и прошептал, что люблю ее. Потом вышел в холл и сказал медсестре: «Кажется, она только что умерла».
Затем я вернулся в комнату, чтобы побыть наедине с телом матери. Ее глаза все еще были приоткрыты, голова склонена направо. Я задумался о том, что происходило в ее мозгу теперь, когда сердце перестало биться и кровообращение прекратилось. Без кислорода клетки мозга лихорадочно, но безуспешно пытались продолжать работать, пока, со все возрастающей скоростью, не распались на части. Возможно, несколько секунд сознание мерцало в коре головного мозга, прежде чем моя мать исчезла навсегда. Я только что стал свидетелем крохотного перехода от бытия к небытию. В этой комнате было две личности, а осталась только одна. Через полчаса прибыл сотрудник похоронного бюро – опрятный молодой человек, не по сезону одетый в черный шерстяной костюм. Я дал ему все указания и в последний раз покинул свою мать.
Вечером я позволил себе поужинать в шикарном и перспективном новом ресторане, который недавно открыл в моем родном городе молодой шеф-повар из Манхэттена. Я ничего не ел целый день. В баре я выпил шампанского и довольно многословно рассказал бармену, что сегодня умерла моя мать. Потом я сел за столик, заказал морского черта, органическую свинину и свеклу и выпил бутылку вкуснейшего каберне местного производства. Слегка опьянев, я обменивался шуточками со своей официанткой с добродушным краснощеким лицом и хриплым южным акцентом. Заказал что-то на десерт, запил сладким вином. Потом вышел из ресторана и зашагал по пустынным улицам центра города, восхищаясь стоявшими вперемешку хорошо сохранившимися зданиями как периода до гражданской войны, так и Викторианской эпохи, которые в детстве я воспринимал как должное. Мой родной город, подобно Риму, построен на семи холмах. Я поднялся на вершину самого высокого из них и постоял, созерцая мерцающие огни долины Шенандоа вокруг. Потом я разразился рыданиями.
Проснувшись на следующее утро в доме, принадлежавшем моей матери, а теперь странно пустом, несмотря на обилие старинной мебели, антиквариата и прочего хлама, который она старательно хранила, я заметил, что воздух на улице необычно свеж. Ночью прошел сильный ливень, который теперь сместился к востоку, далеко от долины.
Я решил пойти пробежаться – не просто пробежаться, а с определенной целью. Я воспроизведу гегелевскую диалектику семьи, только в обратном порядке. Подобно заглавному герою в рассказе Джона Чивера «Пловец», я вернусь домой. Только в отличие от героя Чивера, который совершил это путешествие, проплывая через почти непрерывный ряд плавательных бассейнов в пригороде, я пробегу по памятным местам моего детства и юности, в обратном хронологическом порядке, пока не доберусь до места своего зачатия. Я буду не «пловцом», а «бегуном».
Затея была дурацкая, но сразу после смерти одного из родителей вряд ли можно пребывать в состоянии полного здравомыслия. Еще более дурацкой эта затея становилась от того, что я не мог выбросить из головы песню «Роллинг стоунз» «Это будет в последний раз».
Когда я вышел на улицу, утренний туман начинал редеть. Вскоре сквозь него показался вдалеке Голубой хребет, резко очерченный и в самом деле голубой в лучах рассвета. Я пробежал мимо своей школы, где читал в библиотеке Сартра и Хайдеггера, где стал безбожным экзистенциалистом, отвергнув религию, которую мои родители, как им казалось, вложили в меня навсегда, и где дурная компания научила меня курить. Я пробежал мимо обширного дома в псевдогеоргианском стиле с теннисным кортом на заднем дворе – в этом доме мы жили, когда я был подростком, и здесь, в спальне подвального этажа, однажды ночью неуклюже случилось мое сексуальное пробуждение, пока родители были в отъезде. Я пробежал мимо католической церкви, где получил первое причастие, где набожно исповедовался в абсурдных школьных грехах; мимо старого здания школы, где монахини учили меня подражать святому Франциску, покровителю прихода.
Постепенно я добрался до подножия холма, на котором стоял домик из белого кирпича, где мои родители впервые свили гнездо после свадьбы. Холм оказался круче, чем мне помнилось. По мере подъема мне приходилось прилагать все больше усилий. Я подумал, что ускоритель частиц должен достигать все более высоких энергий, чтобы воссоздать более ранние этапы жизни Вселенной. Наконец я взобрался на вершину. Вот и старый дом. Я заглянул в окно, где была спальня моих родителей – сцена Большого взрыва (я простил себе отвратительную игру слов), который произвел на свет меня или, точнее, симметричный сгусток протоплазмы, который в результате длительных и последовательных серий событий, нарушающих симметрию, привел к запутанной реальности, в которой я нахожусь сегодня. Онтогенез повторяет космогонию. Здесь находится изначальный дом моего зарождающегося «я». Я был тронут, но лишь на мгновение: мое путешествие назад во времени – это клише и абсурд. В доме живут другие люди. Жизнь не стоит на месте. Я не смогу воссоединиться с родителями, пока, в свою очередь, не растворюсь в Ничто, уже поглотившем их обоих. Вот это и есть настоящий вечный дом. А теперь на моем пути в Пустоту нет препятствий.
Эпилог: Над Сеной
Париж незадолго до наступления нового тысячелетия. Благодаря любезности общего друга я приглашен на торжество в узком кругу в Коллеж де Франс в честь девяностолетнего юбилея Клода Леви-Стросса. В назначенный вечер я вышел из дома, построенного в XVI веке, где я остановился, между Плас-Мобер и Сеной, и поднялся по улице Сен-Жака к Пантеону. Оказавшись во дворе Коллежа де Франс, я миновал статую ныне забытого ученого эпохи Ренессанса Гийома Бюде и вошел в само здание. После величественного внутреннего двора интерьер показался мне несоразмерным и потрепанным. На торжестве присутствовали с десяток известных профессоров, а также несколько журналистов, но без камер и микрофонов. Подкрепившись парой бокалов бургундского, я удостоился чести быть представленным самому Леви-Строссу, который с трудом поднялся с кресла и пожал мне руку дрожащей рукой. Разговор не клеился, как по причине моего плохого французского, так и из-за состояния ошеломленного изумления: я общался лицом к лицу с величайшим из ныне живущих французских мыслителей!
Через несколько минут Леви-Стросса попросили произнести небольшую речь для собравшихся. Он заговорил без бумажки, медленно и торжественно: «Монтень сказал, что старение уменьшает нас каждый день таким образом, что, когда смерть наконец приходит, она забирает лишь четверть или половину человека. Однако Монтень умер в возрасте пятидесяти девяти лет, так что он и понятия не имел о той глубокой старости, до которой я дожил» и которая, продолжил Леви-Стросс, оказалась «самым занятным сюрпризом моего существования». Он признался, что чувствует себя «разбитой голограммой», потерявшей свою цельность, но все еще сохраняющей образ целого.
Мы не ожидали такой речи – проникновенной, на тему смерти. Леви-Стросс продолжал говорить о «диалоге» между разрушенной личностью, которой он стал (le moi réel), и идеальной самостью, сосуществующей с ней (le moi métonymique). Вторая, замышляя новые амбициозные интеллектуальные проекты, говорит первой: «Ты должна продолжать!» На что первая отвечает: «Это твоя задача, только ты можешь видеть цельную картину». Затем Леви-Стросс поблагодарил собравшихся за то, что помогли ему остановить этот бессмысленный диалог и позволили двум частям его «я» на мгновение снова «объединиться», хотя, добавил он, «я отчетливо понимаю, что le moi réel будет продолжать погружаться в полный распад».
После торжества я покинул Коллеж де Франс и вышел в дождливую парижскую ночь. Спустившись по рю-дез-Эколь до ресторана «Бальзар», я отведал отличного шукрута и выпил большую часть бутылки «Сент-Эмильон». Потом вернулся к себе и включил телевизор.
По телевизору шла передача о книгах[24], которую вел известный французский телеведущий Бернар Пиво. Тем вечером у него в гостях были доминиканский священник, физик-теоретик и буддийский монах. И все они размышляли над глубоким метафизическим вопросом, поставленным три столетия назад Лейбницем: почему существует Нечто, а не Ничто?
Каждый гость отвечал на этот вопрос по-своему. Доминиканец, миловидный, но неулыбчивый молодой человек в очках и белой рясе с капюшоном, утверждал, что реальность имеет божественное происхождение. Подобно тому, как каждый из нас появился на свет в результате действий наших родителей, говорил он, так и Вселенная должна была появиться на свет в результате действий Творца. В основе вопроса лежит первопричина – Бог. Он добавил, что Бог не является первопричиной во временном смысле, поскольку создал и само время. Бог стоит за Большим взрывом, но не до него.
Физик, старше возрастом, с густой шевелюрой седых волос, в голубом пиджаке и с невероятным галстуком-ленточкой, слушал всю эту сверхъестественную чушь с ворчливым нетерпением. Существование Вселенной – дело случайных квантовых флуктуаций, сказал он. Точно так же, как частица и античастица могут возникнуть спонтанно из вакуума, так и семя целой Вселенной может возникнуть спонтанно. Наша Вселенная родилась случайно, из квантовой флуктуации в пустоте. Вот и все.
Буддийский монах, в алом и шафранном одеянии, с обнаженными плечами и свежевыбритой головой, высказал самую интересную точку зрения по обсуждаемому вопросу. Он также выглядел самым симпатичным из гостей: в отличие от чопорного молодого священника и раздражительного старого физика, монах излучал счастье и улыбался не переставая. Как буддист, сказал он, я верю в то, что у Вселенной не было начала. «Ничтовость» – le néant – никогда не уступала место бытию, потому что по определению является противоположностью того, что существует. Мириады причин не смогли бы заставить Вселенную появиться на свет из того, что не существует. Именно поэтому, заявил монах, буддийская доктрина Вселенной без начала с метафизической точки зрения обладает наибольшим смыслом. Все очень просто.
– Вы так считаете? – спросил Бернар Пиво, изогнув бровь.
Буддийский монах искренне заявил, что вовсе не избегал вопроса о происхождении Вселенной, а, скорее, использовал его, чтобы исследовать природу реальности. В конце концов, что такое Вселенная? Это, конечно, не Ничто, однако нечто к нему очень близкое – пустота. Вещи на самом деле не обладают твердостью, которую мы им приписываем. Мир подобен сну, иллюзии. Но наше мышление преобразует эту текучесть в нечто устойчивое и внешне твердое. Отсюда возникают желание, гордость, ревность. Таким образом, буддизм, исправляя метафизическую ошибку, имеет терапевтическую цель – предлагает путь к просветлению. А также разрешает тайну бытия. Когда Лейбниц спросил: «Почему существует Нечто, а не Ничто?», его вопрос предполагал, что Нечто в самом деле существует – а это иллюзия.
– Да неужели? – Пиво вновь скептически изогнул бровь.
– Да, в самом деле! – широко улыбнулся монах.
Я выключил телевизор и вышел в холодную парижскую ночь, чтобы прогуляться и покурить. Выйдя из дома, я повернул к Сене, до которой был всего квартал. Прямо напротив, на другом берегу, темнел Нотр-Дам с его устремленными в небо контрфорсами. Я немного прошелся по набережной, до моего любимого моста Искусств: по нему не ездят машины, поэтому там тихо (не считая шума от уличных музыкантов). На середине моста я остановился, чтобы прикурить сигарету и полюбоваться на Париж в полночь.
Передо мной расстилалась великолепно освещенная часть великой пустоты, о которой говорил буддийский монах. Неужели это действительно лишь бесплотный сон, пустая иллюзия? Она отвратительна, вязка и абсурдна, как считал Сартр, или является божественным даром, как только что говорил доминиканский священник? А может, все это лишь необъяснимая квантовая флуктуация?
Я подумал, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» и в самом деле ужасно загадочен. Стоит заглянуть в него поглубже. Может быть, однажды я даже напишу об этом книгу.
Я бросил окурок в темную воду под мостом и пошел обратно.
Философия, сущ. Направление многих дорог, ведущее из ниоткуда в ничто.
Амброз Бирс, «Словарь сатаны»Благодарности
Я безмерно благодарен Адольфу Грюнбауму, Ричарду Суинберну, Дэвиду Дойчу, Андрею Линде, Александру Виленкину, Стивену Вайнбергу, Роджеру Пенроузу, Джону Лесли, Дереку Парфиту и покойному Джону Апдайку, которые любезно согласились уделить мне время и поделиться своими мыслями. Из тех, с кем мне не удалось пообщаться напрямую, я, очевидно, более всего обязан Томасу Нагелю, философу, чьей оригинальностью, глубиной и цельностью я всегда восхищался. Я также благодарен Сэмюелю Шеффлеру, на чей семинар по метафизике смерти мне повезло попасть в 2010 году; моим философским собеседникам Энтони Готтлибу, Неду Блоку, Полу Богоссиану и Джонатану Адлеру; моему остроумному и прилежному стажеру Джимми О’Хиггинсу; моему агенту Крису Кэлхуну, а также редактору Бобу Уэлу и его помощнику Филипу Марино.
Больше всего я сожалею, что Кристофера Хитченса уже нет среди нас и нельзя поговорить с ним об этой книге. Когда я попросил его об отзыве, он написал из медицинского центра в Хьюстоне, где проходил последний курс лечения от рака: «Присылайте… буду рад такой чести». Десять дней спустя он был мертв.
И наконец, моя благодарность Джареду, Малкольму и Дженни за помощь в пробуждении от космической спячки.
Примечания
1 Dawkins R. God delusion. Boston (MA): Houghton Mifflin Harcourt, 2006. P. 184. Рус. пер.: Докинз Р. Бог как иллюзия / Пер. с англ. Н. Смелковой. М.: Corpus, 2008. (Библиотека фонда «Династия».)
2 Докинз Р. Бог как иллюзия.
3 Hawking S. A Brief History of time. Bantam Books, 1998. P. 190. Рус. пер.: Хокинг С. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр / Пер. с англ. Н. Смородинской. СПб.: Амфора, 2000.
4 Cosmos, Bios, Theos / ed. Margenau H., Varghese R. A.. La Salle (IL): Open Court, 1992. P. 11.
5 Lovejoy A. O. The Great Chain of Being. Oxford University Press, 1973. P. 168. Рус. пер. см.: Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. В. Софронова-Антомони. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.
6 Rescher N. The Riddle of Existence. Lanham (MD); L.: University Press of America, 1994. P. 17.
7 Юм Д. Диалоги о естественной религии / Пер. С. М. Роговина. М.: ЛКИ, 2007.
8 James W. Some Problems of Philosophy. L.: Longmans, Green, 1911. P. 46.
9 James W. Some Problems of Philosophy. P. 46.
10 Lovell A. C. B. The Individual and the Universe. N. Y.: Mentor, 1961. P. 125.
11 Lovejoy A. O. The Great Chain of Being. P. 329.
12 Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер. с нем. Н. О. Гучинской. СПб.: НОУ – «Высшая религиозно-философская школа», 1997. С. 1.
13 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление.
14 Colapinto J. The Interpreter // The New Yorker. 2007. April 16. P. 125.
15 Лейбниц Г. В. Начала природы и благодати, основанные на разуме / Пер. с франц. Н. А. Иванцова // Сочинения в четырех томах. Т. I / Ред., сост., вступит. ст. и примеч. B. В. Соколова; перевод Я. М. Боровского и др. М.: Мысль, 1982. С. 404.
16 Юм Д. Диалоги о естественной религии / Пер. C. М. Роговина. М.: ЛКИ, 2007.
17 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление.
18 Там же.
19 The Logic of Hegel / trans. William Wallace. L.: Clarendon Press, 1892. P. 167.
20 Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам».
21 Витгенштейн Л. Из тетрадей 1914–1916 / Пер. с нем. В. Руднева.
22 Ayer A. J. The Meaning of Life. N. Y.: Scribner, 1990. P. 23.
23 Обращение папы римского Пия XII к Папской академии наук от 22 ноября 1951 г.
24 Peat F. D. Infinite Potential. N. Y.: Perseus, 1996. P. 145.
25 Kragh H. Cosmology and Controversy. Princeton University Press, 1996. P. 46.
26 Gregory J. Fred Hoyle’s Universe. Oxford University Press, 2005. P. 39.
27 Cosmos, Bios, Theos. P. 5.
28 Nozick R. Philosophical Explanations. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1981. P. 116.
Williamson T. Must Do Better // Proceedings of the 2004 St. Andrews Conference on Realism and Truth / ed. P. Greenough, M. Lynch. Cambridge: Oxford University Press, 2004. (Видимо, указанный сборник так и не был издан, однако статья Уильямсона доступна в Интернете. URL: .)
30 James W. Some Problems of Philosophy. P. 46.
31 Updike J. Hugging the Shore. Vintage Books, 1984. P. 601.
32 Сартр Ж.-П. Тошнота / Пер. Ю. Яхниной. М.: Азбука-Классика, 2006.
33 Barrow J. D. New Theories of Everything. Oxford University Press, 2007. Р. 93.
34 Updike J. Bech. Robbinsdale: Fawcett, 1965. P. 131.
35 Там же. Р. 175.
36 Einstein for the 21st Century / ed. Peter Galison et al. Princeton University Press, 2008. Р. 37.
37 Dauben J. W. Georg Cantor. Harvard University Press, 1979. P. 55.
38 The Encyclopedia of Philosophy / ed. P. Edwards. L.: Macmillan, 1967. Vol. 8. P. 302.
39 См.: Atkins P. W. The Creation. L.: W. H. Freeman, 1981. P. 111.
40 Lewis D. K. Parts of Classes. Oxford: Blackwell, 1991. Р. 13.
41 Webster’s New World Dictionary of the American Language / ed. D. B. Guralnik. Glasgow: William Collins, 1976. P. 973.
42 The Works of John Donne in 6 vols. / ed. Henry Alford. Cambridge: John W. Parker, 1839. Vol. 6. P. 155.
43 Updike J. Picked-Up Pieces. Robbinsdale: Fawcett, 1966. P. 97.
44 Heidegger M. Basic Writings / ed. D. Farrell Krell. N. Y.: Harper-Collins, 1993. P. 101.
45 Passmore J. One Hundred Years of Philosophy. L: Penguin, 1968. P. 477.
46 Nozick. Philosophical Explanations. P. 123.
47 Burnyeat M. Review of Nozick’s Philosophical Explanations // Times Literary Supplement. 1982. October 15. P. 1136.
48 Rundle B. Why There Is Something Rather Than Nothing. Oxford University Press, 2006. P. 113.
49 Там же. Р. 116.
50 Там же. Р. 111.
51 Munitz M. K. The Mystery of Existence. N. Y.: New York University Press, 1974. P. 149.
52 Куайн У. В. О. Философия логики / Пер. В. А. Суровцева. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2008.
53 Gelb M. J. How to Think Like Leonardo da Vinci. N. Y.: Delacorte Press, 1998. Р. 25.
54 Holt J. Review of Dawkins’s The God Delusion // New York Times Book Review. 2006. October 22. P. 1.
55 A Dictionary of Philosophy / ed. A. Flew. St. Martin’s Press, 1984. P. 80.
56 Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Пер. А. Н. Крылова; ред. Л. С. Полак. М.: Наука, 1989. С. 31.
57 Фейнман Р. Характер физических законов / Пер. с англ. В. П. Голышева. М.: Наука, 1987.
58 Докинз Р. Бог как иллюзия.
59 Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. В. И. Колядко.
60 Swinburne R. Is There a God? Oxford University Press, 1996. P. 2.
61 Grünbaum A. Rejoinder to Richard Swinburne’s ‘Second Reply to Grünbaum’ // British Journal for the Philosophy of Science. 2005. Vol. 56. P. 930.
62 Докинз Р. Бог как иллюзия.
63 Argument from the Fine-Tuning of the Universe // Physical Cosmology and Philosophy / ed. John Leslie. L.: Macmillan, 1990. P. 158.
64 Ансельм Кентерберийский. Прослогион.
65 The Basic Writings of Bertrand Russell / ed. R. E. Egner et al. N. Y.: Touchstone, 1961. P. 42.
66 Докинз Р. Бог как иллюзия.
67 Кант И. Критика чистого разума. Кн. 2. Гл. 3, раздел 4: «О невозможности онтологического доказательства бытия Бога». Перевод Н. Лосского.
68 Gaunilo. On Behalf of the Fool // Plantinga A. The Ontological Argument from St. Anselm to Contemporary Philosophers. N. Y.: Garden City, Doubleday, 1965. P. 11.
69 Hao Wang. A Logical Journey. Cambridge (MA): MIT Press, 1996. P. 105.
70 Modernizing the Case for God // Time. 1980. April 5. P. 66.
71 Plantinga A. God, Arguments for the Existence of // Routledge Encyclopedia of Philosophy / ed. E. Craig. Routledge, 1988. Vol. 4. P. 88.
72 Plantinga A. The Nature of Necessity. Oxford University Press, 1974. P. 220.
73 Mackie. The Miracle of Theism. Oxford University Press, 1982. P. 61.
74 Russell. History of Western Philosophy. P. 417.
75 Morton O. The Computable Cosmos of David Deutsch // American Scholar. 2000. Summer. P. 52.
76 Deutsch D. The Fabric of Reality. L.: Penguin, 1997. P. 210. Рус. пер.: Дойч Д. Структура реальности / Под ред. В. А. Садовничего; пер. Н. А. Зубченко. М.; Ижевск, 2001.
77 Holt J. Review of David Deutsch’s The Fabric of Reality // Wall Street Journal. 1997. August 7.
78 Morton. Computational Cosmos. P. 51.
79 Deutsch D. The Fabric of Reality. Р. 19.
80 Там же. Р. 139.
81 Nozick. Philosophical Explanations. Р. 120.
82 Там же. Р. 134.
83 Там же. Р. 138.
84 Swinburne. Existence of God. Р. 79.
85 Nozick. Philosophical Explanations. Р. 131.
86 Там же. Р. 130.
87 Там же. Р. 129.
88 Huxley J. Essays of a Humanist. Harper & Row, 1969. P. 107–108.
89 Gribbin J. Q Is for Quantum. Free Press, 1998. P. 311.
90 Виленкин А. Мир многих миров: Физики в поисках иных вселенных / Пер. А. Г. Сергеева. М., 2009. (Библиотека фонда «Династия».)
91 Gribbin J. In the Beginning. Bullfinch, 1993. P. 249.
92 Tryon E. Is the Universe a Vacuum Fluctuation? // Nature. 1973. Vol. 246. P. 396.
93 Guth A. The Inflationary Universe. Addison-Wesley, 1997. P. 273.
94 Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные / Пер. М. В. Кононова. СПб.: Амфора, 2004.
95 Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: Физика в поисках самых фундаментальных законов природы / Пер. А. В. Беркова. М.: Едиториал УРСС, 2004.
96 Horgan J. The End of Science. Addison-Wesley, 1996. P. 71.
97 Weinberg S. A Designer Universe? // New York Review of Books. 1999. October 21.
98 Вайнберг С. Мечты об окончательной теории.
99 Weinberg S. Can Science Explain Everything? Anything? // New York Review of Books. 2001. May 31. P. 50.
100 Виленкин А. Мир многих миров.
101 Хокинг С. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр.
102 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. Д. Лахути, И. Добронравова. СПб.: Олма Медиа Групп, 2007.
103 Вейнберг С. Первые три минуты / Пер. с англ. А. В. Беркова; под ред. и с предисл. Я. Б. Зельдовича. М.: Энергоиздат, 1981.
104 Swinburne. Is There a God? Р. 68.
105 Gardner M. Are Universes Thicker Than Blackberries? N. Y.: W. W. Norton, 2004. P. 9.
106 Davies P. A Brief History of the Multiverse (op-ed) // New York Times. 2003. April 12.
107 Gardner M. Are Universes Thicker Than Blackberries? P. 9.
108 Davies P. A Brief History of the Multiverse.
109 Susskind L. The Cosmic Landscape. Boston: Little, Brown & Co., 2005. P. 317.
110 Цит. по: Davies P. The Mind of God. Touchstone, 1992. P. 140.
111 Connes A., Changeux J.-P. Conversations on Mind, Matter, and Mathematics. Oxford University Press, 1995. P. 26. Рус. пер.: Шанжё Ж.-П., Конн А. Материя и мышление. М.-Ижевск, 2004.
112 Цит. по: Tymoczko T. New Directions in the Philosophy of Mathematics. Princeton University Press, 1998. P. 26.
113 Gödel K. What Is Cantor’s Continuum Problem? // Philosophy of Mathematics / ed. P. Benacerraf, H. Putnam. Cambridge University Press, 1983. P. 484.
114 Wigner E. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences // Communications in Pure and Applied Mathematics. 1960. Vol. 13. No. 1 (February). P. 1–14.
115 Фейнман Р. Характер физических законов / Пер. с англ. В. П. Голышева. М.: Наука, 1987.
116 Barrow J. D. Pi in the Sky. Oxford University Press, 1992. P. 292.
117 Penrose R. The Emperor’s New Mind. Oxford University Press, 1989. P. 428. Рус. пер.: Пенроуз Р. Новый ум короля / Пер. с англ. под общ. ред. В. О. Малышенко. М.: Едиториал УРСС, 2003.
118 Цит. по: Ridley M. Francis Crick. N. Y.: Harper-Collins, 2006. (Eminent Lives.) P. 197.
119 Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Пер. А. Логунова, Н. Зубченко. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005.
120 Hart W. D. The Evolution of Logic. Cambridge UniversityPress, 2010. P. 277.
121 Hardy G. H. A Mathematician’s Apology. Cambridge University Press, 1940. P. 135.
122 Цит. по: Graham L., Kantor J.-M. Naming Infinity. Harvard University Press, 2009. P. 199.
123 Tegmark M. Parallel Universes // Scientific American. 2003, May 2003. P. 50.
124 Там же.
125 Цит. по: Davies. Mind of God. Р. 145.
126 Basic Writings of Bertrand Russell. Р. 255.
127 col1_0 From a Logical Point of View. Harper Torchbooks, 1953. P. 15.
128 Hart. Evolution of Logic. P. 279.
129 Russell B. Nightmares of Eminent Persons. Touchstone, 1955. P. 46.
130 Lange M. Introduction to the Philosophy of Physics. Blackwell, 2002. P. 168.
131 Culler J. Saussure. Fontana, 1985. P. 18.
132 Tegmark M. Parallel Universes.
133 Eddington A. The Nature of the Physical World. Cambridge University Press, 1928. P. 258.
134 Tipler F. The Physics of Immortality. Anchor Books, 1997. P. 209.
135 Nagel T. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 15.
136 Searle J. R. Mind. Oxford: Oxford University Press, 2004. Р. 217.
137 Dennett D. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown & Co., 1991. Р. 450.
138 Nagel T. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 28.
139 Sprigge T. L. S. Theories of Existence. L.: Penguin, 1984. P. 156.
140 col1_2 Panpsychism // Routledge Encyclopedia of Philosophy / ed. E. Craig. L.: Routledge, 1988. Vol. 7. P. 196.
141 Eddington A. The Nature of the Physical World. Cambridge: Cambridge University Press, 1928. P. 276.
142 Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории / Пер. В. В. Васильева. М.: Либроком, 2013.
143 James W. Writings, 1902–1910. N. Y.: Library of America, 1988. P. 723.
144 James W. Principles of Psychology. Mineola (NY): Dover, 1950. Vol. 1. P. 160.
145 Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Пер. А. Логунова, Н. Зубченко. М.: Институт компьютерных исследований, 2005.
146 Searle J. R. The Mystery of Consciousness. N. Y.: New York Review of Books, 1997. P. 156.
147 Larry Kaufman, .
148 James. Principles of Psychology. Vol. 1. P. 276.
149 Mackie. Miracle of Theism. Р. 232.
150 Russell. History of Western Philosophy. P. 417.
151 Interview with Father Robert E. Lauder // Commonweal. 2010. April 15.
152 Russell. History of Western Philosophy. P. 417.
153 Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания.
154 Russell. History of Western Philosophy. P. 417.
155 Parfit D. Why Anything? Why This? // London Review of Books. 1998. January 22; February 5.
156 Parfit D. Reasons and Persons. Oxford University Press, 1984. P. 281.
157 Pyke S. Philosophers. Distributed Art Publishing, 1995. P. 43.
158 Hitchens C. Hitch-22. Twelve, 2010. P. 103.
159 Greene B. The Hidden Reality. Allen Lane, 2011. P. 296.
160 Updike J. The Dogwood Tree // Assorted Prose. Fawcett, 1966. P. 146.
161 Updike. Preface to “Assorted Prose”. P. viii.
162 Updike. Picked-Up Pieces. P. 99.
163 Atkins P. The Creation. W. H. Freeman, 1981. P. 111.
164 Amis M. The War Against Cliché. Vintage, 2002. P. 384.
165 Updike J. Bech. Fawcett, 1965. P. 131.
166 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Пер. М. Н. Грецкого.
167 Russell. History of Western Philosophy. P. 417.
168 Dennett D. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown & Co, 1991. P. 423.
169 Strawson G. Selves: An Essay in Revisionary Metaphysics. Oxford University Press, 2011. P. 246.
170 Nagel T. The View from Nowhere. Oxford University Press, 1986. P. 42.
171 Цит. по: The Oxford Companion to Philosophy / ed. Ted Honderich. Oxford University Press, 1995. P. 817.
172 Витгенштейн Л. Из тетрадей 1914–1916 / Пер. с нем. В. Руднева.
173 Parfit. Reasons and Persons. P. 52.
174 Юм Д. Трактат о человеческой природе / Пер. С. И. Церетели.
175 Parfit. Reasons and Persons. P. 280.
176 Nozick. Philosophical Explanations. P. 87.
177 Scruton R. Modern Philosophy. L.: Penguin, 1994. P. 484.
178 Гуссерль Э. Картезианские размышления / Пер. Д. Скляднева; науч. ред. Я. А. Слинин. СПб.: Наука, 2006.
179 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.
180 Nagel T. The View from Nowhere. Oxford University Press, 1986. P. 61.
181 Там же. Р. 54.
182 Там же. Р. 61.
183 Там же.
184 Critchley S. The Book of Dead Philosophers. Vintage, 2009. P. 176.
185 Nagel T. Mortal Questions. Cambridge University Press, 1979. P. 4.
186 Wollheim R. The Thread of Life. Yale University Press, 1999. P. 269.
187 Johnston M. Surviving Death. Princeton University Press, 2010. P. 138.
188 Nagel. The View from Nowhere. P. 228.
189 Parfit. Reasons and Persons. P. 280.
190 Scruton. Modern Philosophy. P. 378.
191 Scruton. Modern Philosophy. P. 464.
Примечания
1
Пер. К. Бальмонта – примечания в квадратных скобках принадлежат переводчикам, если не указано иное. Цифрами обозначены ссылки на библиографию в конце книги.
(обратно)2
Пер. С. Хоружего и В. Хинкис.
(обратно)3
Причина самого себя (лат.).
(обратно)4
Дэниел Деннет в книге «Опасная идея Дарвина: эволюция и смыслы жизни» (Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life) противопоставляет «воздушный шар» (чудо, никак не связанное с более простыми явлениями) и «строительный кран» (объяснение сложных явлений на основе простых, твердо стоящих на фундаменте физической науки).
(обратно)5
Cosmic Background Explorer – космическая обсерватория, посвященная космологическим исследованиям; спутник был запущен 18 ноября 1989 г.; провел точные измерения характеристик реликтового излучения. Еще более сильное подтверждение инфляционной модели Вселенной было получено весной 2014 г. в эксперименте BISEP2, проводившемся на Северном полюсе. В ходе эксперимента была реконструирована «гравитационная рябь» в ранней Вселенной, которая точно совпала с предсказаниями теории Линде.
(обратно)6
Калам – исламская рационалистическая теология, в широком смысле – любые рассуждения на религиозно-философские темы.
(обратно)7
Одновременно с Жоржем Леметром, и даже немного раньше, и, безусловно, независимо от него внимание Эйнштейна на отсутствие стационарных решений уравнений его общей теории относительности обратил российский метеоролог Александр Александрович Фридман (1888–1925). Он же построил первые решения, описывающие циклические расширения и сжатия замкнутой Вселенной (если ее плотность выше критической) и бесконечное расширение открытой (если плотность ниже или равна критической).
(обратно)8
Big Bang (англ.) – общепринятый термин в англоязычной литературе, соответствующий «Большому взрыву» по-русски. Однако в русском языке пропадает ирония Хойла, построенная на созвучии Big Bang и big band, как назывались модные в то время джазовые оркестры.
(обратно)9
Ослиный мост (лат. pons asinorum) – (перен.) камень преткновения.
(обратно)10
Первый зафиксированный случай употребления слова «цифра» в русском языке относится к изданному в 1703 г. учебному справочнику Л. Ф. Магницкого «Арифметика». Первоначально оно означало знак для записи ноля; в дальнейшем стало применяться к любому численному знаку.
(обратно)11
Пер. А. Лукьянова.
(обратно)12
Физике это явление довольно хорошо и давно известно. Например, при достаточно низких температурах (ниже так называемой точки Кюри) в ферромагнетике будет спонтанная намагниченность. Это значит, что уже при комнатной температуре вам не удастся избавиться от намагниченности железного гвоздя или иголки, потому что энергия состояния с намагниченностью ниже состояния без намагниченности.
(обратно)13
В русском языке существует несколько синонимов для обозначения этого понятия. Термин «мультивселенная», наверное, самый из них понятный, однако используется в научной литературе редко. Гораздо чаще берется калька с английского, и тогда говорят о «мультиверсуме». Но философы, привыкшие к ученой латыни, на которой наша Вселенная – это «универсум», говорят о целом «мультиверсуме» разнообразных миров.
(обратно)14
«Плавание в Византию» Уильяма Йейтса в переводе Григория Кружкова.
(обратно)15
Поскольку речь идет о ранней Вселенной и ее сингулярном состоянии, это различие не принципиально.
(обратно)16
Карл Поппер утверждал, что признаком научности теории служит не столько возможность ее экспериментальной проверки (верификации), сколько возможность ее экспериментального опровержения (фальсификации). Это положение впоследствии получило название фальсификационизма. Сам Поппер указывал, что этот критерий не абсолютный и существуют нефальсифицируемые научные теории.
(обратно)17
Пер. Г. П. Злобина.
(обратно)18
Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн.
(обратно)19
Пер. М. Д. Литвиновой.
(обратно)20
Пер. Ф. Ф. Зелинского.
(обратно)21
Пер. С. И. Церетели.
(обратно)22
Пер. В. М. Топер.
(обратно)23
Пер. Е. В. Гараджа.
(обратно)24
Передача называлась Bouillon de Culture. Доминиканского священника звали Жак Арно, физика – Жан Хайдманн (умер в 2000 году), буддийского монаха – Матье Рикар (прим. автора).
(обратно)



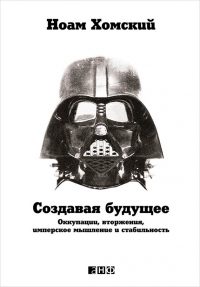





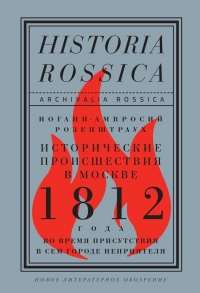
Комментарии к книге «Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив», Джим Холт
Всего 0 комментариев