Славой Жижек Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности
Slavoj Žižek
THE METASTASES OF ENJOYMENT
Печатается с разрешения издательства Verso, an imprint of New Left Books
Copyright © Slavoj Žižek 1994, 2005
© Перевод Ш. Мартынова, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Введение От Сараево до Хичкока… и обратно
Где можно постичь «удовольствие как политический фактор» в его чистейшем виде? На знаменитой фотографии времен еврейских погромов: еврейский мальчик загнан в угол, его окружила группа немцев. Эта группа чрезвычайно интересна – выражения лиц ее участников представляют весь диапазон возможного отношения к происходящему: один «получает удовольствие» совершенно непосредственно, как идиот, другой явно напуган (вероятно, от предчувствия, что может оказаться следующим), третий изображает безразличие, которое скрывает только что проснувшееся любопытство, – и т. д., вплоть до исключительного выражения лица некоего юноши, которому явно неловко, чуть ли не тошно от всего происходящего, он не в силах отдаться событиям целиком, и все же оно его завораживает, он получает от ситуации удовольствие, чья сила много превосходит идиотизм непосредственного наслаждения. И вот он-то опаснее всех: его дрожкая нерешительность – в точности как у Человека-Крысы; то же выражение лица Фрейд заметил у этого пациента, когда тот рассказывал ему о пытках крысы: «Когда [Человек-Крыса] излагал ключевые эпизоды этой истории, лицо его приобретало страннейшее сложное выражение. У меня возникло лишь одно толкование: ужас от получаемого удовольствия, которого сам пациент и не осознавал»[1].
Удовольствие – плодотворная первобытная стихия, метастазы которой пронизывают две взаимосвязанные области – политического и полового, вот почему эта книга разделена на две части. Как же мы себе представляем эту взаимосвязь? Осенью 1992 года, после того, как я прочел лекцию о Хичкоке в одном американском студгородке, кто-то из аудитории возмущенно спросил меня: «Как можете вы говорить о подобных пустяках, когда бывшая ваша страна погибает в огне?» Вот как я ответил: «Как можете вы тут, в Штатах, говорить о Хичкоке? В моем поведении нет ничего травматического, свойственного жертве, я не рассказываю о кошмарных событиях в своей стране: подобное поведение не может не вызывать сострадания и ложной виноватости, коя есть фотонегатив нарциссического удовлетворения, т. е. осознания у моей аудитории, что с ней все в порядке, тогда как у меня все плохо». Но я нарушаю запрет в тот самый миг, когда начинаю вести себя, как моя аудитория, и говорю о Хичкоке, а не об ужасах войны в бывшей Югославии…
Этот мой опыт показывает, что́ для взгляда Запада в Балканском конфликте по-настоящему невыносимо. Довольно будет вспомнить любой типичный репортаж из осажденного Сараево: репортеры тягаются друг с дружкой, кто найдет сцену тошнотворнее – истерзанные детские тела, изнасилованные женщины, изможденные узники; все это – славный корм для оголодавшего западного ока. Однако медийщики куда скупее на слова, когда речь заходит о том, как жители Сараево отчаянно пытаются сохранять видимость нормальной жизни. Трагедия Сараево воплощена в пожилом конторщике, который ежедневно ходит на работу, как привык, но поневоле ускоряет шаг на определенных перекрестках, потому что за соседним пригорком прячется сербский снайпер; в дискотеке, работающей в «обычном режиме», где слышны фоном взрывы; в молоденькой девушке, которая пробирается между руинами к зданию суда, чтобы добиться развода и начать жить с возлюбленным; в выпуске боснийского кинообзора, вышедшего весной 1993 года, с очерками о Скорсезе и Альмодоваре…
Не разница невыносима. Невыносим факт, что, в некотором смысле, разницы никакой: нет в Сараево никаких кровожадных диковинных «балканцев», а есть обыкновенные граждане вроде нас с вами. Стоит только принять это целиком, как граница, отделяющая «нас» от «них», явлена во всей ее условности, и нам приходится отказываться от безопасного расстояния внешних наблюдателей: как на ленте Мёбиуса, часть и целое совпадают, и потому нет больше возможности ясно и четко отделить нас, живущих в «по-настоящему» мирных условиях, и их, обитателей Сараево, изо всех сил пытающихся делать вид, что они живут в мире, – приходится признать, что, в некотором смысле, мы тоже изображаем мирную жизнь, что мир и покой эти – липовые. Сараево – не остров, не исключение из правил в море нормальности – напротив, эта так называемая нормальность сама по себе – остров вымысла посреди повсеместной бойни. Вот чего мы пытаемся избежать, ставя на жертву соответствующее тавро: мы определяем ей место в ущербном пространстве меж двух смертей, будто жертва – пария, своего рода живой мертвец, заточенный в священном пространстве вымысла.
Этим опытом и определяется теоретический и политический контекст данной книги. Часть I анализирует структурную роль насилия при позднем капитализме и таким образом представляет широкий политико-идеологический фон недавних ужасов в Боснии. Часть II посвящена злоключениям фигуры женщины в современных искусстве и идеологии. Цель всей книги – «спасти» тех прогрессивно мыслящих авторов, кого обыкновенно не принимают в расчет как безнадежных реакционеров. Обе части этого издания, вовсе не разнесенные по двум разным пространствам – политического анализа и культурных исследований, – соотносятся друг с другом как две стороны ленты Мёбиуса: стоит нам подальше пройти по одной стороне, как мы вдруг оказываемся на обратной. В первой части внутренняя суть анализа идеологии приводит к связи между насилием и jouissance féminine[2], а во второй оценка дискурсивного положения женщин постоянно смещается к теме властных отношений.
Часть I Причина
1. Тупик «репрессивной десублимации»
Один из праздничных ритуалов нашей интеллектуальной жизни: раз в пару лет объявлять, что психоанализ – démodé[3], превзойден и теперь уж точно мертв и похоронен. План подобных нападок хорошо отработан, в нем три главные темы:
– новые «прозрения» насчет «скандального» научного или личного поведения: к примеру, его предполагаемый побег от действительности отцовского соблазнения («Нападение на истину» Джеффри Мэссона[4]);
– сомнения в эффективности психоаналитического лечения: если подобное лечение вообще действенно, то лишь внушением со стороны аналитика; эти сомнения обычно подкреплены новостями (кои, повторимся, возникают с регулярностью раз в пару лет) о великих прорывах в биологии – наконец-то обнаружена нейронная или еще какая первопричина умственных расстройств…
– отказ психоанализу в научности: психоанализ в лучшем случае – интересное и дерзкое литературно-метафорическое описание того, как работает ум, однако это во всяком случае не наука, способная устанавливать отчетливые причинно-следственные связи.
С точки зрения исторического материализма куда интереснее закономерной критики этих нападок их толкование как индикаторов состояния идеологии в заданный исторический момент. Легко показать, как недавнее возрождение теории совращения (половое насилие со стороны родителей как причина позднейших психических расстройств) не принимает в расчет Фрейдово фундаментальное прозрение в вымышленную суть травмы, т. е. как это возрождение отвергает самостоятельность пространства психики и утверждает традиционные представления о линейности причинно-следственной цепи. Куда плодотворнее, однако, определить это возрождение в контексте нарциссической установки позднего капитализма на субъективность, в которой «другой» как таковой – действительный Другой, наделенный желаниями, – переживается как травмирующее вмешательство, как нечто, жестоко нарушающее замкнутое равновесие моего «я». Что бы ни делал другой – ласкает ли он(а) меня, курит ли, осаживает ли, смотрит ли на меня похотливо или даже не смеется моим шуткам с должной чистосердечностью – всё будет (по крайней мере, потенциально) жестоким посягательством на мое пространство[5].
На глубинном теоретическом уровне все эти нападки направлены на проблему причинности: критикующий либо принимает «научную» точку зрения и винит психоанализ в неспособности формулировать точные, проверяемые законы причинности, либо точку зрения Geistwissenschaften[6] и упрекает психоанализ в «овеществлении» межсубъектной диалектики цепью причинных связей, т. е. в низведении живого индивида до марионетки, брошенной на милость бессознательных механизмов. Качественно отбиться от этой критики, следовательно, можно, лишь полностью изложив воззрения психоанализа в понятиях устоявшейся пары Naturwissenschaften[7] и Geistwissenschaften, то есть детерминизма и герменевтики. Дабы поддержать жизнь в нашем осознании подлинных достижений фрейдистской революции, имеет смысл хотя бы иногда возвращаться к основам, то есть к «наивнейшим», базовым вопросам. Самая ли радикальная версия психического детерминизма – психоанализ? Фрейд – «биолог ума» ли? Отвергнут ли психоанализом сам ум как игрушка бессознательной предопределенности, а его свобода, соответственно, – как иллюзия? Или же, напротив, психоанализ есть «глубинная герменевтика», которая открывает новое пространство анализа смыслов, показывая, как даже в случае (казалось бы) чисто физиологических телесных расстройств мы все равно имеем дело с диалектикой смыслов, с искаженным общением субъекта с самим собой и со своим Другим? Первое, на что следует обратить внимание: эта двойственность отражена во всех фрейдистских теоретических построениях под видом двойственности метапсихологической теории влечений (оральная, анальная, фаллическая стадии и т. д.), полагающейся на физикалистски-биологическую метафорику «механизмов», «энергии» и «стадий», а также на толкования (сновидений, шуток, психопатологии повседневности, симптомов…), которые остаются полностью в сфере смысла.
Указывает ли эта двойственность на то, что Фрейд не разобрался с противостоянием причинности и смысла? Можно ли свести обе стороны вместе в «единой теории фрейдистского поля», если воспользоваться подходящей эйнштейновской формулировкой Жака-Алена Миллера[8]? Ясно, что никакого решения в псевдодиалектическом «синтезе» двух сторон быть не может, не выйдет и применить одну сторону как ключ к другой. Представление о причинной предопределенности психики как хрестоматийного случая объективистского «овеществления», о позитивистском ошибочном распознании подлинно субъективной диалектики смысла столь же невозможно, как не выйдет свести пространство смысла к иллюзорному опыту переживания себя, регулируемому скрытыми причинными механизмами. Но что если подлинные плоды фрейдистской революции следует искать в том, как именно она подрывает само противостояние герменевтики и объяснения, смысла и причинности? На сегодня развернутое представление о психоанализе как о науке, ставящей под вопрос противопоставление герменевтики причинному объяснению, исходит из всего двух источников: от Франкфуртской школы[9] и от Жака Лакана[10].
Критическая теория против психоаналитического «ревизионизма»
Франкфуртская школа сформулировала план «возвращения к Фрейду» как вызов психоаналитическому «ревизионизму» задолго до Лакана. Чтобы наметить путь «возвращения к Фрейду», как точка отсчета подойдет «Общественная амнезия»[11] Расселла Джейкоби: подзаголовок этой книги («Критика конформистской психологии от Адлера до Лэйнга») подсказывает, что в тексте приводится обзор аналитического «ревизионизма» во всей его полноте, от Адлера и Юнга до антипсихиатрии, включая и нео– и постфрейдистов (Фромма, Хорни, Салливэна), а также «экзистенциальный» и «гуманистический» психоанализ разных мастей (Оллпорт, Франкл, Маслоу)[12]. Цель Джейкоби – показать, как сама направленность всей мысли приводит к прогрессирующей «амнезии» относительно общественно-критического зерна Фрейдова озарения. Так или иначе все рассматриваемые авторы и аналитики упрекают Фрейда в его якобы «биологизме», «пансексуализме», «натурализме» или «детерминизме»: Фрейд якобы мыслил субъекта как сущность-«монаду», как абстрактного индивида, брошенного на милость объективных определяющих факторов как пространства действия овеществленных «носителей воли». Фрейд будто бы принял подобные воззрения, никак не учитывая конкретных контекстов межсубъектной деятельности индивида, не определяя психическое устройство индивида внутри общественно-исторической общности.
«Ревизионисты» возражают против подобных «узких» понятий во имя человека как созидательного существа, превосходящего собственную самость в своем экзистенциальном проекте, а объективные определяющие человека факторы, происходящие из инстинктов, суть его «инертные» компоненты, которые обретают значение в системе отношений с миром – деятельных и объединяющих всё. На должном психоаналитическом уровне этот подход, конечно, сводится к закреплению центральной роли «я» как источника синтеза: основной источник психических бед – не подавление недопустимых желаний, а, скорее, стеснение творческого потенциала человека. Иными словами, беды психики обусловлены и срывом «экзистенциальной реализованности», и неподлинными межличностными отношениями, недостатком любви и уверенности в себе, овеществленными современными условиями труда и нравственным конфликтом, возникающим из-за требований отчужденного окружения, которые вынуждают индивида отказаться от своей подлинной Самости и носить маски. Даже когда психическая неустроенность принимает вид половых расстройств, сексуальность остается в стадии, на которой проявлены более глубинные конфликты (касающиеся творческой реализации «я», нужды в подлинном общении и т. д.). (Нимфоманка, например, лишь выражает нужду в тесном человеческом контакте, но в отчужденной и овеществленной форме, определяемой общественным требованием к женщине быть предметом полового удовлетворения.) С этой точки зрения бессознательное – не хранилище непотребных желаний, а результат нравственных конфликтов и творческих тупиков, ставших для субъекта невыносимыми.
Следовательно, «ревизионизм» отстаивает «социализацию» и «историзацию» фрейдистского бессознательного: Фрейда упрекают в проецировании на «вечный удел человека» черт, которые жестко зависят от тех или иных специфических исторических обстоятельств (характер садомазохистской «анальности», закрепленный в капитализме, и т. п.). В трудах Эриха Фромма этот ревизионизм обретает налет марксизма: он пытается усмотреть в «сверх-я» «интернализацию» исторически обусловленных идеологических сил и пытается встроить эдипов комплекс в единство общественных процессов производства и воспроизводства. Однако члены Франкфуртской школы, в особенности Теодор Адорно и Герберт Маркузе[13], изначально противились этой «ревизионистской» тенденции и предпочитали строгий историко-материалистский подход: так называемый Kulturismus-Debatte, первый великий раскол внутри Франкфуртской школы, произошел именно на почве отрицания неофрейдистского ревизионизма, предложенного Фроммом.
Каковы же были возражения Франкфуртской школы этой ревизионистской попытке «социализировать» Фрейда смещением акцента с либидинального конфликта между «я» и «оно» на конфликты общественно-этические внутри «я»? Ревизионизм заменяет «природу» («архаические», «доиндивидуалистические» влечения) «культурой» (творческим потенциалом индивида, его отчуждением в современном «обществе масс»), а для Адорно и Маркузе истинный вопрос содержится в самой «природе». Критическому анализу надлежит отыскать следы исторического вмешательства в том, что представляется «природой» как биологическим или, по крайней мере, филогенетическим прошлым. «Природа» психики есть результат исторического процесса, который, с учетом отчужденности истории, принимает «овеществленный», «натурализованный» вид противоположного себе, т. е. доисторического заданного положения дел:
«Субличностные и до-личностные факторы», определяющие индивида, принадлежат к пространству архаического и биологического, но речь не о природе в чистом виде. Мы говорим о второй природе – истории, которая, затвердев, стала природой. Различение природы и второй природы, пусть и не доступное широкой общественной мысли, критической теории жизненно необходимо. Вторая природа личности – накопленный осадок истории. Застывает именно история, так давно подавляемая – и так давно и однообразно подавляющая. Вторая природа – не просто природа или история, а замерзшая история, проявляющаяся как природа[14].
Подобная «историзация» фрейдистских теоретических построений не имеет ничего общего с сосредоточением ни на общественно-культурных проблемах, ни на нравственных и эмоциональных конфликтах «я» – она, скорее, прямо противостоит ревизионистской попытке «приручить» бессознательное, т. е. пригасить глубинное неразрешимое напряжение между «я», устроенным согласно общественной норме, и бессознательными порывами, противоположными «я», то самое напряжение, кое сообщает теории Фрейда ее критический потенциал. В отчужденном обществе пространство «культуры» опирается на силовое исключение («подавление») человеческого либидинального ядра, которое приобретает форму квази-«природную» – «вторая природа» есть окаменелое свидетельство цены, заплаченной за «культурный прогресс», варварство, заложенное в самой «культуре». Такое «иероглифическое» прочтение, каким обнаруживаются следы отвердевшей истории в квазибиологических скоплениях влечений, применял в первую очередь Маркузе:
В отличие от ревизионистов, Маркузе придерживается фрейдистских квазибиологических представлений – приверженнее самого Фрейда – и, возражая Фрейду, расширяет их. Ревизионисты вводят историю, общественную динамику в психоанализ, так сказать, извне – через общественные ценности, нормы и цели. Маркузе обнаруживает историю внутри этих понятий. Он толкует Фрейдов «биологизм» как вторую природу – окаменелую историю[15].
Никак не упустить в этом пассаже гегельянские представления о бессознательном: появление позитивной объективности, «вещественной» силы, определяющей субъекта извне, следует мыслить как результат самоотчуждения субъекта, не узнающего себя в собственном продукте, – короче говоря, бессознательным именуется «отчужденная субстанция психики». Однако, сказать, что Франкфуртская школа выявляет историю, в которой Фрейд видел лишь природные влечения, недостаточно: говоря так, мы упускаем настоящий, действительный статус «второй природы». Обличье, в котором бессознательное проявлено в «архаических», квази-«биологических» влечениях, само по себе не просто видимость, которую следует отмести «историзацией» бессознательного, – это, скорее, сообразное проявление исторической действительности, которая сама по себе «ложна», т. е. отчуждена, вывернута наизнанку. В современном обществе индивиды в действительности не субъекты, «обреченные на свободу», занятые воплощением своих экзистенциальных проектов, – они суть атомы, брошенные на милость квази-«природных» отчужденных сил, и не имеют возможности «вмешиваться» в их действие или как-либо осмыслять их. Поэтому фрейдистский подход, отказывающий «я» в автономии и описывающий динамику «приближенных к природе» влечений, которым индивид подчинен, как гораздо более близкую к общественной действительности, чем любое воспевание человеческой способности к творчеству.
И хотя некоторые рассуждения Фрейда указывают на историческое «опосредование» динамики мотивации[16], его теоретическая позиция, тем не менее, предполагает понятие о влечениях как об объективных определяющих свойствах психической жизни. Согласно Адорно, это «природо-ориентированное» представление вводит в построения Фрейда неразрешимое противоречие: с одной стороны, все развитие цивилизации обречено – по крайней мере, косвенно – на подавление зачаточных влечений в угоду общественным отношениям доминирования и эксплуатации; с другой стороны, подавление как отказ от удовлетворения влечений мыслится как необходимое и непреодолимое условие появления «высшей» человеческой деятельности, т. е. культуры. Одно внутритеоретическое следствие этого противоречия – невозможность теоретически осмысленно различить подавление влечения и его сублимацию: любая попытка провести четкую границу между этими двумя понятиями сводится к не относящимся к делу вспомогательным построениям. Эта немощь теории указывает на общественную действительность, в которой любая сублимация (любое психическое действие, не направленное на мгновенное удовлетворение позыва) непременно отмечена клеймом патологического – или, по крайней мере, патогенного – подавления. А потому имеется радикальная внутренняя нерешительность, свойственная фундаментальному намерению психоаналитической теории и практики: это разрыв между «раскрепощающим» порывом освободить подавленный либидинальный потенциал и «смиренным консерватизмом» принятия подавления как неизбежной платы за развитие цивилизации.
Та же безвыходность проявляется и в подходах к лечению: исходно психоанализ, воодушевленный страстью радикального Просвещения, потребовал уничтожения любой силы авторитарного контроля над бессознательным. Однако, по мере насущно потребовавшегося различения «оно», «я» и «сверх-я», аналитический подход к пациентам все более нацеливался не на уничтожение «сверх-я», а на «гармонизацию» этих трех сил: аналитики ввели вспомогательное различение между «невротическим, навязчивым» «сверх-я» и «сверх-я» «здравым», благотворным, что есть полная теоретическая чушь, поскольку «сверх-я» определяется своей «навязчивой» природой. В работах самого Фрейда «сверх-я» – и так вспомогательное построение, чья функция – разрешать противоречия ролей «я». «Я» есть функция сознания и рационального контроля, оно посредничает между внутрипсихическими силами и внешней действительностью: подавляет влечения ради этой самой действительности. Однако «действительность» – отчужденная общественная повседневность – вынуждает индивидов к отречениям, на которые те рационально, сознательно не готовы.
Таким образом, «я» как представитель действительности парадоксальным образом действует в поддержку бессознательных, иррациональных запретов. Короче говоря, мы неизбежно упираемся в противоречие: «я» – поскольку оно есть сознание – должно быть противоположностью подавлению и, одновременно, поскольку оно есть бессознательное, – оно должно быть силой подавления[17]. По этой причине любые постулаты «сильного “я”», дорогие сердцам ревизионистов, – глубоко неоднозначны: обе функции «я» (сознание и подавление) переплетены неразрывно, и потому «катарсический» метод раннего психоанализа, подпитанный потребностью сокрушить любые препятствия, чинимые подавлением, неизбежно приводит к разрушению самого «я», т. е. к распаду «защитных механизмов, задействованных в сопротивлении, без которого сохранять единство “я” как противовеса многочисленным влечениям невозможно»[18]; при этом любые попытки «укрепить я» влекут за собой еще большее подавление.
Психоанализ выбирается из этого тупика путем компромисса, «практико-терапевтической бессмыслицей, согласно которой защитные механизмы нужно поочередно уничтожать и укреплять»[19]: в случае с неврозами, когда «сверх-я» слишком сильно, а «я» не хватает сил даже на минимальное удовлетворение влечений, сопротивление «сверх-я» требуется сломить, а в случае психоза, когда «сверх-я», сила общественной нормы, слишком слабо, его нужно укреплять. В цели психоанализа с его противоречивым характером, таким образом, находит отражение глубинное общественное противостояние – конфликт между нуждами индивида и требованиями общества.
Противоречие как показатель истинности теории
Теперь следует ни в коем случае не упустить из виду эпистемологические и практические риски наших ставок на Адорно: он совсем не намеревается «разрешить» или «устранить» это противоречие тем или иным «прояснением» – напротив, он нацеливается мыслить это противоречие как непосредственный показатель «противоречия» – противостояния, иными словами, – какое есть в само́й общественной действительности, где за любое развитие «высших» («духовных») способностей приходится платить «подавлением» влечений в пользу общества и его интересов, где оборотная сторона любой «сублимации» (перенаправления либидинальной энергии к «высшим», неполовым целям) есть неисправимо «варварское», жестокое подавление. То, что изначально возникло у Фрейда как «теоретическая недостаточность» или «понятийная неточность», содержит в себе внутреннюю познавательную ценность, поскольку указывает, где фрейдистская теория соприкасается с истиной. И именно это невыносимое «противоречие», которое многочисленные ревизионизмы пытаются обойти, смягчить это жжение ради «культурализма», предполагает возможность ненасильственной «сублимации», «развития человеческого творческого потенциала», не оплаченного немым страданием, проявленным в напластованиях бессознательного. Вот так складывается устойчивое, однородное теоретическое построение, но при этом попросту теряется истина, добытая открытием Фрейда. Критическая же теория, наоборот, ценит Фрейда как неидеологизированного мыслителя и теоретика противоречий – противоречий, которых его последователи пытались избежать и которые желали бы скрыть. В этом Фрейд был «классическим» буржуазным мыслителем, тогда как ревизионисты – «классические» идеологи. «Величие Фрейда, – писал Адорно, – состоит в том, что, как и все великие буржуазные мыслители, он оставил неразрешенными противоречия и презрел мнимую гармонию в том, что по сути своей противоречиво. Он вскрыл антагонистический характер общественной действительности»[20].
Вот здесь тех, кто ставил Франкфуртскую школу на одну доску с «фрейдомарксизмом», ожидает первый сюрприз: Адорно с самого начала разоблачает бессилие и внутреннюю теоретическую ошибочность попыток «фрейдомарксизма» обеспечить общий для исторического материализма и психоанализа язык, т. е. перекинуть мост от объективных общественных отношений к страданиям отдельного индивида. Эту немощь не упразднить «мысленным усилием» – присущей теории процедурой «преодоления» «предвзятости» и психоанализа, и исторического материализма неким «более масштабным синтезом», поскольку это бессилие указывает на «подлинный конфликт между частным и общим»[21], между индивидуальным опытом собственной самости человека и объективным общественным всеобщим. «Автономность» психологического субъекта имеет, конечно, свою идеологическую притягательность, которая возникает из «размытости отчужденной объективности»[22]: бессилие индивида иметь дело с общественной объективностью идеологически оборачивается возвеличиванием монадологического субъекта. Представление о «психологическом» субъекте, о «бессознательной» емкости влечений, не зависящих от общественного вмешательства, таким образом, есть, несомненно, идеологическое следствие общественных противоречий:
Неодновременность бессознательного и сознательного всего лишь вскрывает язвы противоречивой общественной эволюции. Бессознательное накапливает то, что брошено субъектом, что не принято в расчет прогрессом и Просвещением[23].
Независимо от оправданности упора на общественное вмешательство в любое психическое содержимое, совершенно необходимо сохранять диалектическое напряжение между психическим и общественным, дабы избежать скоропалительной «социализации» бессознательного: социопсихологическое дополнение натурализации бессознательного – лишь сведенная воедино неправда. С одной стороны, выхолащивается психологическое прозрение, особенно различение между сознательным и бессознательным, а с другой – движущие силы общества ложно видятся как психологические силы, а точнее, как силы поверхностной «я»-психологии[24].
Скоропалительная «социализация» бессознательного, таким образом, мстит за себя вдвойне: суровость общественного подавления размывается (поскольку ее последствия можно распознать лишь по язвам бессознательного, исключенного из Общественного), и сами общественные отношения исподволь преобразуются в отношения психические, и таким образом полюса противостояния исчезают – и предельная разнородность бессознательного, и овеществленная «не-психическая» объективность общественных отношений[25].
Эта «регрессия» теории ревизионизма проступает ярче всего во взаимоотношениях между теорией и терапией. Применяя теорию в терапии ревизионизм отменяет их диалектическое противостояние: в отчужденном обществе терапия обречена на неудачу, а причины этой неудачи коренятся в самой теории. «Успех» терапии сводится к «нормализации» пациента, его приспособлению к «нормальной» жизнедеятельности в существующем обществе, тогда как главное достижение психоаналитической теории состоит как раз в объяснении, как «умственный недуг» проистекает из общественного устройства и порядка как таковых, т. е., иными словами, индивидуальное «безумие» основано на той или иной «неудовлетворенности», присущей цивилизации как таковой. И потому подчинение теории терапии приводит к потере критической грани психоанализа:
Психоанализ как индивидуальная терапия неизбежно находится в пространстве общественной несвободы, тогда как психоанализ как теория вольно превосходит и критикует это пространство. Принимать во внимание лишь первую сторону вопроса – психоанализ как терапию – означает притуплять психоанализ как орудие критики цивилизации, обращать его в инструмент приспособления и смирения людей… Психоанализ есть теория несвободного общества, которое нуждается в психоанализе как в терапии[26].
Итак, Джейкоби формулирует то, что сводится к общественно-критической версии тезиса Фрейда о психоанализе как «невозможной профессии»: терапия успешна, лишь если общество в ней не нуждается, то есть это общество таково, что не производит «умственного отчуждения», или же, цитируя Фрейда: «Психоанализ лишь тогда в благоприятных условиях, когда его практики не требуются, т. е. среди здоровых»[27]. Вот он, особого рода «не-встреча»: психоаналитическая терапия необходима лишь там, где невозможна, а возможна лишь там, где в ней более нет потребности.
«Репрессивная десублимация»
Логика такой «не-встречи» подтверждает представление Франкфуртской школы о психоанализе как о «негативной» теории – теории самоотчужденных, расщепленных индивидов, которая своей внутренней практической целью ставит достижение «разотчуждающих» условий, где индивиды не разобщены, над ними более не властвует отчужденная психическая субстанция («бессознательное»), а в таких условиях излишен сам психоанализ. Однако Фрейд продолжал считать свою теорию «позитивной», описывающей неизменные условия цивилизации. Из-за этого ограничения, т. е. потому, что он воспринимал «репрессивную сублимацию» (травматическое подавление qua[28] оборотную сторону сублимации) как антропологическую постоянную – Фрейд не мог предугадать непредвиденных, парадоксальных условий, воплощенных в нашем веке: «репрессивной десублимации», свойственной «постлиберальным» обществам, в которых «торжествующие архаические влечения, победа “оно” над “я”, живут в гармонии с победой общества над индивидом»[29].
Относительная автономия «я» основывалась на его роли как посредника между «оно» (несублимированной субстанцией жизни) и «сверх-я» (силой общественного «подавления», представителем общественных требований). «Репрессивная десублимация» успешно избавляется от этой автономной посредничающей силы «синтеза» – от «я»: посредством такой «десублимации» «я» теряет относительную независимость и регрессирует до бессознательного. Однако это «регрессивное», навязчивое, слепое, «автоматическое» поведение, несущее на себе все признаки «оно», совсем не освобождает нас от давления существующего общественного порядка, полностью подчиняется требованиям «сверх-я», а значит, стоит на службе у общественного порядка. Как следствие, силы общественного «подавления» впрямую властвуют над влечениями индивида.
Буржуазный либеральный субъект подавляет свои бессознательные влечения, усваивая запреты и, следовательно, его самоконтроль позволяет ему смирять в себе либидинальную «непосредственность». В постлиберальных обществах, впрочем, сила общественного подавления более не действует как усвоенный Закон о Запрете, который требует смирения и самоконтроля, – эта сила теперь принимает вид гипнотической, навязывающей поведение «поддайся искушению», т. е., по сути, повелевает: «Получи удовольствие!». Подобное идиотское удовольствие продиктовано общественной средой, в т. ч. и англосаксонскими психоаналитиками, чья главная цель – сделать пациента способным к «нормальным», «здоровым» удовольствиям. Общество требует, чтобы мы уснули, впали в гипнотический транс, обычно под прикрытием противоположного повеления: «Нацистский боевой клич “Германия, проснись” скрывает под собой противоположное»[30]. В том же смысле этой «регрессии» «я» к автоматическому и навязчивому поведению Адорно толкует и образование «масс»:
Никаких сомнений, что у этого процесса есть психологическая грань, но он же указывает и на крепнущую тенденцию к отказу от психологической мотивации в старом, либералистическом ключе. Подобную мотивацию систематически контролируют и поглощают общественные механизмы, направляемые сверху. Когда лидеры осознают массовую психологию и прибирают ее к рукам, она в некотором смысле перестает существовать. Такая потенциальная возможность содержится в основной модели психоанализа – в той мере, в какой для Фрейда понятие психологии, по сути, негативно. Он определяет пространство психологии через верховенство бессознательного и постулирует, что «оно» должно стать «я»[31]. Освобождение человека из-под гетерономной власти бессознательного равносильно устранению его «психологии». Фашизм добивается этого устранения в противоположном смысле – через продление зависимости вместо реализации потенциальной свободы, через отъем бессознательного общественным контролем вместо способствования субъекту в осознании его бессознательного. Психология, с одной стороны, всегда признает определенные узы, сковывающие индивида, но с другой – предполагает свободу в смысле некоторой самодостаточности и автономности индивида. Неслучайно XIX век стал величайшей эпохой психологической мысли. В глубоко овеществленном обществе, в котором практически нет прямых связей между людьми, и где любой человек – всего лишь общественный атом, функция в коллективе, психологические процессы, хоть и продолжаются в любом индивиде, прекращают быть определяющей силой процессов общественных. Вот так психология индивида утеряла то, что Гегель именовал субстанцией. Вероятно, величайшее достоинство книги Фрейда [ «Психология масс и анализ человеческого “Я”»[32]] в том, что, пусть он и ограничил себя областью индивидуальной психологии и предусмотрительно воздержался от введения социологических факторов извне, он, тем не менее, достиг поворотной точки, где психология слагает с себя полномочия. Психологическое «обнищание» субъекта, «сдавшегося на милость объекта», который «подменил собою важнейшую составляющую», то есть «сверх-я», чуть ли не ясновидчески предвосхищает пост-психологические де-индивидуализированные общественные атомы, из которых формируются фашистские общности. У таких общественных атомов психологическая динамика образования группы обманывает их самих, и происходит отрыв от действительности. Категория «подложности» относится и к вождям, и к акту отождествления масс с их предполагаемыми неистовством и истерией. Люди в глубине души действительно считают евреев дьяволом в той же ничтожной мере, в какой верят они своим вожакам. Они не доподлинно отождествляют себя с ним, а изображают это отождествление, отыгрывают энтузиазм и таким образом участвуют в спектакле своего вождя. Как раз посредством этого спектакля массы обретают равновесие между своими постоянно мобилизуемыми инстинктивными позывами и исторической стадией просвещения, до которой добрались, и от которой не выйдет просто так взять и отказаться. Вероятно, именно подозрение в подложности их «групповой психологии» и делает фашиствующие толпы столь беспощадными и неприступными. Если они хоть на секунду прекратят договариваться сами с собою, весь их спектакль развалится, и им останется лишь паниковать[33].
Этот протяженный пассаж предлагает сжатую версию всего критического подхода к психоанализу у Франкфуртской школы. Представление о психологии, приложенной к психоаналитической работе, в конечном счете – негативное: область «психологического» включает в себя все факторы, которые доминируют над «внутренней жизнью» индивида за его спиной, под видом «иррациональной», гетерономной силы, недосягаемой для сознательного контроля. Как следствие, цель психоаналитического процесса – «то, что есть ид, должно стать “я”», т. е. «человек должен освободиться из-под гетерономной власти бессознательного». Подобный свободный, автономный субъект был бы, stricto sensu[34], субъектом без психологии – иными словами, психоанализ стремится «депсихологизировать» субъекта.
Именно на этом фоне следует нам оценивать влияние «репрессивной десублимации»: она превосходит и психологию, поскольку субъектам отказано в «психологическом» измерении в смысле богатства «естественных потребностей», спонтанных либидинальных влечений. Однако, психология здесь превзойдена не путем освобождающей рефлексии, какая позволяет субъекту присвоить подавленное содержимое, а в «противоположном смысле»: она превзойдена через прямую «социализацию» бессознательного, которая происходит «коротким замыканием» между «оно» и «сверх-я» в ущерб «я». Психологическая грань, т. е. либидинальная субстанция жизни, таким образом «упразднена» в строгом гегелевском смысле слова: она сохраняется, но ей отказано в непосредственности, а действия ее полностью «опосредованы» – ими управляют механизмы общественного подавления.
Для примера вернемся к образованию «масс»: в первом приближении имеем показательный случай «регрессии» автономного «я», которое вдруг захвачено некой силой, с которой «я» не может управиться и сдается ее гетерономной гипнотической власти. Однако подобная видимость «спонтанности», всплеска первобытной иррациональной силы, какую можно осмыслить лишь психологическим анализом, ни в коем случае не должна затуманивать ключевой факт: современные «массы» уже сами по себе – искусственное образование, результат «вмененного», направляемого процесса, короче говоря, «массы» – явление «пост-психологическое». «Спонтанность», «фанатизм», «массовая истерия» – все это в конечном счете фальшивка. Из сказанного можно сделать вывод, что «объект психоанализа», его центральная тема, – исторически ограниченная сущность, «монадологический, относительно автономный индивид как стадия конфликта между влечениями и их подавлением»[35] – короче, либеральный буржуазный субъект. Добуржуазная вселенная, где индивид погружен в общественную субстанцию, еще этот конфликт не познала; современный, полностью социализированный «управляемый мир» уже не ведает об этом конфликте:
Современные типы – те, в ком отсутствует всякое «я»; как следствие, они действуют не бессознательно в подлинном смысле слова, но просто отражают черты объективной действительности. Вместе они участвуют в бессмысленном ритуале, следуя навязчивому ритму повторяемости, и скудеют эмоционально: разрушение «я» укрепляет нарциссизм и его коллективные производные[36].
Последнее великое деяние, какое предстоит совершить психоанализу, следовательно, – «вскрыть разрушительные силы, которые в разрушительном Целом действуют в самом Частном»[37]. Психоанализу необходимо распознавать эти субъективные механизмы (коллективный нарциссизм и т. п.), которые, совместно с общественным принуждением, нацелены на разрушение «монадологического, относительно автономного индивида» как истинного предмета психоанализа. Иными словами, последний шаг психоаналитической теории – сформулировать условия своего же устаревания…
Концепция «репрессивной сублимации» была бы гениальной, но чего-то ей не хватает. Адорно вновь и вновь склонен сводить тоталитарную «депсихологизацию» к умонастроению сознательного или, по крайней мере, почти сознательного «корыстного расчета» (манипуляции, конформистского приспосабливания), который якобы скрыт за фасадом иррационального припадка. Подобное упрощение имеет мощные последствия для его взглядов на фашистскую идеологию: Адорно отказывается считать фашизм идеологией в подлинном смысле этого слова, т. е. «рациональной легитимацией существующего строя». Так называемая «фашистская идеология» более не имеет связности рационального конструкта, требующего понятийного анализа и идейно-критического опровержения. «Фашистская идеология» не воспринимается всерьез даже ее основателями, ее статус совершенно инструментален и, в конечном счете, опирается на внешнее принуждение. Фашизм более не «ложь, необходимая, чтобы познать правду», а такая «ложь» есть опознавательный признак подлинной идеологии[38].
Но только ли сведением «фашистской идеологии» к сознательной манипуляции или конформистскому приспосабливанию можно понять депсихологизацию в действии в тоталитарном идеологическом строе? Лакан допускает возможность другого подхода: он настаивает, apropos[39] описания психотического у Клерамбо[40], что нам следует всегда иметь в виду, что у психоза идеаторно нейтральный характер этой речи. Это означает, на его языке, что с аффективной жизнью субъекта она не имеет ничего общего, что никакой аффективный механизм не в состоянии ее объяснить; на нашем же это явление чисто структурное… ядро психоза необходимо связывать с отношением субъекта к означающему в самом формальном его аспекте, в аспекте чистого означающего, а… все, что вокруг этого ядра формируется, представляет собой лишь аффективную реакцию на первичный феномен отношения к означающему[41].
С этой точки зрения «депсихологизация» означает, что субъект сталкивается с «инертной» цепочкой означающих, которая не захватывает его перформативно, но влияет на его субъективную позицию высказывания: в отношении этой цепи у субъекта «отношение извне»[42]. Именно это извне, по Лакану, определяет статус «сверх-я»: «сверх-я» есть Закон в той мере, в какой он не интегрирован в символическую вселенную индивида, в какой «сверх-я» действует как непостижимая, неосмысленная, травматическая запретительная норма, несоизмеримая с психологическим богатством аффективных состояний субъекта, указывая на некую «злонамеренную нейтральную силу», направленную на субъекта, безразличную к его чувствам и страхам. Именно в этой точке, когда субъект сталкивается с «силой буквы» в ее исходной предельной инородности, в бессмыслице означающего в чистейшем виде, он, субъект, получает команду «сверх-я» «Получай удовольствие!», и эта команда адресована сокровенному человеческому ядру.
Довольно будет вспомнить несчастного Шребера[43] – психического больного, чьи записи анализировал Фрейд; судью Шребера постоянно одолевали божественные «голоса» и повелевали ему услаждаться (в т. ч. превратиться в женщину и совокупиться с Богом): ключевая черта Шреберова Бога состоит в том, что он совершенно неспособен понять нас, живых людей – или, цитируя самого Шребера: «…согласно Порядку Вещей, Бог действительно ничего не знал о живых людях, и ему этого и не требовалось»[44]. Эта поразительная несоразмерность психотического Бога и внутренней жизни человека (в отличие от «нормального» Бога, который понимает нас лучше, чем мы – себя самих, т. е. такой Бог, от которого «у сердца нашего никаких тайн»), жестко связан с его статусом как силы, наделяющей удовольствием. В области литературы наилучший пример подобного короткого замыкания между Законом и удовольствием, – теневой Закон в великих романах Кафки (кои – именно поэтому – провозгласили начало тоталитарной либидинальной экономики)[45]. В этом и есть ключ к «репрессивной десублимации», к подобному «извращенному примирению “оно” и “сверх-я” в ущерб “я”»: «репрессивная десублимация» есть способ – единственный в поле зрения Франкфуртской школы – сказать, что при «тоталитаризме» общественный Закон обретает черты запрещающего «сверх-я».
Именно отсутствие внятного представления о «сверх-я» лежит у Адорно в основе постоянного сужения «депсихологизации» фашистской толпы до результата сознательной манипуляции. Этот недостаток происходит от начальной точки, из которой исходит Адорно, из его представления о психоанализе как о «психологической теории», т. е. теории, чей предмет – психологический индивид: приняв подобную установку, уже не избежать вывода, что психоанализ в условиях перехода от «психологического» индивида либерально-буржуазного общества к «пост-психологическому» индивиду «тоталитарного» общества способен лишь различить контуры процесса, ведущего к разрушению предмета психоанализа. Но тут, однако, «возврат к Фрейду» у Лакана, основанный на ключевой роли «силы буквы в бессознательном» – иными словами, на строго непсихологическом характере бессознательного, – переворачивает всё: здесь, где, согласно Адорно, психоанализ достигает собственных пределов и наблюдает разрушение своего «предмета» (психологического индивида), именно в этой точке «сила буквы» возникает как таковая в само́й «исторической действительности», под личиной императива «сверх-я», действующего в «тоталитарном» дискурсе.
Это лакановское перевертывание подхода Адорно позволяет нам разобраться с так называемой фашистской «эстетизацией политического»: подчеркнутая «театральность» фашистского идеологического ритуала показывает, как фашизм «притворяется», «режиссирует» перфомативную силу политического дискурса, переводя его в модальность «понарошку». Любой упор на «лидере» и его «сопровождении», на «миссии» и «духе жертвования» да не введет нас в заблуждение: подобная экзальтация в конечном счете сводится к театральной симуляции добуржуазного дискурса Хозяина. Позиция Адорно, в общем, оправдана подчеркиванием этой самой «симуляции». Его ошибка в другом: он воспринимает эту симуляцию как результат внешнего принуждения и/или стремления к материальной наживе («cui bono?»[46]) – будто маска «тоталитарного» идеологического дискурса скрывает «нормального», «здравомыслящего» индивида, т. е. старого доброго «прагматика», «эгоиста» буржуазного индивидуализма, который просто делает вид, что он увлекся «тоталитарной» идеологией из страха или надежды на материальную выгоду. Напротив, необходимо настаивать на совершенно «серьезном» характере подобного притворства: оно связано с «невключенностью субъекта в регистр означающего», с «внешней имитацией» игры обозначения, подобно так называемым явлениям «понарошку», свойственным протопсихотическим состояниям[47].
Более того, эта «внутренняя отстраненность» субъекта от «тоталитарного» дискурса никак не помогает субъекту «избежать безумия» «тоталитарного» идеологического спектакля, а есть тот самый фактор, из-за которого субъект, по сути, «безумен». Адорно то и дело выражает это предчувствие – когда, например, подразумевает, что субъект «под маской», который «притворяется», будто увлекся, видимо, уже «безумен», «опустошен». И, чтобы избежать этой пустоты, субъект вынужден искать прибежища в нескончаемом идеологическом спектакле, словно, если «шоу» остановится хоть на миг, вся вселенная субъекта развалится[48]… Иными словами, «безумие» не сводится к вере в еврейский заговор, харизму Вождя и т. д. – подобные верования (покуда они подавлены, т. е. остаются в роли не признаваемой поддержки воображения для нашей вселенной значений) формируют составную часть нашей идеологической «нормальности». «Безумие» же проступает при отсутствии подобных увлекающих за собой верований, в самом факте, что «в глубине души люди не верят, что евреи – дьявол». Коротко: безумие проявляется в «симуляции» и «внешней имитации» субъектом подобных верований, оно процветает на этой «внутренней отстраненности» от идеологического дискурса, входящего в общественно-символическое устройство субъекта.
Хабермас: психоанализ как самосознание
Итак, «репрессивная десублимация» играет роль «симптоматического» элемента, который позволяет опознать фундаментальную разницу в подходе Франкфуртской школы к психоанализу. С одной стороны, представление о «репрессивной десублимации» – суть критического подхода к Фрейду у Франкфуртской школы, он сводится к пристальному взгляду на то, что для Фрейда было «немыслимо»: к поразительному «примирению» «оно» и «сверх-я» в «тоталитарных» обществах. С другой стороны, уничтожающая саму себя, структурно размытая природа подобного «примирения» выдает, в какой мере «репрессивная десублимация» есть «псевдоконцепция», сигнализирующая о потребности переформулировать все теоретическое поле.
Как это крайнее напряжение разрешилось в дальнейшем развитии Франкфуртской школы? Разрыв отношений между Франкфуртской школой и психоанализом совершил Юрген Хабермас[49]. Он начинает с вопроса: «Что происходит в психоаналитическом процессе?», т. е. реабилитирует психоаналитическое лечение как краеугольный камень здания теории, а это полностью противоположно Адорно и Маркузе, которым психоанализ как терапия представлялся всего лишь методикой социальной адаптации. Этот сдвиг акцента говорит о более глубинном разрыве: Адорно и Маркузе принимают психоаналитическую теорию как она есть, поскольку в диалектическом противостоянии между теорией и терапией истина, с их точки зрения, – за теорией. Согласно же Хабермасу, Фрейдова теория отставала от психоаналитической практики преимущественно потому, что Фрейд неверно определил ключевую грань психоаналитического лечения: сила языка как инструмента самосознания. Таким образом, Хабермас осуществляет «возврат к Фрейду», перетолковывая всю теоретическую базу Фрейда с позиций языка. Точка отсчета для Хабермаса – Дильтеево[50] разделение «элементарных форм понимания» на лингвистические элементы, поведенческие закономерности и выражения:
В нормальном случае эти три категории выражения сопутствуют друг другу, и потому лингвистическое выражение «соответствует» взаимодействиям, а язык и поступок «соответствуют» эмпирическому выражению; разумеется, их взаимная включенность неполна, и поэтому есть возможность для непрямой коммуникации. Однако в предельном случае языковая игра может распасться до такой степени, что три категории выражения более не будут взаимно согласовываться. В таком случае действия и невербальные выражения изобличают выраженное впрямую… Сам действующий субъект не может наблюдать такое расхождение, а если и наблюдает – не может понять его, поскольку в таких условиях он и выражается, и неверно понимает себя же. Его понимание себя должно держаться осознанного намерения, лингвистического выражения – или, по крайней мере, того, что можно облечь в слова[51].
Если посредством иронического тона или гримасы мы даем понять, что не принимаем свое же утверждение всерьез, разрыв между содержанием сказанного и истинным намерением все еще «нормален»; если же опровержение того, что мы произносим, происходит «за нашей спиной» – под видом «спонтанного», ненамеренного ляпа, – тогда мы имеем дело с патологией. Итак, критерий «нормальности» – в единстве (сознательного) намерения-в-обозначении, и единство это управляет всеми тремя формами выражения. Точнее, поскольку наше сознательное намерение совпадает с тем, что можно выразить в языке, «нормальность» содержится в переводимости любых наших мотивов в намерения, которые можно выразить публичным, межсубъектно принятым языком. Патологическое несоответствие возникает из-за подавленного желания: исключенное из общественной коммуникации, оно находит отдушину в навязчивых жестах и действиях, а также в искаженном, «личном» применении языка. Отталкиваясь от этих несоответствий, Хабермас рано или поздно приходит к идеологической фальши любой герменевтики, которая ограничивает себя (сознательным) намерением в обозначении и спихивает ошибки и искажения истолкованного текста на филологию: герменевтика не может признать, что исправить искажения и восстановить «исходный» текст в целости недостаточно, поскольку «искажения значимы как таковые»:
Опущения и искажения, которые оно [психоаналитическое толкование] исправляет, имеют систематические роль и функцию. Поскольку символические структуры, которые психоанализ пытается понять, искажены из-за внутренних условий[52].
Стандартный герменевтический подход, таким образом, видится фундаментально извращенным: подлинные взгляды говорящего субъекта возникают именно в зазорах его понимания себя, в «бессмысленных» с виду искажениях его текста. Но извращенность эта имеет четкие пределы: Дильтеева стандартная модель единства языка, поведенческих закономерностей и выражения по-прежнему в силе – не как описание подлинных механизмов коммуникативных действий, а как практико-критическая парадигма, норма, в сравнении с которой мы определяем «патологию» текущей коммуникации. Ошибка Дильтея заключалась в том, что он применял эту модель к описанию действительных структур значений, а она работает лишь в условиях «нерепрессивного» общества, и потому Дильтей остался глух к тому, что подавлено действительным дискурсом:
В строгом методическом смысле «неправильное» поведение означает любое отклонение от модели языковой игры коммуникативного действия, в которой мотивы действия и лингвистически выраженные намерения совпадают. В этой модели разрыв между символами и связанными с ними настройками нужд недопустим. По умолчанию считается, что они либо не существуют, либо, если все же существуют, у них нет последствий на уровне публичной коммуникации, привычных взаимодействий и наблюдаемого выражения. Эту модель, впрочем, можно в целом применять в условиях нерепрессивного общества. Следовательно, отк лонения от этой модели в любых известных общественных условиях нормальны[53].
Этот пассаж уже указывает на связь, установленную Хабермасом между психоанализом и критикой идеологии. То, что Фрейд окрестил «сверх-я», проявляется как внутрипсихическое продолжение общественной власти, т. е. закономерностей знания и желания, объектного выбора и т. д., дозволенных обществом. Покуда эти закономерности «интернализованы» субъектом, влечения, противоречащие им, «подавляются»; исключенные из сферы публичной коммуникации, они «овеществляются» под видом «оно», гетерономной силы, в которой субъект сам себя не узнает. Такая защита субъекта от своих же недопустимых влечений не есть сознательный самоконтроль – она сама по себе бессознательна; в этом отношении «сверх-я» похоже на «оно», поскольку символы «сверх-я» «сакрализованы», изъяты из рациональной, аргументированной коммуникации.
Эта концепция включает в себя всю «педагогику», логику развития «я» вплоть до его «зрелости». На (онтогенетически и филогенетически) низших стадиях развития «я» не способно контролировать свои влечения рационально и осознанно, и потому лишь «иррациональная» / «травматическая» сила запрета способна заставить его отказаться от недостижимых излишеств; рациональный подход к отказу делается возможным с постепенным развитием продуктивных сил и форм символической коммуникации, т. е. субъект может сознательно принести необходимые жертвы.
Принципиальный упрек Хабермаса Фрейду – не в том, что Фрейд установил барьер подавления «слишком низко» и сделал его эдакой антропологической постоянной вместо того, чтобы его историзировать; упрек Хабермаса относится к эпистемологическому статусу теории Фрейда: понятийная система, посредством которой Фрейд берется осмыслить свою практику, до нее недотягивает. Психоаналитическая теория возлагает на «я» функцию разумного приспособления к действительности и регулирования влечений, но тут не хватает специфического акта, чья обратная сторона – защитные механизмы: самосознание. Психоанализ не есть ни понимание скрытого значения симптомов, ни объяснение причинной цепи, приведшей к появлению симптома: акт самосознания диалектически превосходит саму двойственность понимания и причинного объяснения. Но как?
Когда либидинальным влечениям не дают проявляться как осознанным намерениям, они приобретают черты псевдоестественных причин, т. е. черты «оно» qua слепой силы, повелевающей субъектом за его спиной. «Оно» проницает текстуру повседневного языка, искажая грамматику и мешая положенному применению публичного языка ложными семантическими определениями: в симптомах субъект говорит на «личном языке», не понятном его осознанному «я». Иными словами, симптомы суть фрагменты публичного текста, привязанные к символам недопустимых желаний, исключенных из публичной коммуникации:
На уровне публичного текста подавленный символ объективно понятен благодаря правилам, вытекающим из случайных обстоятельств жизненной истории индивида, но не связанным с ней согласно субъективно осознанным правилам. Поэтому симптоматическое сокрытие значения и сопряженного с ним искажения взаимодействий сходу не в силах понять ни другие, ни сам субъект[54].
Психоаналитическое толкование проявляет идиосинкразическую связь между фрагментами публичного текста и символами недопустимых либидинальных влечений, оно переводит эти влечения на язык межсубъектной коммуникации. Последняя стадия психоаналитического лечения достигается, когда субъект осознает сам себя, свои мотивации, в отцензурированных главах собственного самовыражения и способен излагать историю своей жизни во всей полноте. В первом приближении психоанализ таким образом двигается путем причинного объяснения: он освещает причинную цепь, которая, при неведении субъекта, породила симптом. Однако – и на этом зиждется настоящее представление о самосознании – само это объяснение цепи причинности исключает его действенность. Сообразное толкование не только ведет к «истинному знанию» симптома, оно одновременно и устраняет симптом, а значит, и «примиряет» субъекта с самим собой – акт познания сам по себе есть акт освобождения от бессознательного вынуждения. Следовательно, Хабермас может мыслить бессознательное согласно модели самоотчуждения, по Гегелю: в бессознательном коммуникация субъекта с самим собой прервана, а психоаналитическое лечение сводится к примирению субъекта с «оно», своей отчужденной субстанцией, неверно распознанной объективизацией субъектом самого себя, т. е. лечение сводится к расшифровке субъектом симптома как выражения его собственных нераспознанных влечений:
Озарение, к которому должен вести анализ, состоит явно лишь в этом: «я» пациента признает себя в другом, представленном болезнью этого «я» как в своей собственной отчужденной «самости», и идентифицирует себя с ним[55].
Однако не следует поспешно поддаваться этому кажущемуся «гегельянству»: в глубине его уже происходит своего рода «возврат к Канту». Совпадение истинных мотиваций с выраженным значением и попутный перевод всех влечений на язык публичной коммуникации имеют свое место в кантианской регулирующей Идее, приближаясь к ней асимптотически. Подавление символов недопустимых желаний, прерванная коммуникация субъекта с самим собой, подлог идеологического Общего, скрывающий тот или иной частный интерес, – все это возникает по эмпирическим причинам, которые снаружи воздействуют на систему языка. Еще раз, по-гегельянски: необходимость искажения не содержится в самом понятии о коммуникации, но обусловлена действительными обстоятельствами труда и подавления, мешающими воплощению идеала – отношений власти и насилия не присущи языку внутренне[56].
«Превосходство предмета»
Отказывая историческому Реальному в «материальном весе», сводя его к условной силе, коя снаружи воздействует на нейтральную трансцендентальную координатную сетку языка и не позволяет ему «нормально» функционировать, Хабермас увечит психоаналитический толковательный процесс. В этом процессе теряется фрейдистское различение между латентной мыслью сновидения и неосознанным желанием, т. е. настояние Фрейда на том, как «нормальный ход мыслей» – нормальный и как таковой выразимый языком публичной коммуникации – «подлежит необычному психическому лечению, которое мы описали», т. е. снотворчеству, «если бессознательное желание, восходящее к младенчеству и в состоянии подавления, оказалось перенесено на него»[57].
Хабермас сводит работу толкования к переводу «латентной мысли сновидения» на межсубъектно признаваемый язык публичной коммуникации, никак не считаясь с тем, как эта мысль «втянута» в бессознательное, если только какое-нибудь уже бессознательное желание не встретит в нем эхо благодаря своего рода передаточному «короткому замыканию». И, как говорит сам Фрейд, это уже бессознательное желание есть «первобытно подавленное»: оно содержит «травматическое ядро», у которого нет «исходника» в языке межсубъектной коммуникации и которое поэтому навеки по природе своей ускользает от символизации, т. е. (пере)перевода на язык межсубъектной коммуникации. Тут мы сталкиваемся с несочетаемостью герменевтики (какой бы «глубокой» герменевтика ни была) и психоаналитической интерпретацией: Хабермас может утверждать, что искажения имеют смысл как таковые – непостижимым для него остается то, что значение как таковое проистекает из определенного искажения, что появление значения основано на отречении от некого «первобытно подавленного» травматического ядра.
Это травматическое ядро, этот остаточный член, не поддающийся субъективации-символизации, stricto sensu, есть причина субъекта. И именно в отношении этого ядра непреодолимая пропасть, отделяющая Хабермаса от Адорно, проявлена со всей ясностью: Хабермас спасает псевдогегельянскую модель присвоения субъектом отчужденно-овеществленного субстанциального содержания, тогда как у Адорно преобладающая тема – «превосходство предмета» – ставит эту модель под вопрос, привлекая «децентрированность», которая, не указывая на отчуждение субъекта, очерчивает грань возможного «примирения». Хабермас и впрямь снимает напряжение, заметное в позднем Адорно; однако удается это ему не «приведением к пониманию» «недодуманного» у Адорно, а изменением всей проблематики, что придает действующему напряжению у Адорно неосязаемость, расплющенность. Как же тогда, если всмотреться, приводит к пониманию недодуманное у Адорно (раз уж, если выложить все карты на стол, достижение Лакана в этом смысле лежит в основе нашего чтения Адорно)?
2. Есть ли у субъекта причина?
Лакан: от герменевтики к причине
Лакан начинал с безусловной поддержки герменевтики: еще в своей докторской диссертации 1933 года и, особенно, в «Disours de Rome»[58], он отказывается от детерминизма в пользу (психоанализа как) герменевтического подхода: «Любой аналитический опыт есть опыт обозначения»[59]. Отсюда происходит сильная Лаканова идея о futur antérieur[60] символизации: факт учитывается не как factum brutum[61], а исключительно как всегда-уже историзованный. (На анальной стадии, к примеру, все дело не в дефекации как таковой, а в том, как ребенок ее осмысляет: как подчинение приказу Другого (родителя), как торжество собственной власти и т. д.) Это Лакан легко переводит в плоскость дальнейшей проблематики антипсихиатрии или экзистенциального психоанализа: Фрейдовы клинические обозначения (истерия, навязчивый невроз, извращение и т. д.) суть не «объективные» категории, клеймящие пациента; они нацелены на умонастроения субъекта, его «экзистенциальные проекты», которые выросли из отдельно взятых межсубъектных ситуаций субъекта, и за которые субъект в свободе своей так или иначе ответственен.
Еще в 1950-х, однако, это герменевтическое отношение подточил червь сомнения. Фрейд по меньшей мере недвусмысленно не позволял сводить психоанализ к герменевтике: его толкования сновидений приняли форму благодаря отказу Фрейда от традиционного рассмотрения их значений. Это Фрейдово сопротивление, его настойчивый поиск причины (травмы) нельзя сбрасывать со счетов как натуралистическую детерминистскую предубежденность. Подобный этому отход Лакана от герменевтики связан не с регрессией в натурализм, а, скорее, делает зримой «экстимную», внутренне присущую ему децентрированность поля означающего, т. е. Причину в действии посреди этого самого поля. Такой сдвиг происходит в два этапа. Лакан перво-наперво принимает структурализм: децентрированная причина обозначения определяется как означающая структура. Главное в этом первом сдвиге от герменевтики к структурализму, следовательно, – именно вопрос причины. Переходя от обозначения к его причине, мы мыслим обозначение как результат переживания: внутренне присущая составляющая воображаемого опыта значения – неверное распознание его определяющей причины, формального механизма самой означающей структуры.
Этот сдвиг от обозначения к причине обозначения (соотносимый с понятием об обозначении как результате) не низводит обозначение к продукту позитивного детерминизма, т. е. это не переход от герменевтики к естественным наукам. Предотвращает это низведение зазор, отделяющий Символическое от Реального. Значит, следующий шаг Лакана – именно взгляд в глубину того, как этот зазор между Реальным и Символическим влияет на сам символический порядок: этот зазор действует как внутренне присущее символическому порядку ограничение. Символический порядок «ограничен», цепь означающих – внутренне непоследовательная, «не всеобъемлющая», организованная вокруг прорехи. Этот внутренний, не поддающийся символизации риф отгораживает Символическое от Реального, т. е. не дает Символическому «упасть» в Реальное и, опять-таки, главное в этой децентрированности Реального относительно Символического – Причина: Реальное есть отсутствующая Причина Символического. Фрейд и Лакан именуют эту причину, конечно же, травмой. В этом смысле теоретические выкладки Лакана лежат «за пределами герменевтики и структурализма» (подзаголовок книги Дрейфуса и Рабиноу о Фуко[62]).
Отношения между причиной и законом – законом причинности, символического определения – следовательно, антагонистические: «Причина отличается от того, что является в любой связной последовательности началом, эту последовательность детерминирующим, т. е. она отличается от закона… Причина, короче говоря, бывает лишь там, где что-то хромает»[63]. Причина qua Реальное вмешивается там, где символическое определение буксует, промахивается, т. е. где означающее отваливается. Из-за этого Причина qua Реальность никогда не может явить свою причинную мощь впрямую, как таковую, но вынуждена всегда действовать опосредованно, в виде возмущений внутри символического порядка. Достаточно вспомнить наши речевые промахи, когда работа автомата цепи означающих мимолетно нарушена вмешательством травматического воспоминаний. Однако то, что Реальное оперирует и доступно лишь через Символическое, не позволяет нам считать его фактором, внутренне присущим Символическому: Реальное есть в точности то, что не поддается хватке Символического, ускользает от него и, следовательно, уловимо в Символическом лишь в виде возмущений в нем.
Вкратце: Реальное есть отсутствующая Причина, которая возмущает причинную обусловленность символического закона. В этом смысле структура множественности причин не упрощаема: Причина являет свое влияние лишь вторично, в некоторых нестыковках или отставании во времени, т. е. если «исходная» травма Реального проявилась, ей требуется зацепиться, найти отголосок в том или ином тупике в настоящем времени. Вспомним ключевую установку Фрейда о том, что «нормальный ход мыслей» – выражение имеющегося тупика – «подлежит необычному психическому лечению, которое мы описали», т. е. толкованию сновидений, «если бессознательное желание, восходящее к младенчеству и в состоянии подавления», т. е. желание, сопутствующее «исходной» травме, «оказалось перенесено на него»[64]. Множественность причин означает, что это утверждение должно читаться и в противоположном направлении: «Бессознательное желание восходит к младенчеству и в состоянии подавления может влиять, лишь если оно привнесено в нормальный ход мыслей»[65].
Следовательно, Причине свойственна некая предельная неопределенность: Причина – настоящая, ранее предположенный риф препятствует символизации и вмешивается в работу автомата символизации, и все же Причина при этом – ретроактивный продукт своих же воздействий. В случае Человека-волка, наиболее известного пациента Фрейда, Причина, разумеется, состояла в травматической сцене coitus a tergo[66] между родителями – эта сцена стала несимволизируемым ядром, вокруг которого завихрились все последующие символизации. Эта Причина, однако, не только оказала влияние лишь с отсрочкой во времени, она буквально стала травмой, т. е. Причиной, из-за этой отсрочки: когда Человек-волк наблюдал в свои два года coitus a tergo, ничего травматического в той сцене не было; сцена обрела травматические черты лишь задним числом, вместе с позднейшими детскими половыми теориями ребенка – тогда-то и стало невозможным встроить эту сцену в только что возникшее поле нарративизации-историзации-символизации.
Вот он, заколдованный круг травмы: травма есть Причина, которая мешает гладкой работе двигателя символизации, выводит его из равновесия, порождает неустранимую нестыковку в символическом поле, однако при этом сама по себе травма до символизации не существует – она остается анаморфной сущностью, обретающей связность лишь ретроспективно, при взгляде на нее в пределах символического поля, – она обретает связность из структурной необходимости несвязности символического поля. Как только мы устраняем ретроспективный характер травмы и «овеществляем» ее как позитивную сущность, какую можно выделить как причину, предшествующую ее символическим последствиям, мы регрессируем к обычному линейному детерминизму. Следовательно, чтобы постичь этот парадокс травматического объекта-причины (Лаканов objet petit a[67]), нужна топологическая модель, в которой граница, отделяющая Внутреннее от Наружного, совпадает с внутренней границей. Объект, рассматриваемый изнутри символического порядка, видится неупрощаемым / составляющим Наружное, как риф, искривляющий символическое пространство, возмущает символическую цепь; как травма, которую нельзя включить в символический порядок, как инородное тело, не дающее символическому порядку полностью себя составить. Однако в тот миг, когда мы «отходим в сторону», чтобы постичь травму как она есть в самой себе, а не через искаженные отражения внутри символического пространства, травматический объект испаряется в ничто[68].
Этот парадокс травмы qua причины, которая не существует прежде своих последствий, а сама задним числом «устанавливается» ими, предполагает некую временну́ю петлю: именно «повторением», отзвуками в структуре означающего причина ретроактивно становится тем, чем она всегда-уже была. Иными словами, прямой подход неизбежно не годится: если пытаться разобраться в травме напрямую, независимо от ее дальнейших последствий, нам остается лишь бессмысленный factum brutum, в случае Человека-волка – факт родительского coitus a tergo, который никакая не причина, поскольку никакого прямого воздействия на психику не имеет. Лишь по отголоскам в символической структуре factum brutum родительского coitus a tergo ретроактивно приобретает травматический характер и становится Причиной.
Как раз это Лакан и имеет в виду, говоря о синхронии означающего в противовес простой одновременности: синхрония устанавливает такую вот парадоксальную временну́ю настройку, совпадение настоящего и прошлого, т. е. такую временную петлю, в которой по мере движения вперед мы возвращаемся туда, где всегда-уже были. Вот в чем суть одержимости Лакана топологическими моделями «искривленного» пространства в 1960–1970-х (лентой Мёбиуса, бутылкой Клейна – «обычной» и в виде восьмерки – и т. д.): все эти модели объединяет то, что их не постичь «с налета», «с первого взгляда» – все они предполагают своего рода логическую временность, т. е. нам надо сначала дать себе попасть в ловушку, стать жертвой оптической иллюзии, чтобы достичь поворотной точки, в которой восприятие вдруг сдвигается, и мы обнаруживаем, что уже оказались «на другой стороне», на другой поверхности. В случае с лентой Мёбиуса, например, «синхрония» возникает, когда, пройдя полный круг, мы обнаруживаем себя в той же точке, но на противолежащей плоскости. В этом парадоксе никак не упустить обертонов Гегеля: это повторение одного и того же, это возвращение к тому же, какие происходят из-за перемены поверхности, – не идеальная ли иллюстрация Гегелева тезиса о тождественности как об абсолютном противоречии? Более того, не сам ли Гегель утверждал, что в диалектическом процессе вещь становится тем, что она есть?
Такое «искривленное» устройство поверхности есть структура субъекта: то, что мы именуем «субъектом», может возникнуть лишь в пределах избыточной детерминированности, т. е. в таком вот заколдованном круге, где Причина сама по себе (пред)полагается ее же последствиями. Субъект жестко соотносится с этим действительным qua Причиной: $[69] – а. Следовательно, чтобы ухватить парадокс устройства «субъективного», нужно превзойти стандартное противопоставление «субъективного» и «объективного», порядок «появления» («вещи лишь для субъекта») и вещи в себе. В той же мере нужно отвергнуть сопутствующее представление о субъекте как о силе, которая «субъективирует», формует и осмысляет инертно-бессмысленную вещь в себе. Objet a как причина – вещь в себе и противится субъективации-символизации, и все же совсем не «независима от субъекта»: объект а, stricto sensu, – тень субъекта среди объектов, своего рода заместитель субъекта, чистое подобие, лишенное всякой собственной состоятельности.
Иными словами, если субъект возникает, он вынужден сопоставлять себя с парадоксальным объектом, который действителен, который не может быть субъективирован. Такой объект остается «абсолютным не-субъектом», чье само присутствие предполагает афаниз[70], уничтожение субъекта; и все же это присутствие как таковое есть сам субъект в противоположном определении, нечто, обратное субъекту, кусок плоти, с которым субъекту придется расстаться, чтобы возникнуть как пустота, далекая от любой объективности. Этот поразительный объект есть сам субъект в режиме объективности, объект, который есть абсолютная инакость субъекта ровно потому, что он ближе к субъекту, чем что угодно, с чем субъект сопоставляет себя в пространстве объективности[71]. Вот что упускает кожевская[72] квазигегельянская негативная онтология субъекта qua негативности, ничто, дыры в позитивности действительного и т. д.: эта пустота субъективности строго соотносится с возникновением в само́м Реальном пятна, которое «есть» субъект. (В сфере философии, возможно, единственное представление, относящееся к этому поразительному объекту, – Кантов трансцендентальный объект: вещь в себе, абсолютное допущение, и при этом одновременно чистая данность – т. е. единственный объект, полностью постановленный самим субъектом, а не – как в случае с обычными ощущаемыми объектами – некое трансцендентально сформованное что-то, под видом чего вещь в себе воздействует на пассивного субъекта[73].)
Итак, мы разобрались, как теория Лакана превозмогает антагонизм объяснения и понимания, обозначения и детерминизма: травматическое Реальное есть, stricto sensu, причина субъекта – не изначальное мгновение в линейной цепи причин, вызывающее субъекта к существованию, а, напротив, недостающее звено в этой цепи, т. е. причина как остаток, как «объект, который невозможно проглотить, так сказать, который застревает в пищеводе означающего»[74]. Как таковое это соотносится с субъектом qua разрыв в цепи причинности означающих, дыра в означающей системе: «субъект видит причину себя как недостающее а»[75]. Это Лаканово представление субъекта как $, соотносимого с a, также проясняет предчувствие Адорно, что субъект парадоксально сопутствует «превосходству объекта» – таким объектом может быть только objet petit a.
Между субстанцией и субъектом
И как же, в свете этого лакановского ви́дения субъекта, следует нам понимать предположение Гегеля о субстанции как о субъекте? У классической Франкфуртской школы, равно как и у Хабермаса, тема «субстанции как субъекта» включает в себя традиционное представление о разотчуждении: самоотчуждение субъекта определяется «подавлением», а посредством разотчуждения субъект опознается в отчужденной субстанции, в этой подложной видимости чужеродной силы, овеществленного результата его же, субъекта, деятельности. Вкратце: субстанция становится субъектом, когда субъект присваивает отчужденное субстанциальное содержимое. Каким бы «гегельянским» ни казалось это ви́дение, оно не восходит лично к Гегелю – это в точности Лаканово представление о субъекте, которое позволяет нам обойти этот традиционный «гегельянизм»; или же, говоря на рефлективном языке триады «постановляющее-внешнее-определяющее»: гегельянство Франкфуртской школы преодолевает внешнюю рефлексию возвращением к утверждающей рефлексии, к представлению о субъекте, который утверждает все субстанциальное содержание, тогда как Гегель впрямую отвергает подобное решение. Как?
Давайте разберемся с этим вопросом именно в точке перехода от субстанции к субъекту: эта точка размещается на конце «логики сути», где с абсолютно необходимым сдвигом в свободу объективная логика переходит в логику субъективную. В понятиях последней, третьей, части Гегелевой логики сути («Актуальность») вопрос «субстанции как субъекта» ставится в следующих понятиях: как определить случайность, чтобы она не схлопнулась в необходимость?[76] Иначе говоря, абстрактное, непосредственное противопоставление необходимости и случайности приводит к их абстрактной тождественности, т. е. к невозможности их понятийного различения:
● Первая попытка отличить случайность от необходимости – «формальные актуальность, возможность и необходимость» – определение категорий чисто формальнологически, без определения содержания (случайное есть актуальная сущность, чья противоположность тоже возможна; возможное есть сущность, которая внутренне непротиворечива); диалектический анализ этих понятий приводит к пустой тавтологии, согласно которой все существующее существует по необходимости – просто по факту своего существования, и его противоположное невозможно. Таким образом, мысль сводится к формальному утверждению необходимости самой обыденной эмпирической действительности.
● Во второй попытке – «действительные актуальность, возможность и необходимость» – все различия тоже схлопываются в необходимость. На сей раз беремся выразить отношения между возможностью и актуальностью конкретнее, соотносясь с содержанием, – как отношения между определенным состоянием вещей и условиями его вероятности, т. е. такими обстоятельствами, которые могли сложиться именно для такого состояния вещей. На этом уровне возможность не предписывает простой формальной непротиворечивости; она действительна и равна общей сумме действительных условий. Однако более пристальный анализ вновь являет внутреннее противоречие категории действительной возможности: как только оная возможность подлинно действительна, т. е. как только все условия для той или иной вещи наличествуют, мы далее имеем дело не с возможностью, а с необходимостью – вещь возникает необходимо. Если же, напротив, наличествуют не все условия, обсуждаемая возможность попросту пока не действительна.
● Третья попытка – абсолютная необходимость – соответствует стандартному представлению о диалектическом синтезе необходимости и случайности, т. е. необходимости, утверждающей себя во взаимодействии случайностей. Эта необходимость содержит в себе инакость, «остается с самой собой в своей инакости», включает в себя случайность как свой же идеальный устраненный миг – в этом и есть «абсолютный» характер необходимости. Иными словами, совсем не процесс, в котором «все управляется абсолютной необходимостью» без малейшего намека на случайность, абсолютная необходимость есть процесс, чья необходимость воплощена не в противопоставлении случайности, а как ее разновидность. Можно до бесконечности приводить примеры такой необходимости qua полноты процесса, который главенствует над множеством его случайных эпизодов. Достаточно помянуть классический марксистский пример: необходимость сдвига Французской революции в бонапартизм, осуществленный в случайной персоне Наполеона.
Лучший, чем эта неудачная марксистская отсылка, пример абсолютной необходимости – марксистская капиталистическая система как полнота: капиталистическая система есть «абсолютная необходимость» до той поры, пока она воспроизводит себя, свою систему понятий посредством внешних, случайных обстоятельств. Эти случайные обстоятельства являют устройство действительной необходимости, во многом соответствующей тому, что мы обычно мыслим как необходимость механическую, т. е. необходимость, в которой причинная цепь линейна и протянута от обстоятельств или условий вещи к самой вещи как необходимому следствию этих самых обстоятельств или условий. Но вот что бежит нас, когда мы наблюдаем явления с точки зрения действительной необходимости: полнота живого, воспроизводящая себя взаимодействием случайных линейных необходимостей.
Всякому отдельному акту, свойственному капиталистической системе, можно найти набор внешних причин, полностью объясняющих происхождение этого акта (почему в определенном месте нашли золото, почему некий капиталист первым ввел швейную машинку и т. д. ad infinitum[77]). И все же «дурная бесконечность» эпизодов, чье возникновение можно объяснить в категориях действительной необходимости, в совокупности случайна, поскольку не дает ответа на ключевой вопрос: как капиталистическая система qua полнота живого воспроизводит себя через систему безразличных внешних обстоятельств – безразличных именно в том смысле, что их связь с капиталистической системой случайна и не содержится в самом понятии «капитализм»? Абсолютная необходимость qua полнота живого, воспроизводящая себя взаимодействием безразличных обстоятельств, имеет черты телеологии, но не в привычном значении этого слова. Чтобы объяснить какое бы то ни было явление, нам не нужно обращаться к его предполагаемым внешним целям: любое явление, разъятое на составляющие, можно объяснить посредством действительной необходимости. Подлинная загадка, однако, – как всеобщность задействует прежде заданные случайные обстоятельства для самовоспроизведения. Тут Маркс говорит на языке гегельянской абсолютной необходимости: он подчеркивает, что капитализм безразличен к своему эмпирическому развитию (основан ли он на грабеже? и т. д.): как только система достигает равновесия и начинает воспроизводить саму себя, она устанавливает свои предпосылочные внешние условия как частный случай самой себя.
Впрочем, это не последнее слово Гегеля. Диалектический синтез необходимости и случайности нельзя свести к сохранению-отрицанию случайности как подчиненный, вложенный во всеобщую необходимость частный случай: кульминация диалектики необходимости и случайности – в утверждении случайного характера необходимости как таковой. Как же мыслится это утверждение? Его элементная матрица получается нарративизацией: случайность прошлых событий налагается на однородную символическую структуру. Если, к примеру, мы – марксисты, все прошлое воспринимается как единый продолжительный нарратив, постоянная тема которого – классовая борьба, а сюжет стремится к бесклассовому обществу, в котором любые общественные противостояния устранены; если же мы – либералы, прошлое рассказывает историю постепенного освобождения индивида от уз коллективного и Рока, и т. д. Именно здесь вмешиваются свобода и субъект: свобода, stricto sensu, есть случайность необходимости, т. е. содержится в изначальном «если…», в (случайном) выборе модальности, посредством которой мы символизируем случайное действительное или навязываем ему нарративную необходимость. «Субстанция как субъект» означает, что необходимость, которая отрицает случайность представлением ее как своего идеального частного случая, сама по себе случайна[78].
Давайте объясним этот рассуждение более имманентным способом. Абсолютная необходимость как causa sui[79] – внутренне противоречивое понятие; его противоречие объясняется, заявляется как таковое, когда понятие о субстанции (синонимичное абсолютной необходимости по Спинозе[80]) расщепляется на активную субстанцию (причину) и пассивную субстанцию (следствие). Это противостояние преодолевается с помощью категории взаимозависимости – причина, определяющая свое следствие, сама по себе определяется этим следствием, и тут мы переходим от субстанции к субъекту:
Это бесконечное отражение-в-себе /взаимозависимость/, а именно – что сущность есть в себе и для себя лишь покуда она заявлена так, есть воплощение субстанции. Но это воплощение более не есть субстанция как таковая, а нечто высшее – понятие, субъект[81].
Эта категория взаимозависимости, однако, – затейливее, чем может показаться: чтобы понять ее как следует (т. е. избежать обычных банальностей о полноте живого, которые взаимно обусловливают друг друга), мы должны вернуться к отношениям между $ и а. Объект а – вещь в себе, лишь покуда установлен как таковой; как причина субъекта он полностью установлен субъектом. Иначе говоря, «взаимозависимость» предписывает тот же заколдованный круг действительной Причины и ее означающих следствий, из которых возникает субъект, т. е. круг, где символическое переплетение следствий задним числом постановляет свою травматическую Причину. Вот так мы приходим к краткому определению субъекта: субъект есть следствие, которое полностью постановляет свою же причину. Гегель говорит то же самое, заключая, что абсолютная необходимость есть отношение, потому что она есть различение, чьи составляющие сами по себе – вся она в полноте, а, следовательно, абсолютно существуют, но так, что есть только одно бытие, а разница – лишь Schein[82] описательного процесса, а он [Schein] и есть сам абсолют[83].
Головокружительная перемена мест возникает из-за последней части последней фразы. Иными словами, завершись фраза без вот этого «а он и есть сам абсолют», нам бы досталось традиционное определение субстанции как Абсолюта: любой из ее эпизодов (элементов) сам по себе есть полнота субстанции, она «существует абсолютно», и потому есть только одно бытие, а разница – лишь во внешнем проявлении. (У Спинозы, к примеру, любой элемент выражает субстанцию во всей ее полноте, т. е. в полноте ее признаков. Стул и понятие о стуле – не две разные сущности, а одна и та же, выраженная двумя элементами, т. е. в двух модальностях «абсолютно одного и того же бытия».) Однако – и тут мы сталкиваемся с гегелевским переходом от субстанции к субъекту – «абсолют» не есть это равное самому себе «абсолютное бытие», которое остается собой во всех элементах, своего рода ядро Реального. Если примем подобное видение абсолюта, разница (различение содержания абсолюта как множества частных детерминант) сведется лишь к «описательному процессу», Darstellungsweise, – так мы, конечные субъекты из нашего положения осмысления извне, мыслим себе абсолют, а не абсолют-в-себе. «Субстанция как субъект», напротив, именно и означает, что «описательный процесс» – то, как мы, из нашего положения осмысления извне, мыслим абсолют, – есть признак, присущий самому абсолюту[84].
Силлогизм христианства
Теперь нам понятно, что обратное превращение абсолютной необходимости в свободу, субстанции – в субъект, совершенно формально: на уровне субстанции абсолют есть бытие, неизменное во всех моментах времени; на уровне субъекта абсолют есть этот самый Schein различения частностей, каждая из которых содержит в себе субстанцию во всей полноте. Напряжение между внешней и постановляющей рефлексией, между «субстанцией» и «субъектом» возникает в точности apropos[85] парадокса общественной Идеи, которая есть продукт веры субъекта в себя самого. Что означает заявление «Я верю в… (коммунизм, свободу, нацию)»? Оно говорит о моей вере в то, что я не один: есть и другие, кто верит в ту же Идею. Что же до внутренней семантической структуры, тезис «Я верю в…», следовательно, рефлексивен, т. е. самозаявителен; нас не обманет его форма выражения (форма прямой связи субъекта с Идеей): верить в общественную Идею, по сути, означает верить в саму веру (других людей). Вот показательный фрагмент из «Феноменологии» Гегеля:
…абсолютная сущность веры, в целом, – не абстрактная сущность за пределами верующего сознания. Это Geist[86] общины, единства абстрактного бытия и самосознания. То, что этот Geist есть Geist общины, зависит, по сути, от деятельности общины. Ибо этот Geist существует лишь благодаря созидательной деятельности сознания, или, точнее, проявление его не обошлось без этой деятельности. Ибо, хотя такая деятельность чрезвычайно важна, она, тем не менее, не единственная основа этого бытия, а лишь составляющая его. В то же время сущность [веры] бытует в себе и для себя[87].
Вот как нам следует толковать «сущность есть в себе и для себя в той мере, в какой это утверждается» у Гегеля: не как субъективистскую банальность, согласно которой любое существо уже субъективно утверждено, а как парадокс объекта, который утвержден в точности как существующий в себе и для себя. (Ключ к этому парадоксу – в том, как жест субъективации-утверждения в его фундаментальнейшем смысле состоит из чисто формального жеста осмысления как результата нашего утверждения чего-либо, что возникает неизбежно, – включая и нашу деятельность[88].) Общественная Идея, объект Веры, порождается общинным трудом именно в этом качестве как предпосылочная Почва, которая существует в себе и для себя. Гегель утверждает тот же парадокс применительно к отношениям между знанием и истиной: субъект не только пассивно отражает истину – он «определяет» ее посредством своей мыслительной деятельности, и все же постановляет он ее как «истину, существующую в себе и для себя»: «Понятие, подчеркнем, производит истину – ибо такова субъективная свобода, – но в то же время признает эту истину не как нечто созданное, а как истину, существующую в себе и для себя»[89].
Именно в этом смысле «смерть Бога» означает для Гегеля смерть трансцендентного Свыше, существующего в себе самом: следствие этой смерти есть Бог qua Святой Дух, т. е. плод труда общины верующих. В этом диалектически отражено отношение между причиной и следствием. С одной стороны, Причина есть недвусмысленно плод деятельности субъектов, Бог «жив» лишь постольку, поскольку его непрерывно оживляет пыл верующих. С другой стороны, те же самые верующие переживают Причину как Абсолют, и это приводит их жизни в движение, если коротко – как Причина их деятельности; тем же манером они воспринимают себя как всего лишь преходящие случайности своей Причины. Субъекты, следовательно, постановляют Причину, однако постановляют ее не как нечто подчиненное им, но как свою абсолютную Причину. Здесь мы вновь имеем дело с парадоксальной временно́й петлей субъекта: Причина установлена, но установлена как «всегда-уже существовавшая».
Как именно нам понять диалектическое единство Бога qua субстанциальной Основы преходящих индивидов и этих же самых индивидов qua субъектов, чья деятельность вызывает Бога к жизни? И «утвердительная рефлексия», которая мыслит религиозное содержимое как нечто, произведенное субъектами, и «внешняя рефлексия», которая мыслит субъектов как мимолетные эпизоды религиозной Субстанции-Бога, – обе сами в себе суть вся полнота: все религиозное содержимое постановляется субъектами, а субъекты суть полностью эпизоды религиозной Субстанции, существующей как вещь в себе. Поэтому «диалектический синтез» двух – «утвердительная рефлексия» – не приводит к компромиссу, допускающему для обоих предельных случаев частичную правомерность («религиозное содержание отчасти производится людьми и отчасти существует как вещь в себе»). Напротив, диалектический синтез привлекает абсолютного посредника между обеими сторонами – в персоне Христа, который одновременно представляет Бога среди человеческих субъектов и субъекта, который переходит в Бога. В христианстве единственное равенство человека и Бога – равенство во Христе, что отчетливо контрастирует с дохристианским ви́дением, в котором подобное равенство мыслится как асимптотическая точка бесконечного приближения к Богу посредством духовного очищения. Рассуждая на языке Гегеля, эта промежуточная роль Христа означает, что христианство имеет устройство умозаключения (силлогизма): христианская триада учения, веры и ритуала устроена согласно триаде силлогизма наличного бытия, силлогизма рефлексии и силлогизма необходимости[90].
Хрестоматийная матрица первого умозаключения – С-П-В: восхождение от субъекта заключения (С) (единичного) ко всеобщему (В), а предикат (П) исчезает в заключении (Сократ – человек; человек – смертен; следовательно Сократ смертен). Природа второго умозаключения – индуктивная, т. е. его матрица П-С-В: субъект тут средний термин, позволяющим нам соединить частное со всеобщим (этот лебедь белый; тот лебедь белый и т. д.; следовательно, лебедь как таковой – белый). Наконец, третье умозаключение – С-В-П, в нем средний термин – всеобщее, и оно – посредник между субъектом (единичным) и частным, например, как в случае с разделительным силлогизмом: «Разумные существа либо люди, либо ангелы; Сократ, разумное существо, – мужчина; следовательно, он не ангел»[91]. И как же эта силлогическая троица связана с христианством? Ответ – в христианской триаде учения, веры и ритуала:
● Содержимое христианского учения – вознесение Христа через его смерть, а это означает, что роль среднего термина в умозаключении играет смерть qua негативность, удел любой плоти. Смертью здесь обозначается эпизод суда в правовом смысле слова – осуждение Христа на смерть, а также в логическом смысле – различение субъекта и предиката, тленного индивидуального и вечного Всеобщего. На этом уровне, следовательно, умозаключение таково: «Христос, этот индивид, осужден на смерть, такой удел ждет всех отдельных живых существ; но Христос воскресает из мертвых и возносится на Небеса, т. е. воссоединяется с нетленным Всеобщим». В этом смысле можно сказать, что смерть Христа, по учению, «объективна», составляет предмет этого учения и не пережита экзистенциально. В этом отношении мы остаемся в абстрактном противостоянии бренной ограниченности и трансцендентной Беспредельности: смерть все еще переживается как сила негативности, влияющая на отдельное, конечное существо; она не пережита как одновременная смерть самого́ абстрактного Свыше.
● Содержимое христианской веры – спасение, достигнутое Христом, когда он принял на себя грехи человечества и погиб на кресте как простой смертный; спасение, таким образом, – тождество человека и Бога. Это тождество, которое в учении всего лишь предмет знания, в вере проявляется как экзистенциальный опыт. Что это значит в понятиях умозаключения? Как я, бренный смертный, предметно переживаю свое тождество с Богом? Я переживаю его в своем личном предельном отчаянии, которое – парадокс! – предполагает утрату веры: когда, вроде бы брошенный Богом, я отчаиваюсь, остаюсь в полном одиночестве, я способен отождествиться с Христом на кресте («Отец, для чего ты меня оставил?»[92]). В тождестве человека и Бога мой личный опыт богооставленности пересекается с отчаянием самого Христа, оставленного божественным Отцом, и в этом смысле мы имеем дело с силлогизмом аналогии/индукции: аналогия проводится между моим несчастным положением и положением Христа на кресте. Таким образом, тождество человека и Бога в вере – не «непосредственное», оно состоит из тождества двух расщеплений. И потому разница между этим опытом веры и учения – двойная: смерть Христа не только «объективна», но и «субъективна», она включает в себя мой личный опыт отчаяния; я оказываюсь в полном одиночестве, «сжимаюсь» в ночь чистого «я», где вся Реальность распадается – то, что погибает на кресте, есть не только земной представитель Бога (как это до сих пор казалось по первому силлогизму учения), но сам Бог, а именно – Бог Свыше, Бог как трансцендентная субстанция, как божественная Причина, гарантирующая нашим жизням Смысл.
● Содержимое ритуала, наконец: Святой Дух как позитивное единство человека и Бога – Бога, погибшего на кресте и воскресшего в виде Духа религиозного сообщества. Он более не Отец, который из своего уютного Свыше управляет нашими судьбами, но наша, всех членов сообщества, работа, поскольку он присутствует в выполняемом нами ритуале. Структура умозаключения: С-В-П: Всеобщее (Дух Святой) – средний термин между нами, частными людьми, и Христом как единичным индивидом; в ритуале христианского сообщества воскрешенный Христос – вновь здесь, живой среди нас, верующих.
Почему Гегель не гуманист-атеист?
Главное не упустить одну особенность – пропасть, которая по-прежнему отделяет Гегеля от гуманистического атеизма, согласно которому Бог есть продукт коллективного человеческого воображения. Иначе говоря, на первый взгляд может показаться, что Гегель толкует философское содержание христианства как постановляющее именно такую «смерть Бога»: разве смерть Бога на кресте и его последующее воскресение в духе религиозной общины не равносильны факту, что Бог уходит, прекращает существовать как трансцендентное Свыше, властвующее над жизнями людей (а слово «Бог» именно это и значит в обиходном религиозном применении), чтобы восстать к жизни под видом духа сообщества, т. е. как следствие-продукт общинной деятельности людей?
Почему Гегель не поддается такому прочтению? Не поддается он никак не из-за своей непоследовательности, уступкам традиционной теологии или даже политического конформизма; скорее, это результат того, что Гегель обдумал все последствия «смерти Бога», т. е. последствия сведе́ния всего объективного содержимого к чистому «я». Если мыслить так, «смерть Бога» более не кажется освобождающим опытом, отступлением этого самого Свыше, дарующим волю человеку, открывающим ему пространство земной деятельности как поле, на котором ему утверждать свою творческую субъективность; напротив, «смерть Бога» приводит к утрате само́й связной «земной» действительности. «Смерть Бога» вовсе не объявляет о торжестве автономных творческих возможностей человека, она больше похожа на то, что великие тексты мистицизма обычно именуют «ночью мира»: распад (символически составленной) действительности.
В понятиях Лакана, мы все имеем дело с устранением большого Другого, что гарантирует субъекту доступ к действительности: в опыте смерти Бога мы натыкаемся на факт, что «большой Другой не существует [l’Autre n’existe pas]» (Лакан)[93]. В Святом Духе большой Другой постановлен как символическая, десубстанциализированная выдумка, т. е. как сущность, которая не бытует как вещь в себе, а лишь в той мере, в какой в нее вдыхает жизнь «работа всех и каждого», иными словами – под видом духовной субстанции. Почему же, в таком случае, эта духовная субстанция не постигается как продукт коллективного субъекта? Почему место Святого Духа – неизбежно Другое применительно к субъекту? Ответ получаем, обратившись к понятию большого Другого у Лакана.
Что такое этот большой Другой? Вспомним сцену из второго акта Моцартовой «Cosi fan tutte»[94], где Дон Альфонсо и Деспина соединяют две пары – преодолевают их неуступчивость, буквально общаясь вместо них (Альфонсо обращается к дамам от имени двух «албанцев»: «Se voi non parlate, per voi parlero…», а Деспина организует согласие дам: «Per voi la risposta a loro daro…»[95]). Комическая, карикатурная суть этого диалога ни на миг не должна нас обмануть: все по-настоящему, «все решено» – в этой вынесенной вовне форме. Именно благодаря представителям возникают две новые влюбленные парочки, а все последующее (выраженное признание любви) – дело техники. Поэтому, как только пары берутся за руки, Деспина и Альфонсо могут быстро устраниться и позволить всему идти своим чередом – их посредническая задача выполнена…[96]
В совершенно иной сфере – в детективных романах – Рут Ренделл применяет чрезвычайную власть и заставляет некую материальную систему действовать как метафору большого Другого. В «Ковре царя Соломона» [97], к примеру, эта метафора – система лондонской подземки. Все ключевые герои романа увязли в замкнутой психотической вселенной, у них нет нормальной связи с себе подобными, и они толкуют случайные обстоятельства как осмысленные «ответы действительного», т. е. как подтверждения своих паранойяльных предчувствий. Из-за этого кажется, что их приключениями управляет незримая рука, словно они все – часть некого скрытого плана, воплощенного в переплетении подземных тоннелей и поездов, этого темного подземного Другого Места (метафора Бессознательного), которое копирует «дневной мир» суматошных лондонских улиц[98].
Здесь мы сталкиваемся с децентрированием Другого относительно субъекта, применительно к которому субъект – как только он возвращается из «ночи мира», из абсолютной негативности «я = я», в «дневной» мир логоса – застрял в сети, чьи воздействия априори ускользают от понимания. Вот поэтому самосознание жестко взаимосвязано с бессознательным во фрейдистском смысле слова, подобном кантианскому бесконечному суждению: утверждение, что та или иная мысль «бессознательна», – не то же самое, что утверждение, будто эта мысль «не сознательна». В последнем случае – когда я отрицаю определение «сознательный» – (логический) субъект просто располагается в области непсихического (а биологического и пр. – короче, в обширном пространстве всего, что происходит у нас в теле и не доступно сознанию). Однако, если я утверждаю «не»-определение и подчеркиваю, что та или иная мысль бессознательна, я таким образом открываю новую зловещую сферу, которая подрывает само различие между психически-сознательным и соматическим, пространство, в котором нет места онтологически-феноменологическому различению между психическим и соматическим, и чей статус поэтому, по словам Лакана в «Семинаре XI», «до-онтологический»[99].
Загадка «механической памяти»
Не определяется ли все-таки Лаканов большой Другой qua децентрированный порядок означающего превосходством бессмыслицы означающего над пространством выражения – где это у Гегеля? Величайший сюрприз, ожидающий нас в рассуждении о языке у Гегеля в «Энциклопедии» (параграфы 451–464[100]), – внезапное и неожиданное появление так называемой «механической памяти» после полностью завершенного «отрицания» языка-знака в его духовном содержании[101].
Гегель развивает теорию языка в «Представлении», раздел 2 «Психологии», где очерчены контуры перехода от «Интуиции» к «Мышлению», т. е. процесса постепенного освобождения субъекта от обретенного снаружи и навязанного содержания, поставляемого органами чувств, путем усвоения и универсализации. Как обычно у Гегеля, процесс происходит в три этапа. Первый, в «Припоминании»: Интуиция отделяется от внешнего причинного пространственно-временного контекста, привносится в личное внутреннее пространство-время субъекта и делается элементом, к которому можно свободно обращаться, по обстоятельствам, когда угодно. Как только Интуиция привнесена в Рассудок, она оказывается ему подвластна – Рассудок волен обращаться с ней по своему усмотрению: может разъять Интуицию на составляющие и пересобрать их в новое, «неестественное» целое, может сравнить с другими интуитивными прозрениями и выделить общие признаки; все это – работа «Воображения», которая постепенно приводит к Символу.
Сперва тот или иной образ обозначает какую-нибудь более сложную систему представлений или некую универсальную черту (образ бороды, к примеру, может вызвать в уме свирепую мужественность, власть и т. п.). Эта универсальная черта, впрочем, пока еще носит отпечаток частного чувственного образа, который ее обозначает: мы достигаем подлинной универсальности, лишь когда устранено всякое сходство между универсальной чертой и образом, который ее представляет. Так мы достигаем Слова: на внешнем условном знаке, чья связь с его значением полностью условна. Исключительно этим низведением знака до чистого безразличного внешнего значение может освободиться от чувственной интуиции и тем самым очиститься до истинной универсальности. Так знак (слово) устанавливается в своей истине: как чистое движение самоотрицания, как сущность, достигающая своей истины стиранием себя из значения себя самого.
«Речевая память» далее усваивает и универсализирует тот самый внешний знак, означающий универсальную черту. Результат, к которому мы приходим при этом, – «язык представлений», и состоит он из знаков, которые суть единство двух ингредиентов: с одной стороны, универсализированное название, ментальный звук, тип, опознаваемый как один и тот же при разных произнесениях; с другой стороны, его значение, некое универсальное представление. Названия в «языке представлений» имеют закрепленное универсальное содержание, определяемое не их отношением с другими названиями, а их отношением с представленной действительностью. Здесь мы имеем дело со стандартным понятием языка как собранием знаков с фиксированным универсальным значением, отражающим действительность, понятием, связанным с триадой самого знака qua тела, означающего содержания ума субъекта и действительности, на которую ссылаются знаки, – простой до-теоретический здравый смысл подсказывает, что тут чего-то не хватает, что это пока еще не настоящий живой язык. А не хватает тут, в основном, двух вещей: с одной стороны, синтаксических и семантических отношений между самими знаками, т. е. самоотносимой замкнутости, в связи с которой мы говорим, что значение слова есть последовательность других слов (если спросить: «Что такое верблюд?», обычно следует ответ, состоящий из последовательности слов: «Четвероногое млекопитающее, похожее на лошадь, но с высоким горбом на спине» и т. д.); с другой стороны, связей с говорящим субъектом – неясно, каким образом сам говорящий описан в «языке представлений» как отражении трех уровней знаков, умственных идей и действительности.
На гегельянском, убийственная слабость языка представлений – именно в том, что это язык представлений, т. е. в том, что он застрял на уровне Vorstellung, внешнего, конечного представления, которое относится к некому преходящему, внешнему содержанию. Говоря в современных понятиях, язык представлений – самоуничтожающаяся среда представления-передачи некого универсального понятийного Содержания, которое остается внешним по отношению к среде передачи: сама среда действует как безразличное средство передачи независимого содержания. Недостает здесь слова, которое бы не просто представляло свое внешнее содержание, но и составляло его, воплощало – слова, посредством которого обозначенное содержание стало бы тем, что оно есть, короче говоря, – перфомативного слова.
Как же тогда мы добираемся отсюда до речи, действующей как адекватная среда беспредельной мысли? В этой точке мы натыкаемся на сюрприз, от которого толкователи Гегеля в сильном смущении: между «речевой памятью», обеспечивающей отчетливое единство значения и выражения, и, собственно, «мыслью» Гегель загадочно вклинивает «механическую память», пересказ наизусть последовательности слов, в которые говорящий не вкладывает никакого смысла, – т. е. «оставление духом [Geistesverlassen]» – как именно переход к деятельности мышления. Показав, как знак остается в оковах представления, т. е. внешнего синтеза значения и выражения, Гегель не устраняет «ложное» единство знака упразднением его внешней стороны – выражения как внешней среды для определенного содержания; напротив, он отбрасывает само внутреннее содержание, жертвует им. Следствие подобного радикального сужения таково, что в пространстве языка мы «регрессируем» до уровня Бытия, беднейшей категории: Гегель говорит о разуме в механической памяти как о «Бытии, всеобъемлющем пространстве названий как таковых, т. е. бессмысленных слов» (параграф 463), которые исчезают еще до того, как полностью возникли, об «артикулированных звуках» как «преходящих, исчезающих, полностью идеальных воплощениях, которые возникают в стихии, которая не оказывает никакого сопротивления» (параграф 444).
Тут у нас уже не слова-представления как универсальные типы закрепленной связи выражения с его значением (слово «лошадь» всегда означает…), а чистое становление, течение бессмысленной индивидуальности речений, а объединяют их лишь «полые связующие ткани» самого Разума. На этом уровне значение названия может опираться лишь на факт, что оно следует за или же запускает другие названия. Лишь здесь возникает истинная, отчетливая негативность лингвистического знака: чтобы она возникла, слову недостаточно низойти до чистого потока самоуничтожения – то, что Сверх его самого, значение, должно быть «уплощено», должно утерять любое позитивное содержание, чтобы осталось лишь одно – полая негативность, которая и «есть» субъект.
Никак не упустить христологическую коннотацию такой жертвы представления / объективного значения: сведение слова к чистому потоку становления не есть самоуничтожение слова по его Смыслу, но смерть самого этого Смысла – как и с Христом, чья смерть на кресте не есть уход земного представителя Бога, но смерть Бога Превыше Самого Себя. Тут-то и обретается собственно диалектическое прозрение Гегеля: камень преткновения истинно-беспредельной деятельности Мысли в представлении – не ее внешний вид, а сама закрепленная универсальность внутреннего значения.
Возникающая здесь пустотность – двойная. Во-первых, изъято все объективно-репрезентативное содержание, и остается лишь сама пустота Разума (субъект): по-лакановски, от знака, представляющего нечто (позитивное содержание) для кого-то, мы переходим к означающему, которое представляет сам субъект для других означающих. В том же движении, однако, субъект (S) сам по себе прекращает быть полнотой переживаемого внутреннего содержания, значения, и «изгнан», опустошен, сведен к $ – или, по Гегелю, работа Механической памяти состоит в «уплощении почвы внутреннего до чистого Бытия, чистого пространства… без противостояния с субъективным внутренним» (параграф 464)[102]. Лишь это «уплощение», это упрощение до Бытия, до новой непосредственности слова открывает перфомативную грань – почему? Давайте подойдем к этой ключевой точке через высказывание из «Jaenar Realphilosophie»[103], в которой Гегель описывает, как на вопрос «Что это?» мы обычно отвечаем: «Сие есть лев, осел» и т. д. Сие есть – значит, что это не желтое нечто, у которого есть ноги и т. д., нечто независимое, само по себе, но название, тон моего голоса – нечто совершенно отличное от того, какое оно в интуиции. И таково [его] истинное Бытие[104].
Гегель обращает наше внимание на парадокс именования, столь очевидный, что обычно его обходят молчанием: говоря «Это слон», я буквально, на простейшем, непосредственнейшем уровне заявляю, что это исполинское созданье с хоботом и всем остальным и вправду есть звук у меня во рту, четыре буквы, которые я только что произнес. У себя в Первом семинаре – по техническим работам Фрейда – Лакан ссылается на этот же парадокс: как только слово «слон» произнесено, слон уже тут как тут, во всем своем исполинском величии, и, хотя в действительности его рядом нету, понятие о нем присутствует. Тут мы сталкиваемся с неожиданной стоицистской стороной Гегеля (и Лакана): логике стоиков нравится подчеркивать, что, довольно произнести слово «повозка», как повозка выкатывается у вас изо рта.
Гегель же, впрочем, имеет в виду иное: простая, с виду симметричная инверсия «слон есть… /четвероногое млекопитающее с хоботом/» в «сие есть слон» влечет за собой превращение констатива-представления в перфоматив. Иными словами, когда говорю «слон есть… /четвероногое млекопитающее с хоботом/», я обращаюсь со «слоном» как с названием-представлением и обозначаю внешнее содержание, которое оно описывает. Однако говоря «сие есть слон», я налагаю на объект его символическое обозначение; я добавляю к совокупности действительных свойств символическое объединяющее, которое преобразует эту совокупность в Одно, тождественный самому себе объект. Парадокс символизации зиждется на том, что объект составляет Единое благодаря свойству, предельно внешнему по отношению к самому объекту, к его действительности, посредством названия, нисколько не похожего на этот объект. Объект становится Единым благодаря добавлению некоей совершенно пустой, самоуничтожающей Сущности, le peu de realite[105] пары звуков – мухи, которая творит слона, – как с Монархом, этим идиотским случайным телом индивида, которое не просто «представляет» Государство qua рациональное всеобщее, но составляет его, придает ему проявленность. Эта перфомативная грань, благодаря которой означающее вписано в само обозначаемое содержание как его составляющая (или, по Лакану, посредством которого означающее «впадает в обозначаемое») – то, чего не хватает названию-представлению.
Гегелева логика означающего
Из всего сказанного нетрудно вывести, как, по Гегелю, двойственность «названий-представлений» и «названий как таковых», возникающих в Механической памяти, безупречно соответствует Лаканову противопоставлению знака и означающего. Знак определяется закрепленными отношениями между означающим и обозначаемым – его значением – тогда как означающее, из-за неостановимого соскальзывания, соотнесения с другими означающими в цепочке, привносит эффект смысла. Знак есть тело, связанное с другими телами, означающее – чистый поток, «событие»; знак относится к субстанциальной полноте вещей, означающее соотносится с субъектом qua с пустотой негативности, которая есть среда самоотносимости цепи означающих («означающее представляет субъект для других означающих»). Гегель как делёзец – сильнее контраста, казалось бы, и помыслить невозможно, но мы действительно обнаруживаем в Гегелевой «Механической памяти» понятие Смысла qua чистого События, позднее сформулированного Делёзом[106] в «Логике смысла»… Доказательство, что Гегелева диалектика поистине есть логика означающего avant la letter[107], имеется у Джона Маккамбера, который в «Компании слов»[108] предлагает провокационное и проницательное прочтение Гегелева диалектического процесса как самоотносимой операции с символическими «маркерами» (у Гегеля это немецкое Merkmal, французский эквивалент – le trait significant, значимая черта). Тут мы оказываемся в начальной точке процесса, «тезиса», посредством операции «неопосредования-аббревиации»: последовательность маркеров М1 … Мj сокращаем до Мk, содержание которого (т. е. что́ этот маркер обозначает) есть эта самая последовательность:
(1) (М1 … Мj) – Мk
Далее следует обратная операция «раскрытия», в которой последовательность (М1 … Мj) раскрывает Мk:
(2) Мk – (М1 … Мj)
Здесь возникает еще одна перестановка – и ключевая точка, которую нельзя упустить: эта дополнительная перестановка не возвращает нас к началу, к (1) (или, по-гегельянски, это «отрицание отрицания» не влечет за собой возвращения к начальному положению):
(3) (М1 … Мj) / Мk
Чтобы обозначить этот сдвиг от (1), Маккамбер применяет другой символ – «/», а не «—»; он определяет «/» как «синтез», в котором раскрытие и сокращение возникают одновременно. Что это может означать? В (3) маркер Мk есть, stricto sensu, «возвратный»: он уже не обозначает неопосредование, которое абстрактно противоположно раскрытию, поскольку раскрывает ту же самую последовательность, которая раскрывает сам Мk в (2). Чтобы объяснить эту «возвратность», давайте обратимся к логике антисемитизма. Во-первых, последовательность маркеров, означающих действительные свойства, сокращены-приведены к неопосредованности в маркере «еврей»:
(1) (алчный, спекулирующий, злокозненный, грязный…) – еврей
Теперь приведем это выражение к обратному порядку и «раскроем» маркер «еврей» последовательностью (алчный, спекулирующий, злокозненный, грязный…), т. е. эта последовательность теперь даст нам ответ на вопрос «Что значит “еврей”?»:
(2) еврей – (алчный, спекулирующий, злокозненный, грязный…)
Наконец, обратим порядок еще раз и постановим «еврея» как возвратное сокращение последовательности:
(3) (алчный, спекулирующий, злокозненный, грязный…) / еврей
В чем именно состоит разница между (1) и (3)? В (3) «еврей» раскрывает саму предыдущую последовательность, которую приводит к неопосредованности, сокращает: в ней сокращение и раскрытие диалектически совпадают. Иными словами, внутри дискурсивного пространства антисемитизма собрание индивидов не только считается евреями, потому что наделено совокупностью свойств (алчности, склонности к спекуляции, злокозненности, нечистоты…), но и поскольку эти индивиды наделены этими свойствами, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЕВРЕИ. Это становится ясно, если мы переведем сокращение в (1) как
(1) (спекулирующие, злокозненные…) называются евреями
и раскрытие в (2) как
(2) Х – еврей, потому что он (спекулирует, плетет козни…)
С такой точки зрения уникальность (3) состоит в том, что она возвращается к (1), сохраняя при этом связующее (2):
(3) Х (спекулирующий, злокозненный…), потому что он еврей.
Короче говоря, «еврей» означает здесь скрытую основу совокупности явлений с действительными свойствами (алчный, спекулирующий, злокозненный, грязный…). Таким манером возникает «транссубстанциализация»: «еврей» начинает действовать как маркер скрытой основы, загадочное je ne sais quoi[109], «еврейскость» евреев. (Cognoscenti[110] Маркса, к примеру, немедленно осознают, что подобные переворачивания соответствуют развитию формы собственности в Главе 1 «Капитала»: простая инверсия «развитой» формы в форму «общего эквивалента» порождает новую сущность – сам общий эквивалент как исключение в составе всеобщего[111].)
Заключительная точка наша, следовательно, – в общем, техническая: формула Маккамбера сообщает немалую ясность и мощь пониманию, если заместить последовательность маркеров М1 … Мj Лакановой матемой S2, означающее цепочки знания, а Мk, сокращение последовательности М1 … Мj, – S1, Главным означающим. Поясним это примером, структурно соответствующим примеру антисемитизма, – польской антисоциалистской циничной остро́той:
«Да, правда, нам не хватает, еды, электричества, квартир, книг, свободы, но все это в конечном счете неважно, потому что у нас есть Социализм!» Логическая гегельянская основа этой шутки такова: во-первых, социализм определяется как простое сокращение последовательности маркеров действительных свойств («Когда у нас вдосталь еды, электричества, квартир, книг, свободы…, у нас социализм»); далее производим перестановку отношений и с помощью последовательности маркеров «раскрываем» социализм («“социализм” означает “вдоволь еды, электричества, квартир, книг, свободы…”»); следующей инверсией, однако, мы не возвращаемся к исходной точке, поскольку «социализм» превращается в «Социализм» – Главное означающее, т. е. это уже не просто сокращение, обозначающее последовательность маркеров, а название скрытой основы последовательности маркеров, действующее как множество следствий выражения этой основы. А поскольку «Социализм» теперь Причина, выраженная в последовательности феноменологических маркеров, можно сказать: «Неважно, если даже все эти маркеры исчезнут, – мы же не за них боремся! Главное, у нас все еще есть Социализм!..»
Подведем итоги: в (1) маркер устранения-неопосредованности – простой знак, внешнее обозначение данной последовательности, тогда как в (3) этот маркер – означающее, которое перфомативно определяет эту последовательность во всей полноте. В (1) мы – жертвы иллюзии, что полнота последовательности – вещь в себе, бытующая независимо от своего знака; в (3) же нам становится понятно, что последовательность завершена, полна в своем составе лишь вместе с возвратным маркером, который дополняет ее: в (3) знак содержится в «самой вещи» как присущая ей составляющая; расстояние между знаком и определяемым содержанием исчезает.
Вернемся к отношениям между Лаканом и Франкфуртской школой: не идеологическое ли это решение у Лакана (objet petit a как причина субъекта) – в точном смысле, какой это понятие обретает во Франкфуртской школе, т. е. не повторяет ли это решение жест психоаналитического «ревизионизма», порицаемого Адорно, созданием новой, «улучшенной» теории, которая устраняет неувязки предыдущей теории изъятием из рассмотрения общественных противостояний, которые были «отсутствующей причиной» этих неувязок? Чтобы парировать этот упрек, нам необходимо ближе рассмотреть парадоксы понятия «сверх-я», понятия, которое, как мы уже поняли в конце Главы 1, суммирует проблему отношений между Лаканом и наследием Франкфуртской школы.
3. «Сверх-я» по умолчанию
Закон, который самодоволен
Лучше всего подходить к теме «психоанализ и Закон» с вопросом: какого рода Закон – объект психоанализа? Ответ, конечно, таков: «сверх-я». «Сверх-я» возникает там, где закон – публичный Закон, Закон, сформулированный в публичном дискурсе, – не действует; в этой точке несостоятельности публичный Закон стремится обрести поддержку в незаконном получении удовольствия.
«Сверх-я» – «ночной» закон вне приличий, который по необходимости повторяет и сопровождает, как тень, Закон «публичный». Это внутреннее, неотъемлемое от Закона его расщепление – тема фильма Роба Райнера «Несколько хороших парней»[112] (1992), военно-юридической драмы о двух морпехах, обвиняемых в убийстве сослуживца. Военный прокурор заявляет, что поступок этих двоих был намеренным убийством, но защите удается доказать, что подсудимые просто следовали так называемому «красному кодексу»[113], который допускает тайные ночные избиения товарища по службе, который, по мнению других – или старшего офицера, – нарушил нравственный кодекс морского пехотинца.
Функция этого «красного кодекса» чрезвычайно интересна: он допускает акт преступления – нелегального наказания сослуживца, – но в то же время укрепляет единство группы, требуя сильнейшего отождествления с ценностями этой группы. Подобный кодекс должен скрываться под покровом ночи, оставаться непризнанным, не упоминаемым – публично все делают вид, что ничего о нем не знают, или даже энергично отрицают его существование. Он воплощает «дух общины» в чистейшем виде и оказывает мощное давление на индивида – чтобы тот подчинялся уговору о групповом отождествлении. Да, «красный кодекс» одновременно нарушает выраженные правила общинной жизни. (В свое оправдание двое подсудимых военных предъявляют, что они не понимают, почему «красный кодекс» исключен из «большого Другого», т. е. из пространства публичного Закона: они с отчаянием спрашивают самих себя, «что мы такого сделали?», поскольку просто следовали приказам старшего офицера.) Откуда же берется это расщепление закона на прописанный публичный Закон и его оборотную сторону, «неписанный», теневой, тайный кодекс? Из неполноты, «невсеобщности» публичного Закона: выраженных, публичных правил недостаточно, и потому их приходится дополнять таинственным «неписанным» кодексом, нацеленным на тех, кто, хоть и не нарушает публичных правил, внутренне держится на расстоянии и не полностью отождествляется с «духом общины»[114].
Садизм поэтому опирается на расщепление в поле Закона на Закон qua «“я”-Идеал», т. е. символический порядок, регулирующий общественную жизнь и сохраняющий общественный порядок, – и на его теневую, «сверх-я»-изнанку. Как показали многочисленные попытки анализа, с Бахтина[115] и далее, периодическое нарушение публичного закона есть часть общественного порядка: такие нарушения – условие его устойчивости. (Ошибка Бахтина – или, вернее, некоторых его последователей – в том, что они представляли идеализированный образ подобных «нарушений», умалчивая о линчевании и прочем, как о ключевой форме «карнавальной отмены общественной иерархии».) Общину на самом глубинном уровне «удерживает вместе» не отождествление с Законом, который регулирует «нормальную» повседневную жизнь, а отождествление со специфической разновидностью нарушения Закона, его отмены (в психоаналитических понятиях – со специфической формой получения удовольствия).
Обратимся к жизни белых общин маленьких городов американского Юга в 1920-е годы, где власть официального, публичного Закона сопровождается его теневым двойником – ночным ужасом ку-клукс-клана с линчеванием бесправных черных: (белому) человеку легко прощают мелкие нарушения Закона, особенно если они оправданы «кодексом чести»; община продолжает признавать его как «своего». Но стоит ему отказаться от специфической формы нарушения, присущего этой общине, – скажем, не пожелать участвовать в ритуальном линчевании, устроенном кланом, или уж тем более сообщить об этом Закону (который, конечно, не желает об этом знать, поскольку такое нарушение есть часть скрытой изнанки самого Закона), как такого отказника, по сути, отлучают от общины. Нацистская община полагалась на эту же круговую поруку, сообщаемую участием в общем для всех нарушении: она порицала тех, кто был не готов принимать участие в идиллическом Volksgemeinschaft[116]: ночных погромах, избиениях политических оппонентов, короче говоря – в том, что «все знали, но никто не хотел обсуждать вслух»[117].
Когда, следствием прихода к власти буржуазной идеологии равенства, публичное пространство теряет прямой патриархальный характер, отношения между публичным Законном и его теневой «сверх-я»-изнанкой также претерпевают радикальную перемену. В традиционном патриархальном обществе присущее Закону его же нарушение принимает форму карнавальной смены власти: Король становится нищим, безумие назначается мудростью и т. д. Показательный пример такой перемены – обычай, который практиковали в деревнях на севере Греции до середины ХХ века: на один день власть переходила к женщинам, мужчинам полагалось сидеть дома и приглядывать за детьми, а дамы собирались в местной таверне, пили безудержно и устраивали потешные суды над мужчинами… В таком карнавальном нарушении, отмене правящего патриархального Закона прорывается, следовательно, мечта о женской власти. Лакан обращает внимание на то, что одно из обозначений «жены» в бытовом французском – la bourgeoise, т. е. некто, под видимостью мужской власти, на самом деле дергает за ниточки, и это никак не сведешь к варианту привычного мужского шовинистического остроумия на тему того, что, как ни крути, патриархальная власть для женщин не так уж плоха, поскольку – по крайней мере в тесном семейном кругу – женщины правят бал.
Проблема залегает глубже: одно из последствий того, что Хозяин – всегда самозванец, есть удвоение Хозяина, поскольку сам Хозяин всегда воспринимается как фасад, скрывающий другого, «истинного» Хозяина. Довольно вспомнить байку Адорно в «Minima Moralia»[118] о жене, которая с виду подчиняется мужу, а когда оба собираются уйти из гостей, послушно подает ему пальто, но за мужниной спиной обменивается с гостями ироничными снисходительными взглядами: дескать, бедный рохля, пусть думает, что он тут главный! Противостояние мужской и женской власти воспринимается, таким образом, как противостояние видимости и подлинной власти: мужчина – самозванец, обреченный выполнять пустые символические жесты, а настоящая ответственность лежит на женщинах. Впрочем, тут важно не упустить, что этот призрак женской власти структурно зависит от мужского господства: он остается теневым двойником, ретроактивным следствием и присущим ему проявлением. Поэтому замысел вывести теневую женскую власть на свет и признать ее центровое положение публично – тончайший способ попасть в патриархальную ловушку.
Однако, поскольку публичный Закон сбрасывает явные патриархальные одеяния и показывает себя нейтрально-эгалитарным, характер его теневого двойника тоже подвержен радикальному сдвигу: теперь в карнавальной отмене «эгалитарного» публичного Закона прорывается именно авторитарно-патриархальная логика, которая по-прежнему определяет наши умонастроения, хотя ее прямое публичное выражение более недопустимо. «Карнавал» становится отдушиной для подавленного общественного jouissance – в антисемитских волнениях, групповых изнасилованиях…
Пока «сверх-я» предписывает вмешательство удовольствия в поле идеологии, можно сказать, что противостояние символического Закона и «сверх-я» указывает на напряжение между идеологическим смыслом и получением удовольствия: смысл гарантируется символическим Законом, а «сверх-я» приносит удовольствие, которое оказывает не признаваемую поддержку смыслу. Ныне, в так называемую «пост-идеологическую» эпоху, жизненно необходимо избегать сбивающей с толку фантазии, которая поддерживает идеологическое устройство идеологическим смыслом – в противном случае как объяснить парадоксальный альянс посткоммунизма и фашистского национализма (в Сербии, России и пр.)? На уровне смысла их отношения – взаимного исключения, но при этом у них одна и та же теневая поддержка (когда коммунизм был дискурсом власти – от Сталина до Чаушеску, он ловко играл с националистскими фантазиями). Следовательно, «постмодернистское» циничное умонастроение неотождествления, отстраненность от любой идеологии вовсе не исключает националистскую одержимость этническим Нечто. Это Нечто – субстанция удовольствия: по Лакану, циник – человек, верящий лишь в удовольствие, а не самый ли отчетливый тому пример – именно циник, одержимый национальным Нечто?
Разница между Законом и «сверх-я» также совпадает с разницей между письменной и устной речью. Публичный Закон, по сути, – писаный, и именно и исключительно потому, что «он писан», наше незнание Закона нас не извиняет, не освобождает от ответственности перед Законом. Положение же «сверх-я», напротив, – травматического голоса, захватчика, наказывающего нас и возмущающего наше психическое равновесие. Здесь переворачиваются отношения между голосом и письмом, по Дерриде[119]: письмо дополнено голосом, он действует как непрозрачная сдерживающая сила, ограничивающая поле Закона, но при этом необходимая для его полноты.
Еще одна грань этой теневой изнанки Закона проявлена в обычае властной элиты США. Распространен слух, что каждый год вся властная элита (верховные политики, управленцы, военные, журналисты, самые богатые люди…) собираются на неделю на закрытом курорте где-то к югу от Сан-Франциско, «пообщаться». А на самом деле они там в основном позволяют себе непристойные игры, отменяющие достоинство общественных ритуалов, – напиваются, пляшут, поют вульгарные песни в женских нарядах, рассказывают похабные анекдоты…
Расщепленный субъект интерпелляции
Можно сказать, что этот ночной, теневой закон состоит из proton pseudos, первородной лжи, на которой зиждется община. Иными словами, отождествление с общиной в конечном счете всегда основано на некой одной на всех вины или, точнее, на фетишистском отказе от этой вины. Когда, к примеру, коммунист в Советском Союзе в 1930-е годы отбивается от упрека, что коммунистический режим – предельно террористический, тысячи осуждены и расстреляны бездоказательно, сельское хозяйство в полной разрухе, стратегия ответа состоит не в прямом отрицании этих фактов, а на заявлении, что авторы этих упреков «неспособны прозреть суть происходящего» и постичь возникновение Нового Человека, бесклассовой солидарности: коммунист отлично знает, что миллионы людей умирают в лагерях, но это знание лишь подтверждает его веру в возвышенных «истинных Людей», счастливо и с энтузиазмом строящих Социализм… Чем несчастнее и тоскливее действительность, тем крепче сталинист-коммунист цепляется за свой фетиш.
Любая приверженность той или иной общине так или иначе связана с фетишем, который действует как отмена основополагающей для этой общины вины: не фетиш ли «Америка» бескрайних просторов, где всякий индивид может по-своему стремиться к счастью? Природа этой круговой поруки может быть и гораздо конкретнее; когда, к примеру, Вожака застукали со спущенными штанами, солидарность группы усиливается общим для всех ее субъектов отрицанием ошибки, которая обнажила промах или бессилие Вожака: в группе общая на всех ложь – связь несравненно более действенная, чем правда. Может, стоит перечитать сказку Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля» примерно в таком ключе: разумеется, все понимали, что король – голый, но именно отрицание этого факта объединило субъектов, а утверждением действительности оплошавший ребенок, по сути, уничтожил социальное единство.
Парадокс круговой поруки, впрочем, присущ далеко не только тоталитарным сообществам – достаточно вспомнить нынешние сообщества «прогрессивной» культурной критики: не в их ли основании лежит фетишистское превознесение того или иного автора (типичные претенденты: Альфред Хичкок, Джейн Остен, Вирджиния Вулф…), чьи «неполиткорректные» поступки заранее прощены или перетолкованы как авангардные и прогрессивные в некоем прежде неслыханном, скрытом смысле… Удовольствие общине доставляет именно это коллективное отрицание – к примеру, наша убежденность в «прогрессивной» манере Хичкока, отменяющая символическую действенность того, что очевидно за пределами этого умонастроения.
В этом отношении мы в конечном счете делаем то же, что и западный сталинист-коммунист, который в 1930-е годы преданно следовал изгибам политики партии и первым разглядел главного врага в фашизме, потом заделался увлеченным пацифистом – энергично поддержал советско-немецкий пакт и предупреждал об английском и французском милитаризме, а закончил призывом открытия фронта всеми «прогрессивными» силами коммунистов и буржуазных демократов против фашизма; и все эти перемены настроений никак его не смущали, а лишь укрепляли в коммунистической вере. Или же – по словам Жан-Клода Мильнера[120] – вероятно, главная функция Хозяина состоит в том, чтобы определить ложь, способную поддерживать групповое единство: удивить субъектов утверждением, которое в явном виде противоречит фактам, вновь и вновь заявлять, что «черное есть белое»… Следовательно, недостаточно утверждать «Это моя страна, права она или нет!»: моя страна – по-настоящему моя, лишь покуда она, в определенном важном отношении, неправа.
Это напряжение между публичным Законом и его теневой «сверх-я»-изнанкой также позволяет нам по-новому осмыслить представление Альтюссера об идеологической интерпелляции. Альтюссерова теория «Идеологических государственных аппаратов» и идеологической интерпелляции сложнее, чем может показаться: Альтюссер, повторяя за Паскалем «Действуйте так, будто верите, молитесь, склоняйте колени – и вы уверуете, вера появится сама собой», очерчивает причудливый рефлексивный механизм ретроактивного «самовоспроизводящегося» основания, которое значительно превосходит упрощенческое утверждение зависимости внутренней веры от внешнего поведения. Иными словами, внутренняя логика довода такова: преклоняйте колени – и уверуете, что преклонили колени из-за своей веры, т. е. ваше следование ритуалу есть выражение/следствие вашей внутренней веры. Короче говоря, «внешний» ритуал перфомативно производит свое собственное идеологическое основание. В этом коренится взаимосвязь ритуала, свойственного «Идеологическим государственным аппаратам», и акта интерпелляции: веруя, что преклоняю колени из-за своей веры, я одновременно «осознаю» себя в призыве Другого-Бога, который велит мне преклонить колени…
Все еще сложнее в случае интерпелляции – Альтюссеров «пример» содержит больше, чем его, Альтюссера, рассуждение извлекает. Альтюссер рисует образ индивида, которого, пока он беззаботно шагает по улице, внезапно окликает полицейский: «Эй вы!» Ответив на этот оклик, т. е. остановившись и обернувшись, индивид признает-постановляет себя как субъекта Власти, большого Другого-Субъекта: идеология «преобразует» индивидов в субъектов (всех их) именно этой самой процедурой, которую я именую интерпелляцией, или призывом, и которую можно представить примерно как обыденный оклик полицейского (или еще чей-нибудь): «Эй вы!»
Предположим, что эта придуманная мною умозрительная сценка происходит на улице, и индивид, которого окликнули, действительно оборачивается. Одним этим физическим поворотом на сто восемьдесят градусов он превращается в субъекта. Почему? Потому что он признал, что оклик «действительно» адресован ему, и что «это именно его окликнули» (а не кого-то еще). Опыт показывает: практическая передача оклика такова, что он почти никогда не промахивается: будь то словесный призыв или свист, окликаемый всегда сознает, что окликают именно его. И все же странное это явление, и его никак не объяснить исключительно «чувством вины», невзирая на то, что людей «с нечистой совестью» великое множество.
Естественно, ради удобства и ясности моего маленького теоретического театра, приходится излагать ситуацию по порядку, с началом и концом, т. е. во временно́й последовательности. Вот идут люди. Откуда-то (обычно у них из-за спины) доносится оклик: «Эй вы!» Один индивид (девять из десяти случаев – правый) оборачивается, считая/подозревая/зная, что зовут его, т. е. признавая, что «это действительно он», кому этот оклик адресован. Но на деле все это происходит без всякой последовательности. Существование идеологии и призыв, или интерпелляция, индивидов как субъектов суть одно и то же[121].
Первое, что останавливает взгляд в этом рассуждении, – подразумеваемая Альтюссером отсылка к тезису Лакана о письме, которое «всегда достигает адресата»: интерпеллятивное письмо не может ошибиться адресатом, поскольку, в смысле своего «вневременно́го» характера, лишь опознание-принятие получателем делает письмо письмом[122]. Ключевая черта процитированного рассуждения, впрочем, – в двойном отрицании: отказ объяснять интерпеллятивное признание «чувством вины», а также отказ от того, что процесс интерпелляции протекает во времени (говоря строго, индивиды не «становятся» субъектами, они «всегда-уже» субъекты). Такое двойное отрицание следует читать как фрейдистское: «вневременной» характер интерпелляции делает незримым своего рода не зависящую от времени последовательность, которая гораздо сложнее, нежели «теоретический театр», показанный Альтюссером с сомнительной отговоркой об «удобстве и ясности».
Эта «подавленная» последовательность касается «чувства вины» совершенно формального, «непатологического» (в кантианском смысле) свойства, вины, которая, по этой самой причине, тяжелее всего давит людей, у которых «совесть ничем не обременена». Иными словами, в чем же именно состоит первая реакция индивида на оклик полицейского «Эй вы!»?[123] В непоследовательном смешении двух составляющих: (1) почему я, чего полицейский от меня хочет? Я ни в чем не виноват, шел себе и всё…; однако такой растерянный протест невинности всегда сопровождается (2) неопределимым кафкианским чувством «абстрактной» вины, чувством, что в глазах Власти я априори в чем-то страшно провинился, хотя сам я никак не могу знать, в чем именно виноват, и именно поэтому – потому что не знаю, в чем я виноват, – я виноват еще больше; или, точнее, в само́м этом неведении и состоит моя истинная вина.
Таким образом получается, что вся Лаканова структура субъекта, расщепленного между невиновностью и абстрактной, неопределимой виной, сталкивается с неясным призывом, исходящим от Другого («Эй вы!»), призывом, из которого субъекту непонятно, чего Другой от него хочет («Che vuoi?»[124]) Коротко: здесь мы имеем дело с интерпелляцией до отождествления. До распознания в призыве Другого, посредством которого индивид определяет себя как «всегда-уже»-субъекта, мы вынуждены отметить это «вневременное» мгновение безвыходности, в котором невиновность совпадает с неопределимой виной: идеологическое отождествление, посредством которого я принимаю символический приказ и признаю себя субъектом Власти, происходит именно как ответ на эту безвыходность.
И вот оно вновь – напряжение между публичным Законом и его теневой «сверх-я»-изнанкой: идеологическое признание призыва Другого есть акт отождествления, определения себя как субъекта публичного Закона, принятия своего места в символическом порядке вещей, а абстрактную неопределимую «вину» субъект переживает, попутно имея дело с неисповедимым призывом, который как раз и препятствует отождествлению, признанию символического приказа, отданного индивиду. Парадокс тут в том, что теневая «сверх-я»-изнанка есть одновременно и необходимая поддержка публичному символическому Закону, и травматический заколдованный круг, безвыходность, от которой субъект стремится уклониться, ища прибежища в публичном Законе – чтобы утвердить себя, публичный Закон должен противиться своему же основанию, делать его незримым.
В Альтюссеровой теории интерполяции остается «неосмысленным» то, что до идеологического признания у нас есть промежуточный миг теневой, непроницаемой интерпелляции без отождествления, своего рода «исчезающий посредник», который должен стать незримым, если субъект хочет достичь символического отождествления – завершить движение к субъективации. Вкратце: «неосмысленное» Альтюссера – в том, что загадочный субъект имеется еще до акта субъективации. Не чистая ли теоретическая конструкция этот «субъект до субъективации» и как таковая не бесполезна ли она в предметном социальном анализе? Доказательство обратного предлагается в синтагме, возникающей постоянно, когда социальные служащие пытаются изложить свой опыт работы с «асоциальными» малолетними преступниками, которым недостает того, что мы идеологически именуем «элементарным состраданием и нравственной ответственностью»: смотришь им в глаза, и кажется, что «никого нет дома»[125].
Ключевой текст Альтюссера на эту тему – «Trois notes sur la théorie des discours» (1966)[126]. В первой «Заметке» Альтюссер выдвигает гипотезу, согласно которой любой из четырех основных типов дискурса предполагает специфический характер субъективности, т. е. привносит свой «эффект-субъект» [effet-sujet]: в идеологическом дискурсе субъект представлен en personne[127], в научном – отсутствует en personne, в эстетическом присутствует в виде персон-посредников [par personnes interposées], в бессознательном дискурсе субъект ни присутствует, ни просто отсутствует: он – пустое место, представленное символом-заполнителем[128]. В третьей «Заметке», однако, Альтюссер вдруг, довольно неожиданно, втягивает субъекта в идеологический дискурс и ограничивает его им, подчеркивая, что можно говорить о «субъекте науки» или «субъекте бессознательного» лишь в метафорическом смысле слова. Стоит нам принять его позицию – и придется, разумеется, отвергнуть само представление о «расщепленном субъекте»: по словам Альтюссера, нет никакого расщепленного субъекта, а есть лишь субъект плюс бездна [Spaltung], зияющая между субъектом и порядком дискурса: «le manque du sujet ne peut être dit sujet»[129]. Короче говоря, Альтюссер неоправданно отождествляет пустоту, брешь, из-за которой размывается самоотождествление субъекта, с самим субъектом.
Наша лакановская позиция подталкивает нас принять сторону Альтюссера-I (который за четыре «эффект-субъекта») против Альтюссера-II (который за идеологический статус субъекта): Альтюссерово ограничение субъекта идеологией – явный случай теоретической «регрессии». Четыре «эффект-субъекта» Альтюссера-I явно неравны по весу: два претендента на роль субъекта par excellence – либо идеологический субъект, представленный en personne, либо субъект бессознательного, брешь в структуре ($), которую означающее всего лишь представляет. Альтюссер выбрал первое (идеологический статус субъекта), тогда как с лакановской точки зрения второй вариант кажется куда продуктивнее: он позволяет нам мыслить оставшиеся три «эффект-субъекта» как следствия-затенения $, как три способа примириться с брешью в структуре, которая «есть» субъект.
Дополнительный довод в пользу выбора Лакана – в показательном чтении самого Альтюссера: не сдвиг ли в теории Альтюссера, заявленный в его очерке «Ленин и философия», – самокритическое отвержение «затеоретизированного отклонения», утверждение классовой борьбы в теории, теории рекурсивности, т. е. понятия, что теория включена в свой объект, – своего рода «возвращение подавленного», означающего, как грани субъекта? Показательно здесь новое Альтюссерово определение философии, заключающее в себе этот сдвиг: философия – более не «Теория теоретической практики», а «представляет политику (классовую борьбу) в теории» – не отчетливая ли это версия Лаканова «означающее представляет субъект для другого означающего»? Классовая борьба как разрыв, предотвращающий тотализацию, – единственный истинный «субъект» истории, а философия при этом – Главное Означающее (S1), представляющее субъект – классовую борьбу – для теории, в пределах поля знания (S2)[130].
Кундера, или Как получать удовольствие от бюрократии
Акцент следует ставить на внутренней политической грани понятия удовольствия – на том, как это ядро удовольствия выступает политическим фактором. Давайте разберемся с этой гранью на примере одной из загадок культурной жизни постсоциалистической Восточной Европы: почему Милан Кундера даже теперь, после победы демократии, остается в эдакой ссылке и сидит в своей Богемии? Работы его публикуют редко, пресса обходит их молчанием, все словно стесняются о нем говорить… Чтобы как-то оправдать подобное отношение, приходится откапывать старые истории о его тайном сотрудничестве с коммунистическим режимом, о том, что он предался личным радостям и избегал прямых столкновений а-ля Гавел и т. п. Но корни этого сопротивления уходят глубже – послание, которое несет Кундера, невыносимо для «нормализованного» демократического сознания:
● На первый взгляд, фундаментальная ось, структурирующая вселенную его работ, – вроде бы противостояние между выспренним пафосом официальной социалистической идеологии и островками повседневной частной жизни, со своими маленькими радостями и удовольствиями, смехом и слезами, не досягаемыми для идеологии. Эти островки позволяют нам сохранять отстраненность, которая делает идеологический ритуал зримым – во всей его суетной, нелепой претенциозности и гротескной бессмыслице: не заслуживает официальная идеология хлопот протеста против него, со всякими патетическими речами о свободе и демократии – рано или поздно такой протест приведет к новой версии «Большого Марша», идеологической одержимости… Если сузить Кундеру до подобного представления, от него легко отмахнуться – фундаментальным «альтюссерианским» прозрением Вацлава Гавела, которое состоит в том, что предельно конформистский настрой есть в точности такая вот «аполитичная» позиция, которая, хоть и публично подчиняется навязанному ритуалу, втихаря позволяет себе циничную иронию: недостаточно утверждать, что идеологический ритуал есть всего лишь видимость, которую никто не воспринимает всерьез, – эта видимость сущностна, и потому следует рисковать и отказываться участвовать в публичном ритуале (см. знаменитый пример Гавела из его очерка «Сила бессильных»[131], об обычном человеке, зеленщике, который, конечно, не верит в социализм, но, когда ситуация требует, прилежно украшает окна своей лавки официальными партийными девизами и т. д.).
● Следовательно, нужно сдвинуться на шаг вперед и принять во внимание, что нельзя попросту отстраниться от идеологии: частный цинизм, увлечение личными удовольствиями и т. д. – именно так тоталитарная идеология и действует в «неидеологической» повседневной жизни, так эта жизнь определяется идеологией, так идеология «присутствует в ней в режиме отсутствия», если мы решим вернуться к этому обороту из героической эпохи структурализма. Деполитизация частной сферы в позднесоветских обществах – «навязчива», отмечена глубинным запретом свободной политической дискуссии; поэтому подобная деполитизация всегда действует как замалчивание того, на что делается настоящая ставка. Это и есть мгновенно замечаемая яркая черта романов Кундеры: деполитизированная частная сфера – совсем не свободное пространство невинных удовольствий; в том, как персонажи стремятся к половым и иным радостям, всегда чувствуется нечто затхлое, клаустрофобное, ненастоящее, даже отчаянное. В этом отношении вывод из романов Кундеры – прямо противоположный наивному упованию на невинное личное пространство: тоталитарная социалистическая идеология отравляет изнутри ту самую сферу личного, в которой мы ищем прибежища.
● Это ви́дение, впрочем, далеко от исчерпывающего. Необходимо сделать еще один шаг, поскольку выводы из Кундеры более расплывчаты. Несмотря на затхлость личного пространства, тоталитарная ситуация породила несколько явлений, запечатленных многими хрониками повседневной жизни социалистического Востока: в ответ на тоталитарное идеологическое подавление происходил не только побег в цинизм и «хорошую жизнь» личных удовольствий, но и необычайный расцвет подлинной дружбы, хождений по гостям, общих ужинов, пылких интеллектуальных дискуссий в закрытых обществах – все это завораживало посетителей с Запада. Загвоздка, понятно, в том, что провести четкую границу между двумя этими сторонами невозможно: это орел и решка одной и той же монеты, и поэтому с приходом демократии утеряны обе. Следует отдать должное Кундере – он не скрывает этой двусмысленности: дух «Средней Европы», подлинной дружбы, интеллектуального общения выжил лишь в Богемии, Венгрии и Польше – как форма сопротивления тоталитарному идеологическому подавлению.
● Возможно, имеет смысл сделать еще один шаг: само подчинение социалистическому режиму порождало специфическое удовольствие – не только удовольствие от осознания, что люди жили во вселенной, освобожденной от неопределенности, поскольку Система располагала (или делала вид, что располагает) всеми ответами, но превыше всего – удовольствие от самой тупости Системы, наслаждение пустотой официального ритуала, в истертых стилистических фигурах преобладавшего идеологического дискурса. (Довольно вспомнить, до какой степени некоторые сталинские обороты сделались частью иронических фигур речи даже среди западных интеллектуалов: «объективная ответственность», например.)
Показательный случай подобного удовольствия, сообщаемого «тоталитарной» бюрократической машиной, есть в сцене «Бразилии» (1985) Терри Гиллиама: по лабиринтам коридоров громадного правительственного здания стремительно идет высокопоставленный служащий, а за ним – стайка младших конторщиков, отчаянно пытающихся не отставать; служащий ведет себя как страшно занятой человек, просматривает документы и выкрикивает указания окружающим, а сам продолжает нестись, будто спешит на какую-то важную встречу. Когда этот служащий натыкается на героя фильма (в исполнении Джонатана Прайса), они обмениваются парой слов, и служащий торопится дальше, занятой-занятой… Однако, полчаса спустя наш герой видит его вновь в одном из удаленных коридоров – служащий продолжает свой бессмысленный ритуальный бег. Удовольствие возникает именно от этой бессмысленности действий служащего: хотя его заполошная беготня и приказы изображают «эффективное» использование каждой свободной минуты, все это, stricto sensu, бесцельно – чистый ритуал, повторяемый ad infinitum.
Современный русский композитор Альфред Шнитке сумел явить эту черту в опере «Жизнь с идиотом»[132]: так называемый «сталинизм» сталкивает нас с тем, что Лакан определил как безмозглость, присущую означающему как таковому. Опера излагает нам историю обычного женатого человека («я»), который в наказание, наложенное на него партией, вынужден поселить у себя в доме человека из психушки; этот идиот, по имени Вава, с виду – вроде бы нормальный бородач-интеллектуал в очках, постоянно изрыгающий бессмысленные политические фразы, – скоро показывает, на что способен: этот мерзкий чужак сначала укладывает в постель жену «я», а потом и самого его. Пока живем во вселенной языка, мы обречены на безмозглость «сверх-я»: можно как-то отстраниться от него и таким образом научиться терпеть его, но избавиться от него не удастся…
«Не отрекайтесь от желания!»
Как же, при ближайшем рассмотрении, устроено «сверх-я»? Проницательно толкуя Зиновьева, Йон Элстер[133] выдвигает формальное определение элементарного «тоталитарного» механизма: короткое замыкание между внешним и внутренним отрицанием, т. е. на уровне нормативной логики – короткое замыкание между необязательным и запрещенным[134]. Внешнее отрицание нашей обязанности делать D состоит в том, что мы не обязаны делать D; внутреннее отрицание – в том, что мы обязаны делать не-D. В тоталитарном обществе любое необязательное зачастую толкуется как запрещенное. Эту тенденцию можно проиллюстрировать множеством примеров – от выборов и возможности критики до тоталитарной одержимости «заговорами». Выборы формально свободные, все могут голосовать «за» или «против», однако все знают, как именно нужно голосовать, т. е. всякому известно, что ему запрещено голосовать «против». Официально критика не разрешена, но приветствуется, однако все знают, что допустима критика «конструктивная», а это на самом деле означает, что никакая критика не допустима. И потому неудача намерения превращается (по-гегельянски – «отражается в себе») в намеренную неудачу: когда какой-нибудь проект коммунистического режима терпит кошмарную неудачу из-за того, что его заоблачные цели породили пассивное сопротивление в народе, эта неудача тут же толкуется как результат заговора, устроенного врагами режима.
Лежащая в основе этого замыкания структура связана со своего рода психотическим искажением «семиотического квадрата» необходимости, возможности, невозможности и случайности: в идеальной «тоталитарной» вселенной мы имеем дело лишь с необходимостью и невозможностью. Случайное решение Начальства преподносится как выражение исторической Необходимости, и потому любая форма сопротивления подобному решению – хотя и формально возможна – на самом деле невозможна, т. е. запрещена. Подобное искажение, таким образом, приводит к парадоксу навязанного выбора: нам на самом деле позволяют выбирать всего один из двух вариантов, второй при этом – пустое множество (этот парадокс есть не что иное как servitude volontaire[135]). И именно это замыкание дает элементарнейшее определение «сверх-я»: «сверх-я» – это закон, который «спятил», поскольку он запрещает то, что формально разрешает[136].
Каково же место «сверх-я» в матрице различных этических умонастроений? Здесь нам поможет отсылка к фильмам Орсона Уэллса. Уэллс одержим фигурой человека-исполина, от Курца в первом (нереализованном) кинопроекте «Сердце тьмы», далее – в «Гражданине Кейне» (1941), «Великолепных Эмберсонах» (1942), «Печати зла» (1958) и «Мистере Аркадине» (1955), вплоть до Фальстафа в «Полуночных колоколах» (1965). Этот грандиозный индивид Уэллса характеризуется двусмысленными отношениями с нравственностью: он невозмутимо нарушает общие нравственные нормы и пренебрегает Благом других людей, безжалостно пользуется ими в своих интересах, но при этом совершенно привержен своим целям и щедр – прямая противоположность мелочного расчетливого утилитаризма, поэтому назвать такого индивида безнравственным нельзя: его действия светятся глубинной «нравственностью самой Жизни», которую не тревожат никакие узкие соображения. Уэллс именовал таких людей «скорпионами» – есть такая история, в которой скорпион жалит лягушку, везущую его через ручей: он знает, что сам утонет, но ничего не может поделать, такова его природа[137]. В интервью журналу «Cahiers du Cinéma» Уэллс даже настаивал на разнице между Герингом и Гиммлером: Гиммлер – воплощенная «банальность зла», конторщик, которому доверили рулить гестаповской машиной убийства, как почтовым отделением в уездном городе, а вот Геринг – персона Возрождения, широкого ума человек-Зло[138].
Глубинную понятийную матрицу можно увидеть явно, если укрупнить противостояние этики и морали в Греймасовом[139] семиотическом квадрате:
Вверху и внизу у нас все просто: святой нравственен (не отрекается от своего желания) и морален (учитывает Благо других), мерзавец аморален (нарушает нравственные нормы) и безнравственен (он следует не за желанием, а за удовольствиями и выгодой, а потому не имеет жестких принципов). Куда интереснее два горизонтальных положения, выражающие присущий им антагонизм: герой аморален, но нравственен, т. е. нарушает (или, вернее, отменяет действие) существующих выраженных моральных норм во имя высшей этики жизни, исторической Необходимости и т. д., а «сверх-я» строго обратно ему – это безнравственный моральный Закон, Закон, в котором непристойные удовольствия сочетаются с послушанием моральным нормам (скажем, суровый учитель, который мучает учеников ради их же блага, но не готов признать собственных садистских выгод этих издевательств)[140].
Однако это совсем не означает, что в сфере нравственности напряжение между Законом и «сверх-я» неизбежно. Лаканова максима об этике психоанализа («не отрекаться от своего желания») – не подчиняться требованиям «сверх-я». Иными словами, в первом приближении может показаться, что максима «Не отрекайтесь от желания!» совпадает с приказом «сверх-я» «Получайте удовольствие!»: разве не отрекаемся мы от желания, отказываясь от удовольствий? Не фундаментальная ли эта установка Фрейда, своего рода фрейдистская банальность, что «сверх-я» образует базовое, «примитивное» ядро нравственности? Лакан этой банальности возражает: между нравственностью желания и «сверх-я» он устанавливает отношения полного взаимоисключения. Лакан, иными словам, серьезно и дословно воспринимает Фрейдов «экономический парадокс» «сверх-я», т. е. заколдованный круг, характеризующий «сверх-я»: чем больше мы подчиняемся приказам «сверх-я», тем сильнее его давление и тем виноватее мы себя чувствуем. По Лакану, «чувство вины» – не самообман, который нужно развеять психоаналитическим лечением; мы действительно виноваты: «сверх-я» получает энергию давления, оказываемого на субъект, из того, что субъект не был предан своему желанию, что он от желания отказался. Наше жертвование в пользу «сверх-я», наше потакание ему лишь усиливает нашу вину. Потому и неоплатен наш долг перед «сверх-я»: чем больше мы отдаем, тем больше должны. «Сверх-я» подобно вымогателю – оно медленно высасывает из нас всю кровь, и чем больше мы ему даем, тем крепче оно за нас держится.
Показательный пример этого парадокса «сверх-я» – литературные труды Франца Кафки: так называемая «иррациональная вина» кафкианского героя – свидетельство тому, что он в чем-то уступил свое желание. Дабы избежать общих мест, впрочем, давайте лучше вспомним «Les liaisons dangerueses»[141] Шодерло де Лакло: когда Вальмон говорит маркизе де Мертей знаменитое «c’est pas ma faute», «не моя в том вина», как оправдание своей влюбленности в президентшу де Турвель, он тем самым подтверждает, что «отрекся от желания» и поддался патологической страсти, т. е. он действительно виноват. Чтобы обелить себя в глазах маркизы, он отказывается от президентши, отвергнув ее теми же словами («c’est pas ma faute», что я более не люблю вас, поскольку не моя в том вина). Эта жертва, однако, никоим образом не помогает ему избавиться от вины – напротив, она удваивается; бросив президентшу, он нисколько не умаляет своей вины перед маркизой. В этом и состоит заколдованный круг, в котором мы оказываемся, «отрекшись от желания»: простого выхода нет, поскольку чем сильнее мы стремимся искупить вину, жертвуя патологическим объектом, который подтолкнул нас предать желание, тем сильнее наша вина.
Лаканова этика, таким образом, связана с предельным размежеванием между долгом и соображениями Блага. Поэтому Лакан ссылается на Канта, на Кантово исключение Блага как мотивации акта нравственности: Лакан настаивает, что опаснейшая форма предательства – не прямое подчинение «патологическим» импульсам, а отсылка к той или иной разновидности Блага, когда я уклоняюсь от выполнения долга под предлогом, что это во Благо (свое или общее), т. е. ссылаясь на «обстоятельства» или «неблагоприятные последствия» как на оправдание, я уже пропал. Причины, почему я отрекаюсь от желания, могут быть очень убедительными или достоверными, даже благородными, и мне вольно ссылаться на что угодно, вплоть до ущерба окружающей среде. Бесчисленны уловки поиска оправданий; вполне возможно, что благосостояние других людей «действительно» пострадает от моего поступка, но пропасть, отделяющая нравственность от соображений Блага, тем не менее, остается непреодолимой. Желание и Кантова нравственная строгость совпадают в пренебрежении «требованиями действительности»: ни та, ни другая не признают оправданий в виде обстоятельств или же неблагоприятных последствий, и поэтому Лакан считает их тождественными друг другу («моральный закон, если присмотреться, есть не что иное, как желание в чистом виде»[142]).
Скандально известное утверждение Фрейда, что у женщин нет «сверх-я», – или, по крайней мере, что «сверх-я» у женщины слабее мужского – предстает, следовательно, в совершенно новом свете: недостаток «сверх-я» у женщин свидетельствует об их нравственности. Женщинам не нужно «сверх-я», поскольку у них нет вины, на которой «сверх-я» может паразитировать, – поскольку, иными словами, женщины куда менее склонны отрекаться от своего желания. Совсем не случайно Лакан обращается к показательному примеру чистой нравственности у Антигоны, женщины, которая «не сдалась»: даже на до-теоретическом интуитивном уровне понятно, что она поступает так, как поступает, не из-за давления «сверх-я» – «сверх-я» тут вообще ни при чем. Антигона невиновна, хотя никак не печется об общем Благе, о возможных катастрофических последствиях своего поступка. В этом и состоит связь между мужским «сверх-я» и тем, что у мужчины чувствование общего Блага выражено гораздо сильнее, чем у женщины: «общее Благо» – привычное оправдание отказа от желания. «Сверх-я» – месть, наживающаяся на нашей вине, т. е. цена, которую мы платим за вину, возникающую в нас, когда мы отрекаемся от желания ради Блага. Иными словами, «сверх-я» – необходимая обратная сторона, изнанка «я»-Идеала, нравственных норм, зиждущихся на общем Благе[143].
Этика преданности своему желанию независимо от общего Блага неизбежно порождает тревогу: не для «героев» ли одних годится подобный настрой? Мы, обычные люди, тоже имеем право выживать? Следовательно, нам разве не требуется «обычная» нравственность «общего Блага» и распределенная справедливость, которая удовлетворяет требованиям большинства, пусть она и отвратительна этике героев-самоубийц, которую поддерживает Лакан?[144] Страх этого «излишка» в Лакановой этике желания, этой fiat desiderium, pereat mundus[145], можно найти и у Канта, который, согласно Лакану, первым сформулировал этику желания, которая не внемлет патологическим соображениям: разве узы, порождаемые вопросом «А если все захотят поступать, как я?», – не простейшая форма нашего отречения от желания? Откажись от желания, раз оно не свойственно всем поголовно?
Разве подобное принятие в расчет возможности универсализации нашего поступка не приводит по умолчанию к патологическому принятию во внимание последствий наших поступков в действительности? Именно на этом уровне мы можем определить и точку нравственного компромисса буддизма: когда в буддизме Махаяны приняли разницу между «большой» и «малой» колесницами, т. е. необходимость формулировать, в дополнение к «чистому» учению для тех, кто уже способен преодолеть стяжательство этой жизни, своего рода «малую» этику, правила поведения для обычных людей, которые не в силах отказаться от половых утех и пр. Отчетливая противоположность этому – Лаканово настояние на тревожащем императиве «Не отрекайтесь от своего желания», хоть и понятно, что императив этот не сделаешь всеобщим[146].
Зло «я», зло «сверх-я», зло «оно»
Наш современный опыт подталкивает нас еще более усложнить картину. Вот что примечательно в последней волне антииммигрантского насилия: «примитивный» уровень лежащей в его основе либидинальной экономики – «примитивный» не в смысле «регрессии» к некому архаическому слою, а в смысле предельной простоты сути отношений между наслаждением и jouissance, между кругом принципа удовольствия, который стремится к равновесию, к воспроизведению замкнутости, и экстимной чужеродностью. Пример либидинальной экономики, поддерживающей печально известный боевой клич «Ausländer raus! [Чужаки, вон!]», – Лаканова схема сачка, в котором а не позволяет кругу замкнуться[147], или, еще лучше, схема отношений между Ich и Lust[148], где Unlust[149] определено в понятиях (не)ассимиляции, т. е. как «нечто не ассимилируемое, не сводимое к принципу удовольствия»[150]. Понятия, применяемые Фрейдом и Лаканом к описанию отношений между Ich и jouissance, идеально подходят к метафоре расистского отношения к приезжим: ассимиляция и сопротивление ассимиляции, отвержение чужеродного, возмущенное равновесие…
Есть искушение определить этот тип Зла среди обычных его типов, применив классификационный принцип фрейдистской триады «я», «сверх-я» и «оно»:
● самый обычный тип Зла – «я»-зло: поведение, мотивированное корыстным расчетом и жадностью, т. е. пренебрежением всеобщими нравственными принципами;
● Зло, приписываемое так называемым «фанатикам-фундаменталистам», напротив, – «сверх-я»-зло: это зло совершается во имя фанатического следования тому или иному идеологическому идеалу;
● в скинхеде, избивающем иностранцев, впрочем, не углядишь ни внятного корыстного расчета, ни ясной идеологической приверженности. Никакие разговоры о том, что иностранцы отбирают у нас рабочие места или что они угрожают нашим западным ценностям, не должны нас смущать: если приглядеться, становится понятно, что подобные рассуждения – довольно поверхностная вторичная рационализация. Ответ, который мы в конечном счете получаем от скинхеда, – ему приятно избивать иностранцев, потому что их присутствие его, скинхеда, раздражает… Здесь мы имеем дело с «оно»-злом, Злом, структурированным и мотивированным простейшим неравновесием в отношениях между Ich и jouissance, напряжением между удовольствием и чужеродным телом jouissance в самой сердцевине его. «Оно»-зло, таким образом, устанавливает простейшее «короткое замыкание» внутри отношения субъекта к первобытному недостающему объекту-причине желания: «раздражает» нас в «другом» (еврее, японце, африканце, турке…) то, что он у него будто бы особые отношения с объектом: другой либо владеет объектом-сокровищем, похищенным у нас (поэтому у нас его нет), или же угрожает нашему владению объектом. Вкратце: «нетерпимость» скинхеда к другому не мыслится без отсылки к объекту-причине желания, который, по определению, отсутствует.
Как же нам бороться с этим «оно»-злом, которое из-за его «простейшей» природы недосягаемо ни для каких рациональных или даже чисто риторических доводов? Иными словами, расизм всегда коренится в специфической фантазии (о cosa nostra[151], о нашем этническом Нечто, которому «они» угрожают, о «них», которые своим добавочным удовольствием угрожают нашему «стилю жизни»), которая по определению сопротивляется универсализации. Преобразование расистской фантазии в универсальную среду символической межсубъективности (Хабермасовой этики диалога) никак не ослабляет хватку расистской фантазии, обуревающей нас[152]. Чтобы лишить эту фантазию власти, потребуется другая политическая стратегия – которая способна воплотить то, что Лакан именовал «la traverseé du fantasme»[153], стратегия «сверхотождествления», она принимает во внимание факт, что непристойное «сверх-я» qua основа и поддержка публичного Закона действует лишь до тех пор, пока не признана, скрыта от публичного взгляда. А что если применить не критическое рассечение и иронию, бессильные перед расистским ядром фантазий, а двинуться a contrario[154] и публично отождествиться с теневым «сверх-я»?
В процессе распада социализма в Словении постпанк-группа «Лайбах» выдавала на публику агрессивную невразумительную смесь сталинизма, нацизма и идеологии Blut und Boden[155]. Первый отклик просвещенных левых критиков – считать выступления «Лайбаха» иронической имитацией тоталитарных ритуалов; однако их поддержка «Лайбаха» всегда сопровождалась неприятным чувством: «А ну как они и впрямь так считают? Может, они всерьез отождествляются с тоталитарным ритуалом?» – или же (вариант лукавее) переносом собственных сомнений на другого: «А что если “Лайбах” переоценивает свою публику? А вдруг аудитория воспринимает за чистую монету то, что “Лайбах” имитирует в шутку, и тогда группа на самом деле укрепляет то, что стремится подорвать?» Это неприятное чувство поддержано допущением, что ироническая отстраненность – это автоматически подрывной настрой. А что если, напротив, преобладающий настрой современной «пост-идеологической» вселенной – именно циничная отстраненность от общественных ценностей? А ну как эта отстраненность, совершенно ничем не угрожающая системе, есть высший извод конформизма, поскольку нормальное функционирование системы требует цинического дистанцирования? В таком случае стратегия «Лайбаха» предстает в новом свете: она раздражает систему (правящую идеологию) именно потому, что «Лайбах» не есть ее ироническая имитация, а сверхотождествление – разоблачением теневой «сверх-я»-изнанки системы сверхотождествление мешает ее действенности[156].
Верховное средство «Лайбаха» – их ловкая манипуляция переносом: их публика (особенно интеллектуалы) одержима «желанием Другого»: какова подлинная позиция «Лайбаха»? Они и впрямь за тоталитаризм или нет? Они задают «Лайбаху» вопрос и ждут ответа, не замечая, что сам «Лайбах» выступает не в роли ответа, а в роли вопроса. Благодаря неуловимости их желания, неопределенности в том, «как же они на самом деле считают», «Лайбах» подталкивает нас занять позицию и решить, каково наше желание.
«Лайбаху» на самом деле удается достичь переворота, определяющего конец психоаналитического лечения. В начале лечения – перенос: отношения переноса вступают в силу, как только аналитик появляется в образе субъекта, которому положено знать – знать правду о желании анализанта. Когда в ходе психоанализа анализант жалуется, что не ведает, чего хочет, любые его стенания и причитания адресованы аналитику из подразумеваемого предположения, что уж аналитик-то знает. Иными словами – пока аналитик изображает большого Другого, – иллюзия анализанта состоит в сужении своего неведения о своем же желании к «эпистемологической» неспособности: истина о его желании уже существует, она запечатлена где-то в большом Другом, нужно лишь извлечь ее на свет, и процесс желания дальше пойдет гладко… Конец психоанализа, растворение переноса возникает, когда эта «эпистемологическая» неспособность смещается в «онтологическую» невозможность: анализанту приходится пережить, что большой Другой тоже не располагает истиной о желании анализанта, что желание это никто не гарантирует, у него нет почвы, и оно авторизовано лишь самим собою. Именно в этом смысле растворение переноса означает точку во времени, когда стрела вопроса, которую анализант нацеливал на аналитика, разворачивается обратно на анализанта: сначала (истерический) вопрос анализанта адресован аналитику, который вроде бы должен располагать ответом; далее анализант вынужден признать, что сам аналитик – всего лишь большой вопросительный знак, адресованный анализанту. Здесь можно уточнить Лаканов тезис о том, что аналитик уполномочен лишь самим анализантом: он превращается в аналитика, приняв, что его желание не имеет в Другом поддержки, что разрешить себе желание может лишь сам анализант. А раз внутреннее влечение определяется этой сменой направления стрелы, можно сказать (и Лакан говорит), что в конце психоанализа происходит именно сдвиг от желания к влечению[157].
Бессильное наблюдение и его вина
Глубинная фантазия современной технологической войны, фантазия, структурировавшая наше восприятие Войны в Персидском заливе, включает в себя устранение «грубого» физического насилия. Первая «материализация» этой фантазии – постройка линии Мажино в 1930-е годы. Возводится глухой барьер, отделяющий нас от другой стороны, от «врага»; исключая любой прямой контакт с врагом, этот барьер полностью обезличивает войну и тем самым придает организации войны вид обыденной профессии. Солдат сражается восемь часов в день (на своем посту, с автоматом и пр.), затем возвращается в жилой квартал, отдыхает, читает, посещает кинотеатр, затем отрабатывает следующую восьмичасовую смену… Таким образом «не происходит ничего настоящего»: грубая действительность крови и смерти «сублимирована» в абстрактные данные – расположение цели, количество сброшенных бомб…
Глубинная фантазия современной технологической войны, следовательно, – попросту фантазия и только, поскольку в фантазии субъект сводится исключительно к безучастному наблюдению, к свидетельствованию воображаемых сцен, чья действительность отменена. Как же в таком случае нам мыслить связь между такой вот позицией бесстрастного свидетеля – просто наблюдения – и всплеском «действительного» насилия? Одна из банальностей деконструкционистского феминизма касается связи между наблюдением и властью: кто «видит», чья точка зрения организует поле наблюдения и властвует в нем, тот и есть носитель власти; в Бентамовой фантазии Паноптикона[158] место власти совпадает с центральным постом наблюдения. В этом смысле отношения власти в кинематографе определяются тем, что мужской взгляд контролирует поле зрения, а статус женщины – особый объект мужского наблюдения. Вывод из великих шедевров Хичкока, от «Дурной славы» до «Окна во двор», однако, в том, что диалектика наблюдения и власти – куда тоньше: наблюдение подразумевает власть, но одновременно, на более глубоком уровне, подразумевает и прямую противоположность власти – бессилие, – поскольку предполагает положение неподвижного свидетеля, который может лишь смотреть на происходящее.
Недавняя война в Боснии ставит вопрос вины наблюдения очень остро: почему бессильный наблюдатель, вынужденный свидетельствовать невыразимому ужасу, неизбежно видится зараженным виной, хотя происходящее – «не его вина»? Речь о насилии как «оружии», применявшемся сербами против мусульман. Форма этого насилия – изнасилование девушки (или юноши, неважно) в присутствии отца, которого заставляют свидетельствовать происходящему, – несомненно, порождает замкнутый круг вины: отец – представитель власти, большого Другого – явлен в полном бессилии, что делает его виноватым и в собственных глазах, и в глазах дочери; дочь виновата в том, что стала причиной унижения отца и т. д. Изнасилование, таким образом, влечет за собой, помимо физического и психического страдания девушки, распад всей семейной социально-символической системы.
Бессильное наблюдение задействовано в «первичной сцене» «Похищенного письма» Эдгара По[159]: министр ворует письмо в присутствии короля и королевы, и здесь бессильный наблюдатель – сама королева, которая может лишь смотреть на происходящее, а предотвратить ничего не в состоянии, поскольку любое действие с ее стороны явит королю ее причастность к преступлению. Бессильное наблюдение, таким образом, есть элемент треугольника, в который входит и несведущий взгляд большого Другого, и действие преступника-мучителя. Говоря строго, кто здесь бессилен? В первую очередь, конечно, субъект бессильного наблюдения. Если копнуть поглубже, однако, бессилие более острое – у несведущего третьего, большого Другого, представителя общественной власти (короля в «Похищенном письме»): действие преступника совершенно открыто взгляду бессилия у большого Другого, но последний совершенно не сознает этого[160]. Субъект бессильного наблюдения может лишь бездеятельно смотреть, поскольку руки у него связаны его тайным соучастием, солидарностью с преступником: оставив большого Другого в неведении, субъект сам поступает против его интересов.
Это положение «беспомощного свидетеля» – еще и важнейший компонент опыта Возвышенного: такой опыт случается, когда мы оказываемся втянуты в какое-либо устрашающее событие, понимание которого превосходит нашу способность к толкованию; оно столь потрясающе, что нам остается лишь смотреть на него в ужасе; но, в то же время, это событие впрямую нам физически не угрожает, и потому мы можем оставаться на безопасном расстоянии как наблюдатели. Кант сводит опыт Возвышенного к примерам из природы (бурное море, обвалы в горах…), пренебрегая тем, что человеческое деяние также может быть источником подобного опыта: акт издевательств или убийства – и на это тоже нам остается лишь взирать с ужасом. Томаc де Куинси[161] сформулировал теорию «возвышенного искусства убийства» с отсылкой к Канту; в своей литературной практике он воплощал эту грань возвышенности, представляя убийцу с точки зрения стороннего наблюдателя (горничной, которая знает, что убийца, только что прикончивший ее хозяина, прячется за дверью; клиента гостиницы, наблюдающего из темного угла на вершине лестницы, как убийца порешает всю семью хозяина)[162]. А вывод психоанализа таков: к издевательствам и убийству как источникам возможного опыта Возвышенного следует добавить сильное (половое) удовольствие.
Положение бессильного наблюдателя – еще и матрица одной из типовых сцен в фильмах нуара. К примеру, у Говарда Хоукса в «Глубоком сне» (1946) Марлоу, спрятавшись за забором, наблюдает, как нанятый убийца приканчивает мелкого жулика, который готов расстаться с жизнью, но не предать любимую девушку. Вероятно, отчетливейший пример – начало «Улицы греха» (1945) Фрица Ланга, где Эдвард Робинсон наблюдает, как Дэн Дуриа агрессивно нападает на Джоан Беннетт: ослепленный собственным воображением, Робинсон ошибочно принимает обычную «перебранку влюбленных», которая Джоанн Беннетт откровенно нравится, за страдание, от которого ее надо спасти. Эта сцена дает нам ключ к целой композиции бессильного наблюдения: невыносимый травмирующий элемент, которому свидетельствует наблюдатель, – женское удовольствие, из-за которого отставлена власть большого Другого, Имени Отца, а фантазия (фантазия «угрозы», от которой женщину надо «спасти») – сценарий, достроенный нами, чтобы устранить из картины женское удовольствие. Фрейдовское «ребенка избивают» необходимо дополнить еще более простым, вероятно, примером воображаемой сцены: «Женщину мучают/имеют».
Почему же наблюдатель бездеятелен и бессилен? Потому что его желание расщеплено, разделено между зачарованностью удовольствием и отвращением от него же; или – скажем иначе – потому что его стремлению спасти женщину от мучителя мешает внутреннее знание, что жертве нравятся ее страдания[163]. Способность наблюдателя действовать – спасать женщину-жертву от ее мучителя или от нее самой – говорит о том, что он «одурачен своей же фантазией» (как Лакан говорит это apropos де Сада): удар нацелен на невыносимый излишек удовольствия[164].
Война фантазий
Общепринятое мнение относительно насилия в постмодернистском «обществе зрелища» устроено так: сегодня наше восприятие действительности опосредовано эстетизированными манипуляциями массмедиа настолько, что уже невозможно отличить действительность от ее образа из СМИ – мы переживаем саму действительность как эстетическое зрелище. Всплески «иррационального» насилия следует рассматривать именно на этом фоне: как отчаянные попытки провести границу между вымыслом и действительностью посредством passage à l’acte[165], т. е. развеять паутину эстетизированной псевдодействительности и добраться до действительности осязаемой, настоящей. Это мнение совсем не впрямую ошибочно – скорее, оно верно по ошибочным причинам: в нем недостает ключевого различения между воображаемым порядком и символическим вымыслом.
Проблема современных СМИ не в том, что они подталкивают нас смешивать вымысел с действительностью, а в их «гиперреализме», посредством коего они насыщают пустоту, которая держит открытым пространство символического вымысла. Символический порядок действует, только если сохраняется минимальное расстояние до действительности, относительно которой у него положение вымысла. Достаточно вспомнить тревогу, какая возникает, когда сказанное нами воплощается «дословно». У Хичкока в «Веревке» (1948) профессор Кеделл неприятно удивлен, когда двое его студентов «воспринимают буквально» его теории о праве сверхчеловека на убийство – и применяют его: это удивление говорит о «нормальности» Кеделла. Таким образом, чтобы символический порядок функционировал нормально, его нельзя воспринимать «буквально». Когда, к примеру, официант встречает меня привычным «Как ваши дела?», проще всего удивить его, приняв этот вопрос всерьез и начав на него отвечать («Дела скверно. С утра болит голова, а потом еще и…»). В «обществе зрелища» чрезмерность воображаемых «реалистических представлений» оставляет все меньше места для символического вымысла. Из-за реализма медиа – от игр до видеороликов – теряется опыт «меньшее есть большее»: когда слушаете оперу на аудиодиске, одно то, что вы «ничего не видите», позволяет вам заполнять эту пустоту творческим вымыслом. А вот в опере на видео всегда есть нечто пошлое – именно потому, что вы «видите всё».
Что же происходит, когда сорняки воображения заполоняют пространство символического вымысла? Пустота, заполненная творческим символическим вымыслом, – objet petit a, объект-причина желания, пустая рамка, дарующая пространство формулирования желания. Когда эта пустота насыщена, расстояние, отделяющее а от действительности, утрачено: а падает в действительность. Однако, сама действительность получается изъятием objet a: мы способны соотноситься с «нормальной» действительностью, лишь покуда из нее изъято jouissance, покуда в ней нет объекта-причины желания. Неизбежное следствие чрезмерной близости а к действительности, удушающей деятельность символического вымысла, следовательно, – лишение действительности ее «настоящности»: действительность более не структурирована символическими вымыслами; фантазии, сдерживающие заросли воображения, овладевают действительностью впрямую. Вот тут-то и появляется насилие – под видом психотического passage à l’acte.
Когда истерик-Гамлет, скрываясь за портьерами, наблюдает молящегося Клавдия, он не может решить, уязвить его мечом или нет: нанесет ли убийство Клавдия qua плоти-и-крови удар по утонченной субстанции в Клавдии, по тому, что «в нем больше, чем он сам», по objet petit a? Сомнение Гамлета позволяет нам понять per negationem[166] психотический passage à l’acte. При психозе а не исключен из действительности, он не функционирует как пустота его формальных рамок. Как следствие, психотик, в отличие от истерика, не сомневается, он знает, что а в действительности имеется; поэтому он и действует – и может убить другого, тем самым убивая и а. Психотический passage à l’acte следует мыслить как отчаянную попытку субъекта насильно изгнать objet a из действительности и так получить к ней доступ. (Психотическая «потеря действительности» не возникает, когда чего-то в действительности недостает, – напротив, когда в ней слишком много Чего-то.) Это изгнание а порождает и матрицу «иррационального» военного насилия. Здесь может оказаться полезным прочтение Оруэллова «1984» Ричардом Рорти: apropos срыва у Уинстона в руках О’Брайена, его мучителя, Рорти отмечает, что люди могут переживать предельное унижение от того, что они говорят самим себе, задним числом: «Теперь, поверив в это или пожелав этого, я никогда не смогу быть тем, чем надеялся стать, чем, как мне казалось, я был. То, что я сам себе про себя же рассказывал… больше не имеет смысла. У меня больше нет осмысленной самости. Нет такого мира, в котором я мог бы помыслить себя, потому что нет словаря, каким я в силах рассказать связную историю о себе». Вот фраза, которую Уинстон не мог произнести искренне и остаться после этого целостным: «Сделай это с Джулией!», а хуже всех на свете – стукачи. Но предположительно любой из нас в тех же отношениях с той или иной фразой – и с тем или иным нечто[167].
Одна из фундаментальных позиций лакановского психоанализа состоит в том, что эта фраза или нечто, содержащее ядро сути субъекта вне воображаемых отождествлений, непреодолимо децентрирована относительно символической текстуры, определяющей личность субъекта: субъект может пережить столкновение с этим экстимным ядром лишь ценой собственного временного исчезновения (афаниза). Это Лаканова формула фантазии – $ а – и означает: самоуничтожение субъекта при встрече с этим странным, «экстимным» телом (верованием, желанием, предположением), которое формирует сердцевину его или ее существа[168]. Достаточно вспомнить, как мы пунцовеем, когда предают широкой огласке наши глубоко личные способы получения удовольствия: впору сквозь землю провалиться. Иными словами, афаниз говорит о непреодолимом разногласии между жестким ядром воображения и текстурой символического повествования: когда я рискую столкновением с этим жестким ядром, «то, что я сам себе про себя же рассказывал, более не имеет смысла», «у меня больше нет осмысленной самости» – или же, в понятиях Лакана, большой Другой (символический порядок) схлопывается в маленький другой, objet petit a, объект-фантазию. Извлечение объекта а из поля действительности сообщает этому полю связность: происходит афаниз – и объект а перестает быть извлеченным, он обретает полное присутствие, из чего следует, что распадается не только символическая текстура, составляющая нашу действительность, но и само фантастическое ядро моего удовольствия открыто миру и, соответственно, угрозе.
Возможно, в некотором смысле, нет большего насилия, чем переживаемое субъектом, которого заставляют против воли являть публике свой objet a. К тому же в этом состоит и ключевой довод против изнасилования: даже если в той или иной мере мужской шовинизм может претендовать на истину – даже если некоторые женщины как-то иногда и впрямь хотят, чтобы их брали грубо, – именно поэтому нет ничего более унизительного, чем заставлять женщину против ее воли поддаваться ее желанию. В точности это имел в виду Шекспиров Кориолан, когда говорил, что не желает «праздно слушать слова хвалы делам своим ничтожным»[169]: он предпочел стать предателем, чем отдаться публичному бахвальству и открыть «дела свои ничтожные», что были ядром его существа.
Нынешняя война в Боснии, следовательно, есть хрестоматийный случай «постмодерновой» войны: она показательно воплощает триаду «я»-зла, «сверх-я»-зла и зла-«оно». Мы имеем дело с невероятным физическим насилием, захватами территорий, грабежом; с символическим насилием, разрушением символической вселенной врага, «культуроцидом», вследствие чего «то, что община рассказывала себе о себе же самой, более не имеет смысла»; а на самом радикальном уровне – с ударом по невыносимому прибавочному удовольствия, по а, содержащемуся в Другом. Поскольку ненависть не ограничена «действительными качествами» ее объекта, но нацелена на действительное ядро его, objet a, на то, что «в объекте больше, чем он сам», объект ненависти, stricto sensu, – неуничтожим: чем больше мы рушим объект в действительности, тем мощнее возникает перед нами тонкое ядро.
Этот парадокс, который уже вставал apropos евреев в нацистской Германии (чем безжалостнее их уничтожали, тем кошмарнее черты приписывали тем, кто выжил), в наши дни применим к мусульманам в Боснии: чем больше их убивают и вытесняют, тем мощнее угроза «исламского фундаментализма» в глазах сербов. Наши отношения с этим травматически действительным ядром прибавочного удовольствия, который «раздражает нас» в Другом, обустроены в фантазиях (о всесилии Другого, об «их» странных половых обычаях и пр.). Именно в этом смысле война – это всегда еще и война фантазий.
Общественный фон «постмодерновой» войны точно обрисовал Этьен Балибар[170]: это двойное смещение современного расизма относительно «классического». Классический расизм действует как дополнение к национализму: это вторичное образование, возникающее на фоне утверждения национальной идентичности, и нацеливает оно свои «патологические» проявления, свой негатив, выворачивание наизнанку, обратную направленность на «внутреннюю» инакость, на чужеродное, угрожающее национальному изнутри. Ныне отношения словно бы сменились на обратные – или, по-гегельянски, отразились в себе самих: национализм сам по себе действует как разновидность или дополнение к расизму, как определитель границ «внутреннего» чужеродного. В этом смысле «нерасистский национализм» в наши дни формально невозможен, поскольку сам национализм, на уровне понятия, определяется как разновидность расизма («другой», в сравнении с которым мы утверждаем свою национальную идентичность, всегда угрожает нам «изнутри»). Левацкие сомнения в «неагрессивном», «хорошем» национализме – в возможности провести четкую грань между «хорошим» национализмом маленьких наций, которым угрожают, и «плохим» агрессивным национализмом – совершенно обоснованы.
Внутри самого́ поля расизма противовес этому смещению – в структурном изменении роли антисемитизма. В классическом расизме антисемитизм действует как исключение: в нацистском дискурсе, к примеру, отношение к евреям (которые unheimlich[171]-двойники самих немцев, и их как таковых необходимо уничтожить) резко отличается от отношения к другим «низшим» народам, которые нужно не уничтожать, а лишь подчинить – чтобы заняли «соответствующее место» в иерархии наций. Евреи – возмущающий элемент, подталкивающий другие низшие народы к непочтительности, и потому лишь уничтожением евреев другие народы займут положенное им место. Тут, впрочем, имеется одна специфическая инверсия: речь мы ведем об универсализированном антисемитизме, т. е. любая этническая «инакость» считается unheimliches-двойником, угрожающим нашему удовольствию; вкратце: «нормальный», не антисемитский расизм более невозможен. Универсализация метафоры Холокоста (apropos любой этнической чистки говорят, что она сравнима с нацистским Холокостом), хоть она и может показаться чрезмерной, следовательно, укоренена во внутренней логике универсализации антисемитизма.
Эта перестановка, эта перемена мест между родом и видом происходит от постепенного распада нации-государства qua главенствующих рамок отождествления с Этническим. В наши дни этим рамкам угрожают с обеих сторон – и транснациональные процессы интеграции, и возникновение новых местных, внутринациональных, этнических и протоэтнических форм отождествления, вплоть до «нации геев». В этом глобальном поле любая этническая разница eo ipso[172] воспринимается как «внутренняя» – и потому любой национализм уже есть разновидность расизма, а любой расизм уже устроен, как антисемитизм.
Фантазия насквозь
Книга «Серое преосвященство»[173] Олдоса Хаксли, биография отца Жозефа, политического советника кардинала Ришелье, должна быть в списке чтения каждого, кто хочет разобраться в теневых отношениях между этикой и фантазией. Если кому-нибудь захочется выделить в вымышленной реконструкции современной европейской истории эпизод нарушения «нормального» хода событий и возникновения неравновесия, конечным следствием которого оказались две мировые войны ХХ века, главным претендентом на эту роль окажется, несомненно, дробление немецкого Рейха в Тридцатилетней войне первой половины XVII века: в результате этого дробления задержалось установление Германией национальной государственности. А если есть одна личность, которую в этой воображаемой реконструкции можно было бы считать ответственной за катастрофические результаты, то главный кандидат на эту роль – отец Жозеф, который, благодаря своей феноменальной способности к интриганству, сумел внести в протестантский лагерь раскол, увенчавшийся договором между католической Францией и протестантской Швецией и тем сместивший центр войны на территорию Германии.
Отец Жозеф – вершина воплощенной интриги, макиавеллиевский политик, готовый жертвовать тысячами жизней и не гнушаться шпионажем, ложью, убийством и вымогательством ради raison d’État[174]. Однако – и как раз эта черта завораживала Хаксли – была у того же отца Жозефа и другая сторона: он был не только священником, но и подлинным мистиком. Проведя весь день в болезненных и мучительных дипломатических интригах, по вечерам отец Жозеф погружался в глубокое созерцание; пережитые им виде́ния говорят о том, что мистицизм отца Жозефа не менее подлинный, чем у Матери Терезы или Иоанна Крестителя; он постоянно переписывался с сестрами одного небольшого французского монастыря и всегда находил время наставлять их в духовных нуждах… Как нам вообразить эти две стороны в одном человеке? В этой ключевой точке сам Хаксли избегает истинного парадокса и выбирает простой путь – валит все на якобы слабое место в мистическом опыте отца Жозефа: избыточный христоцентризм этого опыта, одержимость страданиями Христа на Крестном пути позволяли отцу Жозефу безрассудно относиться к страданиям других людей. (По этой же причине Хаксли отвернулся от христианства и искал духовного спасения в восточной мудрости.) Нам же следует настаивать именно на немыслимом, как может показаться, единстве: человек способен быть чудовищным интриганом, но его «самопостижение», его экзистенциально-религиозный опыт может быть безупречно «подлинным». Никакой «неидеологический» опыт самопознания, каким бы «подлинным» ни был, не гарантирует, что во имя его не воплотят в жизнь какую-нибудь чудовищную политическую линию. Не превосходный ли пример этого парадокса в литературе – «Братья Карамазовы» Достоевского? Из посмертно опубликованных черновиков нам теперь известно, что именно Алеша, образец невинной смиренной духовности, в ненаписанном продолжении романа стал революционером-бомбистом.
В наши дни входит в моду брать интервью у скинхедов «дома», показывая, что в домашней обстановке они «нормальные люди, как мы с вами», что они заботятся о родственниках, что они нежные мужья и сыновья – и тут нам тоже приходится преодолевать противоречие: человек способен жестоко избивать иммигрантов, но в семейном кругу он вполне любящий муж, заботящийся о дряхлой старушке-теще… Случай скинхеда-дома – еще отчетливее, чем отца Жозефа, поскольку тут мы имеем дело с «совпадением противоположностей», по Гегелю: свирепый скинхед – не внешняя противоположность (не другой) сентиментальному семьянину, а этот же сентиментальный семьянин в его инакости; т. е. он являет свою свирепую сторону, когда его безопасному семейному очагу что-то угрожает. Иными словами, скинхед, впадающий в ярость и избивающий «их» без всякой «глубокой» рациональной или идеологической причины, просто потому, что ему «нравится», – не кто иной как нарциссический индивид так называемого «общества потребления» в другом режиме деятельности: разделяющая их граница чрезвычайно тонка; она сводится к совершенно формальному преобразованию, поскольку речь об одном и том же глубинном умонастроении, прописанном либо снаружи, либо изнутри идеологических рамок того, что «общественно допустимо».
Нетрудно различить, чем этот пример со скинхедом отличается от других прежде помянутых примеров системного расщепления идеологии на публичный Закон и его теневую изнанку, скрытую от публичных взоров («Красный кодекс», ку-клукс-клановские линчевания). Пример скинхеда – практически симметрично обратный предыдущим: в нем сама поверхность оказывается «осквернена» – скинхед осуществляет на виду у всех то, что те двое военных из фильма «Несколько хороших парней» или члены ку-клукс-клана делали под покровом тьмы – тогда как «честная», «человеческая» сторона прячется в сферу личного. Несмотря на жестокость своих публичных поступков, скинхед в личном пространстве – милый человек, как мы с вами, любит свою мать и т. д.: вместо публичного образа, олицетворяющего «закон и порядок» с теневой оборотной стороной мы видим устрашающий лик, за которым скрыта мягкая, честная, «человечная» изнанка. Нечто похожее встречается и в иконографии Ленина времен Сталина: в этих текстах открыто признается, что Ленин, стремясь воплотить историческую Необходимость, вынужден был прибегать к решительным мерам – т. е. нарушать многие нормы воспитанных буржуа и учинять повальные казни множества людей, но при этом его глубоко трогали фортепианные сонаты Бетховена, он любил детей и кошек… Именно в этом и состоит сущностная разница между традиционной и «тоталитарной» властью: при традиционной власти «сверх-я» действует скрытно, в «тоталитарном» же режиме оно занимает публичное пространство, а так называемая «теплая человечность» оказывается скрытой чертой людей, кого необходимость Истории заставляет вершить теневые ужасы…
Недавние события в бывшей Югославии доказывают, что одна из самых дурацких поговорок, какие вообще есть, – знаменитое «Понять – значит простить». Что это значит применительно к этнической бойне в Боснии? «Понять» сербов означает поместить себя в их самопонимание и «пережить» то, как они воспринимают и оправдывают свои поступки, – вкопаться в антикварное собрание сербских мифов, посредством которых сербы описывают собственное историческое переживание себя же. Парадокс, с которым придется иметь дело в таком случае, – чудовищность преступлений сербов никак не умаляет подлинности, своего рода трагической красоты, свойственной этим мифам.
В этом и состоит этическое в психоанализе, переворот, который Лакан назвал «la traversée du fantasme», прохождением фантазии: в отстраненности, которую мы все поддерживаем относительно своей самой «сокровенной» мечты, от мифов, которые гарантируют саму связность нашей символической вселенной.
Часть II Женщина
4. Куртуазная любовь, или женщина как вещь
К чему говорить о куртуазной любви [l’amour courtois] в наши дни, в эпоху допустимостей, когда сексуальное переживание – зачастую «по-быстрому» в каком-нибудь темном офисном углу? Впечатление, что куртуазная любовь канула в прошлое и давно вытеснена современными манерами – морок, скрывающий от нас, как логика куртуазной любви до сих пор определяет условия, каким подчиняются отношения между полами. Это утверждение, впрочем, никак не предполагает эволюционной модели, с помощью коей куртуазная любовь даст нам элементную матрицу, из которой мы сможем составить ее позднейшие, более сложные производные. Наш тезис, напротив, состоит в том, что историю следует читать задом наперед: анатомия человека предлагает ключ к анатомии обезьяны, как говорил Маркс. Именно возникновение мазохизма, мазохистской пары, т. е. ближе к концу позапрошлого века, – время, в котором можно разбираться с либидинальной экономикой куртуазной любви.
Мазохистский театр куртуазной любви
Первая ловушка, которую следует избегать apropos куртуазной любви, – ошибочное суждение о Даме как о возвышенном объекте: как правило, тут вспоминается процесс одухотворения, уход от грубого чувственного вожделения к возвышенной духовной истоме. Дама тогда воспринимается как своего рода духовный проводник в высшие сферы религиозного экстаза – подобно Беатриче у Данте. В противовес этому суждению Лакан подчеркивает несколько особенностей, изобличающих такое одухотворение: да, верно, в куртуазной любви Дама теряет конкретные черты, к ней взывают как к абстрактному Идеалу, и потому «многие исследователи отмечали, что все стихи кажутся адресованными одной и той же персоне… В этой поэтической области женский объект лишен какой бы то ни было настоящей субстанции»[175]. Однако эта абстрактная персона Дамы не имеет ничего общего с духовным очищением; наоборот, этому образу свойственна абстрактность, присущая холодному, отстраненному, бесчеловечному спутнику – Дама ни в коей мере не сердечное, сострадательное, понимающее человеческое существо:
Творческая задача куртуазной поэзии состоит в том, чтобы создать, согласно присущему искусству способу сублимации, объект, сводящий с ума, чтобы создать нечеловеческого партнера.
Описывая Даму, поэт никогда не говорит о мудрости, благоразумии, даже просто осмотрительности. Если ее и называют мудрой, то не оттого, что она причастна к некоей нематериальной мудрости, которую скорее олицетворяет собой, чем обнаруживает в каких-то конкретных действиях. Испытания, которым подвергает она своего служителя исполнены, напротив, крайнего произвола[176].
Рыцарское отношение к Даме, таким образом, есть отношение субъекта-смерда, вассала к своему Хозяину-сюзерену, подвергающему своего холопа бессмысленным, возмутительным, невозможным, своенравным, причудливым испытаниям. Именно чтобы подчеркнуть недуховную природу подобных испытаний, Лакан цитирует стихотворение о Даме, которая требует, чтобы ее слуга буквально лизал ей зад: стихотворение состоит из жалобы поэта, что его ожидает вонь (известно, сколь печально все было с личной гигиеной в Средневековье), о неминуемой угрозе, что, пока он будет выполнять свой долг, Дама станет мочиться ему же на голову… Дама, иными словами, предельно далека от всякой чистой духовности: она действует как нечеловеческий партнер в смысле предельной Инакости, совершенно никак не совместимой с нашими нуждами и желаниями; как таковая она одновременно своего рода автомат, машина, случайно выдвигающая бессмысленные требования.
Это совмещение абсолютной, непостижимой Инакости и совершенной машины и придает Даме зловещие, чудовищные черты – Дама есть Другой, и этот Другой – не «собрат-человек»; иными словами, она есть некто, с кем невозможны никакие отношения сопереживания. Эту травматическую Инакость Лакан определяет фрейдистским понятием das Ding, Вещь – Реальное, которое «всегда возвращается на свое место»[177], жесткое ядро, не поддающееся символизации. Идеализация Дамы, ее вознесение до духовного эфемерного Идеала, следовательно, нужно воспринимать как исключительно вторичное явление: это нарциссическая проекция, чья функция – сделать ее травматическую грань незримой. Именно и исключительно в этом смысле Лакан допускает, что «идеология куртуазной любви открыто направлена на возвышенную идеализацию, это сторона, которая свидетельствует о глубоко нарциссическом ее характере»[178]. Лишенная всякого настоящего содержания, Дама выполняет роль зеркала, на которое субъект проецирует свой нарциссический идеал. Иными словами – словами Кристины Россетти в данном случае, чей сонет «В студии художника» говорит об отношениях Данте Габриэля Россетти с Элизабет Сиддал, его Дамой, – Дама явлена «не та, что есть, а как дана в мечтах»[179]. Для Лакана, однако, ключевой акцент – на другом:
Зеркало действительно может включать нарциссические механизмы – то разрушительное, агрессивное принижение, с которым мы в дальнейшем еще встретимся. Но выполняет оно и еще одну роль – роль предела. Оно – тот предел, который нельзя перейти. И обеспечение недоступности объекта есть единственная задача, в которой оно задействовано[180].
Таким образом, прежде чем разобраться с банальностью, почему Дама куртуазной любви не имеет ничего общего с настоящей женщиной и как она являет собой мужскую нарциссическую проекцию, сопровождающуюся умерщвлением женщины из плоти и крови, нам нужно ответить вот на какой вопрос: откуда берется эта незаполненная поверхность, эта хладная, безучастная ширма, пространство для возможных проекций? Иными словами, если мужчины проецируют на зеркало свой нарциссический идеал, безмолвная зеркальная поверхность уже должна для этого существовать. Эта поверхность действует как своего рода «черная дыра» в действительности, как Предел, за который не шагнуть.
Следующая ключевая черта куртуазной любви: она полностью сводится к любезности и этикету; в ней нет даже малейшей страсти, хлещущей через край, не уязвимой ни для каких общественных правил. Мы говорим о строго вымышленном распорядке, об общественной игре притворств, в которой мужчина делает вид, что его возлюбленная – недоступная Дама. И именно эта черта позволяет нам установить связь между куртуазной любовью и явлением, которое, на первый взгляд, не имеет с ней ничего общего, а именно – мазохизм как специфическая разновидность извращения, впервые представленная в середине XIX века в литературных работах и жизненном опыте Захера-Мазоха. В своем прославленном исследовании мазохизма[181] Жиль Делёз показывает, что мазохизм не следует считать простой симметричной инверсией садизма. Садист и его жертва никогда не образуют взаимодополняющую «садомазохистскую» пару. Чтобы доказать асимметрию садизма и мазохизма, Делёз, среди прочего, выделяет важнейшую черту: противоположность модальностей отрицания. В садизме отрицание прямое, разрушение жестокое и мучающее, а в мазохизме отрицание принимает форму отказа, т. е. притворства, «понарошку», позволяющих отодвинуть действительность.
В тесной зависимости от этого первого противопоставления – противопоставление урегулированности и договора. Садизм подчиняется логике урегулированности, установленной власти, терзающей свою жертву и получающей удовольствие от ее беспомощного сопротивления. Точнее, садизм действует в пространстве непристойного, на «сверх-я»-изнанке, которая непременный двойник и спутник – тень – «публичного» Закона. Мазохизм же, напротив, скроен по жертве: именно жертва (слуга в мазохистских отношениях) инициирует договор с Хозяином (женщиной), позволяя ей унижать «слугу» любыми способами, какие покажутся ей сообразными (по условиям, определенным в договоре), и обязывая слугу действовать «согласно капризам госпожи-повелительницы», как говорил Захер-Мазох. Следовательно, именно слуга пишет сценарий, т. е. это он дергает за ниточки и диктует деятельность женщины [доминатрикс]: он инсценирует собственное рабство[182]. Еще одна отличительная черта мазохизма: мазохизм внутренне театрален, насилие в нем по большей части притворное, но даже когда «настоящее», оно есть компонент сцены, часть театральной постановки. Более того, насилие никогда не воплощается в жизнь, не доводится до исполнения, оно всегда отложено, как бесконечное повторение прерванного жеста.
Именно эта логика отрицания позволяет нам понять глубинный парадокс мазохистского умонастроения. Как, иными словами, выглядит типичная мазохистская сцена? Мужчина-слуга холодно и по-деловому устанавливает условия договора с женщиной-хозяйкой: что́ она с ним должна делать, какую сцену следует репетировать бесконечно, какое платье на женщине должно быть, как далеко ей следует заходить в смысле настоящего, физического измывательства (насколько сурово бить мужчину хлыстом, как именно заковывать в цепи, в какие именно места вгонять каблуки и т. д.). Когда они уже наконец переходят к самой игре, мазохист постоянно остается эдак рефлективно отстраненным: он никогда не отдается чувствам, не забывается в игре; посреди игры он может вдруг занять положение режиссера и выдать четкие указания (давить сильнее вот здесь, повторить вот то движение…) и при этом никак не «разрушать иллюзию». Когда игра окончена, мазохист вновь делается почтенным буржуа и принимается разговаривать с Дамой-повелительницей как ни в чем не бывало, по-деловому: «Спасибо вам за услугу. В это же время на следующей неделе?» и т. д. Важнее всего здесь полное выведение вовне само́й сокровеннейшей страсти мазохиста: сокровеннейшие желания делаются объектом договора и хладнокровного торга. Природа мазохистского театра, следовательно, глубоко «не-психологическая»: сюрреалистическая страстная мазохистская игра, отодвигающая общественную действительность, тем не менее, легко вписывается в повседневность[183].
Поэтому явление мазохизма есть чистейший пример того, что Лакан имел в виду, вновь и вновь настаивая: психоанализ не есть психология. Мазохизм предлагает нам парадокс символического порядка qua порядка «вымыслов»: правды больше в маске, которую мы носим, в игре, в которую мы играем, в «вымысле», которому подчиняемся, чем в том, что́ под маской скрыто. Само ядро существа мазохиста в постановочной игре выведено вовне, а сам он воспринимает эту игру со стороны. А Реальность насилия прорывается именно когда мазохист истеризован, т. е. когда субъект отказывается от роли объекта-инструмента удовольствия для Другого, когда его ужасает перспектива низведения до объекта а в глазах Другого; чтобы выбраться из этого тупика, мазохист прибегает к passage à l’acte, к «иррациональному» насилию, направленному на Другого. Ближе к концу романа «Пристрастие к смерти»[184] (1986) Ф. Д. Джеймс убийца описывает обстоятельства преступления и дает понять, что фактор, разрешивший его колебания и подтолкнувший к действию (к убийству), – отношение жертвы (сэра Пола Бероуна):
«Он хотел умереть, Бог его сгнои, хотел! Чуть ли не просил об этом. Он мог попытаться меня остановить, умолить, разговорить, воспротивиться. Мог попросить о пощаде: “Нет, не надо, пожалуйста. Пожалуйста!” Я большего не желал. Всего одно слово… Он на меня смотрел с таким презрением… Он знал. Конечно, знал. А я б не стал этого делать, если б он не заговорил со мной так, будто я недочеловек[185].
Он даже не удивился. А должен бы ужаснуться. Должен был это предотвратить… А сам лишь глянул на меня, будто говоря: “Так это ты. Как странно, что это ты”. Будто у меня выбора не было. Словно я – орудие. Безмозглое. Но выбор у меня был. И у него тоже. Иисусе, он мог бы меня остановить. Почему он меня не остановил?»[186]
За несколько дней до гибели сэр Пол Бероун пережил «внутренний срыв», похожий на символическую смерть: он ушел с поста министра в правительстве и оборвал все основные «человеческие связи», заняв тем самым «экскрементальную» позицию святого, объекта а, предотвращающую любые межсубъектные отношения сопереживания. Вот это умонастроение убийца и счел невыносимым: он подходил к своей жертве как $, как расщепленный субъект, т. е. хотел убить, но одновременно ждал какого-нибудь знака страха, сопротивления, знака, который не дал бы убийце довести замысел до исполнения. Жертва, однако, не показала ничего такого, что субъективизировало бы убийцу, признало бы в нем (расщепленного) субъекта. Поведение сэра Пола – никакого сопротивления, безразличная провокация – объективизировало убийцу, сделало его орудием воли Другого и тем самым не оставило ему выбора. Короче говоря, к действию убийцу подтолкнуло совпадение его желания убить и желания жертвы умереть.
Это совпадение напоминает, как истерический «садист»-мужчина оправдывает избиение женщины: «Зачем она подталкивает меня? Она же хочет, чтоб я делал ей больно, вынуждает меня бить ее, потому что ей нравится – так я ее поколочу до синяков, покажу ей, что значит меня подзуживать!» Здесь мы сталкиваемся со своего рода петлей, в которой (превратно) понятый результат жестокости с жертвой задним числом оправдывает эту жестокость: я собираюсь избить женщину, и в тот самый миг, когда мне кажется, что она в моей полной власти, я замечаю, что на самом деле я ее раб – поскольку она хочет колотушек и подтолкнула меня их ей устроить – вот тут-то я не на шутку бешусь и бью ее…[187]
Куртуазный «бес противоречия»
Как же, при ближайшем рассмотрении, следует нам концептуализировать недоступность Дамы-Объекта куртуазной любви? Нужно избегать главной ошибки – сведения этой недоступности к простой диалектике желания и запрета, согласно которой мы желаем запретный плод именно из-за его запретности, или же, цитируя классическую формулировку Фрейда:
…психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие; и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времен создавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии наслаждаться любовью[188].
С этой точки зрения куртуазная любовь представляется попросту самой радикальной стратегией повышения ценности объекта – созданием общепринятых препятствий к его достижению. На семинаре «Еще» Лакан дает точнейшую формулировку парадокса куртуазной любви – он говорит нечто с виду похожее, но при этом фундаментально иное: «Утонченный способ возместить отсутствие сексуальных отношений – притвориться, будто мы сами этим отношениям полагаем препятствие»[189]. Суть, таким образом, не просто в том, что мы создаем дополнительные общепринятые препятствия, чтобы повысить ценность объекта: внешние препятствия, мешающие нашему доступу к объекту, сотворены именно для того, чтобы создать иллюзию, что без них объект будет впрямую доступен, – такие препятствия, следовательно, скрывают внутреннюю невозможность добраться до объекта. Место Дамы-Вещи обычно пусто: она – своего рода «черная дыра», вокруг которой обустроены желания субъекта. Пространство желания искривлено, как пространство в теории относительности; единственный способ добраться до Объекта-Дамы – непрямой, изощренный, петляющий путь, а движением по прямой мы наверняка попадем мимо цели. Вот что имеет в виду Лакан apropos куртуазной любви – он говорит о «значении, которое мы должны придать договоренностям об обходном пути в психической экономике»:
Обходные движения в психике не всегда служат исключительно регулированию прохода, соединяющего то, что организуется в области принципа удовольствия, с тем, что выступает как структура реальности. Существуют также обходные маневры и препятствия, формируемые для того, чтобы явить область вакуоли как таковую… Приемы, о которых в куртуазной любви идет речь, – а они описаны достаточно точно, чтобы мы могли догадаться, что именно из сексуальной практики, которой этот эротизм вдохновлялся, могло порой происходить в действительности, – это приемы задержки, торможения, amor interruptus. Этапы, предшествующие в куртуазной любви тому, что называется очень таинственно – мы не знаем, в конечном счете, о чем именно идет речь, – le don de merci, даром милости, соответствуют приблизительно тому, что Фрейд в «Трех очерках» относит к прелюдии[190].
Поэтому Лакан подчеркивает тему анаморфоза (в семинаре «Этика психоанализа» название главы о куртуазной любви – «Куртуазная любовь как анаморфоз»): Объект можно воспринимать, лишь когда он увиден со стороны, частично, искаженно, как его же тень – если глянуть на него впрямую, ничего не увидишь, там пустота. Соответственно можно говорить о временно́м анаморфозе: Объект достижим лишь нескончаемой отсрочкой, как отсутствующая точка начала координат. Объект, следовательно, буквально нечто созданное – чье место окружено – системой обходов, приближений и непопаданий в цель. Тут-то и возникает сублимация – сублимация в лакановском смысле возвышения объекта до достоинства Вещи: «сублимация» возникает, когда объект, часть повседневной действительности, обнаруживается на месте невозможной Вещи. В этом есть задача искусственных препятствий, которые внезапно мешают нашему доступу к некому обычному предмету: они возвышают предмет до заместителя Вещи. Так невозможное превращается в запретное: коротким замыканием между Вещью и неким позитивным предметом, который делается недостижимым из-за искусственных преград.
Традиция Дамы как недоступного объекта жива и в наше время – в сюрреализме, к примеру. Довольно вспомнить «Этот смутный объект желания» (1977) Луиса Бунюэля, в котором женщина, применяя одну дурацкую уловку за другой, вновь и вновь откладывает миг полового соединения со своим престарелым любовником (когда, к примеру, мужчина наконец забирается к ней в постель, он обнаруживает у нее под ночной сорочкой старомодный корсет с многочисленными застежками, которые невозможно разомкнуть…). Обаяние этого фильма – в самом его бессмысленном коротком замыкании между глубинным, метафизическим Пределом и всякими пошлыми бытовыми затруднениями. Здесь наблюдаем логику куртуазной любви и ее сублимации в чистейшем виде: некий обычный, повседневный предмет должен быть легкодоступным, но кажется, будто все мироздание нацелилось вновь и вновь создавать непостижимые случайности, из-за которых до этого предмета никак не добраться. Сам Бунюэль осознавал эту парадоксальную логику: в своей автобиографии он говорит о «необъяснимой невозможности исполнения простого желания», и множество фильмов предлагает варианты этой же темы: в «Попытке преступления» (1955) герой хочет совершить простое преступление, но все попытки проваливаются; в «Ангеле-истребителе» (1962) компания богатеев не может переступить порог дома, в котором закончилась вечеринка, и уже наконец уйти; в «Скромном обаянии буржуазии» (1972) две пары хотят отужинать вместе, но неожиданные трудности вечно мешают воплощению этого простого желания…
Теперь уже должно быть ясно, что́ определяет разницу между обычной диалектикой желания и запретом: цель этого запрета – не «поднять цену» объекта, затруднив к нему доступ, а возвысить сам объект до уровня Вещи, «черной дыры», вокруг которой обустраивается желание. Поэтому Лакан справедливо выворачивает привычную формулу сублимации со смещением либидо с объекта, удовлетворяющего те или иные конкретные, материальные нужды, на объект, который с виду не связан с этой нуждой: к примеру, разрушительная литературная критика делается сублимированной агрессией, научное исследование человеческого тела – сублимированным вуайеризмом и т. д. Лакан же, напротив, подразумевает под сублимацией сдвиг либидо с пустоты «неприступной» Вещи на некий конкретный материальный объект нужды, который обретает возвышенные качества в тот самый миг, когда занимает место Вещи[191].
Парадокс Дамы куртуазной любви в конечном счете сводится к парадоксу обходного маневра: наше «официальное» желание – мы хотим переспать с Дамой; по правде же, мы сильнее всего боимся, что Дама великодушно уступит нашему желанию; на самом деле мы ждем и хотим от Дамы просто еще одного испытания, еще одной отсрочки. В «Критике практического разума» Кант предлагает притчу о вольнодумце, который заявляет, что не может устоять перед искушением утолить свою недозволенную страсть, но, когда ему сообщают, что его за это ждет виселица – такова цена за адюльтер, – он вдруг обнаруживает, что вполне в силах держать себя в руках (по Канту, это доказывает патологическую природу полового желания – Лакан возражает Канту, утверждая, что человека подлинной любовной страсти перспектива повешения распалила бы еще больше…). Но для преданного слуги Дамы выбор обустроен совершенно иначе: вероятно, он бы предпочел виселицу мгновенному утолению желания к Даме. Дама, следовательно, действует как исключительное короткое замыкание, в котором сам Объект желания совпадает с силой, мешающей достижению его, – в некотором смысле, объект «есть» его же недоступность, его же отдаленность.
Именно на фоне всего этого следует мыслить часто упоминаемую, но при этом столь же часто неверно понимаемую «фаллическую» ценность женщины у Лакана – его уравнение «Женщина = Фаллос». Иными словами, в точности тот же парадокс описывает фаллическое означающее qua означающее кастрации. «Кастрация означает, что от jouissance необходимо отказаться, чтобы достичь его по обратной лестнице Закона желания»[192]. Как же возможен такой «экономический парадокс»? Как машина желания «приводится в движение», т. е. как субъекта можно заставить отказаться от удовольствия не ради другой, высшей Цели, а лишь чтобы получить к удовольствию доступ? Или же – цитируя Гегелеву формулировку того же парадокса – как получается, что обрести личность можно, лишь утеряв ее? У этой задачи всего одно решение: фаллос – означающее удовольствия – должен быть одновременно и означающим «кастрации», т. е. одно и то же означающее должно означать и удовольствие, и его потерю. Таким образом делается возможной сама движущая сила, что подталкивает нас искать удовольствие, заставляет нас от него отказываться[193].
Вернемся к Даме: оправданно ли мы, в таком случае, воспринимаем Даму как воплощение западной метафизической страсти, как немыслимый, чуть ли не пародийный пример метафизического hubris[194], возвышения отдельной сущности или черты до Основы всего существа? При ближайшем рассмотрении что составляет этот метафизический или попросту философский гибрис? Приведем пример, который может показаться неожиданным. У Маркса возникает специфически философская грань, когда он подчеркивает, что производство, одна из четырех составляющих единства производства, распределения, обмена и потребления, – одновременно всеобъемлющее единство всех четырех составляющих, оно сообщает особую окрашенность этому единству. (Гегель утверждал то же самое: любой род имеет два вида – сам как таковой и его разновидности, т. е. иными словами род есть всегда один из своих видов.) «Философское» или «метафизическое» – эта самая «абсолютизация», это возвышение отдельной составляющей до целого в его Основе, этот гибрис, «нарушающий» гармонию в равновесном Целом.
Помянем два подхода к языку: Джона Л. Остина и Освальда Дюкро[195]. Почему имеет смысл считать их работы «философией»? Разделение Остином глаголов на перфомативные и констативные – еще не настоящая философия: мы входим в сферу философии с его «неуравновешенной», «избыточной» гипотезой, что любое предложение, включая констатив, уже перфомативно, т. е. перфоматив как одна из двух составляющих Целого одновременно и есть Целое. То же касается и тезиса Освальда Дюкро, что любой предикат обладает, поверх своей информационной ценности, ценностью аргументативной. Мы остаемся в пространстве позитивной науки столько, сколько стремимся различить в любом предикате уровень информации и уровень аргументации, иными словами, – особую модальность, как та или иная информация «вмещает в себя» то или иное аргументативное отношение. Мы оказываемся на территории философии с «избыточной» гипотезой, что предикат как таковой, включая его информативное содержание, есть не что иное как сухой остаток аргументативного отношения, и потому никак не получится «извлечь» из него «чистое» информативное содержание, незамутненное в той или иной мере аргументативным отношением. Тут мы, конечно, сталкиваемся с парадоксом «не-всё»: то, что «любой аспект содержания предиката оказывается затронут неким аргументативным отношением, не позволяет нам сделать кажущийся очевидным вывод, что «все содержимое предиката аргументативно» – ускользающий излишек, который все же остается, хоть его и никак не определить, и есть Реальное, по Лакану.
Вероятно, это предлагает еще один способ осмыслить «онтологическую разницу», по Хайдеггеру[196]: как расстояние, которое всегда зияет между той или иной чертой, возвышенной до Основы целого, и Реальным, которое ускользает от этой Основы и не может быть в ней «укоренено». Иными словами, «неметафизическое» не есть «равновесное» единство, лишенное всякого гибриса, единство (или же, в более хайдеггеровских понятиях, – Целое сущностей), в котором никакой отдельный аспект или сущность не возвышаются до Основы. Сфера сущностей связна благодаря лежащей под ними Основе, и потому «неметафизическое» может быть лишь прозрением разницы между Основой и неуловимым Реальным, которое – хотя ее позитивное содержимое («действительность») укоренено в Основе – тем не менее ускользает и подрывает владычество Основы.
Теперь давайте вновь вернемся к Даме: вот почему Дама – это не очередное название метафизической Основы, а, напротив, одно из наименований самоустраняющегося Реального, которое в определенном смысле есть основа самой Основы. А раз одно из имен метафизической Основы всех сущностей есть «высшее Благо», Даму qua Вещь можно определить и как воплощение предельного Зла, Зла, которое Эдгар Аллан По назвал в двух рассказах – «Черный кот» и «Бес противоречия» – духом «противоречия»:
Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом… Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено?[197]
(«Черный кот»)
…это mobile без мотива, мотив, который не motiviert. По его подсказу мы действуем без какой-либо постижимой цепи; или, если это воспримут как противоречие в терминах, мы можем модифицировать это суждение и сказать, что по его подсказу мы поступаем так-то именно потому, что так поступать не должны. Теоретически никакое основание не может быть более неосновательным; но фактически нет основания сильнее… Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности того или иного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая – и ничто иное – вынуждает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая склонность поступать себе во вред ради вреда не поддается анализу или отысканию в ней скрытых составляющих. Это врожденный, изначальный, простейший порыв[198].
(«Бес противоречия»)
Близость преступления как немотивированного acte gratuit[199] к искусству – распространенная тема теории романтизма (романтический культ художника представляет его qua преступника): очень значимо, что обороты По (mobile без мотива, мотив, который не motiviert[200]) тут же напоминает нам Кантовы определения эстетического опыта («целеустремленность без цели» и т. д.). Важно не упустить ключевой факт: этот приказ – «Ты обязан сделать, потому что тебе не разрешено!» – т. е. в чистом виде отрицательное основание действия, совершенного исключительно потому, что оно запрещено, возможен лишь внутри различающего символического порядка, где негативное определение как таковое имеет позитивные следствия, где само отсутствие черты действует как позитивная черта. «Бес противоречия» у По, следовательно, отмечает точку, в которой мотивация поступка, так сказать, отсекает внешнюю связь с эмпирическими предметами и обретает основание исключительно во внутреннем круге самоотносимости; короче говоря, «бес» По соответствует точке свободы в строгом кантианском смысле.
Эта отсылка к Канту совсем не случайна. По Канту, способность желать не имеет трансцендентального статуса, поскольку полностью зависит от патологических объектов и мотиваций. Лакан же, напротив, стремится доказать трансцендентальный статус этой способности, т. е. возможность формулировать мотивацию нашего желания, которое совершенно не зависит от патологии (такой непатологический объект-причина есть Лаканов objet petit a). «Бес противоречия» у По предлагает нам непосредственный пример подобной чистой мотивации: совершая поступок «только потому, что он запрещен», я остаюсь во всеобщем символическом пространстве, без отсылки к какому бы то ни было эмпирически случайному предмету, иными словами, я совершаю, stricto sensu, непатологический поступок. Тут Кант просчитался: очищая пространство этики от патологических мотиваций, он хотел искоренить саму возможность совершения Зла под личиной Блага; а на самом деле он лишь открыл новое пространство Зла куда более жуткого, чем Зло обычное, «патологическое».
Пояснения на примерах
С многочисленными вариациями матрицы куртуазной любви мы сталкиваемся, начиная с XIII века и вплоть до наших дней. В «Les liasons dangereuses», к примеру, отношения между маркизой де Мертей и Вальмоном, очевидно, как между капризной Дамой и ее слугой. Парадокс тут – в природе задачи слуги, которую он должен выполнить, чтобы заслужить обещанный дар Милости: он должен соблазнить других дам. Его Испытание требует, чтобы он, даже на вершине страсти, сохранял холодную отстраненность к своим жертвам: в самый миг торжества он должен унизить их совершенно беспричинным отвержением, тем самым доказывая верность своей Даме. Все усложняется, когда Вальмон влюбляется в одну из своих жертв (президентшу де Турвель) и тем самым «предает Долг»: маркиза вполне оправданно отметает его оправдания (знаменитое «c’est pas ma faute»: не моя в том вина, так сложилось…) как недостойный Вальмона, как жалкое падение до «патологического» состояния вещей (в кантианском смысле слова).
Отклик маркизы на «предательство» Вальмона, таким образом, строго этический: оправдания Вальмона в точности те же, что и у нравственных слабаков, когда те не способны выполнить свой долг – «Так получилось, такова моя натура, мне просто не хватило сил…» Ее слова Вальмону напоминают девиз Канта «Du kannst, den du sollst!» [ «Можешь, потому что должен!»]. Поэтому наказание, наложенное маркизой на Вальмона, вполне сообразно: отрекаясь от президентши де Турвель, он должен прибегнуть в точности к тем же словам, т. е. написать письмо, объясняя в нем, что «не его в том вина» – что страсть его к ней развеялась, так сложилось…
Еще одна вариация матрицы куртуазной любви возникает в истории Сирано де Бержерака и Роксаны. Стыдясь своего непристойного врожденного уродства (слишком длинного носа), Сирано не решается признаться в любви красавице Роксане и потому помещает между собой и ею смазливого юного солдата, доверив ему роль посредника, которому и рассказывает о своей страсти. Как и подобает капризной Даме, Роксана требует, чтобы ее возлюбленный сообщил о своей любви изящным поэтическим слогом; несчастному простаку-солдатику такая задача не по силам, и Сирано бросается ему на помощь – пишет пылкие любовные письма с поля боя. Развязка происходит в два этапа – трагически и мелодраматически. Роксана говорит солдату, что не одно лишь его прекрасное тело любит она – еще сильнее она любит его утонченную душу: ее так трогают его письма, что она будет любить его, даже если его тело окажется изуродованным и безобразным. Солдат содрогается от этих слов: он понимает, что Роксана не любит его таким, какой он есть, а любит автора этих писем, т. е., сама того не ведая, любит Сирано. Не в силах терпеть унижение, солдат отчаянно бросается в атаку и гибнет. Роксана отправляется в монастырь, где ее регулярно навещает Сирано и рассказывает ей о парижской светской жизни. Во время одного из таких посещений Роксана просит его прочитать вслух последнее письмо ее погибшего возлюбленного. Вот он, мелодраматический миг: Роксана внезапно замечает, что Сирано не читает письмо – он произносит текст по памяти, тем самым доказывая, что настоящий автор писем – он сам. Осознав, что этот уродливый весельчак и есть ее возлюбленный, Роксана глубоко потрясена. Но поздно: Сирано явился на эту встречу смертельно раненый…
Одна из самых болезненных и мучительных сцен в фильме Дэвида Линча «Дикие сердцем» (1990) также становится понятной лишь в матрице логики отсрочки, характерной для куртуазной любви. В одинокой комнате в мотеле Уиллем Дефо применяет к Лоре Дерн грубую силу: он лапает и тискает ее, вмешиваясь в ее глубоко личное пространство и угрожающе повторяя: «Скажи “Трахни меня”!» – т. е. вытягивая из нее слово, которое означало бы ее согласие на соитие. Эта мерзкая неприятная сцена все тянется и тянется, пока, наконец, изможденная Лора Дерн не произносит едва слышно «Трахни меня!», а Дефо внезапно отступает и с милой улыбкой дружелюбно отказывается: «Нет, спасибо, у меня сегодня нет времени; но в другой раз – с удовольствием…» Он добился, чего хотел: не самого соития, а согласия на него женщины, ее символического унижения. В ситуацию вмешивается функция большого Другого – транссубъективный символический порядок: с помощью настырного давления Дефо желает добиться дарственной надписи, «регистрации» ее согласия в поле большого Другого.
Обратная вариация той же темы имеется и в краткой любовной сцене из фильма Трюффо «La nuit américaine» («Американская ночь», 1973). Помощник оператора и секретарша режиссера едут из гостиницы в студию, по дороге у них спускает колесо, и пара оказывается на берегу озера в одиночестве. Помощник оператора, который уже давно вздыхал по этой девушке, цепляется за выдавшуюся возможность и начинает жалко лепетать, как сильно он ее желает и как это для него было б важно, если б она согласилась – раз уж они одни – на быстрое соитие; девушка отзывается попросту: «Хорошо, чего бы и нет?» – и принимается расстегивать брюки… Этот безыскусный жест, конечно, совершенно сбивает соблазнителя с толку – он же считал ее недоступной Дамой; ему остается лишь пробормотать: «Как это? Вот так просто?» У этой сцены есть нечто общее со сценой из «Диких сердцем» (что и помещает ее в матрицу куртуазной любви) – неожиданный жест отказа: отклик мужчины на женское «Да!», полученное долгими стараниями, – отказаться от действия.
Более утонченную вариацию матрицы куртуазной любви предлагает нам Эрик Ромер в «Ma nuit chez Maud» («Моя ночь у Мод», 1969): куртуазная любовь сообщает единственно возможную логику, какой можно объяснить ложь главного героя в конце картины. Центральная часть фильма – ночь, которую главный герой и его подруга Мод проводят вместе; они долго разговаривают, до самого утра, а потом спят в одной постели, но соития не происходит – из-за нерешительности главного героя: он не способен воспользоваться возможностью, поскольку одержим загадочной блондинкой, которую увидел накануне вечером в церкви. Хотя еще не знает, кто она, он уже решил на ней жениться (т. е. блондинка – Дама). Финальная сцена происходит через несколько лет. Наш герой, теперь уже счастливо женатый на той самой блондинке, встречается на пляже с Мод; когда жена спрашивает его, кто эта неведомая женщина, герой врет – вроде бы себе же во вред: он сообщает жене, что Мод – его последнее любовное приключение перед женитьбой. Зачем эта ложь? Потому что истина вызвала бы подозрение, что Мод тоже занимала место Дамы, с которой быстрая, ни к чему не обязывающая половая связь невозможна – именно соврав жене, заявив, что у него был секс с Мод, он убеждает ее, что Мод была ему не Дамой, а лишь мимолетной подругой.
Ярчайший вариант куртуазной любви за последние несколько десятилетий, конечно же, – в фигуре femme fatale[201] в фильмах нуар: травматическая Женщина-Вещь, которая своими жадными и капризными требованиями губит крутого героя. Ключевую роль здесь играет третий человек (как правило, главарь-гангстер), которому femme fatale принадлежит «по закону»: его присутствие делает ее недосягаемой и тем самым налагает на ее отношения с героем мету запретности. Из-за связи с ней герой предает отцовскую фигуру, которая еще и его начальник (см. «Стеклянный ключ» [1942], «Убийцы» [1946], «Крест-накрест» [1949], «Из прошлого» [1947] и т. д.).
Связь между куртуазной Дамой и femme fatale из вселенной нуара может показаться неожиданной: разве femme fatale из фильмов нуар не есть прямая противоположность благородной царственной Даме, которой рыцарь клянется служить? Не стыдится ли разве крутой герой своего притяжения к ней, не ненавидит ее (и себя) за эту любовь, не считает свою любовь к ней предательством себя-истинного? Однако, если помнить об исходном травматическом влиянии Дамы, а не ее вторичную идеализацию, связь становится очевидной: как и Дама, femme fatale – «нечеловеческий партнер», травматический Объект, отношения с которым невозможны, это безучастная пустота, измышляющая бессмысленные, безрассудные испытания[202].
От куртуазной игры до «Жестокой игры»
Ключ к необычайному и неожиданному успеху фильма Нила Джордана «Жестокая игра» (1992) – вероятно, в том, что он ставит точку в теме куртуазной любви. Вспомним, о чем, в общих чертах, этот фильм: Фергюс, член ИРА, охраняя пленного чернокожего британского солдата, налаживает с ним дружеские отношения; солдат просит его – в случае ликвидации – навестить его девушку, Дил, парикмахершу в лондонском предместье, и передать ей прощальный привет. После смерти солдата Фергюс уходит из ИРА, переезжает в Лондон, находит работу каменщика и навещает возлюбленную солдата – красивую чернокожую женщину. Он влюбляется в нее, но Дил хранит двусмысленно ироничную, благородную отстраненность. Наконец она поддается на его ухаживания, однако прежде чем отправиться с ним в постель, она оставляет его ненадолго и возвращается в прозрачной ночной сорочке; жадно оглядывая ее тело, Фергюс внезапно замечает на этом теле член – «она», оказывается, трансвестит. Фергюс с отвращением грубо отталкивает Дил. Потрясенная, в слезах, Дил говорит ему, что думала, будто он все знал с самого начала (в своей одержимости ею герой – а заодно и зритель – не замечал множества красноречивых подробностей, включая и то, что они обычно встречались в баре трансвеститов). Эта сцена несостоявшегося соития устроена в точности обратно сцене, которую Фрейд описывал как первичную травму фетишизма: взгляд ребенка, скользя вниз по нагому женскому телу к половому органу, потрясен, когда там, где должно быть что-то (член), ничего не обнаруживается – в случае «Жестокой игры» потрясение случается, когда взгляд обнаруживает что-то, где ожидал не увидеть ничего.
После этого болезненного открытия отношения в паре делаются строго обратными: оказывается, Дил страстно влюбилась в Фергюса, хотя и понимает, что любовь между ними невозможна. Из капризной и ироничной Дамы она превращается в жалкую фигуру хрупкого, чувствительного юноши – безнадежного влюбленного. И лишь здесь возникает настоящая любовь, любовь как метафора в точном лакановском смысле[203]: мы наблюдаем возвышенный миг, когда eromenos (любимый) превращается в erastes (любящего), протянув руку и «ответив на любовь». Этот миг определяет «чудо» любви, миг «ответа Реального»; как таковой он, вероятно, позволяет нам понять, что́ Лакан имел в виду, когда подчеркивал, что субъект сам по себе имеет статус «ответа Реального». Иными словами, вплоть до этого переворота любимый имеет статус объекта: он любим благодаря чему-то, что «в нем больше его самого» и о чем сам он не знает – я не в силах ответить на вопрос «Что я есть как объект для другого? Что́ другой видит во мне, что побуждает его любить меня?». Таким образом, имеется асимметрия – не только асимметрия субъекта и объекта, но и асимметрия куда более радикального свойства – рассогласования между тем, что любящий видит в любимом, и тем, что́ любимый знает в себе.
Тут возникает неизбежный тупик, определяющий положение любимого: другой что-то видит во мне и чего-то от меня хочет, но я не могу дать ему то, чем не располагаю, – или же, по Лакану, между тем, чем любимый располагает, и чего любящему не хватает, нет связи. У любимого есть лишь один способ выбраться из этого тупика – протянуть руку любящему и «ответить на любовь», т. е. сменить в метафорическом жесте положение любимого на положение любящего. Этим переворотом отмечена точка субъективации: объект любви превращается в субъект, когда отвечает на призыв любви. И лишь с этим переворотом возникает настоящая любовь: я истинно люблю не когда меня просто восхищает агальма другого, а когда я получаю опыт другого, объекта любви, как хрупкого и растерянного, в котором нет «этого», но любовь моя способна это пережить.
Далее следует быть особенно внимательными, чтобы не упустить точку переворота: хотя у нас теперь имеется два любящих субъекта, а не изначальная двойственность любящего и любимого, асимметрия остается, поскольку сам объект посредством субъективации признался, так сказать, в том, чего в нем недостает. Есть нечто глубоко позорное и совершенно неслыханное в перевороте, из-за которого таинственный, чарующий, ускользающий объект любви являет неразрешимое и так обретает статус другого субъекта.
С тем же переворотом мы сталкиваемся в книгах и фильмах ужасов: не самый ли возвышенный миг в «Франкенштейне» Мэри Шелли, когда чудовище субъективируется – тот самый миг, когда чудище-объект (который не раз описывают как безжалостную машину убийства) начинает говорить от первого лица, заявляя о своем несчастном, жалком существовании? Глубоко показательно, что все фильмы, снятые по «Франкенштейну» Шелли, избегают этой субъективации. И, вероятно, сама куртуазная любовь, долгожданный миг высочайшего воплощения всех стремлений, когда Дама дарует Gnade, милость, своему слуге, – не капитуляция Дамы, не согласие на соитие, не какой-нибудь таинственный обряд посвящения, а просто знак любви со стороны Дамы, «чудо» отклика Объекта, протянувшего руку молящему[204].
Вернемся к «Жестокой игре»: Дил теперь готова на что угодно ради Фергюса, а тот все более тронут и зачарован этой безусловной, полной любовью Дил к нему и потому преодолевает отвращение и продолжает быть рядом с ней. В конце, когда ИРА вновь пытается втянуть его в террористический акт, он готов пожертвовать собой ради Дил и берет на себя ответственность за убийство, которое она совершила. Последняя сцена фильма происходит в тюрьме, где сидит Фергюс, а вновь облаченная как вызывающе соблазнительная женщина Дил навещает его, и все мужчины в комнате свиданий распаляются при виде ее. Хотя Фергюсу приходится выдержать более четырех тысяч дней в тюрьме – они с Дил считают их вместе – она бодро обещает дождаться его и постоянно его навещать… Внешняя преграда – стеклянная тюремная перегородка, не позволяющая физического контакта, – точный эквивалент препятствия в куртуазной любви, которое сообщает объекту недосягаемость; здесь она символизирует абсолютное, безусловное свойство любви героев, вопреки внутренней невозможности – т. е. вопреки тому, что их любовь так и не сможет воплотиться, поскольку он строго гетеросексуальный мужчина, а она – гомосексуалист-трансвестит. Во вступлении к изданному сценарию Джордан рассказывает, что история завершается в некотором смысле счастливо. «В некотором смысле» – потому что они отделены друг от друга тюремной стеной и другими более глубинными преградами расового, национального и сексуального свойства. Но парадокс в том, что разделившее их позволило им улыбаться. И поэтому, вероятно, наша разобщенность не безнадежна[205].
Не разобщенность ли – непреодолимый барьер, – что создает возможность улыбки, есть точнее всего описанный механизм куртуазной любви? Перед нами – «невозможная» любовь, которой суждено никогда не воплотиться, и которую можно воссоздать лишь как вымышленное зрелище, предназначенное заворожить зрителя, или же как бесконечно откладываемое ожидание; эта любовь – абсолют в точности в той мере, в какой она превосходит не только ограничения класса, религии и расы, но и окончательную преграду половой ориентации, полового самоопределения. В этом и состоит парадокс фильма «Жестокая игра» и, в то же время, его обаяние: в нем нет отрицания разнополой любви как продукта мужского подавления, зато описаны точные обстоятельства, в которых такая любовь в наши дни может проявиться абсолютно, безусловно.
«Жестокая игра» по-восточному
Такое прочтение «Жестокой игры» немедленно напоминает об одном традиционном упреке, какой предъявляют теории Лакана: во всех рассуждениях о женской непоследовательности и пр. Лакан говорит о женщине лишь в том виде, как она проявляется или отражается в мужском дискурсе, о ее искаженном отражении в среде, которая ей чужда, но никогда не о женщине как она есть для самой себя: для Лакана – как и прежде для Фрейда – женская сексуальность остается «темным континентом». Отвечая на этот упрек, мы должны непреклонно постановить, что, если фундаментальный Гегелев парадокс рефлексивности остается в силе во всех случаях, уместен он и здесь: отстранение, шаг назад от женщины-в-себе к тому, как женщина qua отсутствующая Причина искажает мужской дискурс, гораздо сильнее приближает нас к «женской сути», чем лобовой подход. Иначе говоря, «женщина», в конечном счете, – не одно лишь только название искажения или отклонения мужского дискурса? Призрак «женщины-в-себе» – вовсе не деятельная причина этого искажения, а, скорее, овеществленное фетишизируемое следствие, разве не так?
Со всеми этими вопросами в неявном виде мы имеем дело в фильме «М. Баттерфляй» (1993, в постановке Дэвида Кроненберга, по сценарию Дэвида Генри Хвана, основанному на его же пьесе), подзаголовком которому могла бы стать строка: «“Жестокая игра” в китайском стиле». Первая же памятная черта этой кинокартины – полная «невозможность» ее изложения: без сведений, приводимых в титрах, что история основана на подлинных событиях, никто бы не воспринял ее всерьез. Во время Великой культурной революции невысокий чин из французских дипломатов в Пекине (Джереми Айронс) влюбляется в китайскую оперную певицу, исполнявшую арии Пуччини на приеме для иностранцев (Джон Лоун). Его ухаживания приводят к долгим любовным отношениям; певица, которая для дипломата – роковой объект любви (он, ссылаясь на оперу Пуччини, нежно называет ее «моя баттерфляй»), вроде бы беременеет и рожает ребенка. Пока продолжается их роман, она уговаривает его шпионить в пользу Китая – говорит, что лишь так китайские власти готовы будут терпеть их союз. Дипломат совершает профессиональную оплошность, и его переводят в Париж, где назначают на незначительный пост дипкурьера. Вскоре его возлюбленная воссоединяется с ним и рассказывает, что, если он продолжит шпионить на Китай, китайские власти выпустят и «их» ребенка. Когда французские органы безопасности обнаруживают его шпионскую деятельность и арестовывают пару, оказывается, что «она» – и не женщина вовсе, а мужчина: из-за европоцентричного невежества наш герой не знал, что в китайской опере женские партии исполняют мужчины.
Вот где история достигает предела нашей доверчивости: как могло получиться, что главный герой после стольких лет телесной любви не заметил, что имеет дело с мужчиной? Певец(-вица) постоянно напоминал(-а) о китайском чувстве постыдного, никогда не раздевался(-лась), сексом (по неведению нашего героя – анальным) они занимались тайком – он(-а) садился(-лась) к нему на колени… в общем, то, что герой ошибочно принял за скромность восточной женщины, оказалось с «ее» стороны ловким мороком – чтобы скрыть факт своей неженскости. Выбор музыки, из-за которой наш герой сходит с ума, здесь чрезвычайно важен: знаменитая ария «Un bel di vedremo»[206] из «Мадам Баттерфляй» – возможно, выразительнейший пример из Пуччини, в точности противоположный застенчивому сокрытию себя – непристойно откровенное обнажение (женского) субъекта, какое всегда граничит с китчем. Субъект, жалкий в своем признании, являет себя и говорит впрямую, чего хочет, обнажает свои сокровеннейшие, самые хрупкие мечты, и это признание достигает вершины в желании умереть (в «Un bel di vedremo» мадам Баттерфляй воображает сцену возвращения Пинкертона: поначалу она не ответит на его призыв, «отчасти в шутку, отчасти чтобы не умереть при первой же встрече [per non morir al primo incontro]»).
Из только что сказанного может показаться, что трагическое заблуждение героя состоит в проекции воображенного им образа объекта любви, восточной женщины, подобной мадам Баттерфляй. Однако, определенно, все гораздо сложнее. Ключевая сцена фильма происходит после суда, когда герой и его китайский спутник, теперь уже в обычном мужском костюме, оказываются один на один в замкнутом пространстве полицейской машины на пути в тюрьму. Китаец раздевается и предлагает себя нагого главному герою, отчаянно объявляя о своей доступности: «Вот он я, твой баттерфляй!» Он предлагает себя таким, какой есть вне рамок воображения героя, в которых возлюбленная – загадочная восточная женщина. В этот ключевой миг герой отстраняется: избегает взгляда своего спутника, отвергает предложение. Здесь он отрекается от своего желания и тем самым оказывается отмечен несмываемой виной: он предает истинную любовь, устремленную к самому ядру объекта, расположенному под наслоениями фантазий. Иначе говоря, парадокс состоит в том, что, хотя он и любил этого китайца совершенно безоглядно, а китаец тем временем пользовался этой любовью в интересах китайских спецслужб, делается понятно, что любовь китайца была в некотором смысле чище и гораздо ближе к истинной. Или же, как сказал Джон Ле Карре в «Идеальном шпионе»: «Любовь есть то, что ты все еще можешь предать».
Как хорошо известно любому читателю «настоящих» шпионских романов, большинство случаев, когда женщина соблазняет мужчину из соображений долга, чтобы добыть у него какие-нибудь ценные сведения (или же наоборот), завершается счастливым браком – раскрытие предательских маневров, сведших пару вместе, не только не развеивает мираж любви, но упрочивает их связь. Скажем в понятиях Делёза: речь здесь о расщеплении между «глубиной» действительности, слиянием тел, в котором другой есть орудие, которое я безжалостно использую, сама любовь и сексуальность сводятся к способам морочить голову в политических или военных целях, а любовь – исключительно поверхностное событие. Манипуляции на уровне действительности тела еще более являют любовь qua поверхностное событие, qua следствие, не сводимое к телу[207].
Болезненная финальная сцена фильма показывает нам полное осознание героем его вины[208]. В тюрьме он ставит спектакль для своих грубых и шумных сокамерников: облачившись в костюм мадам Баттерфляй (японское кимоно, плотный макияж) и сопровождая игру отрывками из оперы Пуччини, рассказывает всю историю, а в апогее арии «Un bel di vedremo» перерезает себе горло бритвой и падает замертво. У сцены публичного самоубийства мужчины, облаченного в женское, – долгая и почтенная история: достаточно вспомнить «Убийство!» (1930) Хичкока, где убийца Хендэл Фэйн в костюме акробатки вешается перед полным залом, завершив свой номер. В «М. Баттерфляй», как и в «Убийстве!», этот поступок – строго нравственного свойства: в обоих случаях герой изображает психотическое отождествление со своим объектом любви – синтомом (синтетическим образом несуществующей женщины – Баттерфляй) – т. е. «нисходит» от выбора объекта до непосредственного отождествления с ним; единственный способ выбраться из этого мертвого тупика отождествления – самоубийство qua окончательный passage a l’acté. Самоубийством герой расплачивается за свою вину, за отказ от объекта, когда объект предложил себя вне рамок воображения.
Здесь, конечно, нас ждет старое возражение: в конце концов «М. Баттерфляй» же предлагает нам трагикомическую путаницу мужских фантазий о женщинах, а не истинные отношения с женщиной? Все действие фильма происходит среди мужчин. Гротескная невероятность сюжета одновременно и маскирует, и подчеркивает, что мы имеем дело с гомосексуальной любовью к трансвеститу, разве нет? Кинокартина попросту нечестна – и отказывается признаваться в этом. Это «прояснение», впрочем, никак не проливает свет на подлинную тайну «М. Баттерфляй» (и «Жестокой игры»): как может безнадежная любовь между героем и его партнером, мужчиной, облаченным в женский наряд, воплотить представление о разнополой любви «достовернее» «нормальных» отношения с женщиной?
Как же нам истолковать подобную живучесть матрицы куртуазной любви? Она говорит о некоем тупике современного феминизма. Что правда, то правда: куртуазный образ мужчины, служащего своей Даме, – притворство, скрывающее действительность мужской власти; правда и то, что театр мазохиста – частные mise en scéne[209], созданные ради расплаты за вину, возникающую из-за общественной власти мужчины; возвышение женщины до эфирного объекта любви равносильно ее низведению до пассивной материи или ширмы для нарциссических проекций мужского идеала «я» – тоже правда. Сам Лакан подчеркивает, что в эпоху куртуазной любви действительное общественное положение женщин как объектов обмена в мужских властных играх было, вероятно, нижайшим. Однако именно это притворство мужчины, обслуживающего свою Даму, питает у женщин воображаемую субстанцию их личности, чьи следствия вполне действительны: это обеспечивает их всеми необходимыми чертами, из которых состоит так называемая «женственность», и определяет женщину не как она есть для себя самой в своем jouissance féminine, но как она соотносится с собой в связи с ее (потенциальными) отношениями с мужчиной, как объект его желаний. Из этой конструкции воображения возникает отклик, близкий к панике, – не только у мужчин, но у многих женщин, – на феминизм, который стремится отнять у женщины саму ее «женственность». Противостоя «патриархальному давлению», женщины одновременно подрывают поддержку их же образа «женственности» в воображении.
Неувязка тут в том, что, как только отношения между полами воспринимаются как симметричное, взаимное, добровольное партнерство или договор, вступает в силу матрица фантазии, впервые возникшая в куртуазной любви. Почему? Пока половые различия – Реальное, противящееся символизации, половые отношения обречены оставаться асимметричными не-отношениями, в которых Другой – наш партнер – прежде чем стать субъектом, есть Вещь, «нечеловеческий спутник»; как таковые половые отношения нельзя перенести на симметричные отношения между чистыми субъектами. Буржуазный принцип договорных взаимодействий между равными субъектами можно применить к половой сфере лишь в форме извращенного – мазохистского – соглашения, в котором, как ни парадоксально, сама форма равновесного договора ведет к отношениям подавления. Неслучайно в так называемых альтернативных половых практиках (у «садомазохистских» лесбийских и гей-пар) отношения Господин-Слуга обретают вид возмездия, со всеми атрибутами мазохистского театра. Иначе говоря, мы совсем не изобретаем новую «формулу», способную заместить матрицу куртуазной любви.
Поэтому ошибочно толковать «Жестокую игру» как антиполитический сказ побега в личное пространство, т. е. как вариацию темы революционера, который, разочаровавшись в жестокости политических игр власти, открывает половую любовь как единственное поле личной реализации, истинного экзистенциального удовлетворения. С политической точки зрения фильм остается про-ирландским, а дело Ирландии – по умолчанию фон всего фильма. Парадокс в том, что в любой сфере личной жизни, где герой надеется найти прибежище, он вынужден совершать все более головокружительную революцию – в своих же глубоко личных отношениях к действительности. И потому «Жестокая игра» ускользает от привычной идеологической дилеммы «личности как острова подлинности, исключенного из политической властной игры» против «сексуальности как еще одной сферы политической деятельности»: фильм делает зримым антагонистическое соучастие между публичной политической деятельностью и личными половыми перипетиями, противопоставление, уже явленное у де Сада, требовавшего половой революции как вершины достижений революции политической. Вкратце: подзаголовком «Жестокой игры» мог бы стать клич: «Ирландцы, хотите стать республиканцами – поднажмите!».
5. Дэвид Линч, или Женская подавленность
Линч как прерафаэлит
В истории искусства прерафаэлиты представляют парадоксальный пограничный случай авангардного пересечения с китчем: их первых восприняли как носителей антитрадиционалистской революции в живописи, оторвавшихся от всей традиции, с Возрождения и далее; но вскоре – с возникновением во Франции импрессионизма – их разжаловали как воплощение затхлого викторианского псевдоромантического китча. Эта ругательная оценка сохранялась вплоть до 1960-х, т. е. до возникновения постмодернизма, когда прерафаэлиты вдруг отыграли себе признание критиков. Как так вышло, что прерафаэлитов удалось «растолковать» лишь задним числом, в парадигме постмодернизма?
В этом смысле важнейший художник – Уильям Холман Хант, к которому относятся с пренебрежением как к первому из прерафаэлитов, продавшемуся традиционному большинству, – он сделался хорошо оплачиваемым производителем «сладеньких» религиозных полотен («Торжество невинных» и т. п.). При ближайшем рассмотрении, впрочем, мы сталкиваемся со зловещей, глубоко тревожащей гранью его работ – его картины сообщают некое беспокойство, неопределенное чувство, будто, вопреки идиллическому возвышенному «официальному» содержанию, что-то мы упускаем. Возьмем, к примеру, «Наемного пастуха», с виду – простую пасторальную идиллию: пастух занят соблазнением селянки и потому не обращает внимания на своих овец (очевидная аллегория Церкви, пренебрегающей своей паствой). Чем дольше мы смотрим на эту картину, тем больше сознаем, сколько всяких деталей свидетельствуют о сильных связях Ханта с удовольствием, с jouissance как жизненной субстанцией, т. е. его отвращению к сексуальности. Пастух – мускулистый простак, неотесанный и грубо чувственный; взгляд девушки лукав, он говорит о том, что она хитро, вульгарно и корыстно использует свою половую притягательность; слишком живая красно-зеленая палитра делает изображение в целом отталкивающим, словно мы смотрим на гнилостную, перезрелую природу. То же касается и «Изабеллы и горшка с базиликом» с его обилием деталей – змеящимися волосами и черепами по краям вазона: все это разоблачает «официальное» трагически-религиозное содержание.
Сексуальность, излучаемая этой картиной, – удушающая, «нездоровая», пропитанная затхлостью смерти… и вот мы уже посреди вселенной Дэвида Линча. Иначе говоря, вся «онтология» Линча основана на разногласии между действительностью, наблюдаемой с безопасного расстояния, и абсолютной близостью Реального. Простейший прием Линча – движение от установочного кадра действительного к неприятной близости, когда делается зримым отвратительная субстанция удовольствия, ползучая и осклизло поблескивающая неискоренимость жизни[210]. Достаточно вспомнить первые кадры «Синего бархата» (1986). После виньеток идиллического американского городка и инсульта отца главного героя, случившегося, пока тот поливал лужайку перед домом (когда он падает, струя воды из шланга жутковато напоминает сюрреалистически могучее мочеиспускание), камера утыкается в газон и являет нам бурлящую жизнь: ползающих насекомых, как они возятся и жрут траву… В самом начале «Твин Пикс: сквозь огонь» (1992) мы сталкиваемся с противоположным приемом, создающим тот же эффект: сначала видим абстрактные белые протоплазменные силуэты, плавающие на голубом фоне, своего рода примитивную форму жизни в ее первородном мерцании, а затем камера медленно отъезжает, и мы постепенно понимаем, что нам показывают телевизионный экран очень крупным планом[211]. Мы узнаем ключевую черту постмодернистского «гиперреализма»: чрезмерная близость к действительности влечет за собой «потерю действительности»; зловещие детали выделяются и баламутят умиротворяющее впечатление, производимое картинкой в целом[212].
Вторая черта, близко связанная с первой, состоит в самом определении «прерафаэлитства»: возвращение к изображению всего таким, какое оно «есть на самом деле», не искаженное правилами академической живописи, как их установил Рафаэль. Однако практика самих прерафаэлитов предает эту наивную идеологию возвращения к «естественной» живописи. Первое, что бросается в глаза в их живописи, – плоскостное изображение. Эта черта тут же видится нам, привычным к современному перспективному реализму, как признак неуклюжести: прерафаэлитским картинам несколько не хватает «глубины», присущей пространству, организованному вдоль линий перспективы, встречающихся в удаленной точке, словно сама «действительность», которую эти полотна изображают, – не «настоящая», а, скорее, устроенная как барельеф. (Еще одна грань той же черты – «кукольная», механическая композиция, искусственность, проступающая в запечатленных людях: им недостает бездонной глубины личности, какую мы обычно связываем с понятием «субъекта».) Определение «прерафаэлиты», таким образом, следует понимать буквально: как показатель сдвига с перспективизма Возрождения к «замкнутой» средневековой вселенной.
В фильмах Линча «плоское» изображение действительности, отсекающее перспективу беспредельной открытости, обретает точное отражение и на уровне звука. Вернемся к первым кадрам «Синего бархата»: ключевая черта – зловещий шум, возникающий, когда мы приближаемся к Реальному. Источник этого шума в действительности определить трудно; чтобы понять его, есть искушение обратиться к современной космологии, которая говорит о шумах как о границах Вселенной. Подобные шумы не просто присущи вселенной – они суть остатки, последнее эхо Большого взрыва, из которого возникла сама Вселенная. Онтологический статус этого шума куда интереснее, чем может показаться, поскольку он подрывает самые основы «открытой», беспредельной Вселенной, которая определяет пространство ньютоновской физики.
Это современное представление об «открытой» Вселенной основано на гипотезе, что любая позитивная данность (шум, материя) занимает некоторое (пустое) пространство: эта гипотеза зиждется на разнице между пространством qua пустотой и позитивными данностями, занимающими это пространство, «заполняющими его». Здесь пространство феноменологически рассматривается как нечто, существовавшее до данностей, которые «его заполняют»: если разрушить или удалить материю, заполняющую пространство, пространство qua пустота никуда не денется. Однако первобытный шум, последнее, что осталось от Большого взрыва, состоит из самого пространства: это не шум «в» пространстве, а шум, из-за которого само пространство открыто. Если, следовательно, устранить этот шум, не получится «пустого пространства», которое этот шум заполняет: само пространство, емкость для всех «внутренних» сущностей, исчезнет. Значит, этот шум, в некотором смысле, – самый «звук тишины». В этом смысле глубинный шум в фильмах Линча не просто исходит от предметов, которые часть этой действительности, – напротив: из этого шума происходит онтологический горизонт, рамки самой действительности, сама текстура, удерживающая действительность как целое, – если устранить этот шум, схлопнется сама действительность. Из «открытой» беспредельной Вселенной картезианско-ньютоновской физики мы, таким образом, переходим к до-модерновой «замкнутой» Вселенной, ограниченной сущностным «шумом».
С тем же шумом мы сталкиваемся в кошмарных кадрах «Человека-слона» (1980), которые переводят нас через границу, отделяющую внутреннее от внешнего, иными словами, в этом шуме предельное внешнее машины зловеще совпадает с предельной сокровенностью телесного внутреннего, в ритме бьющегося сердца. И еще нельзя упускать из внимания, что этот шум возникает после того, как камера проникает через брешь в капюшоне человека-слона, представшего перед зеваками: обращение действительности в Реальное соответствует обращению взгляда (субъекта, всматривающегося в действительность) в созерцание, т. е. это обращение возникает, когда мы проникаем в «черную дыру» – в прореху на ткани действительности.
Голос, что свежует тело
В этой «черной дыре» мы попросту созерцаем тело, лишенное кожи. Иными словами, Линч возмущает наше самое основное феноменологическое отношение к живому телу, основанное на предельной отделенности поверхности кожи от того, что размещается под ней. Вспомним жуть, едва ли не отвращение, какое посещает нас, когда мы пытаемся представить, что происходит под поверхностью прекрасного нагого тела – мышцы, органы, вены… Короче говоря, отношение к телу предполагает исключение того, что находится под поверхностью. Это исключение – следствие символического порядка, оно может возникнуть лишь в той мере, в какой наша действительность структурирована посредством языка. В символическом порядке, даже когда мы неодеты, мы не по-настоящему наги, поскольку сама кожа – «платье из плоти»[213]. Это исключение изымает Реальное из жизненной субстанции, из ее трепетанья: одно из определений Лаканова Реального – освежеванное тело, пульсация оголенной плоти, лишенной кожи.
Как именно Линч возмущает наше глубинное феноменологическое отношение к поверхности тела? Посредством голоса, слова, которое «убивает», прорываясь сквозь поверхность кожи и врезаясь в плоть, говоря коротко, посредством слова, чей статус – статус Реального. Эта грань особенно проявлена в «Дюне» (1984), по Герберту. Достаточно вспомнить членов космической гильдии, которые из-за чрезмерного употребления «пряности», таинственного наркотика, вокруг которого и закручивается вся история, сделались изуродованными существами с громадными головами; подобно червеобразным существам из оголенной плоти без кожи, они представляют собой неуничтожимую жизненную субстанцию, чистое воплощение удовольствия.
Похожее уродство возникает в прогнившем королевстве злодея-барона Харконнена, где многие лица жутко обезображены – зашитые глаза, уши и пр. Лицо самого барона испещрено отвратительными наростами, «проростками удовольствия», через которые внутренность тела прорывается наружу. Чудовищная сцена, в которой барон унижает юношу орально-гомоэротически, также играет на этом двусмысленном отношении между внутренностью и поверхностью – барон выдергивает пробку из сердца юноши, и оттуда начинает бить кровь. (Здесь мы имеем дело с характерной для Линча детской фантазией о человеческом теле как о воздушном шарике, форме из надутой кожи, без твердого вещества внутри…) Черепа слуг космической гильдии тоже начинают трескаться, когда заканчивается «пряность» – и опять перед нами искореженные, изломанные поверхности.
Важнее всего здесь связь между трещинами в черепах и искажениями голоса: служитель гильдии шепчет нечленораздельно, и этот шепот делается разборчивым лишь посредством микрофона – или же, в понятиях Лакана, посредничеством большого Другого. В «Твин Пикс» карлик в Красной сторожке говорит на малопонятном искаженном английском, который можно разобрать только благодаря субтитрам, выполняющим здесь роль микрофона, т. е. роль посредника – большого Другого. Эта отсрочка – процесс, в котором неразборчивые звуки, произносимые нами, делаются речью лишь благодаря вмешательству внешнего, механического, символического порядка, – обычно скрыта. Ощутимой она делается лишь когда нарушается связь между поверхностью и тем, что за ее пределами. Следовательно, здесь речь о скрытом обращении критики Дерриды, адресованной логоцентризму, в которой голос действует как посредник между иллюзорной прозрачностью самости и ее бытием: перед нами непристойная, жестокая, «сверх-я»-истическая, непостижимая, непроницаемая, травматическая грань Голоса, действующего как своего рода чужая сущность, возмущающая равновесие нашей жизни[214].
В «Дюне» наш – зрителей – опыт телесной поверхности возмущает и мистический опыт главного героя Пола Атрейдиса, когда он пьет «воду жизни» (мистицизм, разумеется, означает встречу с Реальным). И здесь внутренность стремится вырваться через поверхность – кровь капает не только у Пола из глаз, но и изо ртов его матери и сестры, которым известно о его испытании благодаря прямой, несимволической эмпатии. (У советников правителя, «живых компьютеров», способных читать мысли других людей и провидеть будущее, тоже имеются странные, похожие на кровь, пятна у губ.)
Наконец, голос самого Пола оказывает прямое, физическое воздействие: возвышая голос, он не только может сводить с ума своего противника, но и взрывать громадные валуны. В конце фильма Пол кричит на старую жрицу, пытающуюся проникнуть в его ум, и ее отбрасывает, словно Пол физически ее ударил. Как говорит сам Пол, его слова могут убивать, т. е. его речь действует не только символически, но и впрямую проникает в Реальное. Распад «нормальных» отношений между телесной поверхностью и тем, что под ней или вне ее, впрямую связано с этой переменой статуса речи и возникновением слова, явленного напрямую на уровне Реального.
Разлом в цепи причинности
Еще одна ключевая черта последней сцены: старая жрица отзывается на слова Пола преувеличенно, едва ли не театрально, и потому непонятно, отклик ли это на произнесенные слова или же на искаженность и раздутость своего восприятия их. Короче говоря, возмущены «нормальные» отношения между причиной (слова Пола) и следствием (отклик женщины на них), словно между ними разрыв, словно следствие никак не соответствует предполагаемой причине. Обычный подход к толкованию этого разрыва – как к показателю, что у женщины истерия: женщины не могут отчетливо воспринимать внешние причины, они вечно проецируют свое искаженное видение… Мишель Шион[215], однако, в порыве гениальности выдвигает несколько иное прочтение этого возмущения[216]. Есть искушение «привести в порядок» довольно бессистемное устройство книги Шиона о Линче, выстроив логику автора по трем этапам.
● Шион начинает с разрыва, расхождения, décalage, между действием и откликом, какие всегда есть в фильмах Линча: когда субъект – как правило, мужчина, – обращается к женщине или «электризует» ее иным способом, отклик женщины всегда в том или ином роде несоизмерим с сигналом, или импульсом, ею полученным. В этой несоизмеримости все упирается в эдакое короткое замыкание между причиной и следствием: их отношения никогда не «чисты», не линейны, мы никогда не можем быть уверены, до какой степени следствие ретроактивно «окрашивает» свою же причину. Здесь мы сталкиваемся с логикой анаморфоза, представленного показательно во второй сцене второго акта Шекспировой пьесы «Ричард II» – словами Буши, преданного слуги королевы:
Картины есть такие: если взглянешь На них вблизи, то видишь только пятна, А если отойдешь и взглянешь сбоку, — Тогда видны фигуры. Так и вы Взглянули сбоку на отъезд супруга, И призрак торя вам явился вдруг; Вглядитесь пристальней, – оно исчезнет.Отвечая Буши, королева сама помещает свои страхи в причинно-следственный контекст:
Призрачные страхи – порожденье Былого горя. У меня не так. Мое ничто само рождает горе, Как будто бы в моем ничто есть нечто И буду им я скоро обладать. Я знаю лишь, что ждет меня страданье. Хотя не знаю для него названья[217].Несоразмерность причины и следствия вытекает из анаморфной перспективы субъекта, искажающего «действительную» предшествующую причину, и потому его поступок (отклик на причину) – никогда не прямое следствие причины, а, скорее, следствие искаженного восприятия причины субъектом.
● Следующий шаг Шиона – в «безумном» жесте, достойном самых смелых фрейдистских толкований: он предполагает, что глубинная матрица, показательный случай подобной нестыковки между поступком и откликом – сексуальные (не-)отношения между мужчиной и женщиной. В половой деятельности мужчины «делают кое-что с женщинами», и встает вопрос: сводится ли удовольствие женщины к следствию, простое ли это вытекающее из того, что мужчина с ней делает? Со старых добрых времен марксистской гегемонии, вероятно, памятны вульгарно-материалистские «редукционистские» попытки определить происхождение понятия причинности в человеческой практике, в мужских деятельных отношениях с его средой: мы добираемся до понятия причинности, обобщая опыт наблюдений, как, всякий раз совершая тот или иной поступок, получаем один и тот же результат… Шион предлагает еще более радикальный «редукционизм»: простейшая матрица отношений между причиной и следствием явлена в половых отношениях. В последнем соображении непоправимый разрыв между следствием и причиной сводится к тому, что «не всё женское удовольствие есть следствие порождаемой мужчиной причины». Это «не-всё» нужно осмыслять именно в ключе лакановской логики «не-всего [pas tout]»: из него ни в какой мере не следует, что часть женского удовольствия не есть следствие того, что с ней делает мужчина. Иными словами, «не-всё» означает непоследовательность, а не неполноту: в отклике женщины всегда есть нечто непредсказуемое, женщина никогда не откликается ожидаемо – однажды она не отзывается на то, что доселе ее всегда возбуждало, а в другой раз ее возбуждает нечто, совершенное мужчиной походя, нечаянно… Женщина не подчиняется полностью причинной связи, с нею линейный порядок причинности нарушается – или же, цитируя Николаса Кейджа, когда он у Линча в «Диких сердцем» поражен неожиданной реакцией Лоры Дерн: «Работа твоего ума – личная тайна Господня»[218].
● Последний шаг Шиона – двойной: детализация и последующее обобщение. Почему именно женщина с ее несопоставимым откликом на мужской сигнал рвет причинно-следственную цепочку? Особенная черта женщины, которая с виду сводится к связи в причинно-следственной цепи, а на самом деле отменяет и переворачивает причинную связь, – женская подавленность, самоубийственная склонность скатываться в перманентную летаргию: мужчина «бомбардирует» женщину «ударами», чтобы вытащить ее из этой подавленности.
Рождение субъективности из женской подавленности
В центре «Синего бархата» (и всей oeuvre[219] Линча) – тайна женской подавленности. Убийственная Дороти (Изабелла Росселлини) подавлена, тут и говорить не о чем, поскольку причины ее тоски представляются очевидными: ребенка и мужа похитил злодей Фрэнк (Деннис Хоппер) – он даже отрезал мужу ухо и шантажирует Дороти, требуя от нее сексуальных одолжений в уплату, чтобы ее муж и ребенок остались живы. Тут причинная связь вроде бы отчетлива и недвусмысленна: Фрэнк устроил ей все эти неприятности, вторгшись в мир счастливой семьи и нанеся травму. Какое бы мазохистское удовольствие Дороти ни испытывала – это попросту последействие потрясения: жертва настолько ошарашена и растеряна от садистского насилия, которому ее подвергают, что «отождествляется с нападающим» и берется подражать его игре… Однако детальный анализ знаменитейшей сцены из «Синего бархата» – садомазохистская половая игра между Дороти и Фрэнком, за которой наблюдает Джеффри (Кайл Маклахлан), скрываясь в чулане, – подталкивает нас пересмотреть всю расстановку сил. Иными словами, ключевой вопрос таков: для кого срежиссирована эта сцена?
● Первый ответ кажется очевидным: для Джеффри. Разве не показательный ли это пример наблюдения ребенком сцены родительского соития? Не Джеффри ли низведен до наблюдателя собственного зачатия (простейшая матрица воображения)? Подобное толкование подкрепляется двумя занятными особенностями того, что видит Джеффри: Дороти запихивает какую-то бархатистую синюю ткань Фрэнку в рот; Фрэнк тяжко дышит в кислородную маску, приложенную ко рту. Не зрительные ли галлюцинации это, основанные на том, что ребенок слышит? Когда ребенок подслушивает, как родители совокупляются, он слышит лишь приглушенные голоса и тяжкое, прерывистое дыхание и потому воображает, что у отца, наверное, что-то во рту (возможно, простыня, раз все происходит в постели), или, может, он дышит через маску…[220]
● Но такое прочтение упускает важнейшее: садомазохистская игра между Дороти и Фрэнком тщательно продумана, намеренно театральна, поскольку роли играют оба, а не только Дороти, которой известно, что Джеффри подглядывает: она сама спрятала его в чулане. Более того, оба переигрывают, словно знают, что за ними наблюдают. Джеффри не скрытый, случайный наблюдатель тайного ритуала: ритуал поставлен ради него с самого начала. С этой точки зрения все на самом деле организует Фрэнк. Его шумные театральные замашки, едва ли не комические и напоминающие классический образ главного злодея, являют нам, сколь отчаянно он пытается поразить и впечатлить наблюдателя. Чтобы доказать ему что? Ключ, возможно, предложен фразой, которую Фрэнк одержимо повторяет Дороти: «Не смей на меня смотреть!» – отчего же? Ответ может быть лишь один: потому что не на что смотреть, т. е. эрекции нету, поскольку Фрэнк – импотент. Истолкованная таким манером, сцена обретает иное значение: Фрэнк и Дороти играют бурное половое соитие, чтобы скрыть от ребенка импотенцию отца; все Фрэнковы вопли и ругательства, его комически-зрелищное изображение жестов совокупления – маскировка отсутствия совокупления. В традиционных понятиях акцент смещается с вуайеризма на эксгибиционизм: взгляд Джеффри – не что иное как элемент в эксгибиционистском сценарии, т. е. не сын здесь наблюдает соитие родителей, а отец отчаянно пытается убедить сына в своей потенции.
● Есть и третье возможное толкование, сосредоточенное на самой Дороти. Имеет смысл помнить, конечно, не антифеминистские банальности о женском мазохизме, о том, что женщинам втайне нравится, когда с ними грубо обходятся, и т. д. Мы ведем речь вот о какой гипотезе: если у женщин линейная причинная цепочка недействительна или даже действует обратно, а ну как депрессия – исходный факт, а ну как это она – первая в цепи, а все остальное происходящее – Фрэнковы издевательства над Дороти – совсем не причина ее недуга, а, наоборот, отчаянная «терапевтическая» попытка не дать этой женщине сползти в пропасть абсолютной подавленности, своего рода «электрошоковая» терапия, нацеленная пробудить ее внимание?[221] Грубость подобного «врачевания» (похищение ее мужа и сына, отсечение уха мужа, требование от нее участия в садистской сексуальной игре) просто соответствует глубине ее подавленности: поддерживать в Дороти деятельность можно лишь грубым шоком.
В этой сцене Линч, можно сказать, воистину анти-Вейнингер: если в «Поле и характере» Отто Вейнингера[222], образце современного антифеминизма, женщина представляет себя мужчине, желая зачаровать его взор и таким образом свергнуть его с духовных высот в пропасть разврата – если для Вейнингера «исходный факт» есть мужская духовность, тогда как зачарованность женщиной возникает в мужчине из-за падения – по Линчу, «исходный факт» есть женская подавленность, ее соскальзывание в пропасть самоуничтожения, абсолютной летаргии; при этом именно мужчина предоставляет себя женщине как объект для разглядывания. Мужчина «бомбардирует» ее потрясениями, чтобы разбудить ее внимание и таким образом вытянуть из бесчувственности – короче говоря, чтобы вернуть ее в «настоящий» порядок причинности[223].
Традиция омертвелой, сонной женщины, восставшей из бесчувственности по зову мужчины, в XIX веке уже была в полном ходу: довольно вспомнить Кундри из «Парсифаля» Вагнера, которая в начале второго и третьего актов пробуждена из кататонического сна (первый раз – грубым призывом Клингзора, а затем заботами Гурнеманца), или – из «настоящей» жизни – уникальную фигуру Джейн Моррис, жену Уильяма Морриса и любовницу Данте Габриэля Россетти. Знаменитое фото Джейн 1865 года являет нам подавленную женщину, глубоко погруженную в свои мысли, словно ждущую, когда мужское вмешательство подымет ее из летаргии: этот снимок – вероятно, максимальное приближение к тому, что Вагнер имел в виду, создавая образ Кундри[224].
Важнее всего здесь универсальная, формальная структура: «нормальные» отношения между причиной и следствием вывернуты наизнанку; «следствие» – исходный факт, все начинается с него, а то, что кажется причиной, – потрясения, вроде бы породившие подавленность, – на самом деле отклик на это следствие, борьба с подавленностью. И тут вновь мы сталкиваемся с логикой «не-всё»: «не-всё» в подавленности возникает от причин, которые ее запускают; и все же, в некоторый момент, нет такой составляющей подавленности, которая не вызвана была бы той или иной внешней деятельной причиной. Иначе говоря, всё в подавленности есть следствие – все, за исключением подавленности как таковой, за исключением формы подавленности. Статус подавленности, таким образом, – строго «трансцендентальный»: подавленность создает априорные рамки, в пределах которых и действуют различные причины[225].
Может показаться, что мы попросту выбрались из самого распространенного предубеждения относительно женской подавленности – из представления о женщине, которую можно возбудить к действию лишь с подачи мужчины. Но можно осмыслить этот вопрос и иначе: простейшее устройство субъективности опирается на то, что не-всё в субъекте определяется причинной цепью. Субъект есть этот самый зазор, отделяющий причину от ее следствия; он возникает в точности настолько, насколько отношения между причиной и следствием делаются «неподотчетными»[226]. Иначе говоря, что есть эта женская подавленность, отменяющая причинную цепь, причинные связи между нашими поступками и внешними возбудителями, если не основополагающее движение субъективности, первобытный акт свободы, отказа внедряться в связку причин и следствий?[227] Философское наименование такой «подавленности» – абсолютная негативность, то, что Гегель называл «ночью мира», погружением субъекта в самого себя. Вкратце: именно женщина, а не мужчина, есть субъект par excellence[228]. И связь между этой подавленностью и непроницаемой жизненной субстанцией тоже ясна: подавленность, уход в себя есть первобытный акт ухода, отстраненность от неуничтожимой жизненной субстанции, и этот уход выглядит как отталкивание.
Чистая поверхность смысл-события
Фундаментальная ось вселенной Линча состоит из напряжения между пропастью «женской» глубины и чистой поверхностью кожи символического порядка: глубина тела постоянно выплескивается на поверхность и угрожает поглотить ее. Какая философская диада творит координаты этой оси? В «Логике смысла»[229] Делёз стремится сместить противостояние, определяющее платоновское пространство, – сверхчувственных Идей и их чувственно-материальных копий – до противостояния вещественно-непрозрачной глубины Тела и чистой поверхности Смысл-события. Эта поверхность зависит от возникновения языка: это не-овеществленная пустота, отделяющая Вещи от Слов. У нее как у таковой есть две стороны: одна повернута к Вещам, т. е. это чистая не-овеществленная поверхность Становления, Событий, разнофазных относительно субстанциальных Вещей, с которыми происходят События; другая сторона повернута к Языку, т. е. это чистый поток Смысла в противовес описывающему Обозначению, соотнесению знака с плотными предметами. Делёз, конечно, остается материалистом: поверхность Смысла есть следствие взаимодействий телесных причин, однако это не однородное им следствие, следствие порядка, принципиально отличного от (телесного) Бытия. Таким образом, с одной стороны имеем порождающее телесное смешение причин и следствий, а с другой – внетелесную поверхность чистых событий-следствий, которые «стерильны», «асексуальны», ни деятельны, ни бездеятельны.
Эта вот анти-платоновская линия возникла впервые в стоицизме, вместе с извращением (а не подрывом) стоиками платонизма посредством теории Смысла qua воплощенного События (наш главный, хоть и неказистый источник – Хрисипповы фрагментарные тексты по логике); она вновь мощно проявилась на «антионтологическом» повороте философии в начале ХХ века. В противопоставлении Делёзом тел и смысл-событий открывается новый подход не только к феноменологии Гуссерля, но к ее менее известному двойнику, «теории объектов [Gegenstandstheorie]» Алексиуса Мейнонга[230]. «Феноменологическая редукция» Гуссерля отделяет овеществленную телесную глубину, а остаются «явления» qua чистая поверхность Смысла. Философия Мейнонга тоже имеет дело с «предметами в целом»: по Мейнонгу, предмет есть все, что можно помыслить интеллектуально, независимо от его существования или несуществования. Таким образом Мейнонг признает не только общеизвестного «нынешнего французского короля, который лыс» Бертрана Рассела[231], но и предметы вроде «деревянного железа» или «круглого квадрата». В отношении любого предмета Мейнонг различает его Sosein (бытие-таковым) и Sein (бытие): у круглого квадрата есть Sosein, раз он определен через два свойства – округлости и квадратности, но Sein у него нет, поскольку из-за противоречивости своей природы подобный предмет существовать не может.
Мейнонг именует такие предметы «бездомными»: им нет места ни в действительности, ни в сфере возможного. Точнее, Мейнонг делит предметы на те, у которых есть бытие, которые существуют в действительности; на те, что формально возможны (поскольку не содержат противоречия в себе самих), хотя в действительности их нет – например, «золотая гора», в этом случае существует их не-сущность; и, наконец, «бездомные» объекты, не существующие tout court[232]. Более того, Мейнонг заявляет, что отношение любого субъекта, а не одно лишь утвердительное отношение знания, имеет свое воплощение: воплощение представления есть объект [Gegenstand]; воплощение мысли – стремление [Objektiv]; воплощение чувства – достоинство, а воплощение влечения – желание. Так открывается новое поле предметов, которое не только «шире» действительности, но составляет отдельный свой уровень: объекты определяются их качествами, Sosein, независимо от их действительного существования или даже простой возможности – в некотором смысле они от действительности «отрываются».
Не к той же линии стоиков принадлежит «Трактат» Витгенштейна[233]? В первом же утверждении Витгенштейн устанавливает различие между вещами [Dinge] и миром [die Welt] как единства фактов [Tatsachen], всего, что имеет место [der Fall], что может происходить: «Die Welt ist die Gesamtheit der tatschen, nicht der Dinge». В предисловии, которое обычно воспроизводят в «Трактате», Бертран Рассел стремится именно приручить эту «бездомность» события, вписывая его обратно в порядок вещей.
Первая ассоциация в сфере популярной культуры, возникающая из-за этого напряжения между до-символической глубиной и поверхностью событий, – разумеется, «чужой» из одноименного фильма. Наш первый отклик – мыслить его как созданье из хаотической глубины материального, как первородную Вещь. Однако не на противоположное ли указывает постоянная перемена формы «чужого», его совершеннейшая «пластичность»: не имеем ли мы дело с существом, чья сама связность зиждется на поверхности воображения, с последовательностью в чистом виде событий-следствий, у который нет никакой вещественной опоры?
Возможно, эта разница двух уровней предлагает и ключ к Моцартовой «Così fan tutte». Одна из расхожих истин касательно этой оперы – в том, что в ней постоянно нарушается линия, отделяющая искренние чувства от изображаемых: не только нелепый героизм (Фьордилиджи, который желает воссоединиться со своей невестой на поле битвы, к примеру) развенчивается вновь и вновь как пустая поза, подрыв происходит и в противоположном направлении – философ Альфонсо, непревзойденный циник, время от времени путается в собственных кознях, его захватывают изображаемые им же чувства, которые неожиданно оказываются искренними (в терцете «Soave sia il vento»[234], к примеру).
Эта псевдодиалектика искренних и поддельных чувств, хоть и не совсем неуместна, тем не менее не учитывает зазор, отделяющий машину тела от поверхности ее следствий-событий. Точка зрения Альфонсо – механический материализм: мужчина или женщина есть машина, марионетка; его или ее чувства – любовь, в данном случае, – не выражают ту или иную спонтанную подлинную свободу, их можно вызвать автоматически, посредством подходящей причины. Ответ Моцарта на этот цинизм философа – автономия «следствия» qua чистого события: чувства – следствия машины тела, но они же и следствия в смысле воздействия чувств (так же мы говорим и о «воздействии красоты»), и эта поверхность следствия qua события наделена своей подлинностью и автономией. Или же, говоря в современных понятиях, даже если биохимии удастся выделить гормоны, управляющие возникновением, силой и продолжительностью половой любви, настоящий опыт любви qua события сохранит свою автономию, свою предельную разнородность относительно телесной причины.
Противопоставление плотной машины и поверхностного события воплощено в паре Альфонсо и Деспины. Альфонсо – механицист-материалист и циник, верящий лишь в машину тела, а Деспина символизирует любовь qua чистое поверхностное событие. Вывод философа Альфонсо, как водится, «Отрекись от своего желания, признай его тщету!»: если тщательно поставленным экспериментом удалось заставить двух сестер забыть своих женихов и заново с непревзойденной страстью влюбиться, не прошло и дня, без толку спрашивать, какая любовь была истинная, а какая – ложная, одна равна другой; все – результат телесного механизма, у которого человек в рабстве.
Деспина же, напротив, считает, что имеет смысл хранить верность своей страсти вопреки всему – ее этика явлена в Сэме Спейде, который в хорошо известном фрагменте из Хэмметова «Мальтийского сокола» сообщает, как его наняли найти человека, внезапно бросившего постоянную работу и семью и исчезнувшего. Спейд не в силах его обнаружить, но через несколько лет натыкается на него в баре в другом городе, где этот человек живет под вымышленным именем и ведет жизнь, примечательно похожу на прежнюю. Человек, тем не менее, убежден, что перемена случилась не впустую…[235] Одна из ключевых арий всей оперы – «Una donna a quindici anni»[236] в исполнении Деспины, в начале второго акта. Если уделить ей должное внимание, как это сделал Питер Селларс в своей заслуженно знаменитой постановке, становится ясно, что она свидетельствует о неожиданной неоднозначности персонажа Деспины: под маской веселой интриганки скрывается меланхолическая приверженность своему желанию, невзирая на его хрупкость и мимолетность.
Делёз как диалектический материалист
Вероятно, самый яркий опыт разрыва, отделяющего поверхность от телесной глубины, касается наших отношений с нагим телом нашего партнера: можно воспринимать это тело как чистый предмет знания (и сосредоточиваться на плоти, костях и железах, спрятанных под кожей), как предмет бесстрастного эстетического удовольствия, как предмет полового желания… Скажем в некотором смысле проще: «ставка» феноменологии – в том, что подобный настрой и/или его воплощение наделены собственной автономией, поскольку невозможно «перевести» переживание, связанное с телом нашего партнера как предмета полового желания, в понятия биохимического процесса. Поверхность, разумеется, есть следствие телесных причин – но следствие, не сводимое к своей причине, поскольку оно совершенно иного порядка.
Глубинный вопрос Делёза в «Логике смысла» (также и для Лакана) – как нам теоретически помыслить переход из телесной глубины к поверхностному событию, разрыв, который должен возникнуть на уровне телесной глубины, если ожидается проявление следствия смысла; вкратце: как нам сформулировать «материалистическое» зарождение Смысла? Постановка этого вопроса равносильна погружению в проблематику диалектического материализма – здесь мы используем понятие «диалектический материализм» в самом полном его смысле, как наименование, определяющее грань, не сводимую к проблематике «исторического материализма»[237]. Исторический материализм qua теория социосимволических процессов предполагает горизонт символической praxis[238] как уже-всегда наличествующий и не поднимает вопрос о его «возникновении». В этом ключе диалектический материализм строго противоположен механическому материализму, редукционистскому по определению: он не рассматривает радикальную обусловленность следствия причиной, т. е. мыслит смысл-следствие-поверхность как простую видимость, видимость материальной Сути, лежащей глубже. Идеализм, напротив, отрицает, что смысл-следствие есть следствие телесной глубины; он фетишизирует смысл-следствие как порождающую саму себя сущность; цена, которую приходится платить за это отрицание, – субстанциализация смысла-события: идеализм исподволь определяет смысл-событие как новое Тело (нематериальное тело платоновских форм, к примеру). Как ни парадоксально это звучит, лишь диалектический материализм способен мыслить следствие Смысла, смысла qua события в его специфической автономии, без субстанциалистской редукции (именно поэтому вульгарный механический материализм образуют необходимо комплементарную пару идеализму).
Вселенная Смысла qua «автономного» образует заколдованный круг: мы всегда-уже его часть, поскольку в тот миг, когда мы занимаем позицию внешней отстраненности от этой вселенной и переводим взгляд со следствия на причину, мы теряем следствие[239]. Значит, глубинная трудность диалектического материализма такова: как возникает этот круг Смысла, не допускающий никакой «наружи»? Как смешение тел может породить «нейтральную» мысль – символическое поле, «свободное» точно в том смысле, что оно не связано с экономикой телесных влечений, не действует как продолжение влечения, стремящегося удовлетворить себя? Гипотеза Фрейда такова: внутренним тупиком сексуальности. Вывести возникновение «незаинтересованной» мысли из других телесных влечений (голода, самосохранения и пр.) невозможно – почему?
Сексуальность – единственное влечение, которое само по себе затруднено, извращено: одновременно недостаточное и избыточное, в нем избыток есть проявление нехватки. Перво-наперво, сексуальности свойственна всеохватная способность обеспечивать метафорическое значение, или косвенный намек, любой деятельности или предмету – любой элемент, включая самые абстрактные размышления, можно воспринять как «ссылку на это» (достаточно вспомнить пресловутый пример подростка, который, чтобы забыть о своих половых одержимостях, ищет прибежища в математике и физике, но что бы ни делал, все ему напоминает об «этом»: какой объем необходим, чтобы наполнить пустой цилиндр? Сколько энергии выделяется при столкновении двух тел?..).
Эта избыточность – способность сексуальности захватывать все поле человеческого опыта настолько, что все, от питания до испражнения, от избиения себе подобных (или получения колотушек от них же) до применения власти, может иметь половую коннотацию, – не преимущество. Напротив, это знак определенного организационного неблагополучия: сексуальность рвется наружу и затапливает прилежащие к ней сферы жизни именно потому, что не может найти удовлетворения в себе самой и никогда не достигает своей цели. Как именно деятельность, которая сама по себе однозначно асексуальна, обретает половые коннотации? Она «сексуализуется», когда не достигает своей асексуальной цели и застревает в заколдованном круге бесплодных повторов. Мы входим на поле сексуальности, когда жест, который «официально» служит некой инструментальной цели, делается целью сам по себе, когда нам начинает нравиться само «бесплодное» повторение жеста, и мы тем самым упраздняем его целеполагание.
Сексуальность может действовать как сопряженный смысл, дополняющий «десексуализованное» нейтрально-буквально значение именно постольку, поскольку это нейтральное значение уже есть. Как показал Делёз, извращение возникает как внутренняя перевернутость этих «нормальных» отношений между асексуальным буквальным смыслом и сексуальным сопряженным смыслом; в извращении сексуальность делается прямым объектом речи, но цена, которую мы за это платим, – десексуация нашего отношения к сексуальности: сексуальность становится одним из прочих десексуализованных объектов. Показательный пример подобного отношения – «научный» безразличный подход к сексуальности или подход де Сада, при котором с сексуальностью обращаются как с предметом инструментальной деятельности. Достаточно вспомнить роль Дженнифер Джейсон Ли в фильме Роберта Олтмена «Короткие истории» (1993): домохозяйки с дополнительным источником дохода в виде платного секса по телефону, которая развлекает клиентов бодрящими речами. Она до того освоилась в своей работе, что может импровизировать в трубку, как она вся промокла между ног и т. п., а сама при этом меняет ребенку подгузник или готовит обед, т. е. относится к сексуальным фантазиям совершенно отстраненно, инструментально; они ее попросту не затрагивают[240].
Понятие «символической кастрации» у Лакана нацелено именно на этот vel, этот выбор: мы либо принимаем десексуацию буквального смысла, что влечет за собой смещение сексуальности на позицию сопряженного смысла, в сопряженное измерение сексуальной коннотации-намека, либо подходим к сексуальности «прямо», делаем ее предметом буквальной речи, за что платим «десексуацией» субъективного отношения к ней. В обоих случаях мы упускаем прямоту подхода, буквальный разговор о сексуальности, которая останется «сексуализованной».
Именно в этом смысле фаллос – означающее кастрации: вовсе не могучий орган-символ сексуальности qua универсальной созидательной силы, это означающее и/или орган самой десексуации, «невозможного» перехода «тела» в символическую «мысль», означающее, поддерживающее нейтральную поверхность «асексуального» смысла. Делёз осмысляет это соображение как инверсию «фаллоса связи» в «фаллос кастрации»: «фаллос связи» – личинка, образ, с которым субъект соотносится, чтобы связать разбросанные эрогенные зоны в единство тела, а «фаллос кастрации» – означающее. Те, кто воспринимают фаллическое означающее по модели стадии зеркала, как привилегированный образ или часть тела, обеспечивающую центральную точку отсчета, что позволяет субъекту объединить рассеянное множество эрогенных зон в уникальное, иерархически устроенное целое, остаются на уровне «фаллоса связи» и упрекают Лакана в том, что на самом деле есть его глубинное прозрение: эта связь через центральный фаллический символ – неизбежно несостоятельна. Результат этой несостоятельности, однако, – не возврат к несвязной разнородности эрогенных зон, а именно «символическая кастрация»: у сексуальности сохраняется грань универсальности, и она продолжает действовать как (потенциальная) коннотация любого акта, предмета и т. д., но только если «жертвует» буквальным значением – только если буквальное значение «десексуализовано»: шаг от «фаллоса связи» к «фаллосу кастрации» – шаг от невозможной-несостоятельной всеобъемлющей сексуации, к состоянию, в котором сексуальное значение делается вторичным, превращается в «универсальный намек», в сопряженный смысл, который потенциально дополняет любой буквальный, нейтрально-асексуальный[241].
Как же мы переходим от состояния, в котором «значение всего – сексуально», где сексуальность действует как универсальное означаемое, к поверхности нейтрально-десексуализованного буквального смысла? Десексуация означаемого возникает, когда сам элемент, который не смог связать (или связывал) универсальное сексуальное значение (например, фаллос), сведен к означающему. Фаллос – «орган десексуации» в точности из-за своей возможности быть означающим без означаемого: это инструмент устранения сексуального значения, т. е. редукции сексуальности qua означаемого содержания к пустому означающему. Говоря коротко, фаллос означает следующий парадокс: сексуальность может универсализировать себя лишь десексуацией, лишь претерпевая своего рода превращение в сопутствующую коннотацию нейтрального, асексуального буквального смысла.
Вопросы «действительного зарождения»
Разница между Лаканом и тем, кто, как Хабермас, принимает универсальную среду межсубъектной коммуникации как предельный горизонт субъективности, следовательно, – не там, где ее обычно ищут: она не зиждется на том, что Лакан в постмодернистском фасоне заостряет внимание на некоем остаточном особом случае, что навсегда возбраняет нам доступ к всеобщему и обрекает нас на разнородную текстуру отдельных языковых игр. Лаканов основной упрек Хабермасу и ему подобным, напротив, состоит в том, что такой мыслитель упускает и не тематизирует цену, которую субъект вынужден платить за доступ ко всеобщему, к «нейтральной» среде языка: эта цена, конечно, – не что иное как травматизм «кастрации», жертвование объектом, которые «есть» субъект, переход от S (полного «патологического» субъекта) к $ («перечеркнутому» субъекту). В этом же и разница между Хайдеггером и Гадамером[242]: Гадамер остается «идеалистом» постольку, поскольку для него горизонт языка «всегда-уже есть», а вот у Хайдеггера проблематика различения [Unter-Schied] как боли [Schmerz], неотъемлемой от самой сути нашего бытия в языке, хоть и кажется «обскурантистской», показывает материалистскую проблематику травматического отсечения, «кастрации», что отмечает наше вхождение в язык.
Первым эту материалистскую проблематику «действительного зарождения» как обратного трансцендентальному сформулировал Шеллинг: во фрагментах «Weltalter»[243] 1811–1815 гг. он применяет программу вывода возникновения Слова, Логоса, из пропасти «действительного в Боге», из вихря влечений [Triebe], который есть Бог до сотворения мира. Шеллинг проводит различие между существованием Бога и скрытой, непроницаемой Основой Существования, устрашающей досимволической Вещью как «того в Боге, что еще не Бог». Эта Основа состоит из антагонистического напряжения между «сжатием [Zusammenziehung, contractio]» – схлопыванием-в-себя, эгоистической яростью, всеразрушающим безумием – и «расширением», т. е. Богом отдающим, изливающим свою Любовь. (Как не признать в этом противопоставлении Фрейдову двойственность влечений «я» и влечений любви, что предшествуют фрейдистской двойственности либидо и влечения к смерти?) Это невыносимое противостояние – в безвременном прошлом, в прошлом, которое никогда не было «настоящим», поскольку «настоящее» уже подразумевает Логос, прояснение устным Словом, что переводит антагонистическую пульсацию влечений в символическое различие.
Бог, таким образом, – сначала пропасть «абсолютного безразличия», воля, которая ничего не желает, царство покоя и красоты; в понятиях Лакана: чистое женское jouissance, чистое расширение в пустоте, без всякой последовательности, «раздача», которую ничто не скрепляет воедино. Сама «предыстория» Бога начинается с акта первородного сжатия, посредством которого Бог создает себе твердую Основу, постановляет себя Единым, субъектом, позитивной сущностью. «Подцепив» бытие как болезнь, Бог увязает в безумной, «психотической» череде сжатий и расширений; затем он создает мир, произносит Слово, порождает Сына – все ради того, чтобы уйти от этого безумия. До возникновения мира Бог страдает «биполярным расстройством», и это – отчетливейшая разгадка тайны, почему Бог сотворил вселенную: то была своего рода терапия, что позволила ему вытащить себя из безумия[244]… Поздний Шеллинг, Шеллинг «философии откровения», содрогался от своего былого радикализма и считал, что Бог располагает своим существованием заведомо: самого Бога сжатие уж более не касается, оно означает исключительно акт, в котором Бог творит материю, из которой далее возникает вселенная существ. Таким образом, сам Бог уже не участвует в процессе «зарождения»: зарождение касается только творимого, а Бог лишь следит за историческим процессом с безопасного расстояния вне истории и гарантирует ей счастливый исход. В этом удалении, в этом сдвиге из Weltalter к «философии откровения» проблематика Weltalter облекается в традиционные Аристотелевы онтологические понятия: противостояние Существования и его Основы теперь делается противостоянием Сути и Существования, т. е. Логос воспринимается как божественная Суть, а ей, чтобы исполниться, требуется позитивное Существование, и т. д.[245]
В этом состоит материалистская «ставка» Делёза и Лакана: «десексуация», чудо введения нейтрально-десексуализованной поверхности Смысла-События, не полагается на вмешательство некой трансцендентной, внетелесной силы; ее можно вывести из внутренней безысходности самого сексуализованного тела. В этом точном смысле – каким бы потрясением это ни было для вульгарных материалистов и обскурантистов в их непризнанном единстве – фаллос, фаллическая составляющая как означающее «кастрации», есть фундаментальная категория диалектического материализма. Фаллос qua означающее «кастрации» содействует возникновению чистой поверхности Смысла-События; как таковое это «трансцендентальное означающее» – без-смысленное внутри поля Смысла, распределяющее последовательностью Смысла и управляющее им. Этот «трансцендентный» статус означает, что в нем нет ничего «вещественного»: фаллос – видимость par excellence. Фаллос – «причина» зазора, отделяющего поверхностное событие от телесной плотности: это «псевдопричина», питающая автономию поля Смысла относительно его истинной, действительной, телесной причины. Здесь следует вспомнить наблюдение Адорно за тем, как представление о трансцендентном устройстве вытекает из своего рода инверсии перспективы: то, что субъект (ошибочно) воспринимает как присущую себе силу, на самом деле его бессилие, неспособность выйти за пределы навязанных ему ограничений горизонта – трансцендентальная внутренняя сила есть псевдосила, оборотная сторона слепоты субъекта перед истинными телесными причинами. Фаллос qua причина – чистая видимость причины[246].
Без «фаллической» составляющей как точки пересечения двух последовательностей (означающего и означаемого), как точки замыкания, в которой, как Лакан очень точно подмечает, «означающее падает в означаемое», нет никакой структуры. Точка без-смысла внутри поля Смысла есть точка, в которой причина означающего вписана в поле Смысла, – без этого замыкания структура означающего действовала бы как внешняя телесная причина и не смогла бы произвести следствие Смысла. В этом отношении две последовательности (означающего и означаемого) всегда содержат парадоксальную сущность «с двойной записью», т. е. одновременно и избыток, и нехватка – избыток означающего относительно означаемого (пустое означающее без означаемого) и нехватка означаемого (точка без-смысла в поле Смысла). Иными словами, как только возникает символический порядок, мы имеем дело с минимальной разницей между структурным местом и элементом, который его заполняет: элементу всегда логически предшествует место в структуре, которое он занимает. Две последовательности, таким образом, могут быть описаны как «пустая» формальная структура (означающее) и последовательность элементов, заполняющих пустые места в структуре (означаемые).
С этой точки зрения парадокс состоит в том, что эти две последовательности никогда не пересекаются: мы всегда сталкиваемся с сущностью, которая одновременно – относительно структуры – пустое, незанятое место и – относительно элементов – быстро движущийся, ускользающий объект, жилец без жилья[247]. Так у нас получается Лаканова формула фантазии $ a, поскольку матема субъекта – $, пустое место в структуре, опущенное означающее, а objet a, по определению, – избыточный объект, нечто, чему не хватает места в структуре. Как следствие, дело не в том, что имеется попросту избыток элементов относительно наличных в структуре мест или же избыток мест, для заполнения которых недостает элементов, – пустое место в структуре все равно будет питать фантазию об элементе, который возникнет и заполнит это место; избыточный элемент, которому не хватило места, все равно будет питать фантазию о том, что где-то его ждет неведомое место. Дело, скорее, в том, что пустое место в структуре жестко связано с заплутавшим элементом, которому места не досталось: они не две разные сущности, а аверс и реверс одной и той же – одна и та же сущность вписана в обе поверхности ленты Мёбиуса. Говоря коротко, субъект qua $ не принадлежит глубине: он возникает из-за топологического скручивания самой поверхности.
Однако не оказались ли мы в точке, строго противоположной той, с какой начали? Мы начали с того, что помыслили субъекта как «ночь мира», как пропасть непроницаемой глубины, а теперь субъект представляется нам как топологическая скрутка самой поверхности. Откуда берется эта двусмысленность? Неувязка с Делёзом – в том, что он не проводит различия между телесной глубиной и символической псевдоглубиной. Иначе говоря, есть две глубины: непрозрачная непроницаемость тела и псевдоглубина, которую порождает «изгиб» самого символического порядка (пропасть «души», которую мы переживаем, глядя в глаза другому человеку…). Субъект есть такая псевдоглубина, которая возникает из-за изгиба поверхности. Вспомним последний кадр фильма «Остаток дня» (1993) Айвори: медленное затемнение окна замка лорда Дарлингтона, переходящее в съемку с воздуха всего замка целиком, удаляющегося от нас. Это затемнение длится чуть дольше необходимого, и на миг зрителю не избежать впечатления, что возникла третья действительность, выше и за пределами обычной, где существует окно и замок: словно вместо окна, которое лишь малая часть замка, сам замок, целиком, сводится к отражению в оконном стекле, к хрупкой сущности, которая есть чистая видимость, не сущность и не не-сущность. Субъект – такая вот парадоксальная сущность, возникающая, когда само Целое (весь замок) кажется воплощенным в одной своей части (окне).
Делёз вынужден игнорировать эту символическую псевдоглубину: в его дихотомии тела и Смысла для нее нет места. Здесь, конечно, возникает возможность критики Делёза Лаканом: разве означающее qua дифференциальная структура – не сущность, которая именно что не принадлежит ни телесной глубине, ни поверхности Смысла-События? Говоря конкретно, относительно Моцартовой «Così fan tutte»: разве «машина», автоматизм, на который полагается философ Альфонсо, символическая машина, «автоматизм» символического «обычая» – не мощная тема «Мыслей» Паскаля[248]? Делёз проводит различие между собственно телесной причинностью и парадоксальной «фаллической» составляющей, пересечением множеств означающего и означаемого, без-смысла qua псевдопричины, т. е. децентрированной причины смысла, присущей поверхностному потоку самого Смысла. Но не учитывает он резко разнородной природы множества означающих относительно множества означаемых, синхронии дифференциальной структуры относительно диахронии потока Смысла-События. Здесь, вероятно, становится видно ограничение Делёза, который в конце концов остается феноменологом – именно это ограничение и вызвало к жизни его теоретическую «регрессию» в «анти-Эдипа», в протест против Символического. В точном смысле можно сказать, что стоики, Гуссерль и подобные им – психотики, а не извращенцы: именно психотическое отвержение настоящего символического уровня порождает парадоксальные короткие замыкания между смыслом и действительностью («когда вы говорите “повозка”, повозка выкатывается у вас изо рта» и т. д.)[249].
Если браться прояснять это ключевое различие между телесной глубиной и символической псевдоглубиной, определяющей статус субъекта, следует спустится к тому, что есть, вероятно, самая омерзительная точка в европейской идеологии, к автору, доведшему логику антифеминизма до непревзойденного предела: к Отто Вейнингеру.
6. Отто Вейнингер, или «Женщины не существует»
«Будем надеяться, что публика не сочтет недостойным философа и ниже его достоинства уделять внимание соитию…» (237[250]) – это утверждение можно было бы сделать девизом всей работы Вейнингера: он вознес половые различия и сексуальные отношения до центральной темы философии. Цена, которую он за это заплатил, оказалась чудовищной: самоубийство в двадцать четыре года[251], всего через несколько месяцев после выхода его великой книги «Пол и характер». Почему?
Первое, что обращает на себя внимание у Вейнингера, – незамутненная искренность им написанного, и тут не об «объективной» теории речь: автор полностью, без остатка увлечен своим предметом. Неслучайно в первом десятилетии ХХ века книга «Пол и характер» возглавляла списки чтения нервных подростков: она давала ответы на все вопросы, терзавшие их смятенную внутреннюю жизнь. Ныне легко обесценить эти ответы как сочетание современных антифеминистских и антисемитских предубеждений, с небольшой примесью довольно поверхностных философских банальностей. Но в подобном пренебрежении нетрудно упустить эффект узнавания, какой возникает при чтении Вейнингера: словно он «назвал по имени» все, что «официальный» дискурс молча подразумевал, не решаясь произнести публично. Короче говоря, Вейнингер выволок на свет «сексистскую» подпитку, какую предоставляла фантазия преобладавшей тогда идеологии.
«Женщина исключительно и полностью сексуальна…»
Для Вейнингера разница между полами – в самом онтологическом противостоянии субъекта и объекта, деятельного духа и бездеятельной материи. Женщина – бездеятельный, воспринимающий объект, а это означает, что она полностью под властью сексуальности:
Женщина исключительно и полностью сексуальна, поскольку ее сексуальность распространяется на все ее тело, а в некоторых местах, выражаясь физически, лишь плотнее, чем в других, – что угодно влияет на нее сексуально и проникает в нее – постоянно и по всей поверхности ее тела. То, что мы обычно именуем соитием, – всего лишь отдельный случай, высочайшей яркости… Отцовство поэтому есть жалкий обман: мы вечно вынуждены делить его с бесчисленными другими предметами и людьми… Сущность, в которую в любой момент что угодно может проникнуть сексуально, может и забеременеть где угодно и от чего угодно; мать сама по себе есть сосуд. В ней всё живо, поскольку физиологически на нее воздействует всё и формирует ее дитя.
(258–259)
(Здесь мы уже сталкиваемся с источником всех трудностей Вейнингера – он путает фаллическое удовольствие с удовольствием женского Другого: последнее не сосредоточено в фаллосе и бомбардирует тело со всех сторон. Все теоретическое построение Вейнингера держится на возможности сведения удовольствия Другого к фаллическому удовольствию.)
Поэтому, идея спаривания – единственная, имеющая положительную ценность для женщин. … Спаривание для женщины – высшее благо; она стремится к нему всегда и везде. Ее личная сексуальность – лишь частный случай универсального, всеобщего, обезличенного инстинкта.
(260)
Это обобщение следует представлять двояко. Во-первых, соитие по-особенному окрашивает всю деятельность женщины. Женщина не способна к чистому духовному умонастроению, она не может стремиться к правде ради нее самой, как к выполнению долга ради его выполнения; она не может пребывать в бескорыстном созерцании красоты. Когда она вроде бы достигает такого духовного настроя, при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что «патологический» сексуальный интерес все равно мелькает где-то в тени (женщина говорит правду, чтобы произвести впечатление на мужчину и тем упростить его соблазнение и т. п.). Даже самоубийство qua абсолютное деяние совершается из нарциссически-патологических соображений: «подобные самоубийства практически всегда сопровождаются мыслями о других людях, о том, что́ они подумают, как будут горевать, насколько их это опечалит – или рассердит» (286).
Все то же самое, но гораздо сильнее относится по умолчанию и к любви, которая всегда скрывает тему полового слияния: женщина неспособна к чистому, бескорыстному восхищению возлюбленным. Более того, для женщины мысль о соитии – единственный способ преодолеть собственный эгоизм, единственная доступная ей нравственная идея – «нравственная» в смысле выражения идеала, к которому женщина стремится независимо от того или иного «патологического» интереса:
Ее желание деятельности в собственной половой жизни – ее сильнейший импульс, но лишь частный случай ее глубинного и единственного важнейшего интереса, интереса к тому, чтобы происходили половые соития; желание, чтобы их происходило как можно больше, в любом случае, месте и времени.
(257–258)
Соитие, следовательно, – единственный случай, в отношении которого женщина способна формулировать собственную версию универсального этического императива: «Действуй так, чтобы твоя деятельность служила воплощению беспредельного идеала спаривания».
В отличие от женщины, которой полностью владеет сексуальность, т. е. понятие о совокуплении, мужчина в отношениях с женщиной разрывается между взаимоисключающими полюсами сексуального вожделения и эротической любви:
Любовь и желание – два непохожих, взаимоисключающих, противоположных состояния, и пока мужчина действительно любит, мысль о физическом соитии с объектом его любви невыносима… Чем более эротичен мужчина, тем меньше его волнует сексуальность, и наоборот… есть лишь «платоническая» любовь, потому что любая другая так называемая любовь принадлежит царству чувств.
(239–240)
Если же, впрочем, по самой природе женщины, круг ее интересов сводится к соитию, откуда берется женская красота? Как может женщина служить предметом чисто духовной любви? Тут Вейнингер делает радикальный вывод: природа женской красоты – «перфомативная», т. е. это мужская любовь творит женскую красоту:
Любовь, даруемая мужчиной, – образец того, что в женщине красиво, а что – отвратительно. Условия эстетики отличаются от условий логики и этики. В логике есть абстрактная истина, которая есть образец мысли; в этике – идеальное благо, кое есть критерий того, что следует делать… В эстетике красоту создает любовь… Вся красота – в действительности скорее проекция, эманация требований любви; и потому красота женщины от любви неотделима, это не цель, к которой любовь стремится, но женская красота есть любовь мужчины; это не два разных предмета, а один и тот же.
(242)
Дальнейший неизбежный вывод состоит в том, что любовь мужчины к женщине – его «духовная», «чистая» любовь, противопоставленная сексуальному томлению, – глубоко нарциссическое явление: в своей любви к женщине мужчина любит только себя, свой собственный идеальный образ. Мужчина прекрасно осознает этот разрыв, навеки отделяющий его жалкую действительность от этого идеала, и потому он проецирует, переносит его на другого, на идеализированную женщину[252]. Вот почему любовь «слепа»: она держится на иллюзии, что идеал, к которому мы стремимся, уже воплощен в другом – в объекте любви:
В любви мужчина лишь любит себя. Не эмпирического себя, не слабости и пошлости, не ошибки и мелочность, какие он выказывает вовне, а все то, чем он желает быть, чем должен быть, свою истинную, глубочайшую, постижимую природу, свободную от суеты необходимости, от скверны земной… Он проецирует свой идеал абсолютно достойного существования, идеал, который мужчина не способен в самом себе обнаружить, на другое человеческое существо, и один лишь этот поступок есть не что иное как любовь и самое значение любви.
(243–244)
Любовь, не менее ненависти, следовательно, есть явление трусости, легкий выход: в ненависти мы выражаем вовне и переносим на другого зло, которое обитает в нас самих, и тем самым избегаем столкновения с ним; в любви же, вместо того, чтобы маяться с осуществлением собственной духовной сути, мы проецируем ее на другого как на уже осуществившееся состояние бытия. В этом смысле любовь труслива и коварна не только в отношении самого мужчины, но и, поверх всего прочего, в отношении к объекту любви – она совершенно не учитывает истинную природу объекта (женщины) и использует его лишь как своего рода белый экран для проекций:
Любовь женщины возможна лишь когда она не сознает своих истинных качеств и потому способна заменять настоящую физическую действительность другой, в общем – воображаемой. Попытка воплотить свой идеал в женщине вместо самой женщины – всегда разрушение эмпирической личности женщины. И потому такая попытка жестока по отношению к женщине; эгоизм любви не обращает на нее внимания, его нисколько не заботит ее настоящая внутренняя жизнь… Любовь – это убийство.
(249)
Тут, конечно, Вейнингер произносит вслух скрытую правду об идеализированной фигуре Дамы куртуазной любви[253]. Ключевая тайна любви, значит, такова: почему мужчина выбирает женщину как идеализированный объект, в котором он (ошибочно) видит воплощение своей духовной сути? Почему он проецирует свое спасение на то самое существо, которое повинно в его Падении, раз – как мы уже поняли – мужчина расщеплен между своей духовно-нравственной сутью и сексуальным томлением, возбуждаемым в нем постоянным приглашением женщины к половому соитию? Единственный способ разрешить эту загадку – принять, что отношение мужчины к женщине и как к объекту эротической любви, и как к объекту полового вожделения «перфомативны». Говоря строго, женщина – не причина Падения мужчины: это Падение мужчины в сексуальность создает женщину, сообщает ей бытие:
Лишь когда мужчина принимает собственную сексуальность, отвергает в себе абсолют, обращается к низшему, он дарует женщине существование.
Когда мужчина стал сексуален, он создал женщину. Та женщина случилась лишь по той простой причине, что мужчина принял свою сексуальность. Женщина – всего-навсего результат утверждения мужчиной; она есть сама сексуальность… Следовательно, единственная цель женщины – поддерживать в мужчине сексуальное… лишь одна у нее цель – питать в мужчине вину, ибо, стоит мужчине превзойти свою сексуальность, и женщина исчезнет.
Женщина – грех мужчины.
(298–299)
Здесь переворачиваются задом наперед нормальные отношения между причиной и следствием: женщина – не причина Падения мужчины, но его следствие[254]. Поэтому деятельно воевать с женщиной не нужно – в ней нет позитивной онтологической сути вообще: «Женщины, следовательно, не существует» (302). Чтобы женщина перестала быть, мужчине довольно преодолеть сексуальное влечение. Теперь мы понимаем, почему мужчина выбрал женщину как объект своей любви: на нем тяжким бременем висит невыносимая вина за создание женщины путем признания ее сексуальности. Любовь – всего лишь трусливая, лицемерная попытка мужчины воздать женщине за свой проступок:
Преступление, которое мужчина совершил, сотворив женщину, все еще явлена в его потакании ей, в том, что он прощает женщине ее эротизм… Женщина – только лишь выражение сексуальности мужчины, ее проекция. Всякий мужчина творит себе женщину, в которой воплощает себя и свою вину. Но женщина виновата не сама по себе, она таковой сотворена виною других, и все, за что женщину винят, должно быть возложено на мужчину. Любовь стремится скрыть вину, а не повергнуть ее; она возвышает женщину, а не устраняет ее.
(300)
Существование женщины говорит о том, что мужчина «отрекся от своего желания», предал свою истинную природу как самостоятельного нравственного субъекта, поддавшись сексуальности. Следовательно, истинная природа женщины состоит в безграничном вожделении сексуального соития, в выражении того, как фаллос «полностью – хотя зачастую лишь бессознательно – властвует всей жизнью женщины». В отношении встроенного в нее подчинения фаллосу женщина – совершенно иная, в строгом кантианском смысле, т. е. несвободная, брошенная на милость внешней Судьбе:
Мужской орган для женщины – «Оно», чьего имени она не знает; ее судьба – в нем, от этого ей не сбежать. Поэтому она не любит видеть нагого мужчину и никогда не выражает желания его видеть: она чувствует, что в миг созерцания будет потеряна. Так фаллос полностью и необратимо отнимает у женщины ее свободу.
(269)
Женщина несвободна: в конечном счете желание быть изнасилованной мужчиной так или иначе возобладает в ней; женщиной правит фаллос.
(274)
Следовательно, когда женщина сопротивляется своему сексуальному порыву и стыдится его, она подавляет свою истинную природу. Сосредоточение мужских духовных ценностей может зайти так далеко, что вытеснит осознание женской истинной природы прочь из ее сознания, однако эта природа дает яростный отпор, возвращаясь в виде симптомов истерии. То, что истеризованная женщина испытывает как чужеродный, злой и безнравственный порыв, есть попросту ее глубинная природа, ее подчинение Фаллосу. Конечное доказательство женской безнравственности: чем отчаяннее стремится она перенять мужские духовные качества, тем истеричнее делается. Когда женщина действует в согласии с нравственными установками, она делает это совершенно по-своему, из страха перед мужчиной-Хозяином или в попытке поразить его: женская самостоятельность – ложна, это навязанная снаружи имитация самостоятельности. Когда женщина говорит правду, это не из истинной правдивости, а ради того, чтобы произвести впечатление на мужчину, соблазнить его изощреннее: «Женщина всегда лжет, даже когда объективно говорит правду» (287). В этом состоит «онтологическая лживость женщины» – т. е. в этом смысле женская «любовь к истине есть лишь частный случай ее лживости» (291). Высочайшее прозрение, какого может достичь женщина, – смутное предчувствие своей врожденной порабощенности, и это прозрение ведет ее к попыткам освободиться посредством самоуничтожения.
Читателю, знакомому с лакановской теорией женской сексуальности, нетрудно распознать в этом кратком описании целую последовательность фундаментальных предположений Лакана. Не видим ли мы в утверждении Вейнингера «Женщины не существует» предвестие Лаканова la femme n’existe pas? Не присутствует ли утверждение, что женщина воплощает вину мужчины – что само ее существование зиждется на предательстве мужчиной своей духовно-нравственной позиции, – перепев Лаканова «женщина как симптом мужчины»? (По Лакану, симптом как компромиссное формирование говорит о том, как субъект «отрекся от своего желания».) Когда Вейнингер настаивает, что женщина никогда не сможет полностью интегрироваться в духовную вселенную Истины, Блага и Красоты, поскольку эта вселенная остается для нее совершенно гетерономной, навязанной ей извне, не подталкивает ли он нас к Лаканову утверждению, что женщина не полностью интегрирована в символический порядок? И, наконец, о теме полного подчинения Фаллосу (в отличие от мужчины, который лишь отчасти подчиняется его власти): не Лакановы ли «формулы сексуации» так же утверждают, что ни одна часть женщины не свободна от фаллической функции, тогда как в мужской позиции такое исключение есть – Х, не подчиненный фаллической функции?
Женская «ночь мира»
К сожалению, ближайшее рассмотрение развеивает эту кажущуюся похожесть, хотя и не обесценивает ее. Великое достоинство Вейнингера, которое следует принять во внимание феминизму, – его полный отрыв от идеологической проблематики «женской загадки», женственности qua Тайны, которая якобы ускользает из рациональной, дискурсивной вселенной. Утверждение «Женщины не существует» никак не касается неосязаемой женской Сути за пределами сферы дискурсивного существования: не существует как раз недостижимое Свыше. Вкратце: играя на несколько поистаскавшейся гегелевской формулировке, можем сказать, что «тайна женщины», в конечном счете, скрывает, что скрывать нечего[255]. Однако Вейнингеру не удалось добиться вот чего: Гегелева рефлексивного переворота – признания в этом «ничего» само́й негативности, определяющей понятие субъекта.
Вспомним известную шутку про еврея и поляка, где еврей забирает у поляка деньги под предлогом того, что расскажет поляку секрет, как евреям удается вытягивать из людей все до последнего гроша[256]. Вейнингерово пылкое антифеминистское выступление – «Нет никакой женской тайны; под маской Тайны – попросту ничего!» – остается на том же уровне, что и ярость поляка, когда он наконец понимает, как еврей, бесконечно откладывая окончательное признание, попросту забирает и забирает у него деньги. Вейнингеру не удается сделать шаг, который можно было бы соотнести с ответом еврея на вопли поляка: «Ну вот, теперь ты знаешь, как мы, евреи, вытягиваем из людей деньги…», т. е. шаг, который бы перетолковал, переопределил падение как успех, что-нибудь вроде: «Смотрите, это ничто, которое под маской, – та самая абсолютная негативность, относительно которой любая женщина есть субъект par excellence, а не ограниченный объект, противостоящий силе субъективности!»[257].
Статус Ничего можно объяснить, применив Лаканово различение между субъектом произнесения и субъектом произносимого. Утверждение «Я не существую» – совсем не отметаемый за его бессмысленностью парадокс, он может обрести подлинный экзистенциальный вес, поскольку указывает на сжатие субъекта в пустую исчезающую точку произнесения, которая предшествует любому воображаемому или символическому отождествлению: я запросто оказываюсь исключен из межсубъектной символической системы и потому мне не хватает определяющей черты, которая позволила бы мне торжествующе заявить: «Это я!» Иначе говоря, совсем не в метафорическом смысле «я есть» лишь то, что я есть для других, поскольку я вписан в систему большого Другого, поскольку я имею социосимволический опыт – вне такого приписанного мне существования я есть ничто, лишь исчезающая точка «я думаю», лишенная всякого позитивного содержания. Однако «я тот, кто думает» – уже ответ на вопрос «Кто этот, который думает?», т. е. это уже минимальное позитивное отождествление думающего субъекта. То же различение лежит в основе утверждения Витгенштейна, что «я» – не демонстративное местоимение:
Говоря «я страдаю», я не указываю на человека, который страдает, поскольку в некотором смысле я не знаю, кто страдает… Я не сказал, что такой-то человек страдает, я сказал «я»…[258]
Слово «я» не означает то же самое, что и «Л. В.», даже если я – Л. В.[259]
Именно с учетом этого разрыва следует мыслить утверждения о верховенстве символического: когда я беспомощно утверждаю, что «я, Людвиг Витгенштейн, президент этого общества, назначаю…», я взываю к своему символическому мандату, к своему месту в социосимволической системе, чтобы тем самым узаконить поступок вручения и обеспечить ему перфомативную силу. Мысль Лакана здесь такова: непреодолимый разрыв навеки отделяет то, что я есть «в действительности», от символического мандата, который обеспечивает мне социальная личность: первородный онтологический факт – пустота, пропасть, возникающая потому, что я недоступен самому себе в своем состоянии действительной субстанции, или же, цитируя уникальную формулировку Канта из «Критики чистого разума»[260], согласно которой я никогда не узнаю, что я такое как «я или он или это (вещь), которая думает [Ich, oder Er, oder Er (das Ding), welches denkt]». Любая символическая личность, присваиваемая мною, в конечном счете есть не что иное как дополнительная черта, чья функция – заполнять эту пустоту. Эту чистую пустоту субъективности, порожнюю форму «трансцендентного восприятия» следует отличать от картезианского Cogito[261], которое остается res cogitans[262], маленьким кусочком вещественной действительности, чудесно убереженной от разрушительной силы вселенского сомнения: лишь Кант провел эту грань между пустой формой «Я думаю» и думающей субстанцией, «вещью, которая думает»[263].
Вот тут-то у Вейнингера промах: онтологически толкуя соблазнение мужчины женщиной как «беспредельную жажду Чего-то, что есть у Ничто», он мыслит женщину как объект. В этом намерении Ничто стать Чем-то он не распознает само стремление субъекта к субстанциальной поддержке. Или, поскольку субъект есть «существо языка», Вейнингер в этом стремлении не усматривает врожденное движение субъекта qua пустоты недостаток означающего, т. е. стремление дыры, недостающего звена в цепи означающих, ($) к означающему представителю (S1). Иными словами, вовсе не выражая страх «патологической» скверны у субъекта, страх позитивности инертного объекта, отвращение Вейнингера к женщинам говорит о страхе перед радикальнейшей гранью самой субъективности: Пустоты, которая «есть» субъект.
В рукописи «Jenaer Realphilosophie» (1805–1806) Гегель охарактеризовал этот опыт чистой Самости qua «абстрактной негативности», это «затмение (врожденной) действительности», это сжатие субъекта в себя как «ночь мира»:
Человек есть эта ночь, это пустое Ничто, которое целиком содержится в своей нераздельной простоте: богатство бесконечного множества представлений, образов, ни один из которых не ведет прямо к духу, образов, которые существуют лишь в данный момент. Здесь существует именно ночь, внутреннее-или-интимное Природы – чистое личное-Я. Оно распространяет ночь повсюду, наполняя ее своими фантасмагорическими образами: здесь вдруг возникает окровавленная голова, там – другое видение; потом эти призраки так же внезапно исчезают. Именно эту ночь можно увидеть, если заглянуть человеку в глаза: тогда взгляд погружается в ночь, она становится ужасной[264].
А символический порядок, вселенная Слова, Логоса, может возникнуть лишь из переживания этой пропасти. По Гегелю, эта внутренность чистой самости «должна тоже начать существовать, сделаться объектом, противопоставить себя этой внутренности, чтобы стать внешним; вернуться к бытию. Это язык как сила, наделяющая именами… Обретя имя, объект рождается как индивидуальная сущность из “я”»[265].
Здесь важно не терять бдительности и не упустить уход Гегеля от традиции Просвещения инверсией самой метафоры субъекта: субъект более не Свет Разума, противопоставленный непрозрачному, непроницаемому Веществу (Природы, Традиции…); само ядро субъекта, то, что открывает пространство для Света Логоса, есть абсолютная негативность qua «ночь мира». И что такое Вейнингеровы пресловутые henid – растерянные представления женского, еще не достигшие ясности Слова, самотождественности Понятия – если не сами «фантасмагорические представления», поминаемые Гегелем, т. е. фантастические нагромождения, возникающие там, где Слово бессильно, поскольку их задача – именно заполнить пустоту этого бессилия? В этом и состоит парадокс Вейнингерова антифеминизма: вовсе не результат его обскурантистского антиПросвещенческого умонастроения, антифеминизм Вейнингера говорит о его приверженности идеалам Просвещения – о его стремлении избежать пропасти чистой субъективности[266].
То же касается и знаменитого Вейнингерова антисемитизма, который тоже не может скрыть своего долга перед Просвещением, – помимо этического волюнтаризма Вейнингера, факт остается фактом: его принципиальная философская отсылка к Канту, философу эпохи Просвещения par excellence (эту связь между антисемитизмом и определенного рода мышлением Просвещения уже предлагали Адорно и Хоркхаймер – в «Диалектике Просвещения»[267]). На фундаментальнейшем уровне антисемитизм не ассоциирует евреев с коррупцией как позитивной чертой, а скорее с самой бесформенностью – с недостатком определенного и ограниченного этнического положения. В этом ключе Альфред Розенберг, главный идеолог Гитлера, утверждал, что все европейские нации наделены вполне определенной «духовной формой [Gestalt]», которая дает выражение их этническому характеру – и этой «духовной формы» как раз недостает евреям. И – опять-таки – не в этой ли самой «бесформенности [Gestaltlosigkeit]» и состоит врожденная черта субъективности? Не субъективность ли, по определению, превосходит любую позитивную духовную форму? Теперь уже должно стать ясно, как именно антисемитизм и фашистский корпоративизм образуют две стороны одной медали. В отвержении иудео-демократического «абстрактного универсализма», противопоставленного представлению об обществе qua гармоничной органической форме, в которой любой индивид и любой класс имеет свое отчетливо определенное место, корпоративизм вдохновлен тем самым прозрением, какое многие демократы предпочитают отметать: лишь сущность, которая в себе самой загромождена, не упорядочена, т. е. не имеет «своего места», по определению «не встроена», может непосредственно соотноситься с универсализмом как таковым.
Или же – если ставить вопрос в понятиях отношений между Общим и Частным: как Частное участвует в Общем? Согласно традиционной онтологии, объекты входят в состав общего для них рода, поскольку они «воистину то, что они есть», т. е. покуда они воплощают понятие о себе или подходят под него. Стол, к примеру, включен в понятие стола, поскольку он «воистину стол». Здесь всеобщность остается «немой», безразличной чертой, связывающей частные сущности, вещь в себе, не определенная как таковая, иначе говоря, Частное не относится к Общему как таковому, в отличие от субъекта qua «самосознания», включенного в Общее в точности и исключительно постольку, поскольку его идентичность усечена, отмечена неполнотой, т. е. субъект не во всей полноте есть то, «что он есть», и именно об этом ведет речь Гегель, говоря о «негативной универсальности»[268]. Вспомним показательный случай из политической диалектики: когда некое частное (этническое, сексуальное, религиозное и пр.) меньшинство обращается ко Всеобщему? Именно когда существующие рамки общественных отношений перестают удовлетворять нуждам этого меньшинства и мешают ему воплощать свой потенциал. Как раз в этой точке меньшинство вынуждено предъявить свои требования Всеобщему и признанным им принципам и заявить, что членам этого меньшинства не дают участвовать в образовании, получении работы, свободе самовыражения, общественно-политической деятельности и т. п. наравне с другими.
Яркий пример такого для-себя Всеобщего, т. е. диалектизированных отношений со Всеобщим, предложил Малколм Икс[269] в знаменитом заявлении, что белый человек как таковой есть зло. Смысл этого заявления – не в том, что все белые суть зло, а скорее, что зло свойственно самому́ универсальному понятию о белом человеке. Это, однако, не мешает мне как отдельно взятому белому человеку стать «хорошим», достигнув осознания Зла, определяющего саму субстанцию моего существа, полностью приняв вину за это и трудясь, чтобы это Зло преодолеть. (То же касается и христианского представления о греховности, присущей само́й сути человеческой природы постольку, поскольку мы «сыны Адама»: путь к спасению лежит в осмысленном принятии этой вины.)
Процитируем обратную формулировку Эрнесто Лаклау[270] (глубокого гегельянца, невзирая на его заявленное антигегельянство):
…общее есть часть моей личности в той мере, в какой я проникнут врожденной неполнотой, т. е. поскольку моей производной личности не удался процесс становления. Всеобщее возникает из частного не как некий принцип, лежащий в его основе и объясняющий его, а как неполный горизонт, сшивающий неупорядоченную частную личность[271].
Именно в этом смысле «всеобщее есть символ недостающей полноты»[272]: я могу соотноситься со Всеобщим как таковым лишь в той мере, в какой моя частная личность затруднена в себе, «неупорядочена»; лишь в той мере, в какой некое затруднение мешает мне «стать тем, что я уже есть». И как мы уже подчеркивали, доказательство per negationem[273] получается из взаимосвязи двух черт, определяющих фашистский корпоративизм: его одержимость образом общества как органической общины, в коей всякий ее составляющий должен «занимать свое место», его патологическое сопротивление абстрактной всеобщности как силе общественного распада, т. е. идее, что индивид может впрямую, независимо от его или ее места в общественном организме, участвовать в Общем (например, идее, что я располагаю неотъемлемыми правами просто как человек, а не только лишь как член определенного класса, корпорации и т. д.).
В абзаце из «Феноменологии», где «вейнингерианская» нота слышна безошибочно, Гегель формулирует это негативное отношение между Общим и Частным в точности apropos женщины как «внутреннего врага» этической общины:
Сообщая себе устойчивое существование лишь путем нарушения счастья семьи и путем растворения самосознания во всеобщее сознание, общественность создает себе внутреннего врага в том, что она подавляет и что для нее в то же время существенно – в женственности вообще. Последняя – вечная ирония общественности, – пользуясь интригой, изменяет общую цель правительства в частную, превращает его общую деятельность в произведение «этого» определенного индивида и обращает общую собственность государства в достояние и украшение семьи[274].
Отношения между Частным (семьей) и Общим (общиной), следовательно, не состоят в гармоничном встраивании семьи в более широкое сообщество, а опосредованы негативностью: индивид («самосознание») может соотноситься с Общим за пределами семьи лишь посредством негативного отношения к семье, т. е. «предательством» семьи, из которого вытекает распад семьи (эта негативность – в точности то, что корпоративистская метафора общества qua большой семьи стремится устранить). Как раз в этом смысле общество, его публичное пространство, «создает себя из того, что́ подавляет», на руинах семьи. И вот еще что поражает нас в процитированном высказывании Гегеля: он сам представляет как неотъемлемую часть диалектического движения то самое, что его критики старательно пытаются отрицать как его убийственное уязвимое место, а именно – что такое устранение [Aufhebung] никогда не происходит без определенного остатка: после «устранения» семьи в обществе семья не только не перестает существовать как непосредственное основание этого общества, но и негативные отношения между семьей и обществом отражаются в самой семье: в виде женщины, которая негативно откликается на общество – своей «вечной иронией». Женщина – циник, способный различать в напыщенных заявлениях об общественном благе личные мотивы тех, кто подобные заявления распространяет.
Может показаться, что Гегель попросту приписывает женщине узость частной точки зрения: женщина есть «внутренний враг» общественного, поскольку она неверно понимает истинный вес общих целей общественной жизни и способна мыслить их лишь как способы достижения целей личных. Это, впрочем, совсем не вся картина: как раз такое положение «внутреннего врага» общества позволяет случиться возвышенному нравственному поступку выявления внутренних ограничений точки зрения само́й общественной всеобщности (Антигона).
Вне фаллоса
В этой двойственности личной и общественной сфер коренится расщепление женщины на Мать и Проститутку. Женщина – не Мать и Проститутка: одна и та же женщина в сфере частного – Мать, а в сфере общественного – Проститутка, и чем больше она Мать в личной сфере, тем больше она Проститутка в публичной. Иначе говоря, как бы ни казалось на первый взгляд, разделение Мать/Проститутка не касается разницы содержания (позитивных характеристик, противопоставляющих эти две фигуры), а есть в чистом виде формальность, т. е. оно предписывает два определения, две модальности одной и той же сущности. Идеологические координаты этой разницы проясняются, когда мы соотносим их с расщеплением мужского на Авантюриста, разрушителя семьи в сфере частного, и Нравственного Героя в сфере публичного: женщина qua Мать (надежная поддержка семьи) предполагает противостояние мужчине qua неупорядоченному Авантюристу (в отличие от присущей женскому инерции и устойчивости, мужчина деятелен, устремлен вовне, превосходит самое себя, рамки семьи его ограничивают, он готов рискнуть всем – короче говоря, он есть Субъект); тогда как женщина qua неупорядоченная Проститутка (поверхностная, неустойчивая, ненадежная, сущность с обманчивым видом) противопоставлена мужчине qua силе нравственной надежности (мужское слово – закон, он есть воплощение надежной символической приверженности, обладает должной духовной глубиной в отличие от женского легкомыслия…). Так возникает двойное противопоставление: женская субстанциальная полнота против мужского Субъекта и женская Видимость против мужской Сути. Женщина символизирует вещественную полноту и мимолетность Видимости; мужчина – возмущающую силу негативности и непорочность Сути. Эти четыре понятия, конечно, – из Греймасова семиотического квадрата:
Как же Вейнингер смещает эти традиционные идеологические координаты? Здесь он опять близок к феминизму – именно в том, в чем кажется бо́льшим антифеминистом, чем «официальная» идеология. В противовес этой идеологии Вейнингер отрицает даже (ограниченную) нравственную ценность Матери, опоры семьи, и переформулирует традиционное расщепление: в мужчине видит самостоятельный духовный настрой и фаллическую сексуальность (падение в чужеродность), а в женщине – ее «истинную природу» (состоящую из, собственно, отсутствия этой самой природы: женщина «есть» лишь жажда мужчины и существует лишь постольку, поскольку притягивает его взгляд) и чужеродную, навязанную извне нравственность. Однако, если признать в онтологической Пустоте женщины ту самую пустоту, что определяет субъективность, подобное двойное деление преобразуется в Лакановы «формулы сексуации»:
● Двойственность женщины имеет истерическую природу, принимает форму непоследовательности ее желания: «Я требую, чтобы ты отказал моему требованию, поскольку это не оно» (Лакан). Когда, например, Вагнерова Кундри соблазняет Парсифаля, на самом деле она хочет, чтобы он не поддавался на ее авансы, и разве это препятствование, этот саботаж ее собственного намерения не сообщает нам, что нечто в ней сопротивляется власти Фаллоса? (Сам Вейнингер говорит о смутном стремлении женщины к свободе, желании сбросить иго Фаллоса самоуничтожением.) Ужас мужчины перед женщиной, столь глубоко отметивший Zeitgeist[275] на рубеже XIX–XX столетий, от Эдварда Мунка до Августа Стриндберга и Франца Кафки, являет себя как ужас перед женской непоследовательностью – женской истерией, травмировавшей этих мужчин (и отметившей рождение психоанализа): она столкнула их с непоследовательной чередой масок (истерическая женщина мгновенно переходит от отчаянной мольбы к жестокой, пошлой насмешливости и т. д.). Эту тягостность сообщает невозможность различить за масками связного субъекта, манипулирующего ими: за многочисленными масками нет ничего или, в лучшем случае, ничего, кроме бесформенной, вязкой материи – жизненной субстанции.
Довольно помянуть знакомство Эдварда Мунка с истерией, которое запечатлелось в нем столь глубоко. В 1893 году Мунк влюбился в красавицу-дочь виноторговца из Осло. Она висла на нем, но он боялся этой мощной связи и тревожился за работу, а потому бросил ту женщину. Однажды бурной ночью за ним прибыла лодка: сообщали, что его подруга на грани смерти и желает напоследок поговорить. Мунка это глубоко тронуло, и он без промедления отправился к ней домой, где обнаружил ее в спальне при двух зажженных свечах. Однако, стоило ему приблизиться, как она восстала с кровати и принялась хохотать: вся сцена, как выяснилось, – обман. Мунк развернулся и собрался уйти; в этот миг она пригрозила, что застрелится, если он ее бросит; достав револьвер, она ткнула его себе в грудь. Когда Мунк потянулся, чтобы вырвать у нее оружие, убежденный, что и это все игра, револьвер разрядился и ранил его в руку…[276] Вот нам пример истерического театра во всей красе: субъекта ловят на притворстве, в котором то, что кажется смертельно серьезным, оказывается фальшивкой (умирание), а то, что представляется всего лишь жестом, оказывается смертельно серьезным (угроза самоубийства)[277]. Паника, охватывающая (мужского) субъекта, который сталкивается с подобным театром, выражает ужас перед тем, что за множеством масок, отпадающих, словно шелуха с луковицы, ничего нет – нет окончательной женской Тайны.
Здесь, впрочем, следует избежать губительного недоразумения. Поскольку эти истерические маски суть способ, которым женщина притягивает к себе мужской взгляд, неизбежным кажется вывод, что женская Тайна недоступна мужской фаллической экономике – «бесконечно женское [das ewig Weibliche]» (Гёте) по ту сторону символических масок состоит из женской субстанции, ускользающей из сферы «фаллогоцентризма». Сопутствующее заключение – поскольку за этими масками ничего нет, женщина полностью подчинена Фаллосу. Однако, по Лакану, верно прямо противоположное: досимволическое «бесконечно женское» есть ретроактивная патриархальная фантазия, т. е. именно Исключение лежит в основе сферы Фаллоса (как антропологическое понятие об исходном матриархальном Рае, которое отменилось с Падением в патриархальную цивилизацию и, начиная с Бахофена[278] и далее, твердо поддерживает патриархальную идеологию, поскольку полагается на понятие о телеологической эволюции от матриархата к патриархату). Именно недостаток любого исключения из Фаллоса придает женской либидинальной экономике непоследовательность, истеричность и тем самым подрывает власть Фаллоса. Когда же, по словам Вейнингера, женщина «совокупляется со всяким объектом», само это безграничное расширение фаллоса подрывает Фаллос как принцип Всеобщего и лежащего в его основе Исключения.
Лаканов «Подрыв субъекта…» завершается двусмысленным «Далее здесь не двинусь»[279]. Двусмысленно оно, поскольку может предполагать, что позднее, где-то еще, Лакан «далее двинется». Эта приманка подтолкнула некоторых феминисток-критиков Лакана упрекнуть его в том, что он замер в том самом месте, где должен был бы совершить решающий шаг за пределы фрейдистского фаллоцентризма: хотя Лакан и говорит о женском jouissance, ускользающем из сферы фаллического, он мыслит его как неизъяснимый «темный континент», отделенный от (мужского) дискурса границей, которую невозможно перейти. Для феминисток вроде Иригаре или Кристевой[280] этот отказ перейти границу, это «Далее здесь не двинусь» возвещает о продолжающемся табуировании женщин; они хотят «двигаться далее» – применить черты «женского дискурса» за пределами «фаллического» символического порядка.
Почему этот процесс – который, с точки зрения здравого смысла, кажется совершенно оправданным – дает сбой? В традиционных понятиях Предел, определяющий женщину, – не эпистемологический, а онтологический, т. е. вне его ничего нет. «Женское» есть эта структура предела как такового, предела, предшествующего тому, что может находиться Вне, а может и не находиться: все, что мы воспринимаем в этом Вне (Вечное Женское, к примеру), – проекции нашей же фантазии[281]. Женщина qua Тайна есть призрак, порожденный противоречивой поверхностью множественных масок, – тайна самой «Тайны» состоит в противоречивой поверхности[282]. А Лаканово название этой противоречивой поверхности (сложному топологическому пространству вроде ленты Мёбиуса) – попросту субъект.
● В случае мужчины, напротив, расщепление, так сказать, вынесено вовне: мужчина избегает противоречия своего желания, устанавливая границу разделения между сферой Фаллоса, т. е. сексуального удовольствия, отношений с половым партнером – и не-Фаллического, т. е. сферой нравственных целей, неполовой «публичной» деятельности (Исключение). Тут мы имеем дело с парадоксом «состояний, которые, по сути, – побочные продукты»: мужчина подчиняет свои отношения с женщиной сфере нравственных целей (оказавшись перед выбором между женщиной и нравственным долгом – под видом профессиональных обязанностей и пр., – немедленно предпочтет долг), и все же одновременно осознаёт, что лишь отношения с женщиной могут принести ему настоящее «счастье» или личное удовлетворение. Его «ставка» – на то, что женщину удачнее всего соблазнять, в точности когда мужчина не подчиняет ей всю свою деятельность, т. е. женщина не сможет устоять перед очарованием мужской «публичной» деятельности, иными словами – перед тайным осознанием, что он делает это все ради нее. Речь о перевернутой либидинальной экономике куртуазной любви: в куртуазной любви я посвящаю себя Даме впрямую, я определяю служение ей как свой высший Долг, и потому женщина остается холодным, безразличным, капризным Деспотом, «нечеловеческим спутником» (Лакан), с которым половые отношения возможны только и исключительно если не объявлять их впрямую как свою цель[283]…
Этот парадокс возникает почти в любой мелодраме, толкующей мужскую готовность жертвовать своей возлюбленной ради (общественной) Цели как высшее доказательство его любви, т. е. насколько «возлюбленная для него – всё». Возвышенный миг признания возникает, когда женщина наконец понимает, что мужчина бросил ее ради его же любви к ней. Интересная вариация этой темы есть у Винсента Миннелли в его «Четырех всадниках Апокалипсиса» (1962): Гленн Форд играет Хулио, богатого аргентинца, который припеваючи проводит дни в Париже во время немецкой оккупации, общается с немецкими офицерами и живет с красавицей-женой (Ингрид Тулин) воюющего лидера Сопротивления. Хотя женщина без ума от Хулио, ей тягостно, что мужчина, с которым она живет, – слабак, увлеченный личными удовольствиями, а ее муж, которого она оставила ради любовника, – настоящий герой. Но внезапно весь сценарий явлен нам как маскарад: с Хулио выходят на связь человек, о котором нашей героине известно, что он – из Сопротивления, и она догадывается, что Хулио лишь прикидывался сибаритом, чтобы общаться с высокопоставленными германскими офицерами и тем самым получать доступ к ценным сведениям о враге. Формально Хулио предает ее любовь, но невзирая на это предательство она позволяет ему отправиться на его последнюю, возможно самоубийственную операцию: она прекрасно понимает, что в глубинном смысле он делает это ради нее – чтобы заслужить ее любовь[284]…
«Фаллической функцией» Лакан называет вот это расщепление между сферой фаллического удовольствия и десексуацией «публичной» сферы, которая ускользает от него, т. е. «фаллическое» есть самоограничение Фаллоса, его утверждение Исключения. Именно в этом смысле фаллос есть означающее кастрации: «символическая кастрация» – это, в конечном счете, другое название парадокса «состояний, которые, по сути, побочные продукты»: если хотим достичь удовлетворения через фаллическое удовольствие, нам следует отказаться от него как от цели, выраженной явно. Иначе говоря, истинная любовь может возникнуть лишь в отношениях «партнерства», движимых иной, неполовой целью (см. романы Маргерит Дюрас[285]). Любовь есть непредсказуемый ответ действительного: она возникает (может возникнуть) «из ниоткуда» лишь когда мы отказываемся от любой попытки направлять ее или повелевать ею. (Тут, конечно, как и с любым примером Реального, противоположности совпадают: любовь в то же время есть предвиденный продукт абсолютного механизма – как вытекает из абсолютно предсказуемого характера переноса любви в психоанализе. Эта любовь производится «автоматически» самой аналитической ситуацией, независимо от конкретных особенностей аналитика. Как раз в этом смысле аналитик есть objet petit a, а не другой субъект: из-за «автоматического» характера перенос любви свободен от иллюзии, что мы влюбляемся из-за позитивных качеств нашего возлюбленного, т. е. из-за того, что́ он или она есть «в действительности». Мы влюбляемся в аналитика qua формальное место в структуре, лишенное «человеческих черт», а не в человека из плоти и крови[286].)
«Формулы сексуации»
Подобное представление о половом различии открывает нам множество философских связей; первое, что бросается в глаза, – структурное подобие «формул сексуации» у Лакана и Кантовой двойственности математической и динамической антиномий[287]. В современной философии одна из возможных стыковок – в противопоставлении объектной сигнификации (универсального значения понятий) и нематериального следствия смысла; это противопоставление сформулировал Делёз в «Логике смысла». Делёз ассоциирует это противопоставление с двумя типами парадокса, что идеально соответствует Кантовой двойственности антиномий:
Парадоксы сигнификации – это, по существу, парадоксы ненормального множества (то есть такого, которое включается в себя как элемент или же включает элементы разных типов), а также парадоксы мятежного элемента (то есть такого, который формирует часть множества, чье существование он предполагает, и принадлежит двум подмножествам, которые он определяет). Парадоксы смысла – по существу парадоксы деления до бесконечности (всегда будущее-прошлое и никогда настоящее), а также парадоксы номадического распределения (распределение в открытом, а не в закрытом пространстве)[288].
Не Кантов ли свободный субъект – этот самый «мятежный элемент»: в положении сущности-феномена он – часть причинной связанности, полностью подчиненный естественным законам, тогда как ноуменальная сущность свободна, т. е. прерывает цепь причинности и начинает с себя новое множество? И не проблема ли второй антиномии чистого разума – бесконечной делимости материи?
В более общем плане это понятие полового различия позволяет нам как следует разобраться с утверждением Лакана, которое кажется поначалу парадоксальным: субъект психоанализа есть не кто иной как картезианский субъект современной науки. Этот субъект возникает путем радикальной десексуации отношений человека со Вселенной. Иначе говоря, традиционная Мудрость была глубоко антропоморфной и «сексуализованной»; в ее пределах понимание Вселенной структурировали противопоставления, носившие отчетливо половой отпечаток: инь-ян, Свет-Тьма, деятельный-бездеятельный… Это антропоморфное основание позволило существовать метафорическому соответствию, зеркальным отношениям между микро– и макрокосмом: установление структурных подобий между человеком, обществом и Вселенной (общество как организм с монархом во главе, работники – руки его…; рождение Вселенной совокуплением Земли и Солнца, и т. д.). В современном мире, напротив, мы сталкиваемся с действительностью внутренне не антропоморфной как со слепым механизмом, который «говорит на языке математики» и, следовательно, может быть выражен лишь в бессмысленных формулах – любое исследование «более глубокого значения» явлений ныне воспринимается как остатки традиционного «антропоморфизма». Современный субъект во Вселенной, таким образом, более «не дома»; о трудности выживания в таком одиночестве свидетельствуют постоянные возвращения к антропоморфному-сексуализованному мировосприятию под видом псевдоэкологической Мудрости («новый холизм», «новая парадигма» и т. д.).
Именно на этом фоне можем мы оценить масштабы достижения Лакана: он попросту первым обозначил очертания невоображаемой, не приближенной к природе теории полового различия – теории, которая радикально отходит от антропоморфной сексуации («мужского» и «женского» как двух космических принципов и т. п.) и как таковая соответствует современной науке. Проблема, с которой разбирался Лакан, такова: как нам перейти от животного спаривания, ведомого инстинктивным знанием и управляемого естественными ритмами, к человеческой сексуальности, проникнутой желанием, кое обессмерчено и поэтому неутолимо, внутренне возмущено, обречено на неудачу и т. д.? (Даже вывод из идиллического пасторального романа вроде «Дафниса и Хлои» – в том, что невозможно достичь «нормальных» половых отношений, следуя природным позывам или подражая животному половому поведению: требуется наставление опытной женщины, т. е. отсылка к символической традиции. В этом суть учения Фрейда об эдиповом комплексе: то, что мы (или, по крайней мере, большинство из нас) переживаем как самые «естественные» половые отношения, есть следствие научения, усвоения путем череды травматических отсечений, вторжений символического Закона.) А потому решение проблемы Лакана таково: мы оказываемся в человеческой сексуальности посредством вторжения символического порядка qua чужеродного паразита, возмущающего природный ритм спаривания.
Касательно двух асимметричных антиномий символизации («мужской» стороны, связанной с универсальностью фаллической функции, укоренной в исключении; «женской» стороны, связанной с полем «не-всё», которое, по этой самой причине, не имеет исключения из фаллической функции) вопрос ставится с некой самоочевидностью: что есть звено, связывающее эти две полностью логические антиномии с противопоставлением мужского женскому, кое, как бы символически опосредовано и культурно обусловлено ни было, остается очевидным биологическим фактом? Вот ответ на этот вопрос: этого звена нет. То, что мы переживаем как «сексуальность», есть в точности следствие случайного акта «прививки» фундаментального тупика символизации на биологическое противопоставление женского и мужского. Ответ на вопрос: «Разве эта связь между двумя логическими парадоксами универсализации и сексуальности не запрещена?», следовательно, таков: именно это Лакан и имеет в виду. Лакан попросту переносит эту «запрещенность» с эпистемологического уровня на онтологический: сексуальность, то, что мы переживаем как высочайшее, ярчайшее утверждение нашего существа, есть bricolage, монтаж двух чужеродных составляющих. В этом и состоит Лаканова «деконструкция» сексуальности.
Паразитическая «прививка» символического тупика к животному спариванию подрывает инстинктивные ритмы этого спаривания и налагает на него неустранимый отпечаток несостоятельности: «половых отношений не существует»; любые отношения между полами могут происходить лишь на фоне их фундаментальной невозможности и т. д. Эта «прививка» предельно случайна – в том смысле, что опирается на однородность между, с одной стороны, членом у мужчины и, с другой стороны, тем, что в «мужских» формулах мы имеем дело с исключением, которая есть основа универсальности: короткое замыкание между ними преобразует пенис в материальную поддержку фаллического означающего, означающего символической кастрации. Как же, если разобраться, устроены «мужское» и «женское»?
Типичный пример поля «не-всё» есть в марксистском понятии классовой борьбы: какую бы позицию мы ни заняли относительно классовой борьбы, включая теоретическую, – это уже классовая борьба; она связана с выбором, «на чьей мы стороне», и потому непредвзятой объективной точки зрения, позволяющей нам описать классовую борьбу, не существует. Именно в этом смысле «классовой борьбы не существует», поскольку «нет элемента, который вне ее», т. е. мы не можем понять ее «как таковую», мы постоянно имеем дело со следствиями предвзятости, отсутствующая причина которых есть классовая борьба. (В дискурсивной вселенной сталинизма, напротив, классовая борьба существует, поскольку из нее есть исключение: технология и язык мыслятся как нейтральные инструменты, доступные всем, и как таковые они вне классовой борьбы.)
Впрочем, обратимся к более абстрактному примеру – к философии. Из беглого знакомства с любым учебником философии делается ясно, что любое универсальное, всеобъемлющее понятие о философии коренится в философии частной. Нейтрального понятия о философии, делимой на аналитическую, герменевтическую и т. д. философию, нет; любая частная философия охватывает себя саму и (свой взгляд на) все остальные философии. Или же – как Гегель сформулировал это в «Уроках по истории философии» – любая эпохальная философия есть своего рода вся философия, не часть Целого, а само Целое, постигаемое в специфической модальности. Следовательно, речь здесь не о простом сведении Всеобщего к Частному, а, скорее, эдакий излишек Общего: никакое Общее не охватывает полностью содержание частного, поскольку любое Частное имеет свое собственное Общее, т. е. содержит специфическую точку зрения на все поле целиком.
Мужская позиция предписывает именно стремление выбраться из этого тупика «прибавочного Общего» исключением одного парадоксального Частного; это парадоксальное Частное тут же воплощает Общее как таковое и одновременно отрицает его свойства присущности. Вот так и возникает Общее «как таковое», в противовес частному содержанию. Показательный случай – фигура Дамы в куртуазной любви, полностью принадлежащая мужской символической экономике. В фигуре Дамы женщина qua сексуальный объект обретает существование, но цена этому – превращение в недосягаемую Вещь, т. е. десексуализованную, преображенную в объект, из-за которого, именно поскольку он воплощает Сексуальность как таковую, мужской субъект делается импотентом[289].
Избранный способ блюсти вымысел о существовании Женщины как Исключения, которое тут же воплощает Общее, – оперная ария: ее апогей, когда сопрано «вкладывает всю себя в голос», возможно, – точнейший пример того, что Лакан именует jouis-sense, у-до-вольствие, миг, когда чистое полностью захватывающее удовольствие голоса затмевает волю к смыслу (словам арии). В этот миг можно ненадолго побыть в иллюзии, что «в женщине это есть» – objet petit a, голос-объект, причина желания, – а значит, женщина существует.
Ключ к этим парадоксам Общего, коренящийся в Исключении, есть в понятии Гегеля о «вещи для себя» Общего, т. е. разницы между «немым» Общим, составляющим бездеятельную связь индивидуальных понятий между собой, и рефлексивным поворотом, посредством которого Общее постановляется как таковое. Во введении к «Grunrisse»[290] Маркс утверждает, что сформулировать абстрактно-универсальное понятие труда можно лишь когда в настоящей общественной жизни царит «настоящее неразличение» частных форм труда, т. е. когда люди в действительности переживают свой конкретный труд как нечто случайное, полностью безразличное их сути, короче говоря – как (свободно выбранную) «профессию». Или, с отсылкой к евроцентризму: настоящий мультикультурализм может возникнуть лишь в культуре, внутри которой ее собственная традиция, общинное наследие, возникает как случайное; иными словами, в культуре, которая безразлична к себе самой, к своим особенностям. По этой причине мультикультурализм, stricto sensu, – «евроцентричен»: лишь в условиях современной субъективности можно воспринимать собственную традицию как случайный ингредиент, который в поисках истины следует методологически «брать в скобки». В этом состоит парадокс Всеобщего и его внутреннего исключения: универсальное понятие множественности народов, каждый из которых укоренен в своей особой традиции, предполагает исключение, традицию, которая воспринимает себя как случайную.
У самого Гегеля этот парадокс сформулирован показательно apropos государства, внутреннего напряжения, свойственного самому понятию Государства, поскольку оно расщеплено между «немой» универсальностью (нейтрально-абстрактное понятие Государства, примеры которого – конкретные государства) и твердое понятие Государства как Идеи Разума, которая постепенно воплощается и которой ни одно существующее позитивное государство не соответствует во всей полноте[291]. Поскольку представление о Государстве, «обозначенном как таковое», становится «вещью для себя», оно неизбежно вступает в негативные отношения с частными, на самом деле существующими государствами, т. е. эти конкретные государства выглядят не соответствующими, ущербными относительно Понятия. (Вероятно, то же напряжение обусловливает и матрицу того, что Хайдеггер описал как онто-теологическую структуру метафизики: «онто-» здесь означает нейтральную универсальность абстрактного понятия Государства, а «тео-» – полностью воплощенного Государства как противоположности несовершенным существующим.) Скажем иначе: «фокус» Общего в том, что́ оно втайне исключает. «Человек» в смысле всеобщих прав человека исключает тех, кто «не вполне человек» (дикари и нецивилизованные варвары, сумасшедшие, преступники, женщины, дети…) – эта логика была доведена до предела при якобинском терроре, когда любой конкретный индивид был по крайней мере потенциально исключением: любой индивид, отмеченный каким угодно «патологическим» пятном (продажности, эгоизма и т. д.) и как таковой не подходил под понятие Человека, а потому вина, в конечном счете, присуща отдельному существованию как таковому.
Несколько лет назад журнал «Мэд» опубликовал серию карикатур, показывающих четыре возможных уровня отношения субъекта с символической нормой, принятой в его сообществе. Ограничимся нормой моды. На нижайшем уровне – беднота, чье отношение к моде сводится к безразличию, поскольку их единственная цель – просто стараться не выглядеть нищенски, т. е. соблюдать приличия. Далее – низы среднего класса, которые отчаянно стремятся следовать моде, но из-за финансовых ограничений вечно «опаздывают» и носят то, что было модным в предыдущем сезоне. Верхи среднего класса, которые могут себе позволить последнюю моду, не представляют высшего уровня: над ними богатеи, устанавливающие тренды, и они, подобно низшему классу, к моде безразличны, однако по совершенно иной причине: у них нет внешних норм, которым необходимо подчиняться, поскольку они сами эту норму и устанавливают. То, что они носят, – и есть мода.
Особое значение для теории означающего имеет как раз этот четвертый и последний уровень, который, как своего рода парадоксальный излишек, являет полное подчинение свежей моде. На этом уровне есть некое рефлективное обратное предыдущему: в отношении содержания оба уровня совершенно одинаковы; разница между ними – сугубо формального свойства, поскольку устанавливающие тренды богачи одеваются так же, как верхушка среднего класса, однако по иной причине – не потому, что они хотят следовать последней моде, а потому, что носимое ими и есть последняя мода.
С теми же четырьмя уровнями мы имеем дело и в законодательной власти: выше тех, кто безразличен к законам, тех, кто нарушает закон, оставаясь включенными в систему закона и порядка, и тех, кто строго следует букве закона, располагаются те, кто на самой вершине и чьи действия всегда в согласии с законом, – не потому, что они послушно ему следуют, а потому что их деятельность определяет, что такое закон в перфомативном смысле: что бы они ни делали, это – закон (Король в абсолютной монархии, например). В этой точке обратного и есть исключение, которое основа Всеобщего[292].
Гегелев тезис, что в любом роде есть лишь один вид, а другие виды есть сам род, стремится к той же парадоксальной точке инверсии. Когда, к примеру, мы говорим: «Богатые люди – это бедные люди с деньгами», – это определение невозможно обратить, т. е. мы не можем сказать: «Бедные люди – это богатые люди без денег». Нет у нас нейтрального рода «люди», разделенного на два вида, «бедные» и «богатые»: род «бедные люди», к которым, чтобы получился вид «богатые люди», нужно добавить differentia specifica[293] (деньги). Психоанализ мыслит половое различие более или менее в том же ключе: «Женщина есть кастрированный мужчина». В этом случае, опять же, инверсия невозможна: «Мужчина есть женщина с фаллосом». Однако было бы неверным делать вывод, что мужчина qua самец наделен своего рода онтологическим преимуществом. Истинно гегельянский парадокс – в том, что «отсечение» отличительной черты есть составляющее самого́ рода. Иначе говоря, кастрация определяет род мужчины; «нейтральная» универсальность Мужчины, не отмеченного кастрацией, – уже показатель отказа от кастрации.
Достижение Лакана – мыслить половое различие на трансцендентном уровне в строго кантианском смысле понятия, т. е. без отсылки к какому бы то ни было «патологическому» эмпирическому содержанию. В то же время его определение полового различия избегает ловушки «эссенциализма», мысля «суть» и того, и другого половых положений как особую разновидность противоречия, антагонизма. «Суть женщины» – не позитивная сущность, а тупик, не позволяющий ей «стать женщиной». В этом отношении Лакан попросту следует Гегелю, чей ответ на упрек в эссенциализме был бы таков: суть сама по себе есть не-эссенциалистское понятие – «суть сути» зиждется на ее же противоречии, внутреннем расщеплении; или же, как сказал бы Деррида, суть сама по себе может утверждать свой «сущностный» характер, лишь обратившись к противоречивым стратегиям а-ля Фрейдово дополнение о заимствованном зонтике из его сна об инъекции Ирме (я вернула вам зонтик в хорошем состоянии; когда я его одалживал, он уже был неисправен…). Показательный случай подобной «деконструкции» – в Гегелевой критике Канта, в книге «Феноменология духа»: Гегель показывает, как Кант, чтобы утвердить свой «нравственный формализм», вынужден проделать целый ряд «незаконных» Verstellungen[294] (чтобы изменить сигнификацию ключевых понятий прямо по ходу выкладок и т. п.).
Вот почему параллель между Лакановыми «формулами сексуации» и антиномиями чистого разума у Канта полностью оправдана: у Лакана «мужское» или «женское» – не предикат, обеспечивающий позитивные сведения о субъекте, т. е. это не присвоение ему тех или иных свойств феномена; напротив, это случай того, что Кант мыслит как чисто негативное определение, которое лишь обозначает, описывает некий предел, а точнее – особую модальность, как именно субъекту не удалась его или ее попытка стяжать личность, которая составляла бы его или ее как объект в действительности явлений. В этом отношении Лакан максимально далек от понятия о половом различии как отношении между двумя противоположными полюсами, дополняющими друг друга и вместе образующими целого Человека: «мужское» и «женское» – не два вида в роде «Человек», а, скорее, две разновидности неудачи субъекта достичь полной личности Человека. «Мужчина» и «женщина» вместе не образуют Целого, поскольку и тот, и другая сами по себе – несостоявшееся Целое.
Также должно быть уже ясно, почему Лаканова концептуализация полового различия избегает ловушки пресловутой «бинарной логики»: в ней «мужское» и «женское» не противостоят друг другу в виде череды противоположных определений (деятельный/бездеятельный, причина/следствие, разум/чувство и т. д.); напротив, «мужское» и «женское» связаны с другой модальностью самих антагонистических отношений между противоположностями. «Мужчина» – не причина женщины-следствия, а особая модальность отношений между причиной и следствием (линейная последовательность причин и следствий с ожидаемой уникальной составляющей – Последней Причиной), в то время как «женщина», предполагающая другую модальность (своего рода затейливое «взаимодействие», где причина есть следствие этих самых следствий). В сфере собственно половых удовольствий, мужская экономика склонна быть «телеологической», сфокусированной на фаллическом оргазме qua удовольствии par excellence, тогда как женская экономика предполагает рассредоточенную систему отдельных удовольствий, не организованных вокруг какого-то одного телеологического принципа. В результате «мужское» и «женское» – не две позитивные вещественные сущности, а две разные модальности одной и той же сущности: чтобы «придать женственности» мужскому дискурсу, достаточно изменить – иногда почти неощутимо – его особую «тональность».
Тут-то и расстаются «конструкционисты» Фуко и Лакан: для «конструкционистов» пол – не природная данность, а bricolage, искусственное объединение разнородных дискурсивных практик; Лакан же отвергает эту точку зрения, не возвращаясь при этом к наивному субстанциализму. Для Лакана половое различие – не дискурсивная символическая конструкция, она возникает в той самой точке, где бессильна символизация: мы разнополые существа, потому что символизация всегда восстает против своей же внутренней невозможности. Тут все дело не в том, что «настоящие», «конкретные» сексуальные существа никогда не будут полностью соответствовать символической конструкции «мужчины» или «женщины», а в том, что сама символическая конструкция создает определенный фундаментальный тупик. Короче говоря, если бы можно было символизировать половое различие, у нас был бы один пол, а не два. «Мужское» и «женское» – не две дополняющие друг друга части Целого, а две (неудачные) попытки символизировать Целое.
Конечный результат нашего толкования Вейнингера, таким образом, – парадоксальная, но неизбежная инверсия антифеминистского идеологического аппарата, поддержанная самим Вейнингером, согласно которой женщины полностью подчинены фаллическому удовольствию, тогда как мужчины имеют доступ к десексуализованной сфере нравственных целей за пределами Фаллического: как раз мужчина полностью подчинен Фаллическому (поскольку составлять Исключение значит поддерживать всеобъемлющее главенство Фаллоса), тогда как женщина, благодаря противоречивости своего желания, достигает сферы «вне Фаллоса». Лишь женщина имеет доступ к Другому (нефаллическому) удовольствию.
Травматическая составляющая, которую Вейнингер полностью отказался признавать, хотя она следует из его же работы, – внутренняя перевернутость его «официальной позиции»: женщина, а не мужчина, может оказаться «вне Фаллоса». Вейнингер предпочел самоубийство – исключительный пример успешного подавления, подавления без возвращения подавленного. Своим самоубийством Вейнингер подтвердил две вещи: во-первых, где-то «глубоко в нем самом», в его бессознательном, он знал, а во-вторых – и в то же время – его знание было ему совершенно невыносимо. Он стоял не перед выбором «жизнь или смерть» или «деньги или смерть», а «знание или смерть». То, что смерть была единственным возможным способом уйти от этого знания, говорит о несомненной подлинности его субъективной позиции. Иными словами, разве невыносимое напряжение субъективной позиции Вейнингера не свидетельствует об истерической природе его речи? Поэтому Вейнингера все еще имеет смысл читать.
Приложение Занимаем позицию: интервью с самим собой
Следующий диалог – игра, в которую я под видом спрашивающего постараюсь побыть в роли Лаканова «большого Другого»: посмотреть на себя с точки зрения «общего знания», поставить вопросы, которые, судя по всему, «общему знанию» apropos теории Лакана не дают покоя.
Субъективная нищета
В чем состоит воздействие психоанализа, психоаналитического лечения как специфического субъективного опыта? Принято считать, что психоанализом подрывают нарциссизм субъекта, помогая ему пережить свое смещение из центра, зависимость от Другого…
Все это происходит еще до самого́ психоанализа, на так называемых предварительных встречах. Эта «коррекция субъективного отношения», как именует его Лакан, двойная: субъект вынужден признать внутреннюю невозможность в том, что ему кажется случайной помехой, результатом неудачных обстоятельств и – та же процедура в обратном порядке – разглядеть успех в том, что ему представляется неудачей. Достаточно вспомнить риторические фигуры, какими изобилуют теоретические тексты: «Ограничения объема данной книги не позволяют более подробного изложения…», «здесь мы можем себе позволить изложить лишь в общих чертах то, что следует объяснять в гораздо более подробном понятийном рассуждении…» и т. д. – во всех подобных случаях можно не сомневаться, что эти отсылки к внешним, эмпирическим ограничениям суть попытки скрыть внутреннюю невозможность: «более подробное изложение» априори невыполнимо – или, точнее, оно ослабит сам тезис, который требовал якобы более подробного изложения. Показательный случай подобной симптоматической отсрочки – заглавия многочисленных марксистских книг, издававшихся в 1960-е, в которых виден неотвязный страх столкнуться с «само́й вещью»: не встретишь среди них заглавия «Теория идеологии», впрямую, а всегда это вот – «К теории идеологии», «Элементы будущей теории идеологии» и т. п.
Что же до противоположного действия – признания успеха в кажущемся поражении: не будем полагаться на типовой пример – оговорки, в которой являет себя истинное желание субъекта, а обратимся к политико-идеологической сфере. Официально «социалистическое» образование в коммунистической Восточной Европе стремилось создать нового Человека-Социалиста – честного, приверженного общественному благополучию, жертвующего узкими частными интересами во имя будущего и т. д. Настоящий результат такого образования, разумеется, – циничный индивид, который, публично участвуя в официальном идеологическом ритуале, оставался внутренне отстранен, насмехался над идиотизмом социалистической идеологии и ограничивал свой подлинный интерес личными удовольствиями. Если оценивать по заявленным целям, «социалистическое образование» было чудовищной неудачей. А что если истинная цель была именно в создании такого деполитизированного циничного индивида, поскольку он – как раз то, что надо для воспроизведения существующих соотношений сил? Куда опаснее циника был бы кто-нибудь, наивно верящий в систему: поскольку такой человек склонен воспринимать все дословно, он уже наполовину диссидент. Я лично был знаком с одной женщиной из бывшей Югославии, которая потеряла работу в ЦК из-за своей искренней веры в самоуправление: циничные партийные бюрократы сочли, что она представляет для них угрозу…
Не возвышенный ли вариант полного унижения, «десубъективации», описанной Оруэллом, среди прочего, в романе «1984», показательный случай которого в «действительности» – чудовищный судебный произвол при Сталине, – подобная нарциссическая потеря, или, скажем резче, «субъективная нищета»? Не означает ли она сдвиг, вынуждающий субъекта отказаться от внутреннего ядра его или ее достоинства?
Отчего ж нет? В психоанализе, если совсем точно, все еще хуже, чем при Сталине. Да, нам приходится отказываться от тайного сокровища в себе самих, от агальмы, которая дарует нам наше глубинное достоинство – все самое дорогое персонализму; да, мы вынуждены пережить преобразование нашего сокровища в «дерьма кусок», в смердящий экскремент – и отождествиться с ним. Однако – и как раз поэтому в психоанализе все еще хуже, – анализант должен завершить это преобразование самостоятельно, без ссылки на кошмарные обстоятельства.
«Субъективную нищету», связанную с позицией аналитика qua объекта а, можно проиллюстрировать историей из жизни американского довоенного Юга. В борделях тогдашнего Нового Орлеана черного слугу не держали за человека, и потому пару белых – проститутку и ее клиента – нимало не побеспокоило, когда в комнату входил слуга с напитками: они попросту продолжали совокупляться, поскольку взгляд слуги за взгляд человека никто не считал. В некотором смысле то же и с аналитиком: разговаривая с ним, мы отрясаем всякий стыд и способны доверить ему самые сокровенные свои любови и ненависти, хотя наши отношения с ним полностью «безличные», в них нет близости настоящей дружбы.
Диалектика близости вообще чрезвычайно интересна: когда в залитой луной тьме мы с моим партнером предаемся чувственной страсти, подлинная половая близость не достижима – я куда сильнее открываюсь своему партнеру, когда выказываю интимность своего удовольствия его или ее взгляду, отстраненному от меня. Vulgari eloquentia, когда я позволяю ему или ей наблюдать за мной, пока я мастурбирую, мне нужно гораздо больше доверять партнеру, нежели при совокуплении с ним или с нею. Вероятно, поэтому Брехт предпочитал неодновременный оргазм: сперва ты, чтобы я на тебя смотрел, а потом можешь поглядеть, как дохожу до пика я сам… В этом потребно доверие, поскольку я обнажаюсь перед опасностью, что есть во взгляде наблюдающего партнера – для безразличного же наблюдателя я вдруг сделаюсь смешон: половой акт неизбежно кажется бессмысленным повторением механических движений, сопровождающихся мучительными вздохами. Чтобы половой акт показался нелепым, довольно отстраниться от его на Форманово расстояние – я имею в виду процедуру «отстранения», которую Милош Форман применял в своих ранних чешских фильмах; этот прием основан на «недоброжелательной бесстрастности камеры». Сам Форман вызвал сдвиг в нашем восприятии, какой бывает, когда из-за каких-то технических неполадок вдруг отказывает звук в телевизоре: пылкая речь политика или потрясающая оперная ария внезапно превращаются в абсурдное комическое кривлянье и взмахи руками…
Но давайте вернемся к уникальной фигуре аналитика. Аналитик «безличен» еще и в том, что он полностью отвечает за следствия своих слов. Когда результат нашего поступка – противоположность того, на что мы рассчитывали, мы, обычные люди, каждый со своими ограничениями, имеем право сказать: «О господи, я совсем не этого хотел!»; аналитик же, напротив, – некто, кому «Я не этого хотел!» никогда не дозволено. Поэтому аналитический дискурс как общественная связь – нечто исключительное и чрезвычайно удивительное. Необычайно в нем не то, что он может исчезнуть, а его возникновение.
Как «субъективная нищета» влияет на положение Хозяина?
В одном из недавних романов-триллеров фасона «корпоративный кошмар», «Виртуальный босс»[295], компанией управляет компьютер (сотрудники – в неведенье), который вдруг «слетает с катушек», выходит из-под контроля и начинает принимать меры против старших управленцев (подстраивает конфликты между ними, отдает приказы об увольнении и т. д.); наконец он приводит в действие смертельный план против своего же программиста… «Правда» этого сюжета в том, что Хозяин в некотором смысле всегда виртуален, это случайный человек, занимающий предписанное место в структуре, а игру на самом деле ведет «большой Другой» qua безличная символическая машина. Вот что приходится принимать во внимание Хозяину через опыт «субъективной нищеты»: что он, Хозяин, по определению самозванец, безмозглый, ошибочно воспринимающий за следствия своих решений то, что происходит из-за автоматического действия символической машины.
В конечном счете то же самое относится к любому субъекту: Альтюссер в своей автобиографии пишет, что его всю взрослую жизнь преследовала мысль, будто он не существует, страх, что другие узнают о его не-существовании, т. е. о том, что он – самозванец, который лишь притворяется, что существует. Величайший страх Альтюссера после издания «Читать “Капитал”», например, был в том, что какой-нибудь проницательный критик обнаружит скандальный факт, что главного автора этой книги не существует…
В некотором смысле психоанализ – как раз это и есть: психоаналитическое лечение, по сути, завершено, когда субъект теряет страх и свободно принимает свое несуществование. Таким образом, психоанализ – полная противоположность субъективистскому солипсизму: в отличие от представления, что я могу быть уверен лишь в собственных мыслях, а существование действительности вне меня – уже приблизительное допущение, психоанализ утверждает, что действительность вне меня со всей определенностью существует; проблема как раз в том, что не существую я сам…
Именно в этом отношении «субъективная нищета» близко связана с другой ключевой темой Гегеля-Лакана – с «жертвованием жертвой». В одном из жутковатых рассказов Роальда Даля про жену, у которой муж погиб молодым, посвящает ему всю свою жизнь, приняв на себя роль хранительницы его памяти и вознося его до идеализированной утраченной вещи; однако через двадцать лет она случайно обнаруживает, что непосредственно перед смертью ее муж был пылко влюблен в другую женщину и собирался оставить семью… Пустота, в которой обнаруживает себя жена, – «утрата утраты», по Гегелю. Этим интересен фильм Кесьлёвского «Синий», первая часть трилогии «Цвета», в котором жена знаменитого композитора (Жюльетт Бинош), травмированная смертью супруга и сына в автокатастрофе, вдруг обнаруживает, что у мужа была любовница, которая теперь, после его смерти, ждет от него ребенка; нравственная красота фильма зиждется на том, что жена, сделав это неожиданное открытие, не впадает в ярость по отношению к любовнице, а примиряется с ней и даже, в общем, радуется будущему ребенку своего покойного мужа…
Кстати, «Синий» интересен еще и заметной формальной чертой: необычным применением затемнения. Речь вот о чем: обычное затемнение – переход от одной сцены (пространственно-временной непрерывности) к другой. В «Синем» же этот переход осуществляется прямым монтажом; посреди связного разговора изображение говорящего вдруг исчезает, но следующий кадр возвращает нас в ту же сцену. Тут мы имеем дело с лакановской практикой переменного окончания психоаналитической встречи: жест аналитика, возвещающий об окончании встречи, как затемнения у Кесьлёвского, не следует внешне навязанной логике (предписанному пятидесятиминутному промежутку), он случается внезапно, посреди сцены, и потому действует как пояснительный жест sui generis[296], подчеркивая элемент в речи анализанта (или, как у Кесьлёвского, – в речи персонажа на экране) как особенно значимый.
Так, значит, в этой «субъективной нищете» Лакана есть по крайней мере какое-то эхо отказа от «мушки субъективности», т. е. от требования полной самоинструментализации, которую партия Сталина предписывала субъекту? В конце концов большинство лакановцев кружка Жака-Алена Миллера[297], по крайней мере в первом поколении его собратьев по оружию, – бывшие маоисты…
Следует признать открыто, что многая критика якобы «тоталитаристской», «сталинистской» природы лакановских сообществ в значительной мере происходит по аллюзии: да, «дух», структурирующий принцип, выраженный искаженно в сталинизме, обрел подобающую форму в лакановском сообществе аналитиков, в обращении travail du trasnfert, работе переноса, которая возникает во время психоаналитического лечения, в transfert du travail, «перенос работы» qua абсолютного перемещения вовне результатов самоанализа анализанта в «матеме», т. е. теоретической формулировке, освобожденной от малейшей тени «посвящения» и как таковой полностью прозрачной для сообщества аналитиков. Именно в этом смысле passe означает упразднение переноса. Анализант в процессе переноса узнает в любых словах или жестах аналитика de la fabula narratur[298]: «он действительно говорит обо мне, он нацелен на мою агальму, на непостижимую тайну моего существа». Аналитическое лечение завершается, когда анализант способен сформулировать результат анализа в матеме, которая больше не «применима к нему», а в пределе – безлична. В этом и есть ставка passe: сообщить сокровеннейшему ядру нашего существа формулу анонимной «бессмысленности», в которой не отзывается никакая уникальная субъективность.
Выбор неизбежен, т. е. что́ возникает после passe, когда психоанализ завершен? С одной стороны, имеем «обскуранистский» выбор: passe как сокровенный опыт, экстатический миг подлинности, который можно передать от человека к человеку в инициирующем акте коммуникации. С другой стороны, «сталинистский» выбор: passe как акт полного вынесения вовне, посредством которого я безвозвратно отказываюсь от непостижимого драгоценного ядра в себе, делающего меня уникальной сущностью, и отдаюсь без остатка аналитическому сообществу. Подобие лакановского аналитика и коммуниста-сталиниста можно развить еще дальше: к примеру, лакановский аналитик, как и сталинский коммунист, в некотором смысле «непогрешим» – в отличие от обычных людей, он не живет «методом проб и ошибок», ошибка (идеологическое заблуждение) не присуща его речи. И потому, когда он эмпирически «ошибается», причины ошибки – полностью внешние: «усталость», «нервное напряжение» и т. д. Ему требуется не теоретически понять свои ошибки, а просто отдохнуть и восстановить здоровье.
Не означает ли такая «непогрешимость» лакановского аналитика, что лакановский дискурс – полностью подчинен Главным означающим, проникнут им?
Как раз наоборот: как ни парадоксально, это означает, что аналитическое сообщество – единственное, способное обойтись без Главного означающего. Что такое Главное означающее, говоря строго? Означающее переноса. Яркий пример: читая текст или слушая кого-то, мы полагаем, что у каждой фразы есть некий скрытый глубинный смысл, а поскольку загодя этого ожидаем – обычно и находим. Рассмотрим следующий фрагмент из воспоминаний о Витгенштейне Мориса О’Коннора Друри[299]:
Следующий день выдался ясным и солнечным, и мы отправились гулять за холм, в дюны Тулли.
ВИТГЕНШТЕЙН: Какие красивые в этом пейзаже цвета. Даже поверхность дороги – и та цветная.
Дойдя до дюн, мы принялись ходить туда и сюда вдоль моря.
ВИТГЕНШТЕЙН: Совершенно понятно, почему дети любят песок[300].
Вполне обычные, будничные замечания, однако то, как эта цитата выделена, подталкивает нас искать в ней какие-то немыслимые глубины… Иначе говоря, стал бы кто это записывать, произнеси эти слова какой-нибудь престарелый дядюшка-маразматик? Подобные отношения переноса – то, чего сообщество лакановских аналитиков избегает благодаря «непогрешимости»: это сообщество не основывается на том или ином «предполагаемом» знании, а попросту есть сообщество людей, которые знают.
Вкратце: именно «субъективная нищета», полный вывод вовне делает Хозяина избыточным: Хозяин есть Хозяин, лишь поскольку я, его подданный, не полностью вывел все вовне; лишь пока я держу где-то у себя в глубине свою агальму, тайное сокровище, уникальное свойство своей персоны, Хозяин делается Хозяином, признавая во мне мою уникальность. Внутренне свойственная религиозному дискурсу иллюзия, к примеру, – в том, что Бог обращается к каждому человеку по имени: я знаю, что Бог помнит меня лично…
Почему популярная культура?
В том, что вы уже сказали, различимы два лейтмотива вашего подхода к Лакану. Первый состоит в том, что вы не скрываете противоречий Лакана: вы словно всегда начеку относительно внезапных смещений его позиции. Ваш Лакан – теоретик, занятый постоянной полемикой с самим собой, со своими предыдущими высказываниями…
Все верно, фундаментальное допущение моего подхода к Лакану – полная несообразность «синхронного» толкования его текстов и семинаров: единственный способ понять Лакана – подходить к его работе в развитии, как к последовательности попыток ухватить стойкое травматическое ядро. Сдвиги в работе Лакана проявляются, когда сосредоточиваешься на его значительных негативных утверждениях: «У Другого нет Другого», «Желание аналитика – не чистое желание»… Сталкиваясь с подобными утверждениями, всегда задаешься простым вопросом: кто этот идиот, заявляющий, что у Другого есть Другой, что желание аналитика – чистое, и т. д. Есть, разумеется, лишь один ответ: сам Лакан пару лет назад. Единственный подход к Лакану, следовательно, – читать «Лакана contre[301] Лакана» (так назывались семинары Жака-Алена Миллера, 1993–1994 гг.).
Касательно первого утверждения – «У Другого нет Другого», например – следует помнить, что оно возникло у Лакана довольно поздно, в начале 1960-х, как связанное с утверждением противоречивости Другого: «У Другого нет Другого», поскольку у большого Другого, символического порядка, нет окончательного означающего, который гарантировал бы его непротиворечивость. Полная противоположность – высказывание Лакана на его Третьем семинаре («Психоз», 1954–1955), оно в точности о том, что у Другого есть Другой – Имя Отца qua центрального означающего, гарантирующего непротиворечивость символического поля. То же самое относится и к тезису «Желание аналитика – не чистое желание», с последней страницы Одиннадцатого семинара («Четыре основные понятия психоанализа»): это утверждение подразумевает противоречие с Седьмым семинаром («Этика психоанализа»), в котором желание Антигоны определяется именно чистым желанием, т. е. желанием, очищенным от любого «патологического» воображенного содержания, желанием, чей единственный импульс – отсечь означающее [coupure]. Следовательно, желание аналитика тоже определяется как чистое символическое (чистота, по самой природе своей, всегда символическая), т. е. аналитик выступает в роли большого Другого, а не «малого другого», объекта а, чужеродного тела, пятна в символическом порядке.
Напряжение, присущее Седьмому семинару, посвященному этике психоанализа, – из-за отношений между желанием и законом. С одной стороны, «Павлово» представление о противоборствующих, или «трансгрессистских», отношениях между Законом и желанием: отсылкой к Св. Павлу Лакан подчеркивает, что объект становится объектом желания, лишь если он запрещен (инцестуозного желания нет, пока не возникает запрет на инцест, и т. п.) – желание само по себе нуждается в Законе, запрете себя же как препятствии, которое необходимо преодолеть. На более глубоком уровне, однако, есть куда более радикальное понятие прямой тождественности желания и Закона – заявление, что Кантов нравственный Закон есть желание в чистейшем виде. В обоих случаях мы оказываемся «за пределами принципа удовольствия», в сфере стремления, которое неистребимо и добивается своего независимо от благополучия субъекта.
В этом и состоит смысл Лаканова «Кант avec[302] де Сад»: утверждение безграничности желания, по де Саду, связано с императивом, полностью отвечающим строгим критериям нравственного поступка у Канта. Вот как Лакан разрешает противостояние, из которого происходит ось всей истории психоанализа: либо обреченно-консервативное принятие Закона/Запрета, отречения, «подавления» как sine qua non[303] цивилизации, либо намерение «освободить» влечения из-под гнета Закона. Есть Закон, который вовсе не противостоит желанию: Закон самого́ желания, императив, поддерживающий желание, велящий субъекту не отрекаться от его или ее желания, а единственная возможная вина, которую признает этот закон, – предательство желания.
Еще один важнейший сдвиг в учении Лакана касается отношений между бессознательным и языком. Один из классических topoi[304]Лакана 1950–1960-х годов – «ça parle», т. е. «оно говорит»: бессознательное «устроено, как язык», процессы производства снов (стяжение, замещение) соответствуют метафоре и метонимии как двум фундаментальным риторическим фигурам. Впрочем, глубоко значимо, что Лакан никогда полностью не развивает идею об этом подобии – нам достаются лишь обычные приблизительные утверждения, что мы имеем дело с фактом, очевидным любому, кто подходит к этому вопросу открыто, и смутные отсылки к примеру с Синьорелли…
В Десятом семинаре («Еще») Лакан вдруг радикально смещает позицию (вероятно, под влиянием «Discourse, Figure» Лиотара[305]): в lalangue («яязыке») «оно» не говорит – «оно» получает удовольствие; в психоаналитической расшифровке образований в бессознательном мы имеем дело не с толкованием, нацеленном на обретение скрытого значения, а на проявление шифра удовольствия – например, «Gleisamen»[306], формула Человека-крысы, отчетливо выдает матрицу его удовольствия в отношениях с Дамой. Lalangue действует не на уровне дифференцированной структуры означающих, а на уровне игры слов, омонимий и т. д., и поэтому Лакан всегда начеку, высматривает новые понятия, которые могли бы отделить lalangue от порядка означающего – обратите внимание на его неожиданное возвращение к «знаку», использование «буквы» вместо «означающего»…
Кстати, не следует путать удовольствие с наслаждением. Если их противопоставление кажется неотчетливым, вспомним разницу между протестантским и католическим отношением к супружеской неверности. В католических странах адюльтер – пока он скрыт от публичного взгляда – доставляет наслаждение без всякой вины; единственная задача – держать его в тайне, поскольку «кто меньше знает, тот крепче спит». В протестантских же странах, напротив, неверные партнеры чувствуют себя страшно виноватыми, они воспринимают этот поступок как нечто чудовищное, угрожающее нарушить равновесие самой природы, и как раз эта виноватость невероятно усиливает их удовольствие…
Второй лейтмотив вашего подхода к Лакану – одержимость примерами из популярной культуры.
Я прибегаю к этим примерам в первую очередь чтобы избежать псевдолакановского жаргона и достичь максимально возможной ясности не только ради моих читателей, но и для себя самого – идиот, для которого я пытаюсь формулировать теоретическое утверждение как можно отчетливее, в конечном счете, – я сам. Для меня пример из популярной культуры играет ту же функциональную роль, что два passeurs[307] в лакановском процессе passe[308]: в психоаналитическом лечении я, по сути, заявляю, что получил доступ к истине о своем желании, лишь когда я в силах сформулировать эту истину так, что могу втолковать ее двоим passeurs – двоим идиотам, двоим обычным людям, символизирующим присущую большому Другому безмозглость, а им удастся передать ее comité de la passe[309], ничего по пути не потеряв. В более или менее подобном ключе я считаю, что в достаточной мере понимаю некоторые представления Лакана, лишь когда могу успешно перенести их на саму по себе безмозглую популярную культуру. В этом – при полном принятии вынесения вовне в безмозглой среде, в этом предельном отказе от любой инициирующей таинственности – и состоит этика отыскания подходящего слова.
Возьмем понятие Канта о бесконечном суждении; куда показательнее чистого понятийного объяснения простая отсылка к сцене из «Гражданина Кейна», в которой Кейн возражает обвинению, что он-де призывает низшие классы к неповиновению и распаляет в них низменные страсти, – Кейн заявляет, что он просто говорит от их имени и озвучивает их горести, а затем добавляет: «У меня есть умения и средства говорить от их имени – если я не сделаю этого, за это возьмется кто-нибудь другой, без умений и средств!» Короче, отрицание здесь таково: «Если я этого не сделаю, никто от их имени не подаст голос и не озвучит их горестей», а бесконечное отрицание отвергает само по себе обычное допущение положительного и отрицательного суждения – что человеку нужны подобающие умения и средства, если этот человек собрался говорить от лица угнетенных; и потому бесконечное отрицание возвещает о зловещем призраке революции… Или возьмем другое важнейшее понятие Канта – о предельном Зле. Не ключ ли это к «Макбету»? Иными словами, главная тайна «Макбета» – мотивационная пустота главного героя: почему Макбет совершает кошмарное цареубийство, хотя подобающей психологической мотивации у него нет? В начале ХХ века Э. С. Брэдли разрешил эту загадку, когда заметил, что Макбет совершает преступление так, словно это «отвратительный долг»[310].
Одно из распространенных предубеждений относительно теории и примеров из высокого искусства или популярной культуры – в том, что избыточное знание мешает удовольствию. Если смотреть кино с чрезмерной теоретической подкованностью о нем, не испортит ли это спонтанного удовольствия от просмотра?
Самый убедительный аргумент против такого предубеждения – в том, как мы относимся к фильмам нуар или картинам Хичкока: ностальгическое удовольствие уже-всегда теоретически опосредовано. Ныне лишь теория может объяснить нам, как получать от них удовольствие, а если мы беремся за них впрямую, они непременно кажутся нам наивными, нелепыми, «несъедобными»…
Еще одно давнее беспокойство касается якобы неспособности психоаналитического толкования произведений искусства объяснить их особенности – «Даже если бы Достоевский и впрямь был эпилептиком с застарелым комплексом родительской власти, не всякий эпилептик с застарелым комплексом родительской власти – Достоевский»…
Несколько странно рассматривать эту затасканную банальность как упрек Лакану, поскольку apropos куртуазной любви и поэзии трубадуров Лакан говорит в точности то же самое: следует помнить о главном – в эпоху трубадуров субъект имел в своем распоряжении средство в виде поэзии и куртуазную любовь как общественный институт, посредством которого трубадур мог озвучивать, символизировать свои травматические отношения с Дамой qua Вещью. Да, не всякий эпилептик с застарелым комплексом родительской власти – Достоевский; однако мы зря ищем разгадку этой тайны в том, почему великим творцом в пространстве уникальной психики Достоевского стал именно эпилептик-Достоевский; этот ответ следует искать «снаружи», в предельно не-психологической символической системе, которая образовывала пространство его творчества. Эта система решила, что метод формулирования Достоевским его психической травмы должен действовать как великое искусство – легко вообразить, как в другом символическом пространстве того же Достоевского сочли бы бестолковым, глупым писакой.
Фантазия и objet petit a
Ну хорошо, нужно отказаться от фетиша тайного Сокровища, которое сообщает мне мою исключительность, и осуществить предельное выведение внутреннего вовне, в символическую среду. Однако не находит ли уникальность моей личности выход в фантазии, абсолютно частным манером, неуниверсализируемо, так, как я инсценирую желание?..
Да, но чье желание? Не мое. В самой сердцевине фантазии мы имеем дело с отношениями желания у Другого, с непрозрачностью этого желания: желание, инсценированное в фантазии, – не мое, а Другого. Фантазия – способ субъекта ответить на вопрос, какой он объект в глазах Другого, в его желании, т. е. что Другой видит в желающем, какую роль тот играет в желании у Другого? Ребенок, например, стремится разгадать посредством фантазии загадку роли, которую он играет в среде взаимодействий между его матерью и отцом, загадку, как мать и отец ведут свои битвы и сводят счеты посредством ребенка. Вкратце: фантазия есть высочайшее доказательство того, что желание субъекта есть желание у Другого. Как раз на этом уровне нам и необходимо определить версию «Cogito ergo sum»[311] невротика с навязчивыми состояниями: «То, что, как я думаю, я есть, что́ я есть в собственных глазах, для себя, – это я и для Другого, в дискурсе Другого, в моей социосимволической, межличностной сути»[312]. Невротик с навязчивыми состояниями стремится полностью контролировать то, что́ он есть для Другого: он хочет предотвращать – посредством навязчивых ритуалов – желание другого, возникающего предельно чужеродно, как несоизмеримое с тем, что он сам думает о себе.
Ключевая составляющая невроза навязчивых состояний – убежденность, что узел действительности крепок лишь благодаря навязчивой деятельности субъекта: если навязчивый ритуал не произвести хорошенько, действительность распадется. Мы находим такую экономику у древних инков, которые верили, что недостаточные человеческие жертвоприношения приведут к возмущениям в природном равновесии (например, солнце больше не встанет и т. п.), а также у заботливой матери, опоры семьи, убежденной, что после ее смерти семья развалится. («Катастрофа», которой все они пытаются избежать, разумеется, есть не что иное как возникновение желания.) Мы избегаем экономики навязчивых состояний, осознавая, что eppur si muove[313]: ничто от меня не зависит, жизнь продолжается, даже если я ничего не делаю… В этом отношении невротик с навязчивыми состояниями – прямая противоположность истерику; невротик верит, что все зависит от него лично, он не может смириться с фактом, что его исчезновение мало что изменит в обычном ходе вещей, тогда как истерик считает себя безучастным наблюдателем, жертвой неудачных обстоятельств, не зависящих от его воли, – этот не может смириться с тем, что обстоятельства, которых он жертва, могут воспроизводиться лишь через деятельное участие истерика.
Вернемся к понятию фантазии: первым делом следует избавиться от упрощенного представления о фантазии как идеализированном образе, скрывающем кошмарную действительность, – «корпоративистская фантазия гармоничного общества без противостояний», например. «Фундаментальная фантазия», напротив, – сущность чрезвычайно травматическая: она описывает отношения субъекта к удовольствию, к травматическому ядру своего существа, к чему-то, что субъект никогда не способен признать целиком, с чем познакомиться, что встроить в свою символическую вселенную. Публичное обнародование этого травматического ядра влечет за собой невыносимый стыд, из-за которого происходит афаниз, самоуничтожение.
Объект фантазии – это знаменитый objet petit a…
Следует всегда помнить, что objet petit a возникает, чтобы устранить тупик поиска субъектом поддержки большого Другого (символического порядка). Первый же ответ, конечно, таков: в означающем, т. е. отождествление себя с означающим в большом Другом, которое далее являет субъекта для других означающих. Однако, раз большой Другой сам по себе противоречив, не-всё, обустроен вокруг пустоты, внутренней несостоятельности, у субъекта есть возможность найти нишу в Другом, отождествившись с самой этой пустотой в нем, с точкой, в которой Другой несостоятелен. Objet petit a позитивирует, придает вещественность этой пустоте в Другом: мы имеем дело с объектом там, где слово несостоятельно.
Лаканово представление об объекте а, таким образом, переворачивает привычное понятие о символическом порядке (означающем) как силе-посреднике, помещающей себя между субъектом и действительностью объектов: по Лакану, субъект и Другой накладываются друг на друга в объекте (или, говоря в понятиях теории множеств: объект есть пересечение $ и большого Другого). «Объект» овеществляет пустоту, которая есть субъект qua $, и пустоту, что зияет внутри большого Другого. Тут мы вновь сталкиваемся с топологией «искривленного» пространства, где внутреннее совпадает с наружным: отождествление с объектом – не внешнее по отношению к Символическому, это отождествление с экстимным ядром самого Символического, с тем, что в символическом есть больше чем символическое, с пустотой в самой его середине.
Первое, о чем никогда не следует забывать касательно объекта а, как это часто бывает с категориями у Лакана: мы имеем дело с понятием, которое содержит и себя, и свою противоположность и/или маскировку. Объект а – одновременно и полное отсутствие, пустота, вокруг которой вращается желание, и как таковой есть причина желания, а также воображаемая составляющая, которая скрывает эту пустоту, делает ее незримой, заполняя ее. Фокус в том, конечно же, что пустоты нет – без элемента, заполняющего ее: заполнитель питает то, что маскирует.
В отличие от чистого «этого», объекта без свойств, а – целый набор свойств, у которых нет бытия. В блистательном очерке Стивена Джея Гулда[314], лакановского биолога – если такой вообще возможен, – экстраполируется до абсурда долгосрочная тенденция в отношениях цены и массы шоколадного батончика «Херши». Некоторое время цена не меняется, а масса одного батончика постепенно уменьшается; затем цена вдруг подскакивает, а с ней – и масса, но она все равно меньше, чем то, что нам досталось при предыдущем росте цен… Изменение массы шоколадного батончика во временно́м интервале, таким образом, представляет собой зигзаг: сначала масса постепенно снижается, затем внезапно растет, потом вновь постепенно снижается и т. д., в долгосрочной перспективе – общее снижение. Экстраполируя эту тенденцию до бессмысленного предела, можно рассчитать не только точный миг, когда масса достигнет нуля, т. е. когда в продаже появится красиво обернутая пустота, но и сколько она будет стоить. Эта пустота, которая, тем не менее, красиво обернута и имеет определенную цену, – практически идеальная метафора Лаканова объекта а.
Именно в этом смысле объект а – анальный. В теории Лакана анальный объект обычно представляется как означающий элемент: по сути, значение имеет лишь роль дерьма в межличностной экономике – действует ли оно как доказательство для Другого, что у ребенка имеются самоконтроль и дисциплина, что ребенок подчиняется требованиям Другого, или как подарок Другому?.. Однако, до символического статуса подарка и т. п. экскремент есть объект а в точнейшем смысле несимволизируемого излишка, остающегося после того, как тело символизировано, вписано в символическую систему: проблема анальной стадии – именно в том, как мы избавляемся от этого излишка. Поэтому Лаканово утверждение, что животное стало человеком, когда столкнулось с проблемой, куда девать свои экскременты, имеет смысл воспринимать буквально и всерьез: чтобы этот неприятный излишек стал проблемой, тело должно сначала быть встроено в символическую систему.
Не менее важно не путать objet petit a с обычным материальным объектом. Даже в конце 1950-х Лакан проводил различие между обычным и возвышенным телом – различие, лучшим примером которому будет, вероятно, монахиня. Монахиня полностью отказывается от положения полового объекта для другого человека, но этот отказ, однако, относится к ее обычному, материальному телу, позволяя ей еще более пылко предлагать свое возвышенное тело, то, которое есть «большее, чем она сама», Богу qua абсолютному Другому.
Необходимо учитывать предельный межличностный статус объекта а: он есть нечто «во мне большее, чем я сам», которое другой видит во мне. Джоан Беннетт в «Тайне за дверью» (1948) Фрица Ланга именно так описывает свой травматический опыт, полученный ею, когда за ней наблюдал Майкл Редгрейв: «Я внезапно почувствовала, что на меня кто-то смотрит… Почувствовала, как взгляд прикасается ко мне, будто пальцами. Между нами тек электрический ток. Теплый и сладкий. И пугающий. Потому что он видел под моим макияжем то, чего никто прежде не видел. То, о чем я сама не догадывалась». Она не догадывалась – и смогла осознать это лишь посредством взгляда другого человека.
Не лучший ли пример объекта а – хичкоковский объект…
…какой встречается не только у Хичкока, но и там, где не ожидаешь с ним столкнуться, – в «Парке юрского периода» (1993), например. Критики в основном отмахнулись от «Парка юрского периода» как от спектакля с техническими наворотами, в котором, кроме спецэффектов, нет ничего интересного, а межсубъектные отношения персонажей – выхолощенные и неразвитые. Но так ли это? А что если и здесь зло содержится в самом взгляде того, что воспринимает зло, т. е. а ну как пренебрежение к «Парку…» как к техно-китчу говорит не столько о качестве фильма, сколько об ограниченности критического взгляда на него?
Первая черта, из-за которой нам следует быть внимательнее, – необычайная статичность этого фильма: действие довольно быстро «застревает» на одном месте, а динозавры всё нападают и нападают. Если «Парк…» – спектакль, тогда он представляет парадокс спектакля камерного. Иначе говоря, я считаю, что «Парк юрского периода» – камерная драма о травме отцовства, в стиле ранних Антониони или Бергмана. Эта грань делается зримой, если направить внимание на хичкоковский объект в этом фильме: коготь динозавра, который Сэм Нилл являет в первой же сцене, чтобы усилить словесный удар в отношении мальчишки, доставшего вопросами. Этот коготь в роли хичкоковского объекта (у Крайтона в романе ее не было, Спилберг добавил) суммирует драму родительства у Нилла, его отказ принять на себя функцию отцовства. И что как не тот же объект – нападающие динозавры, просто раздутый до оживших чудищ и воплощает «сверх-я» отца, т. е. отцову разрушительную ярость, направленную на отпрыска (аналогично тому, как это происходит у Хичкока в «Птицах» (1963), где птицы воплощают материнское «сверх-я»)?
По этой причине еще одна ключевая сцена «Парка…» происходит, когда после стычки со злыми плотоядными динозаврами, Нилл и двое детей прячутся на громадном дереве. Там, в безопасности ветвей, Нилл примиряется с ними и принимает свое отцовство, свою символическую роль как отца – о его преображении нам сообщают так: когда все трое уснули, крошечная кость, объект зла, выскальзывает у Нилла из кармана, падает и теряется из виду. Неудивительно, что на следующее утро атмосфера чудесным образом меняется – воцаряется безмятежный мир: динозавры, подбирающиеся теперь к дереву, – хорошие, травоядные, поскольку отцовская ярость миновала. В понятиях межличностной символической экономики фильм завершается здесь, а все, что далее следует, – мешанина обрывков из других жанров, у которой нет никакого связного либидинального воздействия.
К тому же совершенно не трудно установить связь между «Парком…» и другими фильмами Спилберга, поскольку большинство из них – от «Империи солнца» (1987) до «Списка Шиндлера» (1993) – сосредоточены на травме отцовства. Возьмем «Инопланетянина» (1982): что как не «исчезающий посредник» – сам инопланетный пришелец, который дает семье без отца возможность стать полной (пришелец появляется в семье, из которой ушел отец – сбежал в Мексику с любовницей; в конце фильма «хороший» ученый отчетливо занимает место будущего отца – он уже обнимает мать за плечи…)?
Чем objet petit a отличается от первородной Вещи?
Вероятно, лучше всего различать их посредством отсылки к философской разнице между онтологическим и онтическим. Положение Вещи – чисто онтическое, она означает неуничтожимый избыток онтического, ускользающий от Lichtung, т. е. от онтологического просвета, в котором возникают сущности: Вещь есть парадокс онтического «икс», поскольку оно еще не «внутримирная» сущность, возникающая в пределах трансцендентально-онтологического горизонта. Положение же объекта а, напротив, – чисто онтологическое, т. е. а как предмет фантазии – это объект, который есть пустая форма, рамка, определяющая статус позитивных сущностей. (Так и следует толковать Лаканово утверждение, согласно которому фантазия – последняя поддержка нашего «чувства действительности».) В этом состоит загадка отношений между Вещью и объектом а: как излишек онтического сверх его онтологического горизонта может превратиться в излишек онтологического; как может изобилие Реального превратиться в чистое отсутствие, в объект, который совпадает со своим же отсутствием и как таковой сохраняет внутри себя просвет, где могут возникать онтические сущности?
Психоанализ, марксизм, философия
Ну вот мы и добрались до философии. Первое впечатление, возникающее от ваших работ, – в том, что они стремятся воскресить фрейдомарксизм, явно устаревшую, отвергнутую затею…
Связь между марксизмом и психоанализом достаточно оправдана параллелью между марксистским политическим и психоаналитическим движениями. В обоих случаях мы имеем дело с парадоксом просвещенного (не традиционалистского) знания, основанного на отношениях переноса к непревзойденной фигуре основателя (Маркса, Фрейда): знание не развивается постепенным опровержением и переформулированием исходных утверждений, а последовательностью «возвращений к… (Марксу, Фрейду)». В обоих случаях мы имеем дело с полем знания, которое врожденно антагонистическое: ошибки здесь не просто внешние по отношению к истинному знанию, они не что-то, что можно взять и отбросить, когда мы доберемся до истины, и как таковые имеют чисто исторический интерес, т. е. не зависят от текущего состояния знания (так же и в физике, биологии и т. д.). В марксизме – и в психоанализе – истина буквально проявляется в ошибках, и поэтому в обоих случаях борьба с «ревизионизмом» есть неотъемлемая часть самой теории. Вся «структура» отношений между полем знания и субъективностью «ученого», связанного с ним, резко отличается от современной позитивистской науки, а также и от традиционных форм знания (мудрости в посвящении и т. д.).
Говоря коротко, в марксизме – как и в психоанализе – мы сталкиваемся с тем, что Альтюссер называл topique, тематический характер мысли. Эта тематичность касается не исключительно – и даже не в первую очередь – того, что объект мысли до́лжно воспринимать как совокупное Целое частностей, которое нельзя свести к некому общему подлежащему Основанию (затейливое взаимодействие между базисом и надстройкой в марксизме, «я», «сверх-я» и «оно» – в психоанализе). «Тематичность» в первую очередь относится к тематическому свойству самой «мысли»: теория – всегда часть стечения обстоятельств, в которые она вмешивается. «Объект» марксизма – общество, но «классовая борьба в теории» означает, что, в конечном счете, тема марксизма – «материальная сила идей», т. е. то, как сам марксизм qua революционная теория преобразует свой объект (приводит к возникновению революционного субъекта и т. д.). Как и в психоанализе, который тоже не просто теория своего «объекта» (бессознательного), а теория, чей внутренний режим существования связан с преобразованием ее объекта (через толкование в процессе психоаналитического лечения).
Обе теории, следовательно, совершенно оправданно отвечают своим критикам тем, что внешний взгляд неизбежно неправильно воспринимает как случай petitio principii[315]: противостояние марксизму – не просто опровержение ошибочной теории, которая применяет нейтральные инструменты рациональной аргументации, а сама при этом есть часть классовой борьбы, и сопротивление правящей идеологии революционному движению – как и сопротивление психоанализу, который сам участвует в механизмах подавления…
Вкратце: «тема» теории полностью признает короткое замыкание между теоретическими рамками и элементом внутри этих рамок: сама теория есть частный случай всеобщего, которое есть его же «объект». Поэтому марксизм и психоанализ – показательные случаи мысли, стремящейся постичь свои же ограничения и зависимость, мысли, которая постоянно ставит вопрос собственной позиции формулирования. В отличие от удобной эволюционной позиции – вечно готовой признать ограниченность и относительность собственных утверждений, но вещая с безопасного расстояния, позволяющего релятивизировать всякую конкретную форму знания, – марксизм и психоанализ «непогрешимы» на уровне сформулированного содержания, в точности потому, что они постоянно ставят под сомнение само то место, из которого вещают.
Мой единственный упрек Альтюссеру состоит в том, что Альтюссер слеп ко внутренней связи между утверждением «тематичности» мысли и гегельянской проблематикой «самосознания» qua рефлективной вписанности деятельности субъекта в его объект: Альтюссер, очевидно, – жертва чудовищно несообразного представления о самосознании (полная прозрачность субъекта для себя самого и т. д.).
Отношения между марксизмом и психоанализом, тем не менее, отмечены неустранимым напряжением. Что же, с точки зрения лакановского психоанализа, все еще живо в марксизме?
Первым делом нужно перевернуть привычную форму вопроса «Что все еще живо ныне в философе Х?» (как Адорно уже сделал относительно скучного и высокомерного названия книги Кроче[316] «Что живо, а что мертво в Гегеле?»). Куда интереснее вопроса, что в Марксе живо и поныне, что́ Маркс значит в наше время, вопрос о том, что наш современный мир означает для Маркса.
Ключевое теоретическое достижение Маркса, позволившее ему озвучить неустранимую неравновесность капиталистического общества, состоит в понимание того, как сама логика Общего, формального равенства, связана с материальным неравенством – не как с пережитком прошлого, который постепенно исчезнет, а как со структурной необходимостью, вписанной в само формальное понятие равенства. Между буржуазным принципом равенства перед законом, равноценного обмена между свободными индивидами, с одной стороны, и материальной эксплуатацией и классовой борьбой – с другой, нет противоречия; они суть необходимый ингредиент универсализированного равноценного обмена (поскольку в этой точке универсализации рабочая сила сама становится активом, которым можно обмениваться на рынке). Вот что имеет в виду Лакан, говоря, что Маркс открыл симптом.
Как (лакановский) психоанализ связан с философией на более общем уровне? Почему ему нужна связь с философией – если она есть?
Лакан не стремится ни к «философскому обоснованию психоанализа», ни к обратной операции – психоаналитическому «вскрытию» философии как параноидно-мегаломаническому заблуждению; он нацелен на нечто куда более точное: на аналитический дискурс как своего рода «исчезающего посредника» между традиционной, дофилософской вселенной мифа и философской вселенной логоса. В Восьмом семинаре («Перенос») Лакан показательно раскрывает это apropos Сократа как начала философии. Сократ – по крайней мере, Сократ из ранних диалогов Платона, который говорит о единственном своем знании – что он не знает ничего и подлинно разбирается лишь в вопросах любви, – впервые занимает позицию аналитика: вовсе не предоставляя своему напарнику по диалогу – субъекту, который утверждает, будто знает или же считает, что знает, – истинного знания, он лишь указывает собеседнику на противоречия в его рассуждениях, на то, что претензии собеседника на знания – лишь видимость; скажем точнее: Сократ вынуждает собеседника признать, что его желание (Истина) не гарантировано в самой Истине, и потому ответственность за все сказанное ложится на него.
Сократово «невежество», следовательно, – не просто незнание простого смертного, для которого вечная Истина-Логос недоступна, оно означает противоречие в поле самого Логоса: Сократ не говорит из позиции полной Истины; место, которое занимает Сократ, – противоречие, дыра в Логосе. Этот переход, промежуточный опыт того, что – много позже – Лакан назвал «не-существованием большого Другого», опытом «запретного Другого», делается незримым, как только большой Другой, так сказать, исцеляет свои раны и являет себя как гарантию Истины. Психоанализ – а точнее, позиция аналитика, – таким образом, играет роль экстимного ядра философии, отверженного основывающего поступка.
В современной философии «метафизику» обычно воспринимают как своего рода завершенность: следует превзойти ее – или, по крайней мере, «пройти насквозь» и проникнуть до самых ее корней. Но даже те, кто с готовностью признает, что простой выход неосуществим (Деррида), цель по-прежнему – постоянное превозмогание этой завершенности…
А вдруг глубинный импульс в метафизике сохраняется в само́м стремлении превозмочь завершенность метафизики – а ну как, иными словами, этот импульс состоит в само́м движении к мета-, за пределы данной сферы, воспринимаемой как завершенность? Скажем так: может, единственный способ по-настоящему шагнуть за пределы метафизики – именно отказаться от порыва превзойти ее и полностью и безусловно согласиться с этой завершенностью?
Децентрированный субъект
Почему Лакан, вопреки любым «деконструктивистским» работам Хайдеггера, Дерриды и пр., придерживается понятия субъекта?
Вся традиция, начиная с до-философии (Парменид: «думать и быть – одно и то же») до Хайдеггеровой постфилософии («бытие-в-мире»), полагается на своего рода первобытное «согласие» между мыслью («человеком») и миром – даже у Хайдеггера Дазайн[317] есть всегда-уже «в» мире (или, как говорит сам Хайдеггер в своем знаменитом перевороте Канта: позор не в том, что задача нашего перехода от идей или представлений у нас в уме к объективной действительности остается нерешенной, а в том, что этот переход вообще видится задачей, поскольку по умолчанию предполагает, будто субъект от мира отделяет непреодолимое расстояние…).
Лакан, однако, настаивает, что наше «бытие-в-мире» есть следствие определенного первобытного выбора: психотический опыт говорит о том, что вполне можно не выбирать мир, поскольку субъект-психотик – не «в мире», у него нет просвета [Lichtung], открывающего мир. (Поэтому Лакан устанавливает связь между Lichtung Хайдеггера и Bejahung Фрейда, первобытное «да», утверждение бытия, противопоставленное психотическому Verwerfung[318].) Короче говоря, «субъект» означает этот первобытный невозможный-навязанный выбор, посредством которого мы выбираем (или нет) быть «в мире», т. е. существовать как «там» бытия.
Где в философии мы впервые сталкиваемся с «децентрированным», «запретным» субъектом?
У Канта. Ключ к «децентрированности» Кантова субъекта – в его представлении о трансцендентальном объекте. Хорошо известно, что трансцендентный объект – пустая форма единства объекта, отсылка к которой преобразует множество чувственных воздействий в детерминированный и самотождественный объект – возможен лишь на фоне единства осознанного восприятия чистого «я»: трансцендентальный объект в некотором смысле тождественен «я», это само «я» – первобытный синтез, который и «есть» «я» – в его внешнем положении, под видом объективности, противопоставленной «я», или же, по словам Гегеля, в его инакости. Если же, однако, мы стремимся раскрыть тайну трансцендентального объекта, обращения к факту, что трансцендентальный объект строится на модели единства «я», недостаточно; настоящая – гегельянская – загадка состоит, скорее, в том, почему трансцендентальный объект вообще возникает, т. е. почему я противопоставляю его ему же под видом внешнего объекта, почему он проецирует свою же тень наружу?
Единственный непротиворечивый ответ связан с радикальным расщеплением «я»: в противовес тому, что время от времени утверждает сам Кант, следует безусловно продолжать различать «я» чистого осознанного восприятия и его ноуменальную поддержку, субъект qua Вещь: отношения трансцендентального «я» чистого осознанного восприятия с феноменальным «я» – это не отношения ноуменальной и феноменальной сущностей. И именно по этой причине – потому что «я» недоступно для себя самого qua Вещи – «я», так сказать, внутренне настроен проецировать свое же единство вовне. Иными словами, первородный Objekt – это не Gegen-Stand[319], а само «я» как Вещь.
Разве эта задача уже не решена в Кантовом опровержении (эмпирического) идеализма, посредством которого он показывает, что внутреннее озарение, по самому этому понятию, неизбежно возникает после внешнего: если мне нужно озарение о себе самом qua феноменальном «я», мне следует сначала отнестись к «внешней» действительности посредством своего чувственного озарения?..
Нет, потому что мы здесь имеем дело с отношениями между внутренним и внешним озарениями, т. е. между двумя эмпирическими-феноменальными сущностями. Фихте, непосредственный продолжатель дела Канта и его критик, указал бы на то, что эмпирическое/конечное «я», разумеется, зависит от внешней объективности, от «не-я», противопоставленного «я», и все же абсолютное «я» определяется тем, что оно превосходит свою противоположность. Проблема Канта, напротив, – в том, как и почему трансцендентальный объект qua умопостигаемая сущность есть обязательная пара не эмпирическому «я», а «я» чистого осознанного восприятия. Я считаю, что Кант достигает прозрения этой парности – того, что нет никакого «я» чистого осознанного восприятия без его объектной пары, – именно в отношении его отказа от интеллектуального озарения, т. е. в отношении его настояния, что при самосознании «я» не получает доступа к себе qua Вещи.
С позиции общего знания подобное представление о самосознании не может не показаться странным. Почему? Потому что большинство из нас – все еще жертвы неискоренимого предубеждения, которое сводит самосознание к проблематике позднейшего немецкого идеализма XIX века, в которой самосознание воспринимается как «самонаблюдение», т. е. субъект обращает взор внутрь и делает себя объектом собственного озарения. Следует вновь и вновь подчеркивать, что Кантово самосознание состоит из пустого формального движения рефлексии, которая не имеет вообще ничего общего с психологическим самонаблюдением[320].
Трансцендентальный объект, стало быть, – кантианская версия Лаканова objet petit a?
Да. И блестящее доказательство тому – Кантова теория схематизма: почему априорные категории обязаны быть «схематизированы» через их соотнесенность со временем, если они упорядочивают множество чувственных воздействий в действительность? Иными словами, загадка схематизма – в том, что он, в некотором смысле, избыточен: если наш опыт всегда-уже упорядочен через трансцендентальные категории, если у него никогда не бывает «чистого» состояния (поскольку без участия этих категорий он уже и не опыт вообще), не есть ли Кантово соображение – состоящее в противопоставлении чувственного опыта и категорий, а затем в попытке решить задачу, как нам применять категории к опыту, – показательный случай застревания в псевдопроблеме?
И все же, чтобы убедиться в неизбежности схематизма, достаточно обратить внимание на параллель между схематизмом как посредником между категориями разума и опыта у Канта и фантазии как посредника между чисто формальным символическим порядком и действительностью – у Лакана. Иначе говоря, загадка фантазии строго подобна загадке схематизма: если наш опыт действительности всегда-уже структурирован символическим порядком, если он никогда не бывает в чистой до-символической «девственности» (поскольку как таковой это будет опыт не действительности, а невозможного Реального), тогда противопоставив наш опыт действительности символическому порядку и попытавшись решить задачу «применения» символической системы к действительности, мы ввяжемся в искусственную, придуманную псевдопроблему…
Лакан, однако, дает ключ к этой загадке, мысля фантазию как жестко связанную с противоречивостью, «несостоятельностью» большого Другого – символического порядка. Схематизм нужен именно из-за этой «несостоятельности» трансцендентальной системы; его необходимость доказывает, что сама трансцендентальная система ограничена горизонтом конечности и/или временности субъекта. Вовсе не эдакая дополнительная лестница, позволяющая нам преодолеть разрыв, отделяющий наш конечный чувственный опыт от царства сверхчувственных категорий чистого разума, схематизм говорит о гораздо более радикальном расщеплении: разрыв, отделяющий сам априорный трансцендентальный порядок от ноуменальной сферы. Иначе говоря, схематизм свидетельствует: то, что мы испытываем как сверхчувственную сферу чистого разума, совершенно чужеродно относительно недоступного ноуменального порядка – мы, конечные субъекты, всегда имеем дело со Сверхчувственным так, как оно проявляется в пределах нашей конечности/временности.
Вы всегда настаиваете на близких отношениях между Кантом и Гегелем, на том, что Гегель «куда больший кантианец, чем сам Кант», в том, что «в Канте больше, чем сам Кант»; почему же тогда Гегелевы слова о Канте – это и высочайшие похвалы (Кант есть первый философ, сформулировавший истинный умозрительный принцип и т. п.), и страшнейшие хулы?
Гегель бранит Канта больше, чем любого другого философа, – хоть до-критических метафизиков, хоть Фихте с Шеллингом – по той же причине, какая подталкивает истинного сталиниста ругаться на троцкистов больше любого буржуазного либерала: потому что троцкист в некотором смысле гораздо ближе. Гегель бесится именно потому, что Кант, добравшись до умозрительного принципа, совершенно не разглядел истинного масштаба своего же достижения и поддерживал худшие метафизические предубеждения.
Лакан и Гегель
Перейдем к Гегелю. Есть одно наивное возражение к Гегелю, которое, впрочем, трудно парировать: что «приводит в движение» диалектический процесс? Почему этот «тезис» не просто существует в своей позитивной тождественности самому себе? Почему он устраняет свою самопослушную сущность и открывается опасностям негативности и опосредованности? Короче говоря, не попал ли здесь Гегель в заколдованный круг? Удалось ли ему устранить всякую позитивную сущность лишь потому, что он мыслит ее как нечто заведомо опосредованное негативностью?
Неувязка состоит в одном внутреннем допущении этого возражения: будто есть нечто, подобное полной непосредственности этого «тезиса». По Гегелю же, напротив, никакого «тезиса» нет (в смысле полной тождественности самому себе и органического единства отправной точки). Иначе говоря, одна из иллюзий, присущих обычному толкованию Гегеля, касается представления, что диалектический процесс так или иначе развивается от того, что непосредственно дано, из полноты к опосредованности, – скажем, от наивного, не рефлектирующего сознания, которое осознает лишь объект напротив, до самосознания, заключающего в себе осознание собственной деятельности, противопоставленной объекту.
Гегелева «рефлексия», однако, не подразумевает, что за сознанием возникает самосознание, т. е. что в некоторый миг сознание как по волшебству обращает взгляд внутрь, к себе, и делается самому себе объектом, тем самым создавая рефлективное расстояние, расщепление на объект и прежде непосредственное единство. Мысль Гегеля же, опять-таки, – в том, что сознание всегда-уже сознает себя: нет сознания без хотя бы минимальной рефлективной самоотнесенности субъекта. В этом Гегель противостоит Фихте и Шеллингу и, в некотором смысле, возвращается к Канту, для которого трансцендентальное осознанное восприятие «я» – обязательное внутреннее условие, при котором «я» способно осознавать объекты.
Переход от сознания к самосознанию, таким образом, связан со своего рода несостоявшейся встречей: в тот самый миг, когда сознание берется стать «полностью» осознающим свой объект, когда пытается перейти от смутных предощущений о его содержимом к ясному представлению, оно вдруг обнаруживает себя в пространстве самосознания, т. е. оказывается вынуждено выполнить акт рефлексии и принять во внимание собственную деятельность, противопоставленную субъекту. В этом состоит парадокс пары «вещь в себе» – «вещь для себя»: мы имеем дело с переходом от «еще нет» к «всегда-уже». В вещи в себе сознание (объекта) еще не полностью осуществлено, оно остается смутным предвкушением себя, а в вещи для себя сознание в некотором смысле уже осуществило переход, и полное понимание объекта вновь затуманено – из-за осознания субъектом его собственной деятельности, которое одновременно и делает возможным доступ к объекту, и мешает ему. Короче говоря, сознание подобно черепахе в лакановском толковании парадокса Ахилла и черепахи: Ахилл запросто опережает черепаху, но при этом не может ее догнать.
Еще один способ предложить тот же довод – подчеркнуть, что переход от сознания к самосознанию всегда связан с переживанием неудачи, бессилия: сознание обращает взгляд внутрь, на себя, начинает осознавать собственную деятельность, лишь когда не удается прямое, незатрудненное постижение объекта. Достаточно вспомнить процесс познания: сопротивление объекта познанию вынуждает субъект признать «иллюзорность» природы его знания – то, что он принял за «вещь в себе» объекта, есть на самом деле его толкования.
А как же телеология Гегеля, его понятие о Предназначении как внутреннем стимуле диалектического процесса? Разве это не выраженный идеализм?
Вместо того, чтобы повторять, как попугай, затасканные фразы о гегельянской телеологии Понятия, управляющего процессом своего же воплощения, имеет смысл потрудиться и внимательно прочесть раздел по телеологии во второй части «Субъективной логики» Гегеля[321]. Первая неожиданность, с которой мы столкнемся: в триаде Целей, Средств и Объекта настоящее единство, сила-посредник – не Цель, а Средство. Средство на самом деле управляет всем процессом, оно промежуточно между Целью и внешним Объектом, в котором воплотится/осуществится Цель. Цель, таким образом, вовсе не значимее средства и Объекта: Цель и внешний Объект – две объективизации средства qua подвижной среды негативности.
Вкратце: вывод Гегеля – в том, что Цель, в конечном счете, есть «средство самого средства», которое установлено самим средством же для того, чтобы запустить свою посредническую деятельность. (То же и со средствами производства у Маркса: производство материальных ценностей есть, конечно же, средство, чья цель – удовлетворять нужды человека; однако на более глубоком уровне само это удовлетворение человеческих нужд есть средство, самоустановленное средствами производства, чтобы привести в движение свое же развитие – истинная Цель всего процесса развития средств производства как утверждения власти человека над природой, или же, по словам Гегеля, как «самообъективации Духа».)
Заслуживает упоминания и то, как Гегель переходит от средства к объекту: «средство» означает внешнюю объективность, которая уже субъективирована, служит внутренней субъективной Цели; однако, поскольку Цель в данном случае – всего лишь субъективное, «внутреннее» понятие, противопоставленное внешней, подлинной объективности, она следует из внутренней логики этой структуры, что Цель пока еще не возобладает и не властвует над всей объективностью – иначе она не была бы всего лишь субъективной Целью. Следовательно, помимо Средства – внешней объективности, которая уже подвластна Цели, – должна существовать другая, безразлично-внешняя объективность, которая пока не подвластна Цели: эта безразлично-внешняя объективность есть Объект qua материал, который Цель стремится преобразовать, применяя средство, и таким образом придать ему форму, в которой она обретет подходящее выражение.
Из этого следует очень точный вывод – а именно: окончательная тождественность Цели и Объекта, они одно и то же, а разница меж ними – чистая формальность и относится к модальности, т. е. Объект как вещь в себе есть Цель как вещь для себя. Важно помнить, что это совпадение Цели (субъективного внутреннего, еще не выведенного вовне, т. е. в объект, применением Средств) и Объекта (безразличной внешней объективности, которая еще не принята вовнутрь, преобразованной в выражение внутренней Цели, применением Средств): Средство есть, дословно, всего лишь средство, посредник, промежуточность в чистом виде формального преобразования Цели в Объект, в результате которого объект «становится тем, что он всегда-уже был».
И все-таки разве постоянное использование у Гегеля оборота «обращение к себе» (вслед за утратой в самоотчуждении Дух обращается к себе и т. д.) – не ясный знак «метафизики присутствия»?
Вот тут следует быть бдительным и не попасть в коварнейшую ловушку толкования Гегеля из общих соображений. Да, в «отрицании отрицания» Дух действительно «обращается к себе»; однако невероятно важно не забывать о «перфомативной» грани этого обращения: этим обращением Дух меняется по сути своей, т. е. Дух, к которому мы обращаемся, Дух, который обращается к себе, – не то же самое, что Дух, который прежде пропал в отчуждении. В промежутке происходит своего рода преображение, и потому это самое обращение к себе знаменует точку, в которой исходный субстанциальный Дух действительно утрачен.
Достаточно вспомнить потерю, самоотчуждение Духа субстанциального сообщества, которое происходит, когда при возникновении абстрактного индивидуализма распадаются органические связи: на уровне «отрицания» этот распад все еще оценивается по меркам органического единства и потому воспринимается как потеря; «отрицание отрицания» возникает, когда Дух «обращается к себе» – не посредством оживления утраченного органического сообщества (непосредственное органическое сообщество утрачено навек), но полным уестествлением этой утраты, т. е. возникновением новой цели общественного единства – более не непосредственного органического, а формального законного порядка, который поддерживает гражданское общество свободных индивидов. Это новое единство субстанциально отличается от утраченного непосредственного органического.
Скажем иначе: «кастрация» означает, что «полный» субъект, непосредственно тождественный «патологической» субстанции стремлений (S), вынужден пожертвовать неограниченным удовлетворением стремлений, подчинить их субстанцию заповедям чужеродной нравственно-символической системы – как этот субъект «обращается к себе»? Полностью приняв эту утрату субстанции, т. е. сместив «центр тяготения» своего существа с S к $, от субстанции стремлений к пустоте негативности: субъект «обращается к себе», когда более не признает ядром своего существа субстанцию стремлений и отождествляется с пустотой негативной саморефлективности. С этой новой точки зрения стремления видятся чем-то внешним и случайным, чем-то, что не «по-настоящему субъект».
Таким же манером можно перефразировать различие между Дерридой и Гегелем: Деррида бесконечно варьирует тему, что обращение к себе всегда обречено на провал, что выведение вовне связано с распадом, который никак не удастся превзойти или присвоить вторично; Гегель же утверждает, что обращение к себе возможно, просто все дело в том, что это самое «к себе», к которому мы обращаемся, более не то же, что мы прежде утратили…
Если же говорить о Лакане: разве его настоятельное утверждение, что «письмо всегда достигает адресата», не связано с некой разновидностью телеологии? См. подробное толкование Лакана у Дерриды…
Письмо «достигает адресата» не из-за некой скрытой телеологии, направляющей его движение: речь здесь о том, что задним числом всегда имеется толкование, основанное на счастливой ошибке доставки. Взять к примеру роман «Обладать» А. С. Байетт[322]: когда Мод, юный историк литературы, обнаружив неизвестные письма викторианской поэтессы Кристабель ЛаМотт, выясняет, что Кристабель – ее прапрапрабабушка, она узнает в адресате последнего письма Кристабель ее большой любови, поэту Рэндолфу Эшу, себя:
«– …он даже не может это прочесть, верно? Она писала все это не для кого-то. Она, похоже, ожидала ответа – но ответа не пришло…
[…]
Она, вероятно, не знала, что делать. Письмо ему не отдала и не читала его – запросто могу себе это представить, – просто отложила его…
– Для Мод, – сказал Блекэддер. – Как выясняется. Она хранила его для Мод».[323]
Кстати, ключевое обаяние романа «Обладать» состоит в типично постмодернистском приеме удвоения: два персонажа романа (Мод и ее коллега-историк Роланд) могут быть парой в половом смысле только посредством отсылки к роману между Кристабель и Рэндолфом: впрямую любовь невозможна; нам всегда нужно задействовать фантастическую систему Другой Пары…
Другая – неожиданная – вариация той же темы письма, которое «достигает адресата», – фильм Джейн Кемпион «Пианино», когда дочка (Анна Пэкуин) доставляет фортепианную клавишу, которую ее мать Ада (Холли Хантер) просит отнести своему любовнику Бейнзу (Харви Кейтел), отчиму Стюарту (Сэму Ниллу), из-за чего отношения Ады и Бейнза принимают трагический оборот: для девочки, движимой воображаемым образом счастливой семьи, которая могла бы состоять из нее, ее матери и отчима, Стюарт и есть настоящий адресат. Однако действительно ли эта фантазия – только и исключительно желания ребенка, слепого к подлинным либидинальным напряжениям у взрослых? Все на самом деле куда менее однозначно. Доказательство того, что «Пианино» – по-настоящему «женская» картина, а не просто иллюстрация политкорректных «феминистских» представлений, состоит в счастливом избегании простецкого порицания мужского патриархального насилия: этот фильм очень чувствителен к либидинальному тупику в основе мужского насилия.
Сложнейшая фигура этой киноленты – несчастный Стюарт; противостояние их с Бейнзом определенно не сводится к тривиальной борьбе «плохого» белого патриархального мужского шовиниста и «хорошего» белого, заделавшегося аборигеном, который поэтому более открыт женскому удовольствию. Когда Стюарт наблюдает через щель в стене за половым взаимодействием между Адой и Бейнзом, он в некотором смысле переживает срыв, т. е. его отклик – никак не простая патриархальная ярость, направленная на женское удовольствие. Строго наоборот: лишь теперь, открыв в Аде новую восхитительную, боготворимую грань, он начинает ее уважать и воспринимать ее как субъекта, и потому, когда он позднее, уже у себя дома, желает подобраться к ней сексуально, мы видим отчаянные попытки соприкоснуться с этой гранью, страсть которой совершенно его захватывает.
Последующий всплеск насилия у Стюарта (он отрубает Аде мизинец), таким образом, – совсем не просто укрощение женщины мужчиной-шовинистом: это выражение тупика, отчаяния от невозможности соприкоснуться с этим «другим удовольствием». У Стюарта есть некая догадка об этой грани «другого удовольствия», но он хочет залучить его в фаллическое удовольствие; Ада, как следствие, отвергает его, когда, не умея принять ее чувственность легкого прикосновения, он начинает стаскивать с себя штаны, чтобы наскочить на жену. Презрительный взгляд, которым она его наделяет именно в этот миг, говорит сразу обо всем: Ада, вопреки насилию над ней Стюарта в жизни, побеждает его, и он потому пристыженно удаляется. И когда дочь «доставляет письмо адресату», она делает это из утопической надежды и/или предчувствия, что Ада и Стюарт смогут соединиться на уровне «другого удовольствия».
Лакан, Деррида, Фуко
Давайте же теперь откусим от этого яблока раздора – травматических отношений между Дерридой и Лаканом…
Я по-прежнему считаю, что критика Дерриды, адресованная Лакану, – случай чудовищно ошибочного толкования. Если же, впрочем, отложить значительные поводы противостояния и детально разобраться с проблематической природой их отношений, как и пристало фрейдистам, откроется ряд неожиданных связей. Достаточно помянуть фундаментальное свойство Лаканова понятия о символическом порядке: это порядок символических обменов, основанный на внутреннем излишке действия, который минует баланс обмена, – как раз к этому и сводится «символическая кастрация»; как раз к этому и стремился, в конечном счете, Фрейд в связи с «экономическим парадоксом мазохизма».
Избыточное действие, возмущающее символическое равновесие, – условие самого возникновения экономики обменов: первое действие по определению избыточно. (И, возможно, неувязка определенной разновидности прагматического-просвещенного утилитаризма как раз в том, что он стремится избавиться от этого излишка, но не готов платить за это – признавать, что, как только избавимся от излишка, мы утратим само «нормальное», равновесное поле обмена, относительно которого избыток избыточен…) Это избыточное движение, запускающее цикл обменов, но остающееся при этом внешним по отношению к нему, не просто «предшествует» символическому обмену: нельзя уловить его как вещь в себе, в оголенной чистоте; его можно лишь реконструировать задним числом как внутреннее допущение Символического. Иными словами, это движение «действительно» в точном лакановском смысле: травматическое ядро, «выделенное» в процессе символизации.
То же можно сказать и в понятиях диалектики Добра и Зла, как совпадение Добра с верховным Злом. «Добро» означает равновесный порядок символических обменов, тогда как верховное Зло – избыточное движение (утрата/потеря) возмущения, разрыва, которое не просто противоположно Добру: оно поддерживает систему символических обменов в точности постольку, поскольку делается незримым, как только мы оказываемся «внутри» символического порядка[324]. Изнутри символического порядка призраки, привидения, «живые мертвецы» и т. д. сообщают о неравновесных (символических) счетах; как таковая эта «нечисть» исчезает, когда путем символизации счета «сходятся». Но есть, однако, долг, который никогда не удастся вернуть, поскольку он поддерживает само существование системы обмена-возмещения. На этом более радикальном уровне «призраки» и другие разновидности выходцев с того света говорят о виртуальном, вымышленном характере символического порядка как такового, того, что этот порядок существует «в кредит», что, по определению, его счета никогда по-настоящему не сходятся.
Это и имеет в виду Лакан, утверждая, что истина устроена как вымысел – необходимо отчетливо отличать вымысел и призрак: вымысел есть символическое образование, определяющее устройство того, что мы переживаем как действительность, тогда как призраки – из Реального; их появление – цена, которую мы платим за разрыв, навеки отделяющий действительность от Реального, за вымышленный характер действительности. Короче говоря, Духа (ума, разума и т. д.) нет без духов («призраков», потусторонних существ, живых мертвецов), нет чистой, рациональной, прозрачной самой в себе духовности без сопутствующего замутнения теневой, зловещей, призрачной псевдоматериальностью[325]. Или, с отсылкой к различию между публичным символическим Законом и его теневой изнанкой «сверх-я»[326]: «сверх-я» есть докучливый «призрак», теневой двойник, вечно сопровождающий публичный Закон.
Мне кажется, что на этом специфическом уровне можно установить связь между Лаканом и проблематикой, сформулированной Дерридой в «Данном времени»[327], проблематикой, сосредоточенной вокруг темы дара qua невозможного, неподотчетного поступка, поступка, подрывающего «закрытую экономику» символических обменов и как такового «бесконечно прошлого»: его время – никогда не настоящее, поскольку он «всегда-уже случился», раз мы уже внутри символической экономики. Дар в чистом виде не только исключает всякое встречное действие, не оставляет места для воздаяния, для взаимной благодарности; его даже нельзя (и не должно) признавать как дар – когда дар признан таковым, он порождает в получателе символический долг, увязает в экономике обмена и тем самым теряет свойство дара в чистом виде. Дара, следовательно, не существует; все, что можно сказать, – «есть [il y a/es gibt] это»; как такового, его осуществление не может быть приписано никакому позитивному субъекту, и подходит дару лишь безличное «это».
Деррида, конечно, толкует это es gibt на фоне Хайдеггерова es gibt Zeit, «события [Ereignis]» – дар «только что произошел», можно сказать. Вероятно, интереснейшая черта подхода Дерриды к Хайдеггеру – то, как он «совмещает несовместимое»: в этом Деррида – постмодернист в лучшем смысле этого понятия. Как подчеркивал Фредрик Джеймсон[328], одна из ключевых черт «постмодернистского восприятия» состоит в сближении сущностей, которые, хоть и современны, принадлежат к разным историческим эпохам.
Одна из мифических фигур старого Американского Юга – пират Жан Лафитт: его имя связано с его и генерала Эндрю Джексона защитой Нового Орлеана, с пиратской романтикой и т. д., однако менее известно, что в преклонные годы, когда Лафитт уехал в Англию, он подружился там с Марксом и Энгельсом – и даже финансировал первый перевод на английский «Манифеста коммунистической партии»[329]. Образ Лафитта и Маркса, прогуливающихся по Сохо[330], абсурдное короткое замыкание двух совершенно разных вселенных – глубоко постмодернистское. То, что Деррида делает с Хайдеггером, – в некотором смысле подобно тому же: он соединяет Хайдеггера с «вульгарной», «онтической» проблематикой, Хайдеггеров дар es gibt с «экономической» проблематикой дара у Марселя Мосса[331] («Essai sur le don», [ «Очерки о даре» (фр.) – примеч. перев.]), с модальностями его действия в межсубъектных отношениях (Бодлерово стихотворение в прозе «La fausse monnaie»[332]) и т. д. Таким образом, Хайдеггер освобожден от «жаргона подлинности», в которой сообразные примеры – лишь те, что взяты из стихотворений Гёльдерлина о немецкой сельской жизни.
С Лаканом же все несколько затейливее. Как обычно, Деррида противопоставляет это il y a дара в чистом виде Лаканову символическому порядку, который якобы остается в пределах «закрытой экономики» символического обмена – для излишка в виде дара в нем нет места. По Дерриде, Лакан, фундаментально, пытается расширить область символического обмена, а не сделать зримыми его ограничения и зависимость от излишка. Лакану блистательно удается доказать, как на бессознательной Другой Сцене некий символический обмен уже происходит в том, что, с точки зрения сознания и его воображаемого опыта, видится как неэкономическая утрата (к примеру, в бессознательной экономике «иррациональное» отыгрывание может действовать как выплата символического долга).
Однако может показаться, что Деррида платит за эту редукцию Лаканова Символического уравновешенной экономике обмена, поскольку его отказ признать понятие избыточного «первого движения», которое основывает символический порядок, ключевым ингредиентом Лаканова Символического: эта цена – неспособность Дерриды полностью учесть, как, в его же теоретическом построении, благодаря понятию дара, первобытного «это есть» (il y a/es gibt: «это дает»), возникает аспект, чужеродный обычной «дерридеанской» проблематике différance[333]-письма-и-следа. Это «это есть» qua событие именует противоположность движению différance, неустранимому рассеянию-распределению: само присутствие в его окончательной недостижимости. (Что важно: в попытке определить парадоксальный статус этого избыточного дара, Деррида вынужден прибегать к квазитрансцендентальному языку: дар как «не подлежащее деконструкции условие любой деконструкции».) Это «это есть» дара состоит из чистого «Да!», согласия, которое предшествует рассеянию-распределению. Что навеки бежит понимания субъекта, или Логоса, – в конечном счете, присутствие самого его в непосредственном, до-дискурсивном «это есть». Избыток, в итоге, – само событие присутствия.
Или же, если подойти к той же проблеме через тему Дерриды голоса-феномена qua посредника иллюзорного самоприсутствия, который нужно деконструировать и отвергнуть как следствие процесса различания, взаимодействия следов и т. д.: Деррида остается слеп к предельной неоднозначности голоса. Голос-феномен, в самом своем наличии, есть одновременно и Лаканово Реальное, непрозрачное пятно, неустранимое препятствие на пути прозрачности субъекта для себя самого, чужеродное тело в нем самом. Короче говоря, величайшая преграда прозрачности Логоса для себя самого есть сам голос в своем инертном наличии.
Парно этому отказу учитывать непроницаемость голоса – неспособность Дерриды полностью признать предельную тождественность дополнения и Главного Означающего. С одной стороны, Деррида бесконечно варьирует тему избыточного элемента, действующего одновременно как отсутствие и как излишек, который неразрешим, неуловим, одновременно и внутри, и снаружи, часть текста и отстранен от него, делает текст полным и открывает его вовне и т. д. С другой стороны, «деконструкция» Дерриды нацелена на подрыв авторитета центрального означающего, которое якобы объединяет текстуру и следы, и тем самым не допускает рассеяния – вновь и вновь Деррида подчеркивает, как это центральное означающее всегда подорвано, смещено тем, над чем предположительно властвует, как оно структурно зависит от своих следствий и т. п.
Следовательно, может показаться, что дополнение и Главное Означающее – противоположности, напряжение между которыми придает очертания текстуальному процессу: дополнение есть неразрешимая граница, ускользающая от Главного Означающего. Лакан, однако, определяет эту неразрешимость в самой сердцевине Главного Означающего: относительно множества «обычных» элементов Центр – по определению избыточный, дополнительный элемент, чье место структурно неоднозначно, ни внутри, ни снаружи. Лакан именует это дополнение le plus-un, избыточный элемент, заместитель отсутствия, выполняющий роль шва; само Главное Означающее возникает посредством «нейтрализации» дополнения, через устранение его структурной неразрешимости.
Каков же в таком случае статус настойчивой отсылки Дерриды к «недеконструируемому условию деконструкции»?
Эта тема недеконструируемого условия, вовсе не говоря о противоречии, проясняет клятву/обещание, обрученность, которая поддерживает саму процедуру деконструкции: открытость событию, инакости в ее непохожести, до возникновения цикла обмена между мною и другим, до справедливости qua сведения счетов. Эта идея справедливости «не воплотима» постольку, поскольку требует одновременно признания другого в его уникальности и формулирования универсальной среды, в которой другой и я можем встретиться на равных. Поэтому всякое позитивное определение понятия о справедливости по определению ущербно и несостоятельно, поскольку никакая позитивно определенная универсальность никогда по-настоящему не нейтральна относительно ее частного содержания – она всегда вводит неравновесие, предпочитая ту или иную часть частного содержания. (Тут Деррида, по сути, близок к Марксу, к марксистскому прозрению сообщничества между всеобщей формой равенства и материальным неравенством.) Следовательно, представление о справедливости, поддерживающее нашу непрекращающуюся работу деконструкции, должно навсегда остаться формой без содержания, формой обещания, которое вечно превосходит свое содержание, – короче говоря, оно должно остаться призрачным, не «онтологизированным» в позитивную силу:
…то, что аналогичным образом остается несводимым ни к какой деконструкции, то, что остается столь же недеконструируемым, как и сама возможность деконструкции, возможно, как раз и представляет собой некоторый опыт обещания освобождения; возможно, это и есть сама форма структурного мессианизма – мессианизма без религии, и более того, мессианского без мессианизма; это идея справедливости, которую мы всегда отличаем от права и даже от прав человека, и идея демократии, которую мы отличаем от ее современного понимания и от ее характеристик, обусловленных сегодняшним днем[334].
Несмотря ни на какие опровержения, не следует ли Деррида кантианской логике регулятивной Идеи? Разве не излишек формы относительно содержания кантианский по самой своей сути, как излишек регулятивного обещания относительно внутреннего принципа, позитивных определений материального содержания? Разве настояние Дерриды, что мессианское обещание справедливости должно остаться призрачным, что оно не должно быть «онтологизировано» в самоприсутствующую Сущность (высшее Благо, обещание коммунизма как действенного будущего мирового порядка и т. д.) не повторяет Кантов запрет, что регулятивную Идею ни в коем случае нельзя воспринимать как внутренний принцип? (Уже у Канта это различение имеет ключевую политическую значимость: по Канту, ужас Французской революции состоит именно в попытке утвердить идею свободы как внутренний, позитивный, структурирующий принцип общественной жизни.)
Таково, стало быть, минимальное определение идеологии, по Дерриде: онтологически ошибочное толкование призрачного нравственного запрета. Здесь следует «деконструировать» само противопоставление призрачного и онтологического в гегельянском ключе. Деррида победно показывает, что вне призрачного нет онтологии, что отчетливую границу между призрачной и позитивной действенностью-действительностью провести нельзя. Вопрос, который следует задать, впрочем, таков: откуда берется неминуемая, неустранимая опасность «онтологизации» призрачного обещания? Единственный логичный ответ на этот вопрос: из того, что призрачного нет и вне онтологического, вне le peu de réel[335] некого инертного непрозрачного пятна, наличие которого поддерживает сам призрак в его противоположности онтологическому. Или же, по-гегельянски, нет духа без кости…
Кант, разумеется, стремился сохранить разрыв, который навсегда отделяет нравственную Идею справедливости от справедливости qua позитивного законодательного порядка, – и все же чем больше он очищал Идею от всего эмпирического, позитивного, онтологического, тем мощнее становилась опасность падения, тем более «тоталитарной» делалась система, возникающая при этом падении. Кантово формальное определение нравственной деятельности порождало поле нравственности из всего «патологического» содержания, но при этом одновременно открывало пространство предельному Злу несравненно худшему, чем обычное «эмпирическое»[336]. Что правда то правда, Кант дал точное определение короткому замыканию, приведшему к Террору Французской революции, – «онтологизация» свободы в позитивный принцип общественной жизни, и все же мы одновременно вынуждены утверждать, что в некотором смысле нет революционного Террора без Канта, Террора до кантианской революции.
Здесь мы имеем дело со своего рода узлом, сцеплением, «чем ты чище (не-онтологичнее, формальнее), тем грязнее», что достигает пика в предельной неоднозначности «неисправности» – центральной темы «Призраков Маркса» Дерриды. С одной стороны, «мир неисправен» означает «всё, что в мире не так», всё, что причиняет страдания и питает обещание мессианского освобождения. С другой стороны, однако, – крайне травматический взрыв «неисправности» есть само возникновение мессианского обещания – не оно ли есть предельный skandalon[337], возмущающий будни любой плоти? Если же, однако, высшее возмущение, высшая «неисправность» есть сама мессианская Идея – как сказал бы Гегель: «в борьбе с мировым злом, которое будто мешает ее воплощению, мессианская Идея борется сама с собой, со своим порождением» (или, с отсылкой к отношениям между Центром и дополнением: «в стремлении повелевать/управлять дополнением Центр борется со своим же движением основания»).
Давайте разберемся еще с одним философом, которого обычно считают близким Лакану, – с Фуко. (Неявная) критика Лакана у Фуко в первом томе «Истории сексуальности» состоит в том, что Лакан остается в пределах традиционного понятия о Законе, которое характеризуется двумя чертами: оно «негативно»: Закон как сила запрета, – и «эманационно»: Закон напитывается властью из некоего уникального источника и передает ее ниже. Этому Фуко противопоставляет свое понятие Власти как продуктивной и порождаемой «снизу»…
…Знаю, Фуко никогда не уставал повторять, как власть создает себя «снизу», что она не излучается из некоей уникальной вершины: само это сходство с Вершиной (с Монархом или иным воплощением Владычества) возникает как вторичное следствие множества микропрактик, сложной системы их взаимосвязей. Настоящая же задача, однако, – в том, как нам объединить эту проблематику микровласти с тем, как сам Фуко (в «Надзирать и наказывать»[338]) применяет понятие Паноптикона – как общей матрицы, структурирующей модели, приложимой к различным сферам, от тюрем до школ, от больниц до казарм, от заводов до контор. Единственный способ избежать упрека в противоречивости – ввести понятие фантазии как единой матрицы, которая придает связность множеству общественных практик. Иными словами, «настоящие» общественные отношения множественны, есть сложная система микросвязей, пронизывающих эту систему во всех направлениях, вверх и вниз, влево и вправо… То, что «удерживает вместе» это множество, – не есть некая Суть или Основание, а как раз чистая поверхность фантазии как «не-места» (Фуко apropos Паноптикона), формальная матрица, которая, пусть и нет ее нигде в «действительности», составляет ее структурный принцип. Сплошные неудобства у Фуко, следовательно, – опять-таки от призрака, от призрачной природы Паноптикона: призрак Дерриды безупречно подходит под психоаналитическое понятие фантазии, чье возникновение, по определению, говорит о невозмещенном символическом долге.
«Фаллоцентризм»
Критический упрек вашей работы, возникающий с позиций историциста-фукианца, таков: если мыслить отсутствие как «кастрацию», если постановить фаллос как означающее «кастрации», не предаем ли мы бессмертию исторически определенную, ограниченную логику символизации?
Самое главное тут различать собственно историзм от эволюционного историзма. Историзм сам по себе связан с диалектическими отношениями с неким неисторическим ядром, которое остается неизменным, – не как подлежащая Суть, а как камень, который сопротивляется любым попыткам встроить его в символический порядок. Этот камень есть Вещь qua «часть Реального, которая страдает из-за означающего» (Лакан) – действительное «страдает» постольку, поскольку это травма, которая не может быть полностью оговорена в цепи означающих. В марксизме подобным «действительным» исторического процесса выступает «классовая борьба», составляющая общую нить «всей истории доселе»: все исторические формации – многочисленные (в конечном счете – провальные) попытки «благоустроить» это ядро «действительного».
Нужно быть осторожными и различать Verwerfung и Verdrängung, между запретом и «обычным» подавлением. Реальное qua Вещь не «подавлено», оно запрещено, или «первобытно подавлено [ur-verdrängt]», т. е. его подавление не есть историческая переменная, а составная часть самого порядка символической историчности. Иначе говоря, Реальное qua Вещь занимает место того самого «икс», относительно которого не удается никакая символизация, – в самой своей не-историчности оно задействует все новые и новые символизации. Поэтому Лакан предельно далек от всякого «табуирования» Реального, от вознесения его в неприкосновенные сущности, исключенные из исторического анализа, – Лакан, скорее, говорит о том, что единственная истинная нравственная позиция состоит в полном принятии невозможности задачи символизации Реального, включая ее неизбежный провал. Пересечение порнографии и «нормального» реалистичного сказа, к примеру, по определению невозможно, это пустое множество: стоит нам «все показать», упраздняется наша вера в диегетическую действительность, нарратив переживается как нелепый предлог показать «это»[339].
И все же несомненно именно поэтому Лакана так заворожила «Империя чувств» (1976), фильм, который стремится воплотить это невозможное пересечение – предложить связный сказ и (почти) порнографию…
Есть и другая сторона у этого «антиисторицистского» свойства Лакана. В классическом марксистском анализе «Красного и черного» Стендаля Дьёрдь Лукач[340] рассуждает так. Стендаль явно осознавал отчужденный характер ранне-капиталистической общественной действительности; однако, поскольку в его время пролетариат еще не утвердился как исторический субъект, Стендаль не смог достичь прозрения исторической возможности отмены отчуждения посредством социалистической революции; следовательно, он смог помыслить протест против трудных общественных условий лишь в форме самоубийственного, саморазрушительного индивидуалистического прорыва «иррационального» насилия. Что с этим рассуждением не так? По Лукачу, различие между «нами» и Стендалем зиждется на разнице в соответствующих объективных ситуациях: объективные исторические условия не позволили Стендалю обрести прозрение (в историческую роль пролетариата), а нам – в изменившихся условиях – это прозрение далось…
Что-что, а ложность подобного различия понять из психоанализа можно: исторические эпохи не делятся на те, которые позволяют прозрения, и те, что ему мешают. С одной стороны, подобная «возможность прозрения» касается лишь «онтического», позитивного знания (например, ясно, что до ХХ века невозможно было сформулировать относительность времени и пространства); с другой стороны, всякая эпоха имеет свой прямой «доступ к Абсолюту» через опыт внутренних ограничений и неудач этой эпохи. Неудача – надлом, распад того или иного исторического горизонта смыслов – никогда не есть просто неудача стечения обстоятельств той или иной эпохи; она всегда дает возможность, на краткий миг, пережить то, что Лакан именует «нехваткой Другого», противоречие и/или не-существование большого Другого, т. е. то, что у Другого нет Другого, нет окончательной гарантии поля смыслов. Как только очертания новой эпохи являют себя отчетливо, «не-существование большого Другого» вновь делается незримым.
Феноменологическая противоположность этого марксистского историзма – главенствующее историческое толкование Хайдеггера, согласно которому всякая эпоха ограничена онтологическим горизонтом понимания Бытия, кое есть ее судьба – сто лет назад Европа достигла пика эпохи субъективности, тогда как ныне можно предощутить метафизическую завершенность как таковую… Подобное толкование опроверг сам Хайдеггер apropos Гёльдерлина, который, посреди эпохи современной субъективности, определил Бытие как Ereignis[341]; то же касается и Шеллинга, который в «Очерке о свободе»[342] уже достиг прозрения о грани превыше метафизики, но смазал его формулированием достигнутого в традиционных онтологических понятиях.
На совершенно другом уровне это понятие «доступа к Абсолюту» через опыт распада собственного горизонта смыслов у человека позволяет нам осознать величие фигур, подобных Джеронимо[343]: продолжая проигрышную войну против белого человека, Джеронимо явно переживал ограничения горизонта индейцев; хотя он полностью осознавал хрупкость своей вселенной, он не отказался от нее, проявив тем самым истинную нравственность.
Однако apropos фаллического означающего по-прежнему существует привычный довод: «Почему фаллос? Называя квазитрансцендентальное означающее «фаллосом», не оправдываем ли мы возвышение случайной части тела до трансцендентального положения само́й символической системы? Не подписываемся ли под «незаконным» коротким замыканием между в чистом виде формальной структурной функцией и эмпирическим случайным органом, который ее символизирует? Не ограничиваем ли сущностную, неупрощаемую «открытость» процесса сигнификации – возможность бесконечно переформулировать символическое поле?
Когда мы противопоставляем конечность/замкнутость данной символической текстуры бесконечному горизонту возможных переформулирований, язык сводится к обычной естественной сущности и к развитию в постепенной эволюции подобной сущности. Язык от естественной сущности или системы отличает присутствие в нем элементов, которые Леви-Стросс[344] назвал мана-означающим: «рефлективное» означающее, занимающее в системе место того, что ускользает от системы, того, что «еще не обозначено». «Открытость» символической системы не имеет ничего общего с давлением постоянно меняющихся внешних обстоятельств, вынуждающих систему преображаться; в случае с собственно символической системой эта открытость должна быть вписана в саму «закрытую» систему под видом парадоксального означающего, представляющего бессмыслицу внутри поля Смысла – то, что Лакан именует фаллическим означающим. Гегель по-своему, «идеалистически» говорит то же самое, утверждая, что Дух, в противовес природе, содержит в себе негативность: негативность не есть внешняя сила, разрушающая духовные образования снаружи, поскольку Дух способен поддерживать негативные отношения с самим собой, «уживаться с негативным».
Опять-таки, фаллическое означающее есть не что иное, как это в чистом виде негативное означающее, «означающее без означаемого». Следовательно, феминистская критика «фаллоцентрической» логики кастрации повинна в соединении двух разных движений: хотя такая критика совершенно оправданно подчеркивает в конечном счете случайное возвышение до позиции заменителя нехватки именно означающего-фаллоса, она же склонна скрывать, что эта парадоксальная функция означающего, которое занимает место своего же отсутствия, присуща символическому порядку. Иначе говоря, фаллос устраняет, делает недействительным противостояние неизменной сущности и процесса его подрыва, или «размывания»: «сущность» фаллоса опирается на его же вытеснении – «фаллический» есть элемент структуры, занимающий место своей же противоположности, тождество, отмечающее в чистом виде отличие, присутствие, отмечающее в чистом виде отсутствие.
А как же якобы Гегелев довод, что знаменитые Лакановы формулы фаллоса qua означающего (ни телесного органа, ни образа, а именно означающего) следует толковать как отказ или «определенное отрицание», которое говорит о том, что фаллос qua означающее остается связан с пенисом, зависим от него, отмечен пенисом qua своим позитивным подкреплением: фаллическое означающее возникает как устранение-опосредствование пениса qua образа, который занимает место недостижимого единства тела…
Думаю, Джудит Батлер[345] (которая развивает этот довод) пала жертвой не-диалектической одержимости содержанием, и потому не учитывает то, всегда неимоверно важно в отношении Гегеля, – «формальную сторону». Когда Лакан в «Сигнификации фаллоса» говорит, что фаллос есть означающее самого движения Aufhebung[346], следует понимать это буквально: «фаллос» есть форма опосредствования-устранения как такового. «Фаллос» – не то, что остается от пениса после того, как пенис подвергли процессу опосредствования-устранения, а то, что есть сам этот процесс опосредствования-устранения. Вкратце: «фаллос» означает форму символизации как таковую.
Со ссылкой на Делёза эту разницу между «формой» и «содержанием» можно мыслить как разницу между «фаллосом координации» и «фаллосом кастрации». С одной стороны, есть фаллос «до кастрации», фаллос как орган, стремящийся координировать все эрогенные зоны в единое общее поле; этот фаллос, несомненно, построен по модели единства образа «я» в стадии зеркала, т. е. его возникновение всего лишь повторяет операцию воображаемого отождествления с идеализированным органом. На этом уровне «у всего есть половое значение», и фаллос гарантирует единство этого значения. С другой стороны, этот фаллос неизбежно преобразуется в «фаллос кастрации», в фаллос как означающее утраты и/ или десексуализации: ребенок переживает в «комплексе кастрации» то, что фаллос – qua точка пересечения смысла и сексуальности – может гарантировать «нормальную» сексуальность, лишь действуя как оператор десексуализации, что он может выполнять свою функцию гаранта (буквального, десексуализированного) значения, лишь действуя как означающее без означаемого.
Батлер обходит молчанием эту важнейшую грань, и это пренебрежение «фаллосом кастрации» приводит ее к формулированию как упрека Лакану, как «недодуманности» его понятия о фаллосе того, что на самом деле есть глубинная особенность его понятия о фаллическом означающем. Иными словами, в своем критическом анализе понятия тревожности кастрации Батлер исчерпывающе показывает, как «наличие фаллоса как места тревожности есть уже потеря, которой он страшится», – однако, ей не удается заметить, что именно это короткое замыкание между возможностью и действительностью определяет фаллическое означающее как означающее СИМВОЛИЧЕСКОЙ кастрации: «настоящая» тревожность субъекта, что он утратит фаллос, на символическом уровне есть «уже потеря, которой он страшится»[347]. Иначе говоря, отличительная черта символической кастрации, в отличие от действительной и/или воображаемой, состоит в том, что страх возможной кастрации уже и есть сама кастрация.
Власть
На фоне этой феминистской критики Лакана время от времени возникает проблематика власти, психоаналитической теории ее, сотрудничества психоанализа с властными механизмами. Психоанализ – или, по меньшей мере, лакановская версия его, – обращает особое внимание на символические механизмы, символическую природу власти; разве такое особое внимание не подталкивает нас к пренебрежению различием между «действенной» и «символической» властью?
Нет, он ведет нас исключительно к представлению об этой разнице как внутридискурсивной между перфомативно-действенными общественными связями и пустыми символическими движениями, придающими этим связям законность. Поучителен в этом случае пример со Сталиным: недавние исторические исследования пришли к парадоксальным расчетам, что Сталин потерял бо́льшую часть «действенной» власти в 1939 году, в конце периода великих чисток, т. е. как раз тогда же, когда полностью установился наконец «культ» его личности, словно символическое возвышение до «четвертого классика марксизма» стало своего рода воздаянием за потерю «действенной» власти. До 1938 года Сталин, по сути, концентрировал неимоверную исполнительную власть в собственных руках – посредством очень точной стратегии: он подключал кадры НКВД, выдвинутые из нижних слоев общества, к постоянным чисткам среди правящей бюрократии и тем самым дал этим кадрам возможность «отыграть» раздражение, какое вызывали у них привилегии Нового класса. Наконец в 1938 году правящая бюрократия, неспособная объединиться в противовес сталинской личной власти (время от времени арестовывали даже членов Политбюро), все-таки нанесла ответный удар и вынудила Сталина передать Политбюро qua единому организму значительную часть настоящей исполнительной власти. Чистки после Второй мировой войны (антисемитская кампания, дело врачей и т. д.) стали, таким образом, последней отчаянной попыткой Сталина вновь сосредоточить «действенную» власть в своих руках, и эта попытка увенчалась его смертью.
В применении власти обычно различают прямые репрессии (насилие или его угроза) и идеологическую гегемонию. Что говорит теория Лакана о политическом насилии, о противостоянии насилия и ненасильственного согласия?
Хорошо известный парадокс (социально-символического) насилия: высшее насилие уже не воспринимается как таковое, поскольку определяет «специфический оттенок» самого́ горизонта, в пределах которого нечто должно восприниматься как насилие. Задача диалектического анализа, следовательно, – сделать зримым насилие, которое остается в очень нейтральных, «ненасильственных» рамках, которые позднее оказываются возмущены вспышками (эмпирического) насилия, сделать зримым само мерило, с каким мы подходим к оценке насилия. Обретя способность воспринимать это глубинное насилие как таковое, мы уже сделали первый шаг к действенному освобождению. (Вывод из лакановского психоанализа, конечно, состоит в том, что это совпадение высочайшей формы насилия с отсутствием насилия может возникать лишь в пределах символической вселенной, т. е. в порядке, где само отсутствие определения действует как позитивное определение.)
Этот парадокс позволяет нам точно описать понятие гегемонии: мы имеем дело со следствием гегемонии, т. е. с элементом, который являет гегемонию, лишь когда он более не воспринимается как узурпатор, насильственно подчинивший себе все остальные элементы и тем самым теперь повелевает всем полем, но при этом как нейтральная система, чье присутствие «само собой разумеется» – «гегемония» определяет узурпирующее насилие, насильственный характер которого устранен. Демократический дискурс являет гегемонию, когда даже его противники молчаливо принимают его внутреннюю логику и обращаются к ней в доводах против демократии. Именно на этом фоне следует рассматривать и проблему так называемых «террористических» отыгрываний, отчаянных попыток вырваться из ловушки гегемонистского дискурса, в котором высшее насилие выставляет себя ненасильственным согласием и диалогом, – истинная цель «террористических» отыгрываний есть скрытое насилие, остающееся в очень нейтральных, ненасильственных рамках.
Здесь открывается еще одна связь с Дерридой, с его темой «незаконного» перфомативного насилия, присущего самому́ Разуму, самому́ законному порядку, который задним числом делается незримым или (что, в конечном счете, то же самое) узаконивает его. Высшее насилие – в этом заколдованном круге действия, устанавливающем порядок, который задним числом делает незримым само действие в плоскости внутреннего насилия. Иными словами, высшее насилие состоит в удалении двойной записи одного и того же акта: об акте, который основывает, привносит символический Порядок, и возникает (вновь) внутри этого Порядка как один из его элементов, уже узаконенный, поддержанный этим Порядком. Вопрос «происхождения», таким образом, есть травматическая точка любого законного порядка: как раз это Порядку приходится «подавлять первородно», если Порядок стремится сохраниться. Именно в этом смысле «диалектика» прилагает усилия, чтобы извлечь, вновь сделать зримым это внутренне присущее Порядку насилие, «подавление» которого – ровесник самого́ Порядка[348].
Более того, психоанализ делает нас чувствительными к потенциальному контрасту между выраженной структурой властного господства и действенных отношений власти. Знаменитая сцена из «Основного инстинкта» (1992) – полицейский допрос Шерон Стоун, где она легендарно закидывает ногу на ногу, и мы мельком видим (или не видим) ее лобок, – заслуживает своей славы именно из-за ее переворота привычной структуры власти и отношений с ней (женщина открыта взглядам допрашивающих ее мужчин, которые забрасывают ее вопросами): сам субъект, занимающий позицию жертвы, полностью владеет ситуацией и играет с допрашивающими, как кошка с мышью…
В отношении анализа применения власти часто напрашивается параллель между расистским и половым подавлением, между расизмом и сексизмом…
…однако при этом мы забываем о глубинном различии их устройств: мужчины и женщины – это не две «расы» человечества в том смысле, в каком это применимо к этническим сообществам. Этнические сообщества устроены по принципу групповой принадлежности этническому Нечто; как таковые эти сообщества связаны с понятием самодостаточной и неантагонистичной общинной жизни, тогда как половое различие предельно «антагонистично», т. е. положение и того, и другого полов определено через взаимное противопоставление. Если и есть тут параллель, то, скорее, между половым различием и неким простейшим противостоянием, раскалывающим сообщество изнутри (классовая разница, например). Половое самоопределение становится, по сути, «националистским», лишь в тех формах радикального феминизма, которые полагаются на женскую способность к воспроизводству без мужского оплодотворения, и в этих случаях женщины составляют некую свою «расу». Впрочем, антирасистские стратегии, направленные на освобождение нашего этнического сообщества путем «апартеида», посредством культурного, экономического и прочего отделения от сообщества, представляющего большинство (стратегия афроамериканской исламской нации, к примеру), неизбежно связана с патриархальным утверждением подчинения женщины в пределах нашего сообщества («каждому полу – свое место»).
От патриархата к цинизму
Одна из устойчивых тем ваших работ – что патриархально-идентитарный фундаментализм в наши дни более не настоящий враг…
Хочется рискнуть и выдвинуть гипотезу, что в наше время, в эпоху позднего капитализма, главенствующая модель – уже не патриархальная семья с детьми, а скорее договорная пара. Ребенок более не дополнение, которое делает семью гармоничным целым, а возмущающая равновесие добавка, от которой следует как можно скорее избавиться.
Обычная критика патриархата совершенно пренебрегает тем, что отцов – два. С одной стороны, эдипов отец: символический/мертвый отец, Имя-Отца, отец-Закон, который не получает удовольствия, не воспринимает саму эту грань – удовольствия; с другой стороны, есть «первобытный» отец, теневая, анальная фигура «сверх-я», которая действительная/живая, «Хозяин Удовольствия». На политическом уровне это противостояние совпадает с таковым между традиционным Хозяином и современным («тоталитарным») Вождем. Во всех легендарных революциях – от Французской до Русской – свержение бессильного старого режима символического Хозяина (французского короля, царя) венчалось приходом к власти куда более «подавляющей» фигуры «анального» отца-Вождя (Наполеон, Сталин). Порядок преемственности, описанный Фрейдом в «Тотеме и табу»[349] (убитый первобытный Отец-Удовольствие возвращается под видом символической власти Имени), оказывается, таким образом, перевернутым: отставленный символический Хозяин возвращается как теневой-действительный Вождь. Короче говоря, тут Фрейд оказался жертвой своего рода зрительной иллюзии: «первобытный отец» – позднейшее, совсем современное, послереволюционное явление, результат устранения традиционной символической властной фигуры.
В наше время «первобытные отцы» обильно представлены в «тоталитарных» политических движениях, а также в сектах «нью-эйдж». Дэвид Кореш, лидер секты «Ветвь Давидова», убитый ФБР в Уэйко (Техас) в 1993 году, ввел фундаментальный закон Фрейдова первобытного отца: половая торговля с женщинами – его, Кореша, личное право, т. е. секс для всех остальных мужчин запрещен. Это проливает новый свет на знаменитый сон Фрейда, в котором покойный сын является к отцу и бросает ему чудовищный упрек: «Отец, ты разве не видишь, что я горю?» – истинное же значение, конечно, таково: «Отец, разве ты не видишь, я получаю удовольствие?». Иными словами, это на самом деле вздох облегчения: «Слава богу, отец не видит!» Лишь мертвый-символический отец оставляет пространство удовольствию; «анальный» отец, «Хозяин Удовольствия», который может увидеть, застать меня и за удовольствием, совершенно перекрывает мне доступ к удовольствию. Символический отец qua мертвец, т. е. не ведающий об удовольствии, позволяет нашим фантазиям выстраивать наши удовольствия, оставлять минимальное расстояние между ними и общественным пространством, а вот «анальный» отец впрямую вмешивается в поддержку, которую дают фантазии нашему существу, и тем самым тут же проникает во всю социальную сферу.
Еще одна тема вашей работы дополняет предыдущую: в наши дни настоящий идеологический враг – неидентитарный «пост-идеологический» настрой циничной отстраненности. Однако, рассматривая нынешний мир в эпоху цинизма, когда никто не принимает преобладающий нравственный кодекс всерьез, не попадаем ли мы неизбежно в характерную идеологическую ловушку ошибочного отношения к предыдущей эпохе как времени подлинной нравственности, когда люди еще верили в свои символические кодексы и относились к ним серьезно, или же, по-гегельянски, как ко временам, когда индивиды были непосредственно погружены в свою нравственную субстанцию? Не ретроактивная или это иллюзия par excellence – подобное понятие о «старых временах»?
В отношении ошибочного восприятия былых времен как эпохи наивной «непосредственности» по своим местам все расставляет книга Эдит Уортон «Эпоха невинности»[350]. Хотя это каноническое произведение высокого искусства, «Эпоха невинности» приближается к мелодраме – на последних страницах романа происходит переворот, когда главный герой узнает, что его якобы непосвященная невинная жена все это время знала, что его истинная любовь – роковая графиня Оленская.
«Эпоха невинности» – история богатого юриста в Нью-Йорке XIX века, обрученного с девушкой из богатой семьи; девушка любит его со всей наивностью неопытной юницы, а сам он страстно влюбляется в женщину постарше, графиню Оленскую, которая вернулась из Европы после развода и поэтому еще не полностью вхожа в высшее общество. Любовники понимают, что для их чувства в существующем общественно-символическом пространстве с жестким этикетом и правилами игры нет места, и что сбежать им тоже некуда, нет такого утопического места, где их любовь могла бы расцвести невозбранно, и потому они отказываются от любви: графиня уезжает в Париж, а наш герой женится на своей невесте и полностью встраивается в общество. В конец, после смерти жены, герой с сыном (ныне – уже состоявшимся молодым дельцом) отправляются в Париж, где намерены навестить графиню Оленскую. По пути к ее квартире сын сообщает отцу, что ему известна цель их визита – встреча с несбывшейся любовью всей жизни отца: мать рассказала ему все, много лет назад… Узнав об этом, герой решает не посещать графиню Оленскую.
В этом и состоит «невинность» его жены: совсем не инженю, блаженно не ведающая об эмоциональных бурях жениха, она знала всё – и тем не менее оставалась в роли инженю, тем самым храня счастье своего брака: если бы муж знал, что она знает, их счастье не было бы возможно. Чтобы понять «невинность», вынесенную в заглавие романа, необходимо ввести Лаканово понятие большого Другого qua поля общественного этикета и приличий: «эпоха невинности» – это не время наивно-непосредственного принятия общественного этикета, а время, когда этикет столь сильно властвовал над людьми, что даже в самой сокровенной сфере – в любовных отношениях – требовалось соблюдать приличия; масок никто не сбрасывал. «Невинность» жены состояла в ее безоглядной преданности общественным приличиям: в некотором смысле она считала их серьезнее внутренних эмоциональных метаний. Таким образом, дело не в том, что это наивное доверие она лишь изображала, а в том, что она полностью и искренне верила в то, что было поверхностью общественного этикета.
Одно из возможных неверных толкований «Эпохи невинности» таково: герой, узнав об осведомленности своей покойной жены, полностью смещает направление своего желания, т. е. ее благородный жест – сыгранная непросвещенность – задним числом возносит ее до истинного объекта его желаний, и потому он отказывается от графини Оленской, пусть та наконец и сделалась доступна. В пику этому толкованию следует настаивать, что в некотором смысле графиня Оленская полностью утвердилась как абсолютный объект желания героя; не навестив графиню, герой повторяет жест «невинности» своей жены и жертвует объектом желания в пользу общественного этикета. Вкратце: объект желания утверждается как абсолютный лишь принесением его в жертву.
Вернемся к цинизму: как, в таком случае, Лакан избегает Сциллы цинической отстраненности, которое представляет язык как всего лишь внешнее средство, которым можно просто пользоваться, но не слишком приближается к Харибде наивной веры в перфомативную силу языка?
Когда у музыкантов из словенской пост-панк-группы «Лайбах» спросили об их отношении к Америке, те ответили: «Как и американцы, мы верим в Бога, но, в отличие от них, мы Ему не доверяем» (отсылка к надписи на долларовой банкноте, разумеется)! Покуда Бог – одно из имен большого Другого, это парадоксальное утверждение вполне складно описывает отношение «Лайбаха» к большому Другому языка: лакановец – не циник, признающий лишь удовольствие, он полагается на действенность большого Другого, но не доверяет ему, поскольку знает, что имеет дело с порядком видимости…
Как же, при ближайшем рассмотрении, нам мыслить «постмодернистскую» форму субъективности?
У Хичкока в «Окне во двор» отношения Джеймса Стюарта с тем, что он видит в окне, в целом есть отсылка к центральности его взгляда: на кону его положение власти (или бессилия) относительно того, что́ он видит во дворе, фантазии, которые он проецирует вовне, и т. д. Есть, однако, в этом и другая грань – грань, которая идеально подходит под то, что Лакан определил понятием «смешение субъектов [l’immixtion de sujets]»: привилегированному взгляду Джеймса Стюарта общественная действительность открывается как сосуществование множества индивидуальных или семейных судеб; любая единица этого множества образует свою исключительную вселенную сигнификации, со своими надеждами и горестями, и, хотя сосуществуют как части одного глобального механизма, они совершенно не ведают друг о друге, а вместе их удерживает не какая-то глубинная общая ось смыслов, а многочисленные случайные, «механические» столкновения, порождающие точечные следствия смысла (мелодия композитора спасает жизнь мисс Лонлихартс и т. д.). Главнейшее для опыта «смешения» – вот это понятие смысла как локального следствия глобальной бессмыслицы: смешение отдельных жизней переживается как слепой механизм, в котором, вопреки нехватке какой бы то ни было Цели, управляющей потоком событий, «все работает», и потому от наблюдения этого единства получается таинственный, странно умиротворяющий, почти мистический опыт.
На более высоком технологическом уровне подобный эффект имеется и в «Щепке» (1993): эксцентричный миллионер, хозяин большого многоквартирного дома, обустраивает квартиры скрытыми камерами, чтобы наблюдать на множестве экранов происходящее в самых потайных уголках его башни, – как люди занимаются любовью, растлевают детей, обсуждают финансовые секреты, недоступные публичному взору… Как и в «Окне во дворе», однако, «смешение субъектов» остается привязанным к центральному вуайеристскому взгляду, который есть часть диегетической действительности, – взгляд миллионера из своего убежища.
Великая революция Роберта Олтмена – в том, что он отвязал этот эффект смешения от привилегированного диегетического взгляда. Эта тенденция, впервые проявившаяся в «Нэшвилле» (1975), достигает безупречного пика в «Коротких историях». Судьбы девяти отдельных групп (в основном – семей) связывает воедино не взгляд некоего скрытого вуайериста, а вертолеты, распыляющие инсектицид над Лос-Анжелесом – метафорой разлагающегося мегаполиса. Эти девять линий переплетаются совершенно случайно, и одно и то же событие, вписанное в разнородные последовательности, обретает совершенно несоизмеримые значения. Лили Томлин сбивает на машине ребенка, например: эта авария запускает примирение Томлин с ее пьяным мужем, трагедию в семье ребенка, странную дружбу между сломленными родителями и булочником (Лайл Ловетт), досаждающим им за то, что они забыли именинный пирог ребенка, непристойное неуместное признание дедушки ребенка (Джек Леммон) отцу ребенка, дедушкин неожиданный сердечный контакт с афроамериканской парой в больнице и т. д. (В научно-фантастической истории логика несоизмеримости доводится до предела: в недалеком будущем ученые открывают, что комета, возвестившая о рождении Христа в небе над Вифлеемом, – след громадной космической катастрофы, разрушения благородной, высокоразвитой иной цивилизации.)
Тема «Коротких историй», следовательно, – не распад или невозможность коммуникации, а, скорее, ее полностью случайный характер: тут одновременно и недостаточно, и слишком много ее, поскольку контакт всегда возникает как непредвиденный побочный продукт. Олтмен предлагает самый точный на тот момент портрет человека эпохи позднего капитализма, «постмодернистское» смешение субъектов, где коллективность более не переживается как коллективный Субъект или глобальный Проект, а есть лишь безличный, бессмысленный механизм, производящий множественные и предельно не соизмеримые значения как точечные случайные результаты.
Какова же во всем этом судьба сексуальности? Одно из нынешних общих мест состоит в том, что настоящий половой контакт с «настоящим другим» все более теряет под собой почву, уступает ее мастурбационному удовольствию, единственная опора которого – виртуальный другой: секс по телефону, порнография, компьютеризованный «виртуальный секс»…
Ответ Лакана на это таков: сначала нам следует извлечь на свет миф о «настоящем сексе», который якобы возможен «до» появления виртуального секса; Лаканов тезис «сексуальных отношений не существует» означает в точности то, что структура «настоящего» полового акта (акта с партнером из плоти и крови) – внутренне фантастичен, поскольку «настоящее» тело другого служит лишь поддержкой проекциям нашей фантазии. Иными словами, «виртуальный секс», при котором перчатка воссоздает стимулы того, что мы видим на экране, и т. п. – не чудовищное искажение настоящего секса, а попросту выявление его глубинной призрачной структуры.
Босния
Давайте сделаем шаг от общего к частному случаю насилия – к войне в Боснии. Одна из повторяющихся тем в СМИ – сострадание к жертвам Боснийской войны…
В отличном рассказе Патриции Хайсмит «Черепаха» (из ее первого сборника «Одиннадцать») мать восьмилетнего мальчика приносит домой живую черепаху, которую собирается приготовить на ужин. Чтобы черепаховое мясо получилось вкусным, черепаху надо варить живьем, и это приводит к катастрофе: в присутствии сына мать кладет черепаху в кипящую воду и накрывает кастрюлю крышкой; животное отчаянно пытается спастись, цепляется за край кастрюли передними лапами и, подняв крышку головой, выглядывает наружу; на миг, прежде чем мать запихивает черепаху ложкой обратно в кастрюлю, сын встречается взглядом с умирающим животным; травматическое воздействие этого взгляда настолько сильно, что мальчик закалывает мать до смерти кухонным ножом… Травматический элемент, таким образом, взгляд беззащитного другого – ребенка, животного, – который не понимает, почему с ним происходит нечто столь кошмарное и бессмысленные: не взгляд героя, готового пожертвовать собой ради некой Цели, а взгляд растерянной жертвы. И в Сараево мы имеем дело с тем же растерянным взглядом. Недостаточно сказать, что Запад лишь безучастно наблюдает бойню в Сараево и не желает действовать или даже понимать, что на самом деле происходит: истинные пассивные наблюдатели – жители самого Сараево, которые могут лишь свидетельствовать ужасам, которым их подвергли, но не могут понять, как нечто столь кошмарное вообще возможно. Этот взгляд делает виновными нас всех.
Сострадание к жертве – тот самый способ, каким можно избежать невыносимого давления этого взгляда. Как? Примеры «сострадания бедам Боснии», какими изобилуют СМИ, идеально иллюстрируют тезис Лакана о «рефлективной» природе человеческого желания: желание есть всегда желание желания. Иными словами, эти примеры показывают, в первую очередь, что сострадание есть способ оставаться на подходящем расстоянии от соседа в беде. Недавно австрийцы организовали громадную акцию сбора помощи бывшей Югославии под девизом «Nachbar im Not! (Сосед в беде!)» – глубинная логика этого девиза была ясна всем и каждому: чтобы сосед остался соседом на удобном расстоянии и не заявился к нам на порог, ему нужно заплатить. Иначе говоря, наше сострадание, именно поскольку оно «искреннее», предполагает, что в нем мы воспринимаем себя в том виде, в каком себе милы: жертва представляется такой, чтобы мы себе самим, глядя на жертву издалека, нравились…
Каков же, в таком случае, статус знаменитых балканских «архаических этнических страстей», какие обычно вспоминаются к слову о войне в Боснии?
В книге «Ибо не ведают они, что творят» я рассказываю одну известную историю об антропологической экспедиции, которая пыталась установить контакт с диким племенем в новозеландских джунглях, которое якобы исполняло устрашающий боевой танец в жутких масках. Добравшись однажды вечером до этого племени, исследователи попросили аборигенов сплясать для них, и танец, исполненный для них наутро, в общем, совпал с описанием; удовлетворенные ученые вернулись к цивилизации и написали доклад о диких ритуалах примитивного народа, снискавший немалую славу. Вскоре до этого племени добралась другая экспедиция, ее участники научились разговаривать на их языке и узнали, что та жуткая пляска как таковая не существует: из разговоров с первой группой исследователей аборигены как-то поняли, чего именно хотят чужаки, и быстро, в ту же ночь после прибытия экспедиции, изобрели танец специально для них, чтобы удовлетворить их запрос… Короче говоря, исследователи получили свое же сообщение от аборигенов – в ее перевернутой, истинной форме.
В этом и состоят чары, какие необходимо развеять, если есть желание понять, что такое югославский кризис: ничего автохтонного в его «этнических конфликтах» нет, взгляд Запада был включен в них с самого начала – Дэвид Оуэн[351] и компания суть нынешняя версия экспедиции к новозеландскому племени; они действуют и откликаются в точности так же и упускают то, что весь спектакль «старых ненавистей, внезапно прорвавшихся в их первобытной жестокости», – пляска, устроенная ради них, танец, за который Запад глубоко ответственен.
Так почему же Запад принимает этот сказ «вспышки этнических страстей»?
«Балканы» долгое время были одним из привилегированных мест приложения политических фантазий. Жиль Делёз как-то говорил: «si vous êtes pris le rêve de l’autre, vous êtes foutu» – если вы поддались грезе другого человека, вы пропали. В бывшей Югославии мы пропали не потому, что наши примитивные грезы и мифы не позволили нам говорить на просвещенном языке Европы, а потому что мы платим плотью за то, что мы – содержимое чужой мечты. Фантазия, которая организовала восприятие бывшей Югославии, – в том, что «Балканы» есть Другой Запада: место диких этнических конфликтов, давным-давно преодоленных в цивилизованной Европе; место, где ничто не забыто и ничто не понято, где старые травмы все болят и болят; где символическая связь одновременно и обесценена (нарушены десятки договоров о прекращении огня), и переоценена (примитивные воинские понятия о чести и гордости).
На этом фоне процветают многочисленные мифы. Для «демократических левых» Югославия Тито была миражом «третьего пути» самоуправления вне капитализма и государственного социализма; для тонких людей культуры это была экзотическая страна освежающего фольклорного многообразия (фильмы Макавеева и Кустурицы); для Милана Кундеры – место, где идиллия Mitteleuropa[352] соединяется с восточным варварством; для западной Realpolitik[353] конца 1980-х распад Югославии стал метафорой того, что могло случиться с Советским Союзом; для Франции и Великобритании это оживило призрак немецкого Четвертого рейха, возмутивший хрупкое равновесие европейской политики; а за всем этим мелькает первобытная травма Сараево, Балкан как пороха, грозящего поджечь всю Европу… Вовсе не Другой для Европы, бывшая Югославия была, скорее самой Европой в ее Инакости, экраном, на который Европа проецировала свою подавленную изнанку.
Как же не вспомнить, к слову о европейском наблюдении за Балканами, утверждение Гегеля, что подлинное Зло – не в объекте, воспринимаемом как плохой, а в невинном взгляде, который всюду видит Зло? Главное препятствие миру в бывшей Югославии – не «архаические этнические страсти», а сам этот невинный взгляд Европы, завороженный зрелищем таких страстей. В пику сегодняшним журналистским клише о Балканах как о дурдоме процветающих национализмов, где законы разумного поведения отставлены, следует вновь и вновь подчеркивать, что движения любой политической силы в бывшей Югославии, какими бы предосудительными ни были, совершенно рациональны относительно целей, которых эти силы хотят достичь, а единственное исключение, единственный подлинно иррациональный фактор – взгляд Запада, болтающего об архаических этнических страстях.
Почему Запад так зачарован образом Сараево, этого города-жертвы par excellence?
Без либидинальной экономики этой виктимизации объяснить, что именно происходило последние два года в Сараево невозможно.
Имеет значение само географическое положение города: Сараево достаточно удален от Западной Европы, чтобы не считаться его частью; он окрашен экзотической балканской таинственностью, но все же достаточно близок, чтобы мы содрогались при мысли о нем (постоянная тема европейских СМИ – «Вдумайтесь, это не какая-нибудь далекая страна Третьего мира, это вот тут, близко к самому сердцу Европы, всего в двух часах лета от нас – и такой ужас!»). Так вот, предпринял ли Запад что-нибудь?
Как говорила Аленка Зупанчич[354], член Словенского лакановского внутреннего кружка, в своем проницательном анализе, Запад выдал ровно столько гуманитарной помощи, чтобы город выжил, применил ровно столько давления на сербов, чтобы не дать им занять город; и все же этого давления не хватило, чтобы прорвать осаду и позволить городу свободно дышать, – словно скрытым желанием было сохранение Сараево в своего рода вневременном стоп-кадре, меж двух смертей, под видом живого мертвеца, жертвы, увековеченной в ее мучениях. Лакан давным-давно обратил наше внимание на фундаментальную черту фантазии де Сада, увековечивание мучений: жертва – обычно молодая, красивая, невинная женщина – бесконечно терзаема аристократами-декадентами, но при этом чудесным образом сохраняет красоту и не умирает, словно выше или ниже ее материального тела владеет другим, эфирным, тонким. С телом города Сараево обращаются как с телом фантазии, запечатленном в неизменности страдания, вне времени и эмпирического пространства.
Особенно интересна здесь общая система такого восприятия Сараево: этот город – не что иное, как особый случай того, что, вероятно, есть ключевая черта идеологического стечения особенностей, которое характеризует нашу эпоху мировой победы либеральной демократии: универсализация понятия жертвы. Исчерпывающее доказательство того, что мы имеем дело с идеологией в чистейшем виде, – в том, что это понятие жертвы переживается как внеидеологическое par excellence: привычный образ жертвы – невинно-невежественное дитя (или женщина), которое расплачивается за политико-идеологические властные войны. Есть ли что-либо более «неидеологическое», чем эта боль другого в оголенном, немом, осязаемом присутствии? Не делает ли эта боль любые идеологические Цели ничтожными? Этот растерянный взгляд голодающего или раненого ребенка, который лишь смотрит в объектив, потерянный и непонимающий, что вокруг происходит, – голодная сомалийская девочка, мальчик из Сараево, которому гранатой оторвало ногу, – ныне возвышенный образ, затмевающий все прочие, кадр, за которым гоняются все фоторепортеры.
Виктимизация, таким образом, универсализирована, она простирается от полового насилия до унижения жертв СПИДа, от жестокой судьбы бездомных до вынужденных пассивно вдыхать сигаретный дым, от голодающих детей в Сомали до жертв бомбардировок Сараево, от мучимых в лабораториях животных до умирающих деревьев в тропических лесах. Это часть публичного образа кино– или рок-звезды – иметь любимую жертву: у Ричарда Гира это тибетцы, жертвы коммунистической власти, у Элизабет Тейлор – жертвы СПИДа, у покойной Одри Хепберн – голодающие сомалийские детишки; у Ванессы Редгрейв – дети, пострадавшие от гражданской войны в бывшей Югославии, у Стинга – тропические леса; у престарелой Брижит Бардо – жестокая судьба животных, убиваемых ради меха… Случай с Ванессой Редгрейв особенно показателен: закоренелый троцкист, который внезапно начинает говорить на языке абстрактной виктимизации, избегая, как вампир – чеснока, предметного анализа политики, приведшей к ужасам в Боснии. Неудивительно, что крупнейший хит в жанре классической музыки за последние годы (два миллиона дисков продано в одной лишь Европе) – Третья симфония Хенрика Горецкого, великий плач по судьбе всех мыслимых жертв, очень уместно названный «Симфонией скорбных песен». Сама философия поспешила добавить к этой всеобщей виктимизации: в книге «Contingency, Irony and Solidarity», Ричард Рорти, самый что ни есть философ либерально-демократического плюрализма, определяет человека как такового как потенциальную жертву, как «нечто, чему можно сделать больно».
Так в чем же дело? Что скрывает этот воображаемый образ жертвы?
Воображаемый образ, его обездвиживающая сила зачаровывать, подрывает нашу способность к действию – как говорил Лакан, мы «преодолеваем фантазию» действием. Этика сострадания жертве в «постмодерне» оправдывает избегание, постоянное откладывание действия. Любая «гуманитарная» деятельность помощи жертвам, любое питание, одежда и медикаменты боснийцам – для того, чтобы затуманить необходимость действия. Множество частных этик, процветающих в наши дни (этика экологии, медицинская этика…) следует воспринимать именно как попытку избежать этики подлинной, этики ДЕЙСТВИЯ наяву. Мы сталкиваемся здесь с по-настоящему диалектическим напряжением между общим и частным: вовсе не пример всеобщего, в которое оно включено, частное находится с общим в противостоянии. Не то же ли верно и для постмодернистского утверждения множества субъективных позиций против призрака Субъекта (отверженной картезианской иллюзии)?
Поэтому превозносимое либерально-демократическое «право на инакость» и анти-евроцентризм встают в подлинном свете: другой Третьего мира признается жертвой, т. е. постольку, поскольку он – жертва. Истинный объект тревоги – в том, что другой более не готов играть роль жертвы, и этот другой быстренько переименовывается в «террориста», «фундаменталиста» и пр. Сомалийцы, к примеру, претерпевают истинно Клейново расщепление на «хороший» и «плохой» объект; с одной стороны – хороший: пассивные жертвы, страдающие, голодные дети и женщины; с другой – плохой: фанатики-военные, которых интересует их власть и идеологические цели, а не благополучие собственного народа. Хороший другой – в анонимной пассивной всеобщности жертвы – но стоит нам столкнуться с настоящим/деятельным другим, вечно найдется чем его попрекнуть: патриархальностью, фанатизмом, нетерпимостью…
Это двусмысленное отношение к жертве вписано в само основание современной американской культуры; оно различимо в «Искателях» Джона Форда и в «Таксисте» Мартина Скорсезе: в обоих случаях герой стремится вырвать жертву-женщину от лап злого Другого (американских индейцев, корыстного сутенера), но жертва словно сопротивляется своему же освобождению, словно находит непостижимое удовольствие в своем же страдании. Разве не свирепый passage à l’acte героя де Ниро (Трэвиса) – не взрыв, посредством которого субъект преодолевает тупик жертвы, отказывающейся от избавления? Не этот же ли либидинальный тупик – в основе травмы Вьетнама, где вьетнамцы тоже сопротивлялись помощи американцев? И, наконец, но не в последнюю очередь, – не различима ли подобная же неоднозначность в «политкорректной» мужской одержимости женщиной как жертвой полового насилия? Не подогреваема ли эта одержимость непризнанным страхом, что женщина, возможно, как-то получает удовольствие от насилия и потому не держится от него подальше? (Кстати, одно из внутренних противоречий деконструкционистов политкорректности – в том, что, хотя на уровне произносимого они прекрасно знают, что никакой субъект, даже самый презренный расист или сексист, не нацело отвечает за свои поступки (а, следовательно, не виновен в них), т. е. «ответственность» есть законодательный вымысел, который требует деконструкции, но они, тем не менее, на уровне субъективной позиции речи, обращаются с расистами и сексистами как с полностью ответственными за свои поступки.)
Универсализация понятия жертвы, таким образом, сводится к двум аспектам. С одной стороны, есть жертвы Третьего мира: состраданием к жертвам местных военщины-фанатиков-фундаменталистов определяется (ошибочное) восприятие нынешнего Великого раздела между теми, кто Внутри (включая общество закона и порядка с пособиями и правами человека), и теми, кто Вне (от бездомных в наших же городах до голодающих африканцев и азиатов). С другой стороны, параллельная виктимизация субъектов либерально-демократических обществ указывает на сдвиг главенствующей формы субъективности в сторону того, что обычно именуют «патологическим нарциссизмом»: Другой как таковой все более воспринимается как потенциальная угроза, как нечто, посягающее на пространство моего самоотождествления (курением, громким смехом, сальными взглядами…). Нетрудно установить, чего подобное отношение отчаянно пытается избежать: желания как такового, которое, как мы знаем от Лакана, всегда есть желание Другого. Другой представляет угрозу постольку, поскольку он субъект желания, поскольку оно излучает непроницаемое желание, которое будто бы посягает на замкнутое равновесие моего «способа жить».
Маркс отличал «классическую» буржуазную политэкономию (Рикардо) от «апологетической» (Мальтус[355] и далее): «классика» делает зримыми внутренние противоречия капиталистической экономики, а «апологетика» заметает их под ковер. Mutatis mutandis то же применимо и относительно либерально-демократической мысли: она достигает некоего величия, когда являет внутренне противоречивый характер либерально-демократического проекта. Противоречие касается, поверх всего прочего, отношений между общим и частным: либерально-универсалистское «право на инакость» упирается в свои ограничения, когда натыкается на настоящие различия. Достаточно помянуть удаление клитора, осуществляемое в знак достижения женщиной половой зрелости, практику, распространенной в некоторых частях Восточной Африки (или, как более умеренный пример, настояние, чтобы все мусульманские женщины во Франции носили платки в государственных школах): а ну как меньшинство заявит, что эта «инакость» есть неотъемлемая часть их культуры и, следовательно, отвергнет оппозицию удалению клитора как проявление культурного империализма, как жестокое навязывание европоцентричных стандартов? Как нам выбрать между соперничающими заявлениями прав индивидов и групп, когда групповое самоопределение есть значительная часть самоопределения индивида? Обычный либеральный ответ, разумеется, таков: пусть женщина сама решает, чего она хочет, при условии, что ее как следует познакомили со всеми возможностями выбора, чтобы она полностью сознавала более широкий контекст своего выбора. Иллюзия здесь – в глубинной трудности того, что нейтрального способа познакомить индивида с полным набором возможностей нет: частное сообщество, оказавшись под угрозой, неизбежно переживает конкретную форму получения знания о других стилях жизни (обязательное образование, например) как насильственное вторжение, угрожающее групповому самоопределению. (По этой причине амиши в США отказываются от обязательного образования для своих детей: они довольно оправданно возражают, что посещение государственных школ вмешивается в их групповое самоопределение.) Короче говоря, насилия избежать нельзя: сама нейтральная среда информации, которая должна бы вроде предоставлять истинно свободный выбор, уже отмечена неустранимым насилием.
Примечания
1
Sigmund Freud, Notes upon Case of Obsessional Neurosis, в: James Strachey, ред., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, т. 10, Лондон: Hogarth Press, 1955, стр. 166–167. [Рус. изд.: «Заметки об одном случае невроза навязчивого состояния»; Зигмунд Фрейд. Собрание сочинений в 26 томах. Том 4. Навязчивые состояния. Человек-крыса. Человек-волк. Пер. С. Панкова, М.: Восточно-европейский институт психоанализа, 2007. – Примеч. перев.] – Здесь и далее примечания автора, кроме оговоренных особо.
(обратно)2
Женское наслаждение (фр.) – Примеч. перев.
(обратно)3
Устаревший (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)4
Jeffrey Masson, The Assault on Truth, Нью-Йорк: Farrar, Straus and Giroux, 1984. [Джеффри Мэссон (р. 1941) – американский писатель, исследователь жизни и трудов Фрейда. – Примеч. перев.]
(обратно)5
Из этого очевидно следует, что «политкорректность» борется попросту с проявлением желаний другого человека.
(обратно)6
Гуманитарные науки (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)7
Естественные науки (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)8
Жак-Ален Миллер (р. 1944) – французский психоаналитик лакановской школы. – Примеч. перев.
(обратно)9
Франкфуртская школа – критическая теория современного (индустриального) общества, разновидность неомарксизма. Основные представители: Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер Беньямин, Лео Лёвенталь, Франц Леопольд Нейман, Фридрих Поллок, из «второго поколения» – Юрген Хабермас, Оскар Негт. – Примеч. перев.
(обратно)10
Жак Мари Эмиль Лакан (1901–1981) – французский философ, фрейдист, структуралист, постструктуралист, психиатр. – Примеч. перев.
(обратно)11
Russell Jacoby, Social Amnesia: A Critique of Contemporary Psychology (Бостон: Beacon Press, 1975; Пискэтэуэй: Transaction, 1997).
(обратно)12
Рассел Джейкоби (р. 1945) – американский историк культуры, писатель, специалист в области истории интеллекта и образования ХХ в.; Альфред Адлер (1870–1937) – австрийский психолог, психиатр, мыслитель, создатель системы индивидуальной психологии; Рональд Дэвид Лэйнг (1927–1989) – шотландский психиатр, много писавший о заболеваниях психики, в первую очередь о переживаниях во время психоза; Карл Густав Юнг (1875–1961) – швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии, – аналитической психологии; Эрих Зелигманн Фромм (1900–1980) – немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель Франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма; Карен Хорни (1885–1952) – американский психоаналитик и психолог, одна из ключевых фигур неофрейдизма; Гарри Стек Салливэн (1892–1949) – американский психолог и психиатр, представитель неофрейдизма, основатель интерперсонального психоанализа; Гордон Уиллард Олпорт (1897–1967) – американский психолог, автор теории черт личности; Виктор Эмиль Франкл (1905–1997) – австрийский психиатр, психолог, невролог, создатель метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии; Абрахам Хэролд Маслоу (1908–1970) – американский психолог, основатель гуманистической психологии. – Примеч. перев.
(обратно)13
Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно (1903–1969) – немецкий философ, социолог, композитор и теоретик музыки; Герберт Маркузе (1898–1979) – немецкий и американский философ, социолог и культуролог. – Примеч. перев.
(обратно)14
Jacoby, стр. 31.
(обратно)15
Jacoby, стр. 31.
(обратно)16
Джейкоби цитирует следующий пассаж из письма, опубликованного Джоунзом, в котором любой внутренний порыв рассматривается как интернализация исходно внешнего давления: «Любое внутреннее подавляющее препятствие есть исторический результат препятствия внешнего. Т. е. противостояние встроено внутрь [Verinnerlichung der Widerstnde]: история человечества встроена в нынешние врожденные склонности к подавлению» (там же, стр. 32).
(обратно)17
Theodor W. Adorno, Zum Verhltnis von Soziologie und Psychologie, в: Gesellschaftstheorie und Kulturkrìtic, Франкфурт: Suhrkamp, 1975, стр. 122.
(обратно)18
Там же, стр. 131.
(обратно)19
Там же, стр. 132
(обратно)20
Jacoby, стр. 27–28.
(обратно)21
Adorno, Zum Verhltnis, стр. 97.
(обратно)22
Там же, стр. 106.
(обратно)23
Там же, стр. 113.
(обратно)24
Там же, стр. 110.
(обратно)25
Сам Фрейд не смог избежать этого «короткого замыкания» между либидинальной жизнью и общественной действительностью: парадоксальная перевернутость его неверного распознания общественного содержимого – в поспешном переводе психического содержания в предположительно действительные общественные события, как в случае с его постулатом доисторического факта отцеубийства, а этот постулат имеет основания, только если забыть главный принцип психоаналитической теории, согласно которому «общественная действительность входит в бессознательное лишь в той мере, в какой она “переведена” на язык Ид» (там же, стр. 112).
(обратно)26
Jacoby, стр. 120, 122.
(обратно)27
Там же, стр. 125.
(обратно)28
Как (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)29
Adorno, Zum Verhltnis, стр. 133.
(обратно)30
Theodor W. Adorno, Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda, в: The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, Лондон: Routledge, 1991, стр. 132.
(обратно)31
…daβ, was Es war, Ich werden soll: Адорно принципиально меняет подход Фрейда wo es war, soll ich werden, в котором нет упоминаний о quidditas [суть предмета (лат.) – примеч. перев.], о том, «что есть ид», а лишь о месте, о том, «где было оно»: где было оно, там буду я.
(обратно)32
Рус. изд., напр.: З. Фрейд. Психология масс и анализ человеческого «Я». Пер. Н. Столляра. М.: Современные проблемы, 1926, М.: Академический проект, 2014. – Примеч. перев.
(обратно)33
Adorno, Freudian Theory, стр. 130–131.
(обратно)34
В строгом смысле (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)35
Adorno, Zum Verhältnis, стр. 134.
(обратно)36
Там же, стр. 133.
(обратно)37
Там же.
(обратно)38
См. Theodor W. Adorno, Beitrag zur Ideologienlehre, в: Gesammelte Schriften: ldeologie, Франкфурт: Suhrkamp, 1972.
(обратно)39
Зд.: касательно (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)40
Гаэтан Анри Альфред Эдуар Леон Мари Гасьян де Клерамбо (1872–1934) – французский психиатр, доктор медицины, один из исследователей психического автоматизма. – Примеч. перев.
(обратно)41
The Seminar of Jacques Lacan. Book III: The Psychoses (1955–1956), Нью-Йорк: Norton, 1993, стр. 251. (Рус. изд.: Жак Лакан. Семинары. Книга 3. Психозы. 1955–1956. Пер. А. Черноглазова. М.: Логос-Гнозис, 2014. Здесь и далее цит. по этому изданию. – Примеч. перев.)
(обратно)42
The Seminar of Jacques Lacan. Book III: The Psychoses (1955–1956), Нью-Йорк: Norton, 1993, стр. 251. (Рус. изд.: Жак Лакан. Семинары. Книга 3. Психозы. 1955–1956. Пер. А. Черноглазова. М.: Логос-Гнозис, 2014. Здесь и далее цит. по этому изданию. – Примеч. перев.)
(обратно)43
Даниэль Пауль Шребер (1842–1911) – немецкий судья, страдавший параноидальной шизофренией. – Примеч. перев.
(обратно)44
Sigmund Freud, Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Schreber), в: Case Histories II, Хармондсуорт: Penguin, 1979, стр. 156.
(обратно)45
О «сверх-я» и вселенной Кафки см.: Slavoj Žižek, For They Know Not What They Do, Лондон: Verso, 1991, стр. 236–241.
(обратно)46
Кому выгодно? (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)47
The Seminar of Jacques Lacan. Book III. стр. 251.
(обратно)48
В случае Шребера соответствующее явление – его потребность в постоянном сопровождении речью Бога: у него «нет больше привычной уверенности в значениях, ее сообщает лишь постоянный комментарий его поступков и действий» (там же, стр. 307). Некоторые толкователи Фрейда и критики Лакана считают текст Фрейда о Шребере патриархально-реакционистским сокрытием невыносимой правды текстов Шребера – желания Шребера стать «женщиной, преисполненной духа [geistreiches Weib]», следует воспринимать как предчувствие непатриархального общества, но лишь патриархальная точка зрения может свести подобные утверждения к выражению «подавленной гомосексуальности» или «несостоявшегося отцовства». В противовес подобным прочтениям следует вспомнить о фундаментальном структурном подобии «виде́ний» Шребера и «мировоззрения» Гитлера (вселенский план, мировой катаклизм, а вслед за ним перерождение и т. д.): нетрудно вообразить, что в других обстоятельствах Шребер мог бы стать подобным Гитлеру политиком.
(обратно)49
Юрген Хабермас (р. 1929) – немецкий философ и социолог, считается представителем Франкфуртской школы и крупнейшим современным философом Германии.
(обратно)50
Вильгельм Дильтей (1833–1911) – немецкий историк культуры и философ-идеалист, представитель «философии жизни», литературовед, впервые ввел понятие так называемых наук о духе.
(обратно)51
Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest, Лондон: Heinemann, 1972, стр. 217–218.
(обратно)52
Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest, Лондон: Heinemann, 1972, стр. 217–218.
(обратно)53
Там же, стр. 226.
(обратно)54
Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest, Лондон: Heinemann, 1972, стр. 257.
(обратно)55
Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest, Лондон: Heinemann, 1972, стр. 235–236.
(обратно)56
То же касается и сексуальности, в пику Лакану, для которого половая разница есть не облекаемое в символы Реальное, увечащее символический порядок изнутри; поэтому Лаканов субъект означающего всегда «сексуализован» и никогда не нейтрально-асексуален.
(обратно)57
Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, Хармондсуорт: Penguin, 1977, стр. 757. [Рус. изд., напр.: З. Фрейд, Толкование сновидений. Пер. Я. Когана. М.: АСТ, Астрель, 2011. – Примеч. перев.]
(обратно)58
Так называемая «Римская речь» Лакана, произнесена на конгрессе романоязычных психоаналитиков в Риме; текст опубликован с некоторыми изменениями в сборнике Ecrits в 1966 г.; рус. изд.: М.: Гнозис, 1995, пер. А. Черноглазова, П. Скрябина. – Примеч. перев.
(обратно)59
The Seminar of Jacques Lacan. Book II: The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis (1954–1955), Нью-Йорк: Norton, 1991, стр. 325. [Рус. изд.: Жак Лакан. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. Семинар. Книга 2. 1954–1955. Пер. А. Черноглазова. М.: Логос-Гнозис, 2009. – Примеч. перев.]
(обратно)60
Будущее предшествующее (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)61
Грубый (неосмысленный) факт (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)62
Речь о книге американского философа Хьюберта Ледерера Дрейфуса (р. 1929) и американского культуролога-антрополога Пола Рабиноу (р. 1944) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Чикаго, University of Chicago Press, 1983; Мишель Фуко (1926–1984) – французский философ, теоретик культуры и историк. – Примеч. перев.
(обратно)63
Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychо-Analysis, Лондон: Hogarth Press, 1977, стр. 22. (Рус. изд.: Жак Лакан. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоанализа. Пер. А. Черноглазова. М.: Логос-Гнозис, 2004. Цит. по этому изданию. – Примеч. перев.)
(обратно)64
Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, Хармондсуорт: Penguin, 1977, стр. 757.
(обратно)65
В этом смысле статус свободы, по Канту, тоже действителен: свобода есть причинность нравственного закона как парадоксального предмета («голос долга»), которая отменяет действие цепи причинности явлений.
(обратно)66
Половой акт с проникновением сзади (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)67
Объект а (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)68
Подробно об экстимном, «поразительном» статусе объекта а см.: Mladen Dolar. I shall be with you on your wedding night: Lacan and the Uncanny, октябрь, 1958 (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1992), стр. 5–23.
(обратно)69
Этим символом («перечеркнутый субъект») Лакан с 1957 г. начал обозначать разделенного субъекта. – Примеч. перев.
(обратно)70
Исчезновение (греч.). – Примеч. перев.
(обратно)71
Парадокс этого объекта – objet petit a – состоит в том, что, пусть и воображаемый, он занимает место в Реальном, т. е. это не подлежащий осмыслению объект, объект, у которого нет зеркального отражения и который как таковой исключает любое отношение эмпатии, сочувственного признания. В курсе психоанализа анализанту предстоит достичь точки, в которой он переживает свою невозможную тождественность этой абсолютной инакости – «Ты есть то!». Ныне представления Лакана – часть doxa [общепринятых мнений (греч.) – примеч. перев.], и из-за этого мы менее чувствительны к тому, насколько поразителен знак равенства между plus-de-jouir [излишек удовольствия (фр.) – примеч. перев.] и objet a: между излишком удовольствия от любого позитивного объекта и, опять-таки, объектом. Иными словами, a в точности означает «невозможный» объект, который дает тело тому, что никогда не может стать позитивным объектом. В этом отношении пропасть, отделяющая Лакана от линии мысли, проходящей от Бергсона к Делёзу, неустранима: objet a означает, что либидо необходимо воспринимать не как резервуар свободной энергии, а как объект, как «бесплотный орган» («ламеллу»). Мы имеем дело с причиной: желание (т. е. субъект) имеет причину ровно в той же мере, в какой излишек удовольствия есть объект.
(обратно)72
Александр Кожев (рус. Александр Владимирович Кожевников, 1902–1968) – русско-французский философ-неогегельянец. – Примеч. перев.
(обратно)73
Истинный охват кантианской революции отражен в представлении о трансцендентном схематизме, который парадоксальнее, чем кажется: он означает прямо противоположное тому, что вроде бы имеет в виду. Он не означает, что, раз чистые образы чужеродны преходящему, конечному, чувственному опыту, между интеллектуальной системой априорных представлений и объектами чувственной интуиции должен существовать посредник. Напротив, он означает, что время (поскольку схематизм касается
(обратно)74
Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, стр. 270.
(обратно)75
Там же.
(обратно)76
В этом парадоксе легко различить типичный гегельянский подход: вопрос не в том, как доказать, посредством диалектической софистики, окончательное тождество противоположностей, необходимости и случайности (как подталкивает нас ожидать расхожее представление о «гегельянстве»), а, напротив, как отличить одно от другого на строгом понятийном уровне; конечно, по Гегелю, единственный способ различить их – определить необходимость самой случайности.
(обратно)77
До бесконечности (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)78
Здесь Гегель подрывает устои куда мощнее, чем его критики – например, тот же Шеллинг [Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775–1854) – немецкий философ, представитель классической немецкой философии, выдающийся представитель идеализма в новой философии. – Примеч. перев.], – которые упрекают его в «отрицании» случайности в полностью постижимой необходимости Понятия. Шеллинг сводит пределы понятийных умозаключений к априорно идеальной структуре возможности вещи – воплощение этой возможности зависит он случайности действительных оснований бытия сущности, «иррациональной» Воли. Согласно Шеллингу, ошибка Гегеля заключается в «его стремлении вывести случайный факт бытия из понятия: чистое понятие о вещи может сообщить лишь, что́ есть вещь, но никак не факт, что вещь имеется. Но сам же Шеллинг и исключает случайность из пространства понятия: оно есть исключительно необходимость, т. е. для Шеллинга остается немыслимой случайность, свойственная самому́ понятию.
Отношения между Шеллингом и Гегелем можно также представить как отношения между двумя сторонами Лаканова Реального: чистая случайность «иррационального», до-логического хаоса и бессмысленного логического конструкта. Гегелева логика («Господь прежде своего творения вселенной») стремится достичь того, что Лакан позднее мыслил «матемами»: она не открывает никаких «горизонтов смысла», а просто выдает пустой, бессмысленный контур, который позднее наполняется тем или иным символическим содержимым (это предмет философии духа). В этом отношении логика Гегеля совершенно противоположна философии Шеллинга, в которой Реальное есть области божественных порывов (см. Главу 5). Легко представить Шеллинга как предвестника позднего Лакана и установить связь между Шеллинговой критикой идеализма (за неприятие в расчет Реального в Боге) и настоянием Лакана, что Реальное как нечто, сопротивляющееся символизации, символической интеграции-опосредованию; однако подобное поспешное сведение Реального к пропасти «иррациональных» порывов пролетает мимо ключевого представления Лакана: Реальное в то же самое время есть «матема», чисто логическое образование, которому нет соответствий в «действительности».
(обратно)79
Причина самого себя (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)80
Бенедикт Спиноза (Барух Спиноза, 1632–1677) – нидерландский философ-рационалист, натуралист, один из главных представителей философии Нового времени. – Примеч. перев.
(обратно)81
Hegel’s Science of Logic, Атлантик-Хайлендз, Нью-Джерси: Humanities Press International, 1989, стр. 580.
(обратно)82
Видимость, кажимость (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)83
Там же, стр. 554.
(обратно)84
Пока субъект qua абсолют есть сам Schein, т. е. пока статус субъекта, по сути, внешний, как у «призрачной» поверхности, Гегелево противопоставление субстанции/субъекта подрывает привычную метафизическую двойственность сути и видимости и как таковое близко к делёзовскому противопоставлению непроницаемо глубинного и поверхностного явлений. Об этой неожиданной связи между Гегелем и Делёзом см. в последней части этой главы.
(обратно)85
Зд. и далее: касательно (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)86
Дух (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)87
G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit. Оксфорд: Oxford University Press, 1977, стр. 391. [Рус. изд., напр.: Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. Пер. Г. Шпета. СПб.: Наука, 1992. – Примеч. перев.]
(обратно)88
Более подробное рассмотрение этого парадокса происходит в: Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology. Лондон: Verso, 1989. Верно и обратное: если нечто явлено нам как грубое, бессмысленное, необоснованное положение вещей, это следствие и нашего «постановления». Довольно вспомнить раннебуржуазное сопротивление феодальному подавлению. Одна из постоянных тем раннебуржуазной мелодрамы (романа «Кларисса, или История молодой дамы» [1748] Ричардсона, к примеру) – отчаянная борьба девушки из буржуазии с интригами феодального распутника, угрожающего ее невинности. Самое важное здесь – символическая мутация: субъект (девушка) переживает как невыносимое давление на свою свободную личность то, что прежде было просто общественным порядком, в котором эта девушка жила. Недостаточно сказать, что индивид «осознает» (феодальное) подавление: в такой формулировке теряется перфомативная грань, т. е. что посредством акта «осознания» субъект определяет общественные условия как оказывающие невыносимое давление на свободную личность и тем самым определяет себя как «свободную личность».
(обратно)89
G. W. F. Hegel, Lectures on the Philosophy of Religion, т. III, Беркли: University of California Press, 1985, стр. 345. [Рус. изд., напр.: Г. В. Ф. Гегель. Философия религии. В 2-х томах. Пер. М. И. Левиной. М.: Мысль, 1975. – Примеч. перев.]
(обратно)90
О силлогическом устройстве христианства см.: John W. Burbidge, The Syllogisms of Revealed Religion, in Hegel on Logic and Religion, Олбени, Нью-Йорк: SUNY Press, 1992.
(обратно)91
Гегелева логика силлогизма, следовательно, основана на структуре «исчезающего среднего»: в заключении силлогизма исчезает третий элемент, который благодаря своей посреднической роли позволяет окончательное объединение (соитие) субъекта и предиката. (Гегель различает три основных типа умозаключений в точности по природе этого «исчезающего среднего»: частное, единичное и всеобщее.)
Есть искушение рассмотреть Лаканову «невозможность половых отношений» в понятиях этой силлогистической структуры: в противовес первому впечатлению, половые отношения имеют структуру не суда, не соития между двумя вовлеченными субъектами, а структуру силлогизма. Половые отношения, т. о., обречены на неудачу, поскольку в них мужчина не вступает в отношения с женщиной впрямую; в этих отношениях всегда есть посредник – третий термин, objet a: Джон желает а, объект-причину желания; Джон заведомо полагает, что у Мэри есть, в ней самой, этот самый а; Джон желает Мэри. Неувязка же в том, что такая расстановка непоправимо децентрирована относительно субъекта, которому приписывается: между а, т. е. фантазией, под видом которой субъект строит свои отношения с а, и конкретной женщиной, настоящее ядро которой – за пределами фантазии, пропасть непреодолима. Vulgari eloquentia [ «народное красноречие», попросту говоря (лат.) – Примеч. перев.]: мужчина думает, что трахает женщину, а на самом деле трахает фантазию, связанную с этой женщиной.
(обратно)92
Парафраз Мф. 27:46. – Примеч. перев.
(обратно)93
Недавний экологический кризис предлагает, возможно, ярчайшее наблюдение $ qua пустой, лишенной субстанции субъективности. В этом опыте возникает угроза самим основам нашей повседневной жизни, возмущен замкнутый цикл Реального, который «всегда возвращается к исходному состоянию»: ни с того ни с сего самые основные закономерности, источник нашего бытия – вода и воздух, смена времен года и т. д., этот природный фундамент нашей деятельности в обществе – оказываются чем-то случайным и ненадежным. Просвещенное ви́дение полного властвования человека над природой и ее эксплуатации оборачиваются нам изнанкой истины: мы не в силах полностью властвовать над природой – мы можем лишь нарушать режим ее жизни. Вот где «субстанция становится субъектом» – субъектом, лишенным фундаментальнейшей «вещественной» поддержки природы, которая всегда возвращается в равновесие и следует своим путем невзирая на общественные треволнения. Обычная реакция на экологический кризис – отчаянные попытки найти способ вернуть «природное равновесие» – есть попросту способ уклониться от подлинности такого кризиса: единственный метод иметь с ним дело – полностью принять опыт его предельной случайности.
(обратно)94
«Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» (1789–1790) – опера-буфф Вольфганга Амадея Моцарта на итальянском языке в двух действиях; автор либретто Лоренцо да Понте, он же написал либретто к операм Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». – Примеч. перев.
(обратно)95
«Не желаете говорить – я поговорю за вас», «За вас дам им ответ» (ит.). – Примеч. перев.
(обратно)96
На более глубоком уровне следует сосредоточиться на загадочных отношениях между Деспиной и Альфонсо: делая вид, что играют роль посредников в двух парах, они на самом ли деле объявляют о своей любви друг к другу. Коротко: не в том ли истина «Cosi fan tutte», что подлинно влюбленная пара, помеха которой – осознание любви, – Деспина и Альфонсо? Не разыгрывают ли они фарс с двумя другими перекрестно увлеченными парами, чтобы разрешить напряжение в своих же отношениях? Именно на этом взгляде основана великолепная постановка этой оперы Питером Селлерзом.
(обратно)97
«Ковер царя Соломона» (1991) – один из немногих романов Рут Ренделл (1930–2015), под псевдонимом Барбара Вайн, действие которого происходит в Лондоне. Рус. изд.: М.: Эксмо, 1991, пер. С. Резник. – Примеч. перев.
(обратно)98
Еще один пример «подземного» характера большого Другого – в американских фильмах Милоша Формана. Хотя действие почти во всех его кинокартинах происходит в Америке, никак не уйти от впечатления, что, в некотором смысле, американские фильмы остаются чешскими: их скрытая «духовная суть», их неуловимое «настроение» – чешские. Загадка, с которой мы здесь сталкиваемся, в том, как специфическая вселенная позднего чешского социализма могла содержать в себе универсальную грань, благодаря которой удалось создать матрицу для (довольно убедительного) описания современной американской жизни. Среди многочисленных похожих примеров достаточно вспомнить телефильм про Сталина с Робертом Дюваллом [ «Сталин» (1992) – Примеч. перев.]: быстро становится ясно, что скрытая отсылка этой картины – мафиозные саги а-ля «Крестный отец». На самом деле мы смотрим кино о борьбе за власть в мафиозном клане, где Ленин – престарелый и смертельно больной Дон, а Сталин и Троцкий – консильери, дерущиеся за наследование, и т. д.
(обратно)99
Более того, это утверждение «до-онтологического» статуса бессознательного внутренне двусмысленно: его можно понять (и именно так его на первых двух своих семинарах Лакан и понял) феноменологически как определяющее, что бессознательного в настоящем нет, но оно остается в futur antérier, «будет иметь место» – его нет как некой позитивной сущности, а его состоятельность – как у гипотезы, задним числом подтвержденной толковательным конструктом, который потом привносит смысл в разрозненные следы, сообщая их контексту значение. Лишь прочтение «до-онтологического» статуса бессознательного на фоне кантианского бесконечного суждения позволяет нам избежать этой феноменологической ловушки и придать бессознательному статус вне привычных феноменологических-онтологических различений.
(обратно)100
См. Hegel’s Philosophy of Mind, Оксфорд: Clarendon Press, 1992. [Рус. изд., напр.: Г. В. Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, в 3 т. (Наука логики. Философия природы. Философия духа). Пер. Е. Ситковского. М.: Мысль, 1977. – Примеч. перев.]
(обратно)101
Здесь мы полагаемся на великолепную, хоть и несколько однобокую реконструкцию Гегелевой системы доводов в гл. 7 (Hegelian Words: Analysis) книги Джона Маккамбера: John McCumber, The Company of Words: Hegel, Language, and Systematic Philosophy. Эванстон, Иллинойс: Northwestern University Press, 1993.
(обратно)102
Это, похоже, ускользает в толковании Дерриды: он мыслит «Механическую память» как своего рода «исчезающую среду», экстернализацию, которая, следовательно, самоустраняется во Внутренности Духа: устранением всего внутреннего содержания, состоящего из представлений, «Механическая память» открывается и поддерживает абсолютную Пустоту как среду Духа qua пространства, наполненного духовным содержанием. Вкратце: радикальным стиранием всего выраженного репрезентативного содержания «Механическая память» освобождает место для субъекта выражения. Самое главное здесь – взаимозависимость сведения знака к бессмысленному внешнему означающего и возникновение «изгнанного» субъекта qua чистой пустоты ($): здесь Гегель неожиданно близок с Альтюссером [Луи Пьер Альтюссер (1918–1990) – французский философ-неомарксист, создатель структуралистского марксизма, член Французской коммунистической партии. – Примеч. перев.], который тоже говорит о взаимозависимости идеологических государственных аппаратов (идеологической практики qua чистого внешнего в «механическом» ритуале) и процесса субъективации. Неувязка у Альтюссера, однако, в том, что ему не хватает понятия о субъекте означающего ($): сводя субъект к воображаемому опознанию в идеологическом смысле, он не замечает связи между появлением субъекта и радикальной утерей смысла в бессмысленном ритуале. На некоем другом уровне тот же парадокс определяет статус женщины у Вейнингера (см. гл. 6 этого издания) [Отто Вейнингер (1880–1903) – австрийский философ и психолог. – Примеч. перев.]: женщина есть субъект par excellence [зд.: в лучшем случае (фр.) – Примеч. перев.] точно в той мере, в какой положение женщины предполагает устранение всего духовного содержания – эта пустотность сталкивает нас с субъектом qua пустой емкостью смысла…
(обратно)103
«Иенская реальная философия» – лекции Гегеля «по философии природы и духа» (1805–1806). – Примеч. перев.
(обратно)104
G. W. F. Hegel, Jenaer Realphilosophie, Гамбург: Meiner, 1931, стр. 183.
(обратно)105
Малость действительности (букв., фр.). – Примеч. перев.
(обратно)106
Жиль Делёз (1925–1995) – французский философ, представитель континентальной философии, иногда относимый к постструктурализму.
(обратно)107
Зд.: До возникновения понятия (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)108
См.: McCumber, The Company of Words, стр. 130–143.
(обратно)109
Невесть что, нечто неуловимое (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)110
Знатоки (ит.). – Примеч. перев.
(обратно)111
См. гл. 1 в: Slavoj Žižek, For They Know Not What They Do, Лондон: Verso, 1991.
(обратно)112
Здесь и далее даны российские прокатные названия всех кинофильмов. – Примеч. перев.
(обратно)113
Неуставные отношения, «дедовщина». – Примеч. перев.
(обратно)114
Это проливает некоторый свет и на сопротивление Армии США легализации статуса гомосексуалистов в своих рядах: само либидинальное устройство армии латентно гомосексуально, т. е. «дух (военной) общины» зиждется на отрицаемой гомосекуальности, гомосексуальности отвергнутой, которой мешают достичь ее целей [zielgehemmte]. Поэтому открытое, публичное признание гомосексуальности подорвет извращенную «сублимацию», которая образует саму основу «духа (военной) общины».
(обратно)115
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) – русский философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства. – Примеч. перев.
(обратно)116
Народная общность; зд.: «единство немецкого народа» (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)117
Из сказанного должно быть очевидно, почему маркиз де Сад сам по себе садистом не был: он подорвал, сделал недействительной логику садизма, публично предъявив ее на письме, а именно это для настоящего садиста невыносимо. Настоящий садизм – явление «ночное», теневая изнанка институциональной власти, ему не пережить своего публичного обнародования. (Именно в этом смысле Лакан подчеркивает, что де Сад не был жертвой своих садистских фантазий: именно дистанция между его фантазией и им самим позволила ему разобраться в том, как она действует.) Все содержимое работ де Сада – «садистское», а не садистская составляющая в нем – в его позиции формулирования, т. е. в том, что имеется субъект, готовый формулировать. Этот акт облечения в слова садистской фантазии определяет де Сада на одной стороне с жертвой.
(обратно)118
Theodor W. Adorno. Minima Moralia (1951). Лондон, Verso, 2006.
(обратно)119
Жак Деррида (1930–2004) – французский философ и теоретик литературы, создатель концепции деконструкции. – Примеч. перев.
(обратно)120
См. Jean-Claude Milner, Les noms indistincts, Париж: Seuil, 1981. [Жан-Клод Мильнер (р. 1941) – французский философ, лингвист, стиховед, психоаналитик. – Примеч. перев.]
(обратно)121
Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses, in Essays in Ideology, Лондон: Verso, 1984, стр. 163.
(обратно)122
Подробнее о том, как «письмо всегда достигает адресата» см. Гл. 1 в: Slavoj Žižek, Enjoy YOUR Symptom!, Нью-Йорк: Routledge, 1992.
(обратно)123
Здесь я следую проницательным наблюдениям Генри Крипса; см. его превосходную неопубликованную рукопись: The Subject of Althusser and Lacan, Dept of communication, Pittsburg University).
(обратно)124
Чего ты хочешь? (ит.). – Примеч. перев.
(обратно)125
Видимо, похожий случай чисто теоретического построения – представление о свободе как о состоянии «между двух смертей», когда моя символическая персона отставлена: случайно ли то, что все примеры, от Антигоны до Вальдемара у По, – из сферы литературы? Состояние «между двух смертей» можно, тем не менее, проиллюстрировать и примерами из обыденного опыта. Отвечая на телефонный звонок, я слышу незнакомый голос: «Мэри, это ты?» – явно ошиблись номером – и всегда чувствую искушение (на самом деле я так не делаю, и все же Платон говорил, что есть два типа людей: те, кто делает всякие гадости, и те, кто лишь мечтает их сделать) – так вот, я чувствую мимолетное искушение ответить так, чтобы на том конце провода испугались, т. е. сказать: «Представляете?! Произошел несчастный случай, ее только что увезли на “скорой”, неизвестно, выживет ли!» или «Она только что ушла в обнимку с Робертом!»… В таких случаях я на мгновение мог бы говорить словно из символической пустоты (поскольку – в Европе, по крайней мере, – список набранных номеров не вписывают в телефонный счет): никто не сможет меня вычислить, а значит, я свободен от всякой ответственности за свои слова.
Этот простой пример мрачных фантазий может обрести трагический нравственный оттенок применительно к сообществу геев. В том смысле, что в Сан-Франциско это свежая тенденция – рисковать и пренебрегать средствами «безопасного секса»: неизбежность СПИДа считают предпочтительнее бездеятельной неопределенности защитных компромиссов. Или же, по недавно сказанным словам одного уличного гея с улицы Кастро, – «Узнае́шь, что у тебя ВИЧ, – и наконец свободен». Свобода здесь означает именно состояние между двумя смертями, когда субъект «жив, хотя уже помечен смертью» – тень смерти освобождает его от символических уз.
«Синий» Кесьлёвского, первая часть трилогии «Три цвета» (1993–1994), – о тупиках такой вот предельной свободы: тема фильма – «абстрактная свобода», разрыв (невозможность) со всей символической традицией, в которую субъект погружен. После трагической смерти мужа и ребенка вдова (Жюльетт Бинош) стремится избавиться от призраков прошлого, начав жить заново (порвав с друзьями, сменив место жительства, пренебрегая художественным наследием покойного мужа и т. д.) «Синий», название фильма, фактически означает «свобода», первый из трех цветов Французской революции, liberté-egalité-fraternité, и Кесьлёвский мудро решил раскрыть последствия политико-идеологического понятия в наиболее «личной», с виду «аполитичной» сфере жизни.
(обратно)126
Впервые опубликовано в: Louis Althusser, Écrits sur la psychoanalyse, Париж: Stock/ IMEC, 1993.
(обратно)127
Лично, собственной персоной (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)128
См. там же, стр. 131.
(обратно)129
Там же, стр. 164–166.
(обратно)130
Непризнанная проблематика субъекта отмечает и размышления Альтюссера о психоанализе. Пылкое утверждение Альтюссером примата противопереноса над переносом нацелено именно на подрыв эпистемологического барьера, отделяющего анализанта, застрявшего в воображаемых ловушках переноса, от аналитика, который уже свободен от этих уз. Следовательно, смысл в том, что аналитик сам вовлечен в свой объект, увяз в переносе, а значит – как утверждает Альтюссер в своей ироничной стилизации Фрейда – следует не забывать, что противоперенос аналитика тоже есть существо переноса. (См. Sur le transfert et le contre-transfert, там же, стр. 175–186.) Есть даже искушение сделать еще один шаг вперед и заявить, что «возвращающееся» – проблематика «самосознания», неизбывное bête noire [зд.: бельмо на глазу (фр.) – Примеч. перев.] альтюссерианства: разве утверждение, что перенос – всегда-уже противоперенос (в работе с анализантом аналитик продолжает самоанализ), не разновидность глубинной темы Канта и Гегеля, согласно которой сознание (объекта) всегда-уже самосознание?
(обратно)131
Вацлав Гавел (1936–2011 года) – чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии (1989–1992) и первый президент Чехии (1993–2003); рус. изд.: Вацлав Гавел. Сила бессильных. Минск: Полифакт, 1991. – Примеч. перев.
(обратно)132
«Жизнь с идиотом» – рассказ российского писателя Виктора Ерофеева (р. 1947).
(обратно)133
Александр Александрович Зиновьев (1922–2006) – советский и российский ученый-логик, социолог и социальный философ, специалист по методологии научных исследований, писатель; Йон Элстер (р. 1940) – норвежский социально-политический теоретик, философ социальных наук, сторонник аналитического марксизма, критик неоклассической экономики. – Примеч. перев.
(обратно)134
См. гл. 2 в: Jon Elster, Political Psychology, Кембридж: Cambridge University Press, 1993.
(обратно)135
Зд.: добровольное рабство (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)136
В демократии и конституционной монархии, однако, тоже есть такая точка, где навязанная необходимость принимает форму свободного акта: когда президент или (в конституционной монархии) король выражает решение парламента как свое свободное деяние. Именно это беспокоило всех сторонников конституционной монархии: Некер, к примеру, утверждал, что право короля на два последовательных вето – ключевое, поскольку позволяло уступить желаниям собрания во втором чтении, чтобы это не выглядело, будто монарха вынудили, т. е. чтобы монарх не терял достоинства и величия. См.: Elster, Political Psychology. стр. 28.
(обратно)137
См. описание такого типа у Базена – о Куинлене из «Печати зла»: «Куинлен физически чудовище, но чудовище ли он нравственно? И да, и нет. Да – потому что он виновен в преступлении, совершенном в самозащиту; нет – потому что с точки зрения высшей нравственности он, по крайней мере в определенном смысле, выше честного, справедливого, умного Варгаса, ему вечно не хватает чувства жизни, которое я бы назвал шекспировским. Этих исключительных людей нельзя судить по обычным законам. Они и слабее, и сильнее всех остальных… гораздо сильнее – оттого, что они впрямую соприкасаются с истинной сутью всего или, вероятно, следует сказать – с Богом». (André Bazin, Orson Welles: A Critical View. Нью-Йорк: Harper & Row, 1979, стр. 74.)
(обратно)138
Глубинную либидинальную экономику Уэллсова героя можно нащупать, apropos, в том, в чем он со своим исключительным характером, возможно, – показательнейший случай: Джордж из «Великолепных Эмберсонов». Толкователи вполне оправданно мыслят «Эмберсонов» как подстановку к «Гамлету»: как и в «Гамлете», ключевая сцена фильма – выяснение отношений главного героя со своей матерью. Герой упрекает мать, что ее новый брак с Юджином, производителем автомобилей, предает память отца и честь сословия. Но в «Гамлете» мать следует своей половой нужде и предает благородную память покойного мужа, а в «Эмберсонах» сыну удается склонить мать на свою сторону: хоть и любит Юджина, она все же отказывается от него ради любви сына, однако далее живет чахлым подобием себя самой. Иными словами, эта самая «исполинская» грань обеспечивает субъекту победу над чужаком в эдиповой дуэли за материнскую любовь, победу, которая позволяет ему продолжать занимать для своей матери структурное место фаллоса.
(обратно)139
Альгирдас Жюльен Греймас (Альгирдас Юлиус Греймас, 1917–1992) – литовский и французский лингвист, фольклорист и литературовед. – Примеч. перев.
(обратно)140
В рус. яз. понятия морали, нравственности и этики часто употребляются как синонимы. – Примеч. перев.
(обратно)141
Рус. изд., напр.: Шодерло де Лакло. «Опасные связи». Пер. Н. Рыковой. М.-СПб.: Азбука-Аттикус, 2012. Далее цит. по этому изданию. – Примеч. перев.
(обратно)142
Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, Хэрмондсуорт: Penguin, 1979, стр. 275.
(обратно)143
С отсылкой к проблеме бескомпромиссности в отношении собственного желания можно воспринимать фильма Кесьлёвского «Двойная жизнь Вероники» (1991), минуя обскурантистскую нью-эйджевскую ерунду этой картины вроде «глубокой» мистической связи двух Вероник, предчувствия у каждой из них, что «она не одинока», что у нее есть двойник. Первая половина фильма рассказывает историю польской Вероники, которая знает, что у нее слабое сердце, и все же предпочитает напряжение искусства (пение) тихой частной жизни и платит за свой выбор инфарктом и смертью на сцене. Вторая Вероника «узнает» о печальной судьбе своего двойника таинственной интуицией и воздерживается следовать своей судьбе до конца: избегает ошибки польской Вероники и выбирает тихо жить в маленьком городе. Но был ли выбор польской Вероники ошибкой? Не связаны ли две Вероники, польская и французская, так же, как Антигона и Исмена у Софокла, или Жюльетта и Жюстина у де Сада? Не на том ли, что польская Вероника следует своему желанию, а французская отрекается от него и предпочитает обычные «человеческие, слишком человеческие» соображения, зиждется разница между ними? Иными словами, не предлагают ли нам две Вероники две альтернативные истории одного и того же человека, который делает два фундаментально противоположных нравственных выбора? Не сдает ли назад французская Вероника из-за того, что напугана последствиями ее собственного истинного желания, которые явлены ей в предчувствии судьбы ее двойника?
(обратно)144
Я сам поддался искушению в последней главе моей книги «Looking Awry» (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1991), где предлагаю максиму «не нарушайте чужого пространства фантазий» – в пару к Лакановой о следовании своему желанию.
(обратно)145
«Да свершится желание, да погибнет мир» (лат.), парафраз девиза германского императора Фердинанда I, исходно «Fiat justitia et pereat mundus» («Да свершится правосудие и да погибнет мир»). – Примеч. перев.
(обратно)146
Строгое прочтение Лаканом кантианской этики см. в: Alenka Zupančič, Die Ethik des Realen. Kant-Lacan, Вена: Turia & Kant, 1994.
(обратно)147
Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, стр. 144.
(обратно)148
Там же, стр. 240.
(обратно)149
Ich – я, эго; Lust – желание, наслаждение, похоть; Unlust – отвращение, неудовольствие (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)150
Там же, стр. 241.
(обратно)151
Букв.: Наше дело (ит.). – Примеч. перев.
(обратно)152
См. гл. 6. в: Slavoj Žižek, Tarrying with the Negative, Дарэм, Северная Каролина: Duke University Press, 1993. Эта нечувствительность расистской фантазии к рационально-символическим доводам означает, что фантазию можно лишь показать, но не рассказать о ней. Речь здесь, конечно, о витгенштейновском противопоставлении (из «Трактата») того, что обсуждаемо, и того, что под силу лишь показать: мы можем говорить о симптомах, снах, оговорках и т. д., можем их толковать, а вот фантазии – пространство воображения – «форма (психической) жизни», которую можно явить лишь посредством исключительно демонстративного действия.
(обратно)153
Букв.: прохождение фантазии насквозь (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)154
Наоборот (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)155
Идеология крови и почвы (нем. Blut-und-Boden-Ideologie) рассматривает взаимосвязь национального происхождения («крови») и родной земли («почвы»), дающей нации пищу, как основополагающую константу, стержень национал-социалистской расовой политики и культурно-политического воспитания. – Примеч. перев.
(обратно)156
Чтобы прояснить, как именно это оголение, эта публичная инсценировка теневого ядра фантазий идеологической системы мешает ее нормальному существованию, вспомним в некотором смысле соответствующее явление из сферы личного опыта: у любого из нас есть свой личный ритуал, фраза (клички и т. д.) или жест, применяемые лишь в ближайшем кругу самых дорогих друзей или родственников; когда подобные ритуалы предают огласке, это всегда и обязательно чрезвычайная неловкость и позор – хочется сквозь землю провалиться…
(обратно)157
Внутреннюю логику триады истерия-извращение-психоз можно сформулировать именно обращением к статусу вопроса в каждом из трех случаев. При истерии статус вопроса у субъекта – обращение к большому Другому, это вопрос, артикулирующий тревогу субъекта о его статусе в глазах Другого: «Что я есть для Другого?» При извращении этот вопрос смещен на Другого, т. е. у извращенца есть ответ (допустим, сталинист-коммунист знает, чего люди на самом деле хотят, в отличие от самих людей – растерянных и дезориентированных вражеской пропагандой), а вопрос при этом навязывается Другому, в ком извращенец стремится вызвать беспокойство. При психозе вопрос исчезает: психотический симптом (галлюцинации, например) есть «ответ действительности» в самом точном смысле ответа без вопроса, ответа, который невозможно поместить в его символический контекст. Пациент с психозом разрывает круг коммуникации, где говорящий получает от адресата сообщение в его истинной, обратной форме, т. е. в котором говорящий, посредством своего обращения, расставляет, так сказать, подпорки в пространстве возможного ответа. При психозе ответ возникает без символического контекста.
(обратно)158
Паноптикон – проект идеальной тюрьмы английского социолога, юриста, основателя английского утилитаризма Джереми Бентама (1748–1832), когда один стражник может наблюдать за всеми заключенными одновременно; в плане тюрьма представляет собой цилиндрическое строение со стеклянными внутренними перегородками, стражник находится в центре, но невидим для заключенных; узники не знают, в какой точно момент за ними наблюдают, и у них создается впечатление постоянного контроля. – Примеч. перев.
(обратно)159
Рус. изд., напр., в: Похищенное письмо. Классический остросюжетный рассказ. Сборник. М.: Правда, 1990. Пер. этого рассказа – И. Гуровой. – Примеч. перев.
(обратно)160
Можно прийти к выводу, что «Похищенное письмо» довольно буквально посвящено половому бессилию короля: автор дает нам понять, что тайна «похищенного письма» – любовная эскапада королевы, а с чего бы королеве искать себе любовника, если не оттого, что король не способен ее удовлетворить?..
(обратно)161
Томас де Куинси (1785–1859) – английский прозаик, эссеист, переводчик; один из первых запечатлел в литературе опыт наркотической зависимости. – Примеч. перев.
(обратно)162
См. гл. 1 в: Joel Black, The Aesthetics of Murder, Балтимор, Мэриленд: Johns Hopkins University Press, 1991.
(обратно)163
Эту загадочную фигуру мучителя, который схватил женщину и отрезал субъекту доступ к ней, мишень вспышки ярости субъекта, Лакан именует Удовольствием Отца [Pere-jouissance], воображаемый образ Хозяина женского удовольствия – прямая противоположность символически мертвого отца, чья смерть означает, что удовольствие ему совершенно неведомо. О фигуре Отца Удовольствия см. в гл. 4 в: Slavoj Žižek, Enjoy YOUR Symptom!.
(обратно)164
Эта композиция имеется во множестве американских фильмов, от «Искателей» (1956) Джона Форда до «Таксиста» (1976) Мартина Скорсезе, в котором Трэвис (Роберт де Ниро) предпринимает жестокое passage à l’acte, чтобы выбраться из тупика своих отношений с юной проституткой (Джоди Фостер), которая не дает себя спасти. См. гл. 4 в: Black, The Aesthetics of Murder.
(обратно)165
Отыгрывание (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)166
Через отрицание (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)167
Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Кембридж: Cambridge University Press, 1989, стр. 179. [Ричард Маккей Рорти (1931–2007) – американский философ. – Примеч. перев.]
(обратно)168
Связь между исчезновением (афанизом) и темой амнезии (потерей памяти и восприятия собственной идентичности) в фильмах-нуар см. гл. 5 в: Slavoj Žižek, Enjoy YOUR Symptom!.
(обратно)169
Уильям Шекспир, «Кориолан», акт II, сцена 2, пер. Ю. Корнеева. – Примеч. перев.
(обратно)170
Неизданная рукопись: Violence et politique, стр. 24–25; [Этьен Балибар (р. 1942) – французский философ, профессор политической философии, преподаватель французского и английского языков и современной литературы. – Примеч. перев.]
(обратно)171
Зд.: зловещий (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)172
В силу этого, тем самым (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)173
Рус. изд., напр.: Олдос Хаксли. Серое Преосвященство: этюд о религии и политике. Пер. В. Голышева, Г. Дашевского. М.: Московская школа политических исследований, 2000. – Примеч. перев.
(обратно)174
Интересы государства (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)175
Jacques Lacan, The Ethics of Psychoаnalysis, Лондон: Routledge, 1992, стр. 149. [Рус. изд.: Жак Лакан. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. Пер. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 2006. Здесь и далее цит. по этому изданию, с испр. – Примеч. перев.]
(обратно)176
Там же, стр. 150; перевод [с фр. на англ. – примеч. перев.] изменен.
(обратно)177
То Лаканово определение Реального – что оно вечно возвращается на свое место – не до-Эйнштейново ли и как таковое обесценено релятивизацией пространства относительно наблюдателя, т. е. отменой представления об абсолютном пространстве-времени? Однако теория относительности имеет свой абсолютную постоянную – пространственно-временной интервал между двумя событиями есть неизменный абсолют. Пространственно-временной интервал определяется как гипотенуза прямоугольного треугольника, чьи катеты – временно́е и пространственное расстояние между двумя событиями. Один наблюдатель может находиться в движении так, что для него между двумя событиями – одни пространство и время, другой же может двигаться так, что его измерительные приборы покажут другие пространство и время, но пространственно-временной интервал между этими двумя событиями неизменен. Эта постоянная – Лаканово Реальное, и оно «остается одним и тем же во всех возможных вселенных».
(обратно)178
Lacan, The Ethics of Psychoаnalysis, стр. 151.
(обратно)179
Следовательно, ясно, что это роковая ошибка – отождествлять Даму куртуазной любви, этот безусловный Идеал Женщины, с женщиной, не подверженной фаллическому удовольствию: противопоставление повседневной, «укрощенной» женщины, с которой половые отношения кажутся возможными, и Дамы qua «нечеловеческого партнера» не имеет ничего общего с противопоставлением женщины, подчиненной «фаллическому означающему», и женщины qua носителя удовольствия Другого. Дама – проекция мужского нарциссического Идеала, ее образ возникает как результат мазохистского договора, по которому женщина принимает роль строгой госпожи в театре, устроенном мужчиной. Поэтому Россеттиева Беата Беатрикс, к примеру, не воспринимается как воплощение удовольствия Другого: как и с любовью-смертью Изольды у Вагнера, мы имеем дело с мужской Фантазией.
(обратно)180
Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, стр. 151.
(обратно)181
Gilles Deleuze, Coldness and Cruelty, в Masochism, Нью-Йорк: Zone Press, 1991.
(обратно)182
Вот поэтому лесбийский садомазохизм куда более подрывной, чем обычное «мягкое» лесбийство, которое ставит нежные отношения между женщинами выше агрессивно-фаллического мужского проникновения: хотя содержание лесбийского садомазохизма подражает «агрессивной» фаллической гетеросексуальности, это содержание подрывает сама договорная форма таких отношений.
(обратно)183
Логика здесь та же, что и в «не-психологической» вселенной «Твин Пикс» (1990–1992), где мы сталкиваемся с двумя основными типами людей: «нормальными», привычными людьми (персонажами, основанными на клише из мыльных опер) и «чокнутыми» эксцентриками (дама с поленом и пр.); зловещее свойство вселенной «Твин Пикс» ощущается из-за того, что отношения между двумя этими группами следуют правилам «нормального» общения: «нормальные» люди совершенно не удивляются и не возмущаются странному поведению эксцентриков – они считают их частью своей привычной среды.
(обратно)184
Рус. изд., напр.: Филлис Дороти Джеймс. Пристрастие к смерти. Пер. И. Дорониной. М.: АСТ, 2008.
(обратно)185
P. D. James, A Taste for Death, Лондон, Бостон, Массачусетс: Faber & Faber, 1986, стр. 439.
(обратно)186
Там же, стр. 440.
(обратно)187
Показательный пример такого обратного сочетания – наблюдения qua объекта a, которого истеризует Другой, – имеется в фильме «Леди в озере» (1947) Роберта Монтгомери; привлекательна в этом фильме сама его неудача. Точка зрения крутого детектива, которая нам навязана посредством постоянно субъективной камеры, никак не создает в нас, зрителях, впечатления, что мы действительно видим происходящее глазами человека, показанного камерой в прологе или эпилоге (единственные «объективные кадры» во всем фильме), или когда он смотрит в зеркало. Даже когда Марлоу «видит себя в зеркале», зритель не принимает, что лицо, на которое он смотрит, глаза на этом лице – точка зрения камеры. Когда камера тащится себе дальше, неуклюже и медленно, кажется, скорее, что это точка зрения зомби из «Ночи живых мертвецов» (1968) Ромеро (та же ассоциация лишь подкрепляется рождественской хоровой музыкой, очень несвойственной фильмам нуар). Скажем еще точнее: такое впечатление, будто камеру разместили рядом или сразу позади Марлоу, и она эдак смотрит из-за его спины, имитируя воображаемый взгляд его тени, его призрачного двойника – «живого трупа» у него за спиной. Никакого двойника рядом с Марлоу нет, поскольку его двойник, то, что в Марлоу «больше, чем он сам», есть сам взгляд как Лаканов objet petit a, у которого нет описываемого образа (голос, комментирующий историю, принадлежит взгляду, а не Марлоу qua диегетической личности.) Объект-взгляд есть причина желания женщин, которые все время оборачиваются на него (т. е. смотрят в камеру): это оголяет их в непристойном смысле – или же, иными словами, истеризует их, одновременно притягивая и отталкивая. Именно из-за этой объективации взгляда «Леди в озере» – не фильм нуар. Ключевая черта настоящих фильмов нуар в том, что точка зрения рассказчика есть точка зрения субъекта.
(обратно)188
Sigmund Freud, On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love (1912), в: James Strachey, ed., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, т. II, Лондон: Hogarth Press, 1986, стр. 187. [Рус. изд., напр., в: Зигмунд Фрейд. Очерки по психологии сексуальности. Пер. М. Вульфа. М.: Попурри, 2007, 2014. Цит. по этому изданию. – Примеч. перев.]
(обратно)189
Jacques Lacan, Le siminaire, livre XX: Encore, Париж: Éditions du Seuil, 1975, стр. 65. [Рус. изд.: Жак Лакан. Семинары. Книга 20. Еще. Пер. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 2011. Цит. по этому изданию. – Примеч. перев.]
(обратно)190
Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, стр. 152. [Цит. по пер. А. Черноглазова с испр. – Примеч. перев.]
(обратно)191
«…par une inversion de l’usage du terme de sublimation, j ‘ai le droit de dire que nous voyons ici la deviation quant au but se faire en sens inverse de I’objet d’un besoin» (Jacques Lacan, Le siminaire, livre VIII: Le transfert, Paris: Éditions du Seuil, 1991, стр. 250). То же касается любого объекта, действующего как знак любви: его применимость упразднена, а сам он превращается в способ предъявления требования любви.
(обратно)192
Jacques Lacan, Écrits: A Selection, Нью-Йорк: Norton, 1977, стр. 324. Первым этот «экономический парадокс кастрации» сформулировал в поле философии Кант. Один из частых упреков Канту – в том, что он был противоречивым мыслителем, застрявшим на полдороге: с одной стороны, Кант уже в новой вселенной демократических прав (égaliberté, если воспользоваться понятием Этьена Балибара), с другой – все еще в парадигме мужского подчинения некому высшему Закону (императиву). Однако Лаканова формула фетишизма – дробь с а в числителе и минус «фи» в знаменателе (кастрация) – позволяет нам понять взаимозависимость этих двух вроде бы противоположных аспектов. Ключевая черта, отличающая демократическое поле égaliberté от добуржуазного поля традиционной власти, – потенциальная безграничность прав: права никогда не реализованы полностью и даже не определены исчерпывающе, поскольку мы имеем дело с бесконечным процессом постоянного формулирования новых прав. В этом смысле положение прав в современной демократической вселенной – положение objet petit a, т. е. неуловимого объекта-причины желания. Откуда берется эта черта? Связный ответ на этот вопрос может быть лишь один: права (потенциально) беспредельны, потому что отречение, на котором они основаны, тоже беспредельно. Представление о радикальном, «беспредельном» отречении как цене, которую индивид должен заплатить за свое вхождение в социально-символическую вселенную, т. е. представление о «неудовлетворенности цивилизацией», о неустранимом противостоянии между «истинной природой» человека и общественным порядком, возник лишь вместе с современной демократической вселенной. Прежде, в пространстве традиционной власти, «социализированность», склонность к подчинению власти и правилам той или иной общины, считалась неотъемлемой частью самой «природы» человека qua zoon politikon [политического животного (гр.) – Примеч. перев.]. (Что, конечно, не означает, что это отречение – «символическая кастрация», если говорить в психоаналитических понятиях – не была задействована внутренне с самого начала: речь о логике ретроактивности, в которой все «становится тем, чем всегда-уже было»: современная буржуазная вселенная Прав сделала зримым отречение, которое всегда-уже имело место.) А беспредельная сфера прав возникает именно как своего рода «компенсация»: вот что мы получаем в обмен на беспредельное отречение, такова цена, которую мы платим за вход в общество.
(обратно)193
Парадокс кастрации предлагает еще и ключ к механизму извращения, к его внутренней петле: извращенец есть субъект, впрямую принимающий парадокс желания и причиняющий боль ради возможности удовольствия, он осуществляет раскол ради возможности воссоединения и т. д. И, кстати, теология прибегает к смутным разговорам о «неисповедимой божественной тайне» именно когда, в противном случае, оказывается вынужденной признать извращенную природу Бога: «неисповедимы пути Господни» обыкновенно означает, что, когда нас постоянно преследуют напасти, нам следует считать, что это Он ввергнул нас в беды, чтобы заставить воспользоваться возможностью достичь духовного спасения…
(обратно)194
Гибрис (хюбрис) – гордыня, высокомерие, чрезмерное самолюбие (греч.). – Примеч. перев.
(обратно)195
Джон Лэнгшо Остин (1911–1960) – британский философ языка, один из основателей философии обыденного языка; внес вклад в разработку теории речевого акта; Освальд Дюкро (р. 1930) – французский лингвист, исследователь произношения и дикции.
(обратно)196
Мартин Хайдеггер (1889–1976) – немецкий философ-экзистенциалист, герменевтик, феноменолог, эпистемолог. – Примеч. перев.
(обратно)197
Пер. В. Хинкиса; рус. изд., напр.: Эдгар Аллан По. Таинственные рассказы. Пер. И. Гуровой. М.: Римис, 2010. – Примеч. перев.
(обратно)198
Пер. В. Рогова, с испр.; рус. изд., напр.: Эдгар Аллан По. Черный кот. Пер. Е. Куюмчан. М.: Шарк, 1994. – Примеч. перев.
(обратно)199
Беспричинный поступок (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)200
Mobile – движущая сила (фр.).; motiviert – зд.: мотивирует, подталкивает (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)201
Роковая женщина (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)202
Фильмы, заимствующие матрицу «нуар» в других жанрах (фантастика, музыкальная комедия и др.), часто используют некоторые ключевые ингредиенты вселенной «нуар» куда мощнее, чем сам «нуар». Когда, к примеру, в фильме/анимации «Кто подставил кролика Роджера?» (1988) Джессика Рэббит, анимированный персонаж, отвечает на упрек в ее испорченности: «Я не испорченная, меня такой нарисовали», – она тем самым являет истину о femme fatale как мужской фантазии, т. е. о существе, чьи контуры очерчены мужчиной.
(обратно)203
См. гл. 3 и 4 в: Lacan, Le siminaire, livre VIII: Le transfert (1960–1961).
(обратно)204
Тот миг, когда объект восхищения субъективируется и протягивает руку, – магическое мгновение перехода границы, отделяющей пространство воображения от «обычной» действительности: словно объект, до сих пор принадлежавший другому, возвышенному миру, вмешивается в «обыденную» действительность. Довольно вспомнить сцену из «Одержимой» (1931), ранней голливудской мелодрамы Кларенса Брауна с Джоан Кроуфорд. Кроуфорд, бедная провинциальная девушка, зачарованно смотрит на роскошный частный поезд, который медленно проезжает перед ней на местной железнодорожной станции; в окнах вагонов она видит богатую жизнь, подсвеченную изнутри, – танцующие пары, повара, готовящие ужин, и т. д. Важнейшая деталь этой сцены – в том, что мы, зрители, вместе с Кроуфорд, воспринимаем этот поезд как волшебное, эфемерное виденье из другого мира. Когда последний вагон уезжает, поезд останавливается, и мы видим на подножке добродушного выпивоху с бокалом шампанского в руке, и он тянется через заграждение к Кроуфорд, словно пространство мечты мимолетно проникло в действительность…
(обратно)205
A Neil Jordan Reader, Нью-Йорк: Vintage Books, 1993, стр. xii-xiii. Вопрос, который следует здесь поставить, касается и места «Жестокой игры» в череде других фильмов Джордана: не вариации ли той же темы снятые ранее «Мона Лиза» (1986) и «Чудо» (1991)? Во всех трех примерах отношения между героем и таинственной женщиной, по которой он сходит с ума, обречены на неудачу: потому что она лесбиянка, потому что она мать героя, потому что она – вообще не «она», а трансвестит. Джордан в самом деле предлагает настоящую матрицу невозможностей половых отношений.
(обратно)206
Зд.: есть на что посмотреть (ит.). – Примеч. перев.
(обратно)207
О делёзовском противопоставлении событий в теле и на поверхности см. далее в гл. 5.
(обратно)208
Здесь фильм расходится с «действительностью»: «настоящий» герой до сих пор жив и гниет во французской тюрьме.
(обратно)209
Зд.: декорации (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)210
Здесь мы сталкиваемся с лакановской темой «ламеллы», неуничтожимой жизненной субстанции. У Фрейда эта тема заявлена в гл. 4 «По ту сторону принципа удовольствия», где он рассуждает о «живом пузырьке… который носится среди внешнего мира, заряженного энергией огромной силы»: «…если бы он не был снабжен защитой от раздражения, он давно погиб бы от действия этих раздражений: он вырабатывает это предохраняющее приспособление посредством того, что его наружная поверхность изменяет структуру, присущую живому, становится в известной степени неорганической и теперь уже в качестве особой оболочки или мембраны действует сдерживающе на раздражение». (Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, Нью-Йорк, Лондон: Norton, 1989, стр. 30; [цит. по: Зигмунд Фрейд. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Прогресс, 1992. – Примеч. перев.]) Суть доводов Фрейда, разумеется, в том, что эта чувствительная кора получает возбуждение и изнутри.
(обратно)211
Тот же прием применил и Тим Бёртон в великолепных кадрах титров к «Бэтмену»: камера бродит по каким-то непонятным путанным, иззубренным металлическим коридорам, а затем, когда постепенно отъезжает на «нормальное» расстояние от предмета, мы понимаем, что за предмет нам показывают: это бляха Бэтмена…
(обратно)212
Противоположность этому умонастроению Линча, – возможно, философия Лейбница; Лейбница завораживали микроскопы, поскольку подтверждали: то, что с «нормальной» и повседневной точки зрения кажется безжизненным предметом, на самом деле исполнено жизни, нужно лишь вглядеться, понаблюдать с предельно близкого расстояния. В линзе микроскопа можно увидеть неудержимое копошенье бесчисленных живых существ… См. гл. 2 в: Miran Božovič, Der grosse Andere: Gottesconzepte in tier Philosophie tier Neuzeit, Вена, Берлин: Turia & Kant, 1993.
(обратно)213
Исключение из этого представления – нагое тело Изабеллы Росселлини ближе к концу «Синего бархата»: когда она, пережив кошмар, отправляется к Джеффри, тело словно принадлежит другому, темному, потустороннему миру, будто оно внезапно обнаружило себя в нашей «нормальной» повседневной вселенной, выбравшись из своей стихии, словно выброшенный на берег осьминог или иное глубоководное создание – раненое, обнаженное тело, чье материальное присутствие оказывает на нас почти невыносимое давление.
(обратно)214
«Великий диктатор» (1940) Чаплина являет подобное же возмущение отношений между голосом и письменным словом: устное слово (в речи диктатора Хинкеля) непристойно, непостижимо, совершенно несоразмерно слову письменному.
(обратно)215
Мишель Шион (р. 1947) – французский композитор-экспериментатор, автор многих книг по теории кино.
(обратно)216
См. Michel Chion, David Lynch, Париж: Cahiers du Cinema, 1992, особенно стр. 108–117, 227–228.
(обратно)217
Подробное толкование этих строк из «Ричарда II» см. в гл. 1 в: Slavoj Žižek, Looking Awry, Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1991. [Цит. по пер. М. Донского. – Примеч. перев.]
(обратно)218
Поскольку этот разрыв, отделяющий следствия от их причины, – не позитивное качество женщины, он не только удивляет мужчину, но сбивает с толку и саму женщину qua психологическую «персону»; как показано в сцене из «Синего бархата», которая непосредственно предшествует печально известной садомазохистской, Изабелла Росселлини сначала угрожает Кайлу Маклахлану громадным кухонным ножом, приказывая герою раздеться, а затем удивляется его реакции. Здесь следствие отражено в причине, т. е. в некотором смысле сама причина поражается своему же следствию. Это, конечно, означает, что причина (женщина) сама должна быть децентрирована, раз истинная причина есть «нечто в причине, большее, чем она сама». И не показывает ли нам этот перевертыш, что, на более глубоком уровне, истинная Причина qua Реальное есть женщина, которая, на уровне символической цепи причин и следствий кажется пассивным объектом мужской деятельности? Вероятно, это изумление Причины своему же следствию дает нам ключ к понятию «взаимного действия [Wechselwirkung]» у Гегеля: совсем никак не симметричное взаимодействие причины и следствия, а воздействие следствия на причину задним числом намекает на внутреннюю децентрированность самой Причины.
(обратно)219
Зд.: Работа, сумма произведений (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)220
Тем самым в анализе фильмов самое главное – показать однородную, связную, диегетическую действительность как продукт «вторичного развития», т. е. различить роль (символической) действительности и роль фантастических галлюцинаций. Достаточно вспомнить «Один дома» (1990): весь фильм держится на том, что семья мальчика, его межличностная среда, его «большой Другой», и два грабителя, угрожающих ему, пока семья в отъезде, никогда не встречаются. Грабители появляются, когда мальчик обнаруживает, что остался один, и когда семья к концу кинокартины возвращается домой, все следы посещения грабителей едва ли не по волшебству исчезают, хотя из-за столкновения грабителей с мальчиком дом полностью вверх дном. То, что существование грабителей никак не известно большому Другому, несомненно указывает, что мы имеем дело с фантазиями мальчика: когда грабители явлены нам, мы меняем пространство действия – покидаем общественную действительность и оказываемся в мире воображения, где нет ни смерти, ни вины, во вселенной немого комического кино и мультиков, где тебе на голову падает гора железа, но ничего хуже шишки на лбу не случается, где рядом с тобой взрывается галлон бензина, а ущерба – подгоревшая шевелюра… Вероятно, так следует мыслить знаменитый вопль Маколея Калкина: это не выражение страха, что в дом вломились грабители, а, скорее, ужас от возможности оказаться (вновь) в собственной вселенной воображения.
(обратно)221
Подобная инверсия порядка причинности – одна из особенностей психоаналитической практики: стандартный прием – толковать как причину то, что представляется следствием. Если, скажем, анализант заявляет, что не может открыться и «все рассказать» аналитику, поскольку аналитик ему лично неприятен или потому что аналитик не вызывает в пациенте должного доверия, можно не сомневаться, что отношения между этими двумя утверждениями следует перевернуть наоборот: аналитик кажется «неприятным» для того, чтобы пациент мог «не выкладывать ему всего», т. е. истинного ядра своих травм. Первым по порядку идет сопротивление анализанта «выложить все», а «неприятная персона» аналитика лишь воплощает это сопротивление, это «овеществленная» форма, в которой анализант ошибочно опознает свое сопротивление. Отговорка анализанта, таким образом, попросту подтверждает, что перенос уже происходит: под видом «неприятной персоны» аналитика анализант утверждает, косвенно, отвращение, которое он чувствует к правде о своем же желании, и неготовность с этим желанием иметь дело. Если анализант воспринимает аналитика как «неприятного», это значит, что аналитик уже задействован как «субъект, которому полагается знать» правду о желании анализанта.
(обратно)222
Отто Вейнингер (1880–1903) – австрийский философ и психолог; рус. изд., напр.: Отто Вейнингер. Пол и характер. Пер. В. Лихтенштадта. М.: АСТ, 2012. – Примеч. перев.
(обратно)223
С той же темой женщины, извлекаемой из летаргической бесчувственности, мы сталкиваемся там, где обычно не ищем, – например, у Генри Джеймса в «Письмах Асперна» [повесть 1888 г. – примеч. перев.]. Рассказчик проникает в разваливающийся венецианский палаццо, где обитают две дамы: пожилая американка, много-много лет назад, еще в молодости, бывшая любовницей американского поэта Асперна, и ее племянница, чуть моложе. Рассказчик всеми правдами и неправдами пытается добыть предмет своих желаний: пачку любовных писем Асперна, тщательно хранимую тайну старой дамы. Одержимый своим предметом желаний, он никак не учитывает собственного воздействия на жизнь в умирающем палаццо: его деятельность вносит дух оживления, пробуждающий двух дам из их летаргического сна, и даже вызывает у той, что моложе, половой интерес…
(обратно)224
Как эти три толкования связаны друг с другом? Они исключают друг друга; думать обо всех трех в одном и том же однородном пространстве невозможно; вопреки этому, однако, их разнородность неустранима и необходима, т. е. ни одно из трех прочтений нельзя возвысить до «правильного» и считать «истиной» двух других. В этом состоит важная грань революции Линча: это единственная во всей истории кинематографа субъективная точка зрения, организующая пространство сказа (в фильмах нуар, к примеру, эта точка зрения принадлежит самому герою, чей голос за кадром сопровождает действие); у Линча главенство звука над изображением (т. е. в его фильмах структурирующий принцип, гарантирующий единство диегетического пространства, – звуковая дорожка) делает возможным множественность точек зрения. Обратим внимание, среди прочего, на особенность «Дюны», которую многие критики ошибочно отметают как некинематографичный наивизм: многоголосый закадровый комментарий.
(обратно)225
Эта логика совершенно подобна той, что озвучил Делёз относительно фрейдистской двойственности принципа удовольствия (и действительности) и того, что «превыше», влечения к смерти (что́ есть подавленность у героинь Линча, если не проявление влечения к смерти?). Фрейдова мысль не в том, что существуют явления, которые нельзя объяснить принципом удовольствия (и действительности), – ему это просто доказать любым примером «удовольствия от боли», который с виду противоречит принципу удовольствия, скрытой нарциссической выгодой, извлекаемой из отказа от удовольствия, – но скорее, чтобы объяснить само действие принципов удовольствия и действительности, мы вынуждены определить более глубинную грань «влечения к смерти» и навязчивого повторения, которые открывают пространство, где может вольно править принцип удовольствия. См. гл. 10 Coldness and Cruelty, в Jiles Deleuz, Masochism, Нью-Йорк: Zone Books, 1991.
(обратно)226
Эта «неподотчетность» есть то, что Фрейд желал отразить в понятии сверхстремления: случайная внешняя причина может вызвать непредвиденные катастрофические последствия, разбередив травму, которая всегда-уже тлеет под пеплом – выживает в бессознательном.
(обратно)227
Упразднение линейной причинности есть, в то же время, составляющая часть символического порядка. В этом отношении случай Йона Элстера очень поучителен. В пределах «объективного» социопсихологического подхода Элстер стремится выделить особый уровень механизма, находящегося между просто описательным, или нарративным, идеографическим методом и созданием общих теорий: «Механизм есть особая закономерность причин, которую можно распознать после события, но редко – предвидеть… это меньше, чем теория, но гораздо больше, чем описание» (Jon Elster, Political Psychology, Кембридж: Cambridge University Press, 1993, стр. 3, 5). Важная деталь, которую упускает Элстер, состоит в том, что эти «механизмы» – не просто промежуточное, т. е. они не занимают срединное место на обычной шкале, по краям которой находятся истинная всеобщая теория с предсказательной силой и простое описание: «механизмы» составляют отдельную сферу символической причинности, чье действие подчиняется принципиально другим законам. Иначе говоря, особенность «механизмов» заключается в том, как одна и та же причина может влечь за собой противоположные следствия: если мужчины не могут завладеть желаемым, они иногда попросту довольствуются тем, что имеют, или же, наоборот, предпочитают то, чем овладеть не могут по той же причине – потому что не могут этим овладеть; если мужчины следуют определенной привычке в одной сфере, они иногда склонны следовать ей же и в других сферах («эффект перелива»), или же, напротив, в других сферах они действуют противоположно («эффект вытеснения»); и т. д. То, что мы никогда не можем утверждать заранее, как именно причины побудят нас, подействуют на нас своей причинной силой, не имеет ничего общего с недостаточным обобщением и непредсказуемостью, обусловленной сверхсложностью: мы имеем дело с особой символической причинностью, в которой субъект саморефлективно определяет, какие причины побудят его, или причины того, что будет причиной, его побуждающей.
(обратно)228
Печально известный взгляд, согласно которому женщина «нелогична», «не действует рационально» и т. д., следовательно, предписывает, как это устранение женщиной причинной цепи воспринимается в преобладающем идеологическом пространстве.
(обратно)229
Рус. изд., напр.: Жиль Делёз. Логика смысла. Пер. Я. Свирского. М.: Academia, 1995. – Примеч. перев.
(обратно)230
Хрисипп из Сол (Хризипп, 281/278 до н. э. – 208/205 до н. э.) – древнегреческий философ, представитель раннего стоицизма; Эдмунд Гуссерль (1859–1938) – немецкий философ, основатель феноменологии; Алексиус Мейнонг (1853–1920) – австрийский философ и психолог, разработал собственную теорию ценности, исследовал теорию разума. – Примеч. перев.
(обратно)231
Бертран Артур Уильям Рассел (1872–1970) – британский философ, общественный деятель и математик. – Примеч. перев.
(обратно)232
Зд.: просто-напросто (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)233
Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн (1889–1951) – австрийский философ и логик, представитель аналитической философии; рус. изд., напр.: Людвиг Витгенштейн. Логико-философский трактат / Tractatus logicophilosophicus. Пер. И. Добронравова, Д. Лахути. М.: Канон, 2011. – Примеч. перев.
(обратно)234
Букв.: ветер сладок (ит.); в рус. пер. этот терцет называется «Пусть ветер наполнит…». – Примеч. перев.
(обратно)235
Более подробное прочтение этой истории см. в: Žižek, Looking Awry, стр. 8.
(обратно)236
Женщина в пятнадцать лет (ит.). – Примеч. перев.
(обратно)237
Однако разве «диалектический материализм» – не превосходный пример философского идиотизма, квинтэссенции наивного «взгляда на мир», универсальная онтология, соединяющая исторический материализм как metaphysica specialis, частная онтология общества? Наш выбор определялся самим этим фактом: «диалектический материализм» не следует толковать как «кость» Гегелева бесконечного суждения «Дух есть кость», т. е. его истину порождает сама бессмыслица, возникающая из этого понятия. «Диалектический материализм» означает свою же невозможность; он более не универсальная онтология: его «предмет» – как раз тот самый зазор, который навсегда, по своему устройству, делает невозможным помещение символической вселенной в пределы более широкого горизонта действительности как ее особую область – наш доступ к «действительности как таковой» всегда-уже опосредован символической вселенной. К чему тогда вообще обращаться к этому понятию? Оно применено как исключительно негативное определение, означающее пропасть любого трансцендентального горизонта: хотя нам не дано ничего за пределами символического горизонта, сам этот горизонт конечен и случаен. Короче говоря, «диалектический материализм» есть негативное напоминание о том, что горизонт историко-символической практики – «не-всё», о том, что он внутренне «децентрирован», основан на пропасти радикального разлома, т. е. что Реальное как его Причина навеки отсутствует.
(обратно)238
Практика (в отличие от теории, греч.) – Примеч. перев.
(обратно)239
Об этом заколдованном круге см. в гл. 5 в: Slavoj Žižek, For They Know Not What They Do, Лондон: Verso, 1991.
(обратно)240
Здесь открывается возможность «вторичной извращенной десексуации» (Делёз): на мета-уровне такое инструментальное, несексуальное отношение к сексуальности может «нас возбуждать». Один из способов оживить наши половые практики – вообразить, что мы имеем дело с простой инструментальной работой – вместе с партнером подходим к половому акту как к непростой технической задаче, обсуждаем каждый шаг в подробностях и оговариваем точный план действий…
(обратно)241
Чтобы проиллюстрировать эту логику сексуального коннотирования, обратимся к означающему «коммерция», чье преобладающее значение – «торговля, предложение товара», но еще и, в архаическом смысле, – обозначение полового акта. Это понятие «сексуализовано», когда смешиваются эти два уровня понимания. Скажем, «коммерция» вызывает в уме образ пожилого предпринимателя, скучно излагающего нам, как нужно вести торговлю, что к сделкам нужно относиться осторожно, следить за прибылью, не слишком рисковать и т. д.; а теперь предположим, что предприниматель рассказывает нам про сексуальную коммерцию – и тут же все приобретает теневую «сверх-я»-грань, бедняга торговец превращается в грязного старикашку, дающего зашифрованные советы по половым утехам, сопровождающиеся непристойными же улыбками…
(обратно)242
Ганс-Георг Гадамер (1900–2002) – немецкий философ, основатель философской герменевтики. – Примеч. перев.
(обратно)243
«Эпохи мира» (нем.); речь о философской работе Шеллинга 1811 г. и ее многолетнем продолжении в рукописи; этот долгий незавершенный проект иногда определяют как философский труд Шеллинга с 1809 по 1827 гг. – Примеч. перев.
(обратно)244
Непревзойденное представление этой проблематики есть в: Jean-Francois Marquet, Liberté et existence. Étude sur la formation de la philosophie de Schelling, Париж: Gallimard, 1973.
(обратно)245
Это удаление также предполагает радикальную перемену в сфере политического: во фрагментах Weltalter от Государства отказываются как от воплощения Зла, как от тирании внешней машины Власти над индивидами (как таковая она должна быть устранена), а вот поздний Шеллинг мыслит Государство как воплощение Греха человеческого, именно в той мере, в какой человек никогда не может во всей полноте осознать себя в нем (в той мере, в какой Государство остается внешней, отчужденной силой, сокрушающей индивида), это божественное наказание человека за его предательство, напоминание о грешном происхождении человека (как таковой он должен подчиняться безусловно). См.: Jurgen Habermas, ‘Dialektischer Idealismus im Obergang zum Materialismus – Geschichtphilosophische Folgerungen aus Schellings Idee einer Contraction Gottes’ в Theorie und Praxis, Франкфурт: Suhrkamp, 1966, стр. 108–161.
(обратно)246
Усилие сформулировать это «невозможное» пересечение между (символической) негативностью и телом представляется и движущей силой «возвращения к Мелани Кляйн» у Жаклин Роуз (см. ее Why War?, Оксфорд: Blackwell, 1993). Поэтому, хотя автор этих строк считает себя чистым «догматическим» лаканианцем, он ощущает глубокую солидарность с затеей Роуз. [Жаклин Роуз (р. 1949) – британский ученый, исследующий связь между психоанализом, феминизмом и литературой. – Примеч. перев.]
(обратно)247
Deleuze, The Logic of Sense, Нью-Йорк: Columbia University Press, 1990, стр. 41.
(обратно)248
Блез Паскаль (1623–1662) – французский математик, механик, физик, литератор и философ; рус. изд., напр.: Блез Паскаль. Мысли. Афоризмы. Пер. Ю. Гинзбург. М.: АСТ, Астрель, 2011. – Примеч. перев.
(обратно)249
Не согласуется ли Делёзово упущение с таковым у Альтюссера? Делёз привязывается к оси «Воображаемое-Реальное» и вытесняет Символическое, тогда как Альтюссерова двойственность «реального объекта» (т. е. переживаемой действительности, объекта воображаемого опыта) и «объекта знания» (символической структуры, получающейся в процессе познания) соответствует оси «Воображаемое-Символическое». Лакан – единственный, кто тематизирует ось «Символическое-Реальное», которая дает основу двум остальным осям. Более того, разве противопоставление Делёза и Альтюссера не намекает на зловещую близость и глубинную разницу их прочтений Спинозы? Спиноза Альтюссера – Спиноза символической структуры, бессубъектного знания, свободного от воздействий воображения, а Спиноза Делёза – Спиноза действительный, «анархических» смешений в телесности.
(обратно)250
Числа в скобках – номера страниц в (крайне ненадежном) английском переводе «Пола и характера». Авторизованное издание с 6-го немецкого, Лондон: William Heinemann/Нью-Йорк: G. P. Putnam’s Sons (не датированное). Все выделения – как в том издании.
(обратно)251
На самом деле Вейнингеру ко дню его самоубийства было полных двадцать три. – Примеч. перев.
(обратно)252
Здесь, видимо, самое место разобраться с одним из важнейших недоразумений относительно Лакана: Лакан совсем не утверждает, что любовь можно свести к воображаемому явлению, к нарциссической одержимости с собственным идеальным «я» влюбленного человека. На более радикальном уровне любовь qua страсть стремится к действительному ядру другого за пределами воображаемых и/или символических определений: любя тебя, я люблю то, что «в тебе больше тебя самого».
(обратно)253
О Даме в куртуазной любви см. гл. 4 этой книги.
(обратно)254
Об обращении отношений между причиной и следствием см. гл. 5 этой книги.
(обратно)255
Показательный отказ такой логики «женской Тайны» с феминистской точки зрения см. в: Mar y Ann Doane, 'Veiling over Desire: Close-ups of the Woman’, в: Femmes Fatales, Нью-Йорк: Routledge, 1991. Кстати сказать, подобная мистификация есть и в так называемом «ориентализме» – обожании Западом восточной мудрости и превозношении ее как лекарства от нашей западной одержимости производством и подавлением. Пресловутая «тайна Востока» подчинена той же логике, что и «тайна Женщины». Коротко: первый шаг отрыва от евроцентризма – повторять mutatis mutandis [с должными оговорками (лат.) – примеч. перев.] Лаканово «Женщины не существует», т. е. «Востока не существует».
(обратно)256
Толкование этой шутки см. в гл. 2 в: Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, Лондон: Verso, 1989.
(обратно)257
Здесь, к слову об этом анекдоте с двойной развязкой, следует вспомнить, что процесс la passe (перехода анализанта в аналитика) характеризуется той же разверткой с двойной развязкой. В la passe Лакан различает passeur и passant как два последовательных движения. Анализант становится passeur, допуская свое не-бытие как субъекта, т. е. отказываясь от поддержки воображаемого и/или символического отождествления и полностью принимая пустоту субъективности ($); анализант становится passant, претерпевая «субъективную нищету», т. е. после отождествления с objet a, несимволизируемым остатком процесса символизации, после признания единственной опоры самого существа у анализанта в этом «экскременте». А в анекдоте про еврея и поляка мы сталкиваемся с тем же дополнительным «поворотом винта» от «я есть ничто» до «я есть тот объект, который воплощает мое ничто»: во-первых, поляк осознает, как именно еврей его водит за нос – за словами еврея ничего не стоит, никакой тайны, еврей просто тянет с ответом, чтобы добыть из поляка побольше денег; а во-вторых, далее, происходит самое главное – когда еврей посредством этого самого обмана все же снабжает поляка обещанным благом (а), т. е. выполняет обещание и показывает, как евреи…
(обратно)258
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Оксфорд: Blackwell, 1976, параграф 404. [Рус. изд., напр.: Людвиг Витгенштейн. Философские исследования. Пер. Л. Добросельского. М.: АСТ, Астрель, 2011. – Примеч. перев.]
(обратно)259
Ludwig Wittgenstein, The Blue and The Brown Book, Оксфорд: Blackwell, 1958, параграф 67. [Рус. изд., напр.: Людвиг Витгенштейн. Голубая и коричневая книги. Предварительные материалы к «Философским исследованиям». Пер. В. Суровцева и В. Иткина. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008.] Более подробное изложение этого различения, по Витгенштейну, см. гл. 4 в: Slavoj Žižek, For They Know Not What They Do, Лондон: Verso, 1991.
(обратно)260
Рус. изд., напр.: Иммануил Кант. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. М.: ЭКСМО, 2006. – Примеч. перев.
(обратно)261
Мыслю (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)262
Мыслящее (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)263
Об этом сдвиге от Декарта к Канту см. гл. 1 в: Slavoj Žižek, Tarrying with the Negative, Дарэм, Северная Каролина: Duke University Press, 1993.
(обратно)264
Цит. по: Donald Phillip Verene, Hegel ‘s Сollection, Олбени, Нью-Йорк: SUNY Press, 1985, стр. 7–8. [Цит. по пер. Е. Ситковского. – Примеч. перев.]
(обратно)265
Там же, стр. 8.
(обратно)266
Связь между la femme n’existe pas и ее статусом как чистого субъекта может быть установлена и через точную отсылку к Канту. Вернее, в философии Канта переход от субъекта к субстанции происходит через «схематизацию»: «субъект» есть чисто логическая сущность (субъект суждения), тогда как «субстанция» означает схематизированный субъект, субъект qua действительная сущность, устойчивая во времени. Лишь субстанция существует в точном значении сущности, которая есть часть эмпирической действительности явлений; сущности, которая есть чистый, т. е. не схематизированный, субъект, привязанный к причинно-временному континууму действительности, stricto sensu, не существует.
(обратно)267
Макс Хоркхаймер (1895–1973) – немецкий философ и социолог, один из основателей Франкфуртской школы; рус. изд.: Макс Хоркхаймер, Теодор Людвиг Визенгрундт Адорно. Диалектика просвещения. Пер. М. Кузнецова. М.: Медиум, Ювента, 1997. – Примеч. перев.
(обратно)268
Здесь мы имеем дело с разницей между Общим в себе – «немой» универсальной чертой, объединяющей представителей одного рода, – и Общим, установленным как таковое: иными словами, Общее, с которым субъект соотносится в своем противопоставлении Частному. По Гегелю, эта разница – то, что отличает диалектический подход:
…первостепенная задача – всегда отчетливо различать то, что просто есть в себе, и то, что утверждается: то, каковы определения, когда они в представлении, и то, каковы они, когда утверждены или когда есть для другого. Это различие имеется лишь в диалектическом развитии мысли, а метафизическому (в т. ч. и критическому) философскому рассуждению неведомы. (Hegel’s Science of Logic, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1969, стр. 122)
Это ключевое различие между вещью в себе и вещью для себя позволяет нам прояснить логику саморефлексии у Гегеля – рефлексии-в-другом и рефлексии-в-себе. Вспомним Гегелеву критику представительской демократии: ее иллюзорное, ложное допущение состоит в том, что люди еще до акта выборов знают, чего хотят и каков их истинный запрос, будто посредством их избирательского голоса они выберут кого-то, кто сможет передать этот запрос, который избиратели уже полностью осознают, в саму сферу политики. Возражая против этого, Гегель говорит, что (политический) представитель совсем не просто передает этот уже осознанный запрос, а подвергает его обработке самосознания. Иными словами, политический представитель преобразует мой запрос из «вещи в себе» в «вещь для себя»: обеспечивая ясную публичную формулировку моего запроса, он служит посредником в его признании мной («Лишь теперь мне отчетливо понятно, чего я все это время хотел!»). Выбирая своего представителя, я, таким образом, в некотором смысле выбираю себя самого, свою собственную политическую личность. Именно в этом смысле выбор моего представителя есть не только моя рефлексия-в-другом, отражение моих интересов в политической сфере, но и одновременно мое отражение-в-себе, саморефлексия. Пример такой вещи для себя из совершенно другой области Общего – отраженные отношения литературной работы относительно ее жанра. И речь тут не столько о выраженной игре с законами жанра, сколько о более утонченных случаях, как, например, в «Нисхождении» Патриции Хайсмит [Рус. изд.: Патриция Хайсмит. Нисхождение. Пер. О. Лапиковой. М.: Центрполиграф, 2002. – Примеч. перев.] – портрет одинокой американской женщины в отпуске в Тунисе. Определение Хайсмит в психологические триллеры полностью меняет наше восприятие того, что, в противном случае, мы бы сочли обычным психологическим исследованием: читатель делается куда внимательнее к признакам безумия, к устрашающим возможностям других межсубъектных сочетаний и пр.
(обратно)269
Малколм Икc (эль-Хадж Малик эш-Шабазз, ур. Малколм Литтл, 1925–1965) – афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права человека. – Примеч. перев.
(обратно)270
Эрнсто Лаклау (1935–2014) – аргентинский политолог, постмарксист. – Примеч. перев.
(обратно)271
Ernesto Laclau, ‘Universalism, Particularism, and the Question of Identity’, October 61, стр. 89.
(обратно)272
Там же.
(обратно)273
Через отрицание (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)274
G. W. F. Hegel, Phenomenology of spirit, Оксфорд: Oxford University Press, 1977, стр. 496. [Цит. по пер. Г. Шпета. – Примеч. перев.]
(обратно)275
Дух времени (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)276
См.: J. P. Hodin, Edvard Munch, Лондон: Thames & Hudson, 1972, стр. 88–89.
(обратно)277
Хичкоковское «Убийство!» – показательный случай той же двойственности, где действительность оказывается вымышленной, а вымысел – действительным. В последнем кадре фильма мы видим, как пара счастливо воссоединяется в гостиной, но затем камера отъезжает назад, и мы понимаем, что действие предыдущего кадра происходило на сцене. Самоубийство убийцы Фэйна за десять минут до этого – обратная история: мы наблюдаем театральную сцену (гимнастический номер), которая внезапно оказывается смертельной – Фэйн совершает публичное самоубийство, вешаясь на веревке с трапеции.
(обратно)278
Иоганн Якоб Бахофен (1815–1887) – швейцарский ученый, этнограф, юрист, антиковед. – Примеч. перев.
(обратно)279
Jacques Lacan, Écrits: A Selection, Нью-Йорк: Norton, 1977, стр. 324.
(обратно)280
Люс Иригаре (р. 1930) – французский философ и психоаналитик, занимается феминистской ревизией социальной теории; Юлия Кристева (р. 1941) – французская исследовательница литературы и языка, психоаналитик, писательница, семиотик, философ, оратор. – Примеч. перев.
(обратно)281
У Вагнера в «Сумерках богов» вторжение «сверх-я» в его социополитической непристойности происходит c «воззванием к людям [Männerruf]» Хагена и дальнейшим хором: сцена грубого насилия, доселе в опере невиданная… И все же, когда берется оправдать развязанное им насилие, Хаген ссылается на богиню Фрику. Фрика, защитница семьи и семейного очага – разумеется, воображаемая проекция мужского дискурса. Это, однако, не означает, что мы должны противопоставлять женщину как она есть «для другого», для мужчины («мужская нарциссическая проекция» и т. д.) и «истинную» женщину-в-себе. Велико искушение утверждать строго противоположное: «Женщина-в-себе» есть, в конечном счете, мужская фантазия, тогда как мы оказываемся гораздо ближе к «истинной» женщине, просто проходя до конца тупики мужского дискурса о женщине.
(обратно)282
Имеет смысл перечитать очерк Мэри Энн Доун [р. 1952, американский ученый-киновед, семиотик, исследовательница гендера в кино. – Примеч. перев.] о Гилде (в «Femmes Fatales»); стриптиз Гилды подкрепляется мужской фантазией, что, после того как она скинет с себя всю одежду, мы – мужчины – обнаружим ее непорочное ядро, «добропорядочную жену», которая лишь «прикидывалась» развратной. Напротив, основная черта того, что Лакан именует «субъектом», – отсутствие такого ядра; субъект подобен луковице, под слоями которой не скрывается ничего…
(обратно)283
Одна из апокрифических версий мифа о Тристане и Изольде доводит этот парадокс до рекурсивности: отношения между долгом и женщиной накладываются на отношения между Дамой и «обычным» мужчиной. Тристан, женатый на белокурой Изольде, которую не любит, возводит в лесу рядом со своим замком каменный фетиш – изваяние истинной Изольды, Дамы. Он регулярно навещает ее по ночам, его поклонение статуе восстанавливает его половую мощь в постели с белокурой Изольдой и помогает ему сохранять видимость нормальной семейной жизни. Возможно, недоступный Идеал (Дантова Беатриче и т. п.) как таковой – в чистом виде негативный пример, его функция – содействовать «нормальным» сексуальным отношениям с другой, «обычной» женщиной. Эта версия мифа о Тристане и Изольде подтверждает и то, что фетиш qua не-детородный объект – не просто не преграда «нормальным» половым отношениям, а, наоборот, условие существования их.
(обратно)284
В общем, главный переворот почти в любой мелодраме возникает, когда сила, обозначающая большого Другого, признает правду о субъекте и тем исправляет зло. Обратимся к (возможно, удивительному) примеру – советскому фильму «Алешкина любовь» (1960), снятому во времена, именуемые «хрущевской оттепелью»: утонченный переворот возникает, когда пылкая любовь главного героя наконец публично признана с виду невежественным и циничным большим Другим; тем самым подтверждается, что цинизм большого Другого был поддельным и с самого начала играл роль Испытания, которому большой Другой подверг главного героя.
Действие фильма «Алешкина любовь» происходит в группе геологов, стоящих лагерем неподалеку от маленького городка в сибирской глуши. Юный Алеша влюбляется в местную девушку, вопреки всем невзгодам, какие претерпела их любовь (поначалу девушка к Алеше безразлична, дружки ее бывшего парня устраивают ему суровую взбучку, его старшие товарищи жестоко над ним насмехаются и т. д.), Алеша в любые свободные часы подолгу добирается пешком до городка, чтобы хоть одним глазком глянуть на ту девушку. В конце фильма девушка сдается напору его чувств: она перестает быть любимой и делается любящей, сама идет в лагерь к геологам. Алешины коллеги, работающие на холме над лагерем, бросают копать, выпрямляются и молча провожают девушку взглядами, пока та подходит к Алешиной палатке: конец циничной отстраненности и насмешкам; сам большой Другой вынужден признать свое поражение – и зачарованность силой любви…
(обратно)285
Маргерит Дюрас (Донадьё, 1914–1996) – французская писательница, сценарист, режиссер и актриса. – Примеч. перев.
(обратно)286
Автоматизм любви приводится в движение, когда некий случайный, в конечном счете – безразличный (либидинальный) объект вдруг занимает место, отведенное фантазии. Роль фантазии в автоматическом возникновении любви держится на том, что «тут нет половых отношений», нет универсальной формулы или матрицы, гарантирующих гармоничные половые отношения с партнером: из-за отсутствия такой универсальной формулы, любой человек вынужден изобретать фантазию себе самому, «личную» формулу сексуальных отношений – для мужчины отношения с женщиной возможны лишь если она соответствует его формуле. Формула Человека-волка, знаменитого пациента Фрейда, такова: «женщина, вид сзади, на четвереньках, моет или стирает что-то на полу перед собой» – вид женщины в этой позе автоматически вызывал в нем любовь. В случае с Джоном Раскином [1819–1900, английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт. – Примеч. перев.] формула следовала модели древних греческих и римских статуй и привела к трагикомическому разочарованию, когда Раскин в первую брачную ночь увидел лобковые волосы, которых у статуй прежде не наблюдал, и это открытие мгновенно сделало его полным импотентом, поскольку он счел свою жену уродом. У Дженнифер Линч в «Елене в ящике» (1993) фантастический идеал, ни много ни мало, – сама Венера Милосская: герой похищает возлюбленную девушку и производит над ней операцию, чтобы привести девушку в соответствие своему идеалу и тем самым сделать возможными их половые отношения (он отрезает ей руки и делает шрам в том месте, где статуя усечена).
(обратно)287
Подробный разбор этого подобия см. в гл. 2 в: Žižek, Tarrying with the Negative, а также в: Joan Copjec, Read My Desire, Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1994.
(обратно)288
Gilles Deleuze, The Logic of Sense, Нью-Йорк: Columbia University Press, 1990, стр. 75. [Цит. по пер. Я. Свирского. – Примеч. перев.]
(обратно)289
По этой причине мужчина как объект любви в песнях женщин-трубадуров никогда не определяется симметрично, т. е. как недоступная Идеальная Вещь, а подчиняется совершенно другой экономике.
(обратно)290
Речь о книге Карла Маркса «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie» (1857–1858, Очерк критики политической экономии, нем.). – Примеч. перев.
(обратно)291
Здесь следует избегать чудовищного заблуждения: Гегелево «конкретное общее» не означает частного, «конкретного» государства, которое наконец подходит под универсальное понятие Государства, а означает всю полноту неудачных попыток воплотить это представление о Государстве.
(обратно)292
Еще один пример – знаменитый случай универсального суждения: «Все люди смертны». Во внутренне присущей ей либидинально-символической экономике такое суждение всегда исключает меня, т. е. абсолютную сингулярность говорящего qua субъекта речи. Легко постановить – с безопасного расстояния наблюдателя, – что «все» смертны, однако само это утверждение связано с исключением субъекта речи; по словам Лакана, на бессознательном уровне никто не верит, что смертен; от этого знания мы отказываемся и имеем дело с фетишистским расщеплением: «Я прекрасно понимаю, что смертен, но, тем не менее…»
(обратно)293
Отличительная черта (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)294
Поправки (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)295
Floyd Kemske. The Virtual Boss. Норт-Хейвен, Коннектикут: Catbird Press, 1993. – Примеч. перев.
(обратно)296
Своего рода (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)297
Жак-Ален Миллер (р. 1944) – французский психоаналитик лакановской школы, декан факультета психоанализа Университета Париж VIII; зять Ж. Лакана. – Примеч. перев.
(обратно)298
История, применимая ко мне (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)299
Морис О’Коннор Друри (1907–1976) – англо-ирландский психиатр, последователь Л. Витгенштейна. – Примеч. перев.
(обратно)300
M. O’C. Drury, ‘Conversations with Wittgenstein’, в: Collections of Wiltgenstein, под ред.: Rush Rhees, Оксфорд: Oxford University Press, 1984, стр. 125.
(обратно)301
Против (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)302
С, вместе (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)303
Букв.: то, без чего не; зд.: неотъемлемая черта (лат.). – Примеч. перев.
(обратно)304
Зд.: общее место, клише (греч.). – Примеч. перев.
(обратно)305
Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) – французский философ-постмодернист, теоретик литературы. – Примеч. перев.
(обратно)306
Не имеющее словарного смысла слово, придуманное Человеком-крысой, пациентом Фрейда. – Примеч. перев.
(обратно)307
Пасующие игроки, проводники (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)308
Зд.: прохождение (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)309
Зд.: комиссия прохождения. – Примеч. перев.
(обратно)310
A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy, Лондон: St Martin's Press, 1985, стр. 358. [Эндрю Сесил Брэдли (1851–1935) – английский литературовед, особенно известен работами о Шекспире. – Примеч. перев.]
(обратно)311
Мыслю, следовательно, существую (лат., изречение Рене Декарта). – Примеч. перев.
(обратно)312
См. Stuart Schneiderman, The Rat Man, Нью-Йорк: NYU Press, 1986, стр. 115.
(обратно)313
И все-таки она вертится (ит., приписывают Галилео Галилею). – Примеч. перев.
(обратно)314
Стивен Джей Гулд (1941–2002) – американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки.
(обратно)315
Лат.: аргумент, основанный на выводе из положения, которое само по себе требует доказательства. – Примеч. перев.
(обратно)316
Бенедетто Кроче (1866–1952) – итальянский интеллектуал, атеист, критик, философ, политик, историк. – Примеч. перев.
(обратно)317
От нем. Dasein, букв. «вот-бытие», «здесь-бытие». – Примеч. перев.
(обратно)318
Зд.: отказ (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)319
Предмет, вещь (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)320
См. Zdravko Kobe, 'The Unconscious within Transcendental Apperception', в: The American Journal of Semiotics, т. 9 (1992), №№ 2–3, стр. 33–50.
(обратно)321
Речь о книге, помянутой в прим. 98, см. гл. 2 «Есть ли у субъекта причина?». – Примеч. перев.
(обратно)322
Антония Байетт (р. 1936) – английский прозаик; роман «Обладать» получил Букеровскую премию (1990) и включен в университетские программы многих стран мира. Рус. изд.: Антония Байетт. Обладать. Пер. В. Ланчикова, Д. Псурцева. М.: Гелеос, 2006. – Примеч. перев.
(обратно)323
A. S. Byatt, Possession, Лондон: Vintage, 1991, стр. 504.
(обратно)324
О совпадении Добра с верховным Злом см. гл. 3 в: Slavoj Žižek, Tarrying with the Negative, Дарэм, Северная Каролина: Duke University Press, 1993.
(обратно)325
Подход Дерриды к призракам см. в: Jacques Derrida, Spectres de Marx, Париж: Galilee, 1993. [Рус. изд.: Жак Деррида. Призраки Маркса. Пер. Б. Скуратова. М: Logos altera, Ecce homo, 2006. – Примеч. перев.]
(обратно)326
См. гл. 3 этой книги.
(обратно)327
См. Jacques Derrida, Given Time I: The Counterfeit Money, Чикаго, Лондон: University of Chicago Press, 1992.
(обратно)328
Фредрик Джеймсон (р. 1934) – американский литературный критик и теоретик марксизма. – Примеч. перев.
(обратно)329
Рус. изд., напр.: Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии. М.: Издательство политической литературы, 1986. – Примеч. перев.
(обратно)330
Найти документальных подтверждений этому занимательному факту не удалось. – Примеч. перев.
(обратно)331
Марсель Мосс (1872–1950) – французский этнограф и социолог. – Примеч. перев.
(обратно)332
«Фальшивая монета», рус. изд., напр. в: Шарль Бодлер. Стихотворения в прозе (Парижский сплин). СПб: Наука. Ленинградское отделение, 2011. – Примеч. перев.
(обратно)333
У Дерриды: различание (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)334
Derrida, Spectres de Marx, стр. 102. [Цит. по пер. Б. Скуратова. – Примеч. перев.]
(обратно)335
Немногое действительное (фр.). – Примеч. перев.
(обратно)336
См. гл. 4 этой книги.
(обратно)337
Букв.: камень преткновения (греч.). – Примеч. перев.
(обратно)338
Рус. изд., напр.: Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Пер. В. Наумова, И. Борисовой. М.: АдМаргинем, 1999. – Примеч. перев.
(обратно)339
См. гл. 6 в: Slavoj Žižek, Looking Awry, Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1991.
(обратно)340
Дьёрдь (Георг) Бернат Лукач Сегедский (1885–1971) – венгерский философ-неомарксист, литературный критик. – Примеч. перев.
(обратно)341
Зд.: проявление (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)342
Речь о книге Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809), рус. изд., напр.: Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы. Пер. М. Левиной. М.: Либроком, 2009. – Примеч. перев.
(обратно)343
Джеронимо (Гоятлай, 1829–1909) – легендарный военный предводитель чирикауа-апачей, в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего племени; в 1886 г. был вынужден сдаться американской армии. – Примеч. перев.
(обратно)344
Клод Леви-Стросс (1908–2009) – французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма в этнологии (т. н. структурной антропологии), теории «инцеста» (одной из теорий происхождения права и государства), исследователь систем родства, мифологии и фольклора. – Примеч. перев.
(обратно)345
Джудит Батлер (р. 1956) – американский философ, представитель постструктурализма, исследователь феминизма, квир-теории, политической философии, этики. – Примеч. перев.
(обратно)346
Снятие, преодоление (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)347
Judith Butler, Bodies That Matter, Нью-Йорк: Routledge, 1993, стр. 127.
(обратно)348
См. Jacques Derrida, ‘Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority”, в: Deconstruction and the Possibility of Justice, Нью-Йорк: Routledge, 1992. Другую (лакановскую) формулировку похожей мысли см. в гл. 5 в: Slavoj Žižek, For They Know Not What They Do, Лондон: Verso, 1991.
(обратно)349
Рус. изд., напр.: Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Пер. Р. Додельцева. СПб: Азбука-классика, 2015. – Примеч. перев.
(обратно)350
Рус. изд., напр.: Эдит Уортон. Эпоха невинности. Пер. М. Беккер. СПб: Азбука, 2011. – Примеч. перев.
(обратно)351
Дэвид Энтони Ллуэллин Оуэн, барон Оуэн (р. 1938) – министр иностранных дел Великобритании с 22 февраля 1977 г. по 4 мая 1979 г. (лейборист). – Примеч. перев.
(обратно)352
Средняя Европа (нем.). – Примеч. перев.
(обратно)353
Политика с позиции силы (нем., жарг.) – Примеч. перев.
(обратно)354
Аленка Зупанчич (р. 1966) – словенский философ, специализируется на психоанализе и континентальной философии.
(обратно)355
Дэвид Рикардо (1772–1823) – английский экономист, классик политической экономии, последователь и одновременно оппонент Адама Смита; Томас Роберт Мальтус (1766–1834) – английский священник и ученый, демограф и экономист. – Примеч. перев.
(обратно)
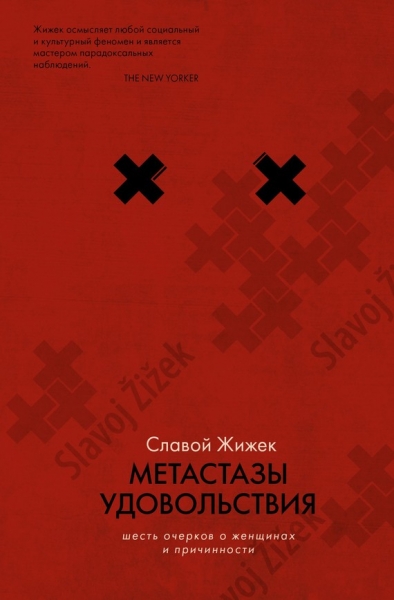

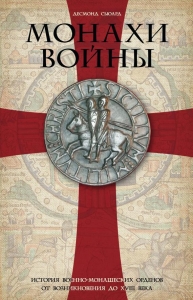


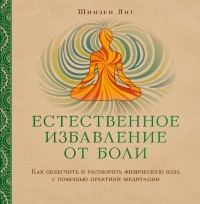
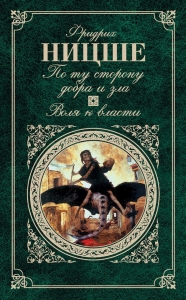



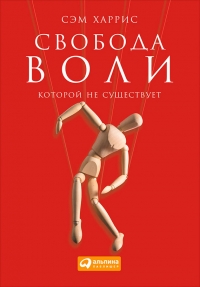
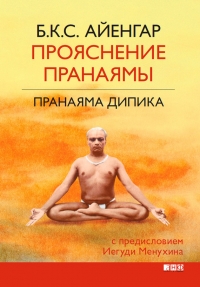
Комментарии к книге «Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности», Славой Жижек
Всего 0 комментариев