Джузеппе Боффа СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв
© Боффа Дж. (Boffa G.), правообладатели, 2015
© Перевод с итальянского И. Б. Левина, С. К. Дубинина и др., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Предисловие (из книги Дж. Боффа «История Советского Союза»)
Следует объяснить, как и почему я написал эту книгу. Я довольно долго жил в Советском Союзе. Первый раз я приехал сюда 28 декабря 1953 г. Сталин умер всего несколько месяцев назад. Прошло меньше месяца с того дня, как было объявлено о расстреле Берии. В СССР я приехал одолеваемый безмерным любопытством, неотделимым, разумеется, от политического пристрастия.
С первых же месяцев моего московского житья я был поражен тем, насколько плохо мы, иностранцы, пребывающие в СССР, подготовлены для понимания событий, происходящих в стране. И это даже не зависело от политической ориентации, которой придерживался каждый из нас: мы все оказывались равным образом безоружными, безотносительно к тому, кто на какую сторону становился в годы холодной войны. Вопреки собственным намерениям и критической настроенности, в большей или меньшей степени отличавшей каждого, все мы, как оказалось, питались скорее стереотипами, нежели подлинным знанием. Эти стереотипы могли быть очернительского или восхвалительного толка (поскольку они поддерживались пропагандой с двух противоположных сторон), но при соприкосновении с фактами они оказывались равным образом абстрактными, далекими от подлинной действительности. Нам приходилось, следовательно, самим приниматься за труд первооткрывательства, и вот здесь-то знакомство с историей могло бы помочь делу. Но раздобыть информацию было непросто.
К середине 50-х годов состояние исторической науки в СССР было довольно обескураживающим, что, впрочем, широко признавалось уже в ту пору и о чем официально заявлялось как на самом XX съезде, так и после него. Сам ход этого съезда и созданная им в стране политическая атмосфера усиливали мое желание узнать возможно больше о событиях недавнего прошлого. При отсутствии работ, способных удовлетворить мою любознательность, мне не оставалось, однако, ничего иного, как прибегнуть к тому, что на профессиональном языке историков именуется устной традицией, то есть к рассказам людей, которые эти события пережили и наконец решились правдиво поведать об этом своем личном опыте. Так началась моя, если так можно выразиться, кустарная работа по исследованию советской истории.
Последующий ход дел в СССР лишь все больше побуждал меня стремиться к тому, чтобы сочетать профессиональный журналистский труд со все более серьезной исследовательской работой историка. Когда я вернулся в Москву на второй период, то сделал это главным образом для того, чтобы посвятить себя этой второй цели: более систематическому разысканию необходимых источников, устранению по мере возможности пробелов в документации и более интенсивным контактам с теми советскими историками, которые пользовались моим наибольшим уважением. И хотя эти усилия, уже тогда стоившие мне немалого напряжения, забирали массу времени и энергии, я не думал – ни тогда, ни еще несколько лет спустя, – что примусь за систематическое написание истории Советского Союза. Я был убежден: советские историки справятся с этой задачей куда лучше, чем я. Лишь к концу 60-х годов, когда я вынужден был констатировать, что в брежневском СССР политическая и идеологическая атмосфера вновь сделалась малоблагоприятной для опубликования правдивой истории советского периода, я набрался решимости самому взяться за написание того труда, который теперь предлагаю вниманию читателя.
Я полагал – и это было для меня главным стимулом, – что такого рода книга необходима итальянскому читателю, особенно молодому, имеющему весьма туманные представления об этой истории и справедливо желающему знать о ней больше. Я принялся за работу, отдавая себе отчет в тех трудностях, с которыми встречусь. Обширность и сложность темы сами по себе внушали ужас. К тому же я знал, насколько полны пробелов те источники, которыми я мог располагать, ведь большая часть их оставалась запертой в архивах, куда даже советские исследователи не имели доступа, а уж мне и подавно путь был закрыт. Но я был убежден, что архивы эти все равно откроются еще не скоро. Если я стану ждать, когда они поступят в распоряжение ученых, то, скорее всего, никогда не смогу выполнить поставленную перед собой задачу. Я решил поэтому, что как бы то ни было, но попытку эту следует предпринять, используя все те источники, которые удалось собрать мне лично, а также те, которые, по моим сведениям, имелись в разных странах мира. Пусть то будет первая попытка. Позже другие напишут лучше меня.
Именно потому, что я отдаю себе отчет в том, насколько ограниченным был исследовательский инструментарий, которым я мог располагать, я не претендую, чтобы эту работу рассматривали как исчерпывающую. Все мы, те, кто издалека пытается объективно исследовать историю СССР, знаем, что плоды наших стараний по необходимости отмечены знаком временности, причем не только в том смысле, что всякое историческое исследование преходяще, но и в том, что нашим изысканиям суждено оказаться преодоленными в тот самый момент, когда свободный доступ к архивам позволит историкам – в первую очередь советским, но, хочу надеяться, также и представителям других стран – более обстоятельно ознакомиться с прошлым. Я не удивлюсь поэтому, если моя книга окажется предметом критики и оспариваний, особенно если они будут основываться на новых открытиях, неизданных документах, более полной информации. Именно такого типа дискуссии нам дольше всего недоставало, и в ней ощущается наибольшая нужда. Историческое исследование – как и любое другое научное изыскание – может от этого только выиграть. Мое сокровенное желание и сегодня состоит в том, чтобы эти страницы могли послужить отправным пунктом для дискуссий, которые бы продвинули всех в познании действительности. Если это окажется возможным, я буду считать это подлинной наградой за свой труд.
Советская экономика в 1920-е годы. Проблемы и решения
Восстановление производительных сил
После хаоса революционных лет, после разрухи, вызванной Первой мировой и гражданской войнами, подъем экономики в Советской России начался в 1922 г. Нэп возродил определенное товарообращение. Подъем пошел быстро и обнадеживающе, хотя не раз небо над советской экономикой затягивало тучами и наступали критические моменты.
Выпуск продукции тяжелой индустрии, не превышавший и 13 % довоенного объема (1913), в 1924 г. достиг 50 % этого уровня и превзошел его в 1927 г. Годами наиболее интенсивного роста были 1923 г., а затем 1925 и 1926 гг. Оживление происходило и на железнодорожном транспорте, почти парализованном в 1920–1921 гг. В 1927 г. людей и грузов перевозилось больше, чем до войны. Темпы промышленного роста были различными в разных отраслях. В легкой промышленности они были выше, чем в тяжелой; в производстве энергии и добыче топлива, нехватка которого как раз и грозила парализовать страну, дело шло более споро, нежели в выплавке металла (металлургическая промышленность вышла на довоенные показатели лишь в 1929 г.). Подъем был обусловлен сперва просто необходимостью привести в движение остановившийся было механизм народного хозяйства, а затем запросами рынка – по преимуществу крестьянского, – на котором ощущалась нехватка самых элементарных товаров.
Восстановление промышленности повлекло за собой возрождение рабочего класса. В августе 1922 г. его численность едва превышала миллион человек. Деклассирование городского пролетариата было тем социальным явлением, которое более всего ослабляло основы нового строя. Теперь в городах наступало оживление. К концу 1927 г. число рабочих, занятых в крупной промышленности, вновь достигло 2,5 млн.; советские исследователи считают, что с учетом утраченных территорий этот показатель равноценен довоенному. Наибольший рост наблюдался в 1925 и 1926 гг.
В 1927 г. довоенного уровня достигла также зарплата, хотя между различными отраслями существовали довольно значительные перепады. В первое время рост зарплаты превышал рост производительности труда, что вызывало тревогу в 1924 г. Сам по себе, однако, такой процесс был неизбежен, так как оплату труда, упавшую до трагически низкого уровня во время военного коммунизма, необходимо было повысить хотя бы до минимальных размеров, дающих возможность просуществовать. Впрочем, с переходом к нэпу зарплата пережила немало превратностей: вначале – когда была резко сокращена, а потом и вовсе упразднена натуральная оплата, и позже – когда скудные запасы ликвидных средств у предприятий привели в 1923 г. к большим задержкам в выдаче зарплаты. На первых порах оживление работы предприятий было делом рук рабочих, уже трудившихся на заводах до войны (70 %); остальные зачастую были их детьми. На этой первой стадии приток новых сил был незначительным: более ощутимым он стал лишь в 1925–1926 гг.
Первым признаком выхода из кризиса был хороший урожай 1922 г. Сельское хозяйство пострадало от войны сравнительно меньше, чем промышленность. И все же его продукция в 1921 г. составляла в стоимостном выражении лишь чуть больше половины продукции 1913 г.: 60 % по советским статистическим данным. Подъем сельского хозяйства вначале шел быстрее, чем в промышленности. В 1922 г. было засеяно лишь 77,7 млн. га против 105 млн. в 1913 г., но уже в 1925 г. для возделывания была отвоевана почти вся пустовавшая земля. Наиболее интенсивное восстановление утраченного происходило в 1923 г. К наилучшим годам в сельском хозяйстве относились также 1925 и 1926 гг. Набирало силу возделывание технических культур, сильнее всего пострадавшее от гражданской войны и раздела земли (сбор хлопка в Средней Азии и сахарной свеклы на Украине упал соответственно до 6 и 4 % по равнению с 1913 г.).
Что касается животноводства, менее пострадавшего, но и менее развитого до революции, то оно уже в 1925 г. достигло довоенного уровня. Исключение составляло только коневодство. В целом сельское хозяйство в 1927 г. производило больше продукции, чем до войны.
Денежная реформа
В результате хозяйственного подъема, достигнутого без займов, без какой бы то ни было помощи из-за границы, жизнедеятельность страны полностью восстановилась, хотя, по мнению многих иностранных экспертов, она не способна была стать на ноги. То был знак необыкновенной живучести общества, прошедшего жестокие испытания революции и гражданской войны, и способности новой власти к упрочению своих основ. Тем не менее тут-то и начинались подлинные проблемы.
Дело в том, что выход из кризиса не был таким уж гладким. В 1923 г., когда подъем только-только начал набирать силу, более быстрое восстановление на селе в сочетании с медленно преодолеваемой дезорганизацией рынка привело к падению цен на сельскохозяйственную продукцию при одновременном резком повышении цен на промышленные товары. То был «кризис ножниц цен», как его стали называть по знаменитой диаграмме, которую Троцкий, первый заговоривший об этом явлении, показал делегатам XII съезда РКП(б).
К осени кризис приобрел такие масштабы, что угрожал парализовать товарообмен между городом и деревней, а следовательно, подорвать едва начавшееся восстановление и вызвать неизбежную депрессию. Причины его были, конечно, более сложными, чем те, на которые указывали критики из оппозиции, сводившие все к отставанию промышленности и отсутствию плана. Анализ его причин явился, таким образом, исходным пунктом диспута между противостоящими тенденциями в экономической теории – диспута, получившего развитие в последующие годы.
Между тем уже в 1924 г. напомнил о себе второй отрицательный фактор. Новая серьезная засуха обрушилась на зерносеющие районы юга и юго-восточной части Европейской России, которые еще не полностью оправились от трагических последствий недорода 1921 г. Тем самым обнаружилась непрочность подъема сельского хозяйства. Последствия на этот раз были не столь катастрофическими, и все же они ощущались еще и три года спустя.
В эти годы была осуществлена денежная реформа. Тщательно продуманная, она была терпеливо и заблаговременно подготовлена постепенным введением в обращение в 1923 г. новой денежной единицы с золотым обеспечением – червонца. В первом квартале 1924 г. был произведен обмен старых обесцененных денег, находившихся в обращении, на новые банкноты и монеты новой чеканки, также обеспеченные золотом и потому стабильные. Обмен производился из расчета один новый рубль на каждые 50 тыс. «совзнаков», каждый из которых, в свою очередь, равнялся миллиону рублей времен гражданской войны. Реформа была представлена стране как «поворотный пункт… экономического и политического развития». Она явилась актом огромной важности, ибо служила показателем большей степени овладения механизмами экономики, наконец достигнутой правительством. Продолжением реформы стала финансовая политика, которую историки называют «ортодоксальной»: сбалансированный бюджет, опирающийся на гарантированные доходы и твердые налоговые поступления; осторожная политика расходов и капиталовложений, активный внешнеторговый баланс. Троцкий критиковал эту политику как «диктатуру наркомфина», то есть Сокольникова и его экспертов: слишком осторожную, чтобы обеспечить достаточно быстрое развитие промышленности (именно в этом смысле он противопоставлял ей требование «диктатуры промышленности»)1.
Проведенная как раз в то время, которое совпало с первой полосой дипломатических признаний Советского государства, денежная реформа возродила надежды на широкое экономическое сотрудничество с капиталистическими державами Запада. Более обильные урожаи вновь приоткрыли перспективу возобновления вывоза хлеба, который играл столь важную роль для экономики царской России. Был такой период в 1923–1924 гг., когда все или почти все руководители РКП(б), независимо от принадлежности к большинству или оппозиции, были убеждены в абсолютной необходимости иностранных кредитов для развития страны. Лучше всех это убеждение выразил Красин в своем выступлении на XII съезде партии. Но займы, за некоторыми ничтожными исключениями, так и не поступили. Многие надежды развеялись как дым. 1925 г. – год максимального развития концессий. Были заключены наиболее крупные контракты на разработку минеральных ресурсов: добычу марганца в Грузии – с американцем Гарриманом и освоение обширных золотоносных площадей в Сибири – с английской компанией «Лена голдфилдс». В 1926 г. было зарегистрировано наибольшее число действующих соглашений с иностранными фирмами – 113. Из них лишь 31 – в промышленности. Их удельный вес в советской экономике, хотя его и нельзя назвать нулевым, был все же предельно мал: эти предприятия не выпускали и одного процента совокупной промышленной продукции. Наконец, объем внешней торговли достиг только 40 % довоенного. С одной стороны, ощущалась нехватка товарного зерна, с другой – политические преграды мешали более широкому развитию товарообмена с заграницей. Во многих странах советские товары еще рассматривались как своего рода краденое добро, отнятое у прежних законных владельцев и потому подпадающее под многообразные юридические санкции.
Сколь ни блестящи были успехи в экономике, ее подъем ограничивался жесткими пределами. Достигнуть довоенного уровня было нелегко, но и это означало новое столкновение с отсталостью вчерашней России, сейчас уже изолированной и окруженной враждебным ей миром. Мало того, наиболее могущественные и богатые капиталистические державы вновь начинали укрепляться (эта тема – так называемой «относительной стабилизации» капитализма – в середине 20-х гг. служила предметом ожесточенных споров в Коминтерне и среди русских коммунистов). Американские экономисты подсчитали, что национальный доход на душу населения к концу 20-х гг. составлял в СССР менее 19 % американского.
Жизнеспособность страны находила выражение в бурном демографическом росте. В 1926 г. численность населения увеличилась до 147 млн. человек, на 13 млн. больше, чем в 1923 г., что означало неслыханные темпы среднегодового прироста – более 2 %. Как и до революции, лишь 18 % жило в городах, а 82 % – в деревне. Уже заметна была, однако, тенденция к ускоренному росту городского населения: число жителей городов возрастало на 5 % в год. Деревня вновь страдала от перенаселенности: по подсчетам экономиста Струмилина, на селе имелся «излишек» порядка 8–9 млн. пар рабочих рук. Этот «излишек» начинал притекать в города, обостряя проблему безработицы до тревожных размеров. В 1923 г. число безработных превысило миллион человек, а в 1927–1929 гг. переваливало за полуторамиллионную отметку; особенно сильна была безработица среди молодежи. В 1924 г. она послужила источником опасных политических брожений.
Восстановление производства и стабильность денежной единицы были оплачены дорогой ценой: экономией даже на самом существенном. В стране, где культура рассматривалась как первая национальная необходимость, приходилось урезывать даже расходы на школу. По-прежнему тяжким оставалось положение с беспризорными: миллионы детей, брошенных на произвол судьбы, являли собой печальное зрелище. В то же время была восстановлена государственная монополия на водку – немаловажная статья дохода в государственном бюджете, в прошлом осуждавшаяся революционерами как «аморальная». Правда, таким путем надеялись организовать более эффективную борьбу с частным производством алкоголя – губительным самогоном. На практике же пьянство разрасталось.
В подобных условиях коммунисты, стоявшие у власти, не могли удовлетвориться только восстановлением страны. Вся их деятельность велась, разумеется, не во имя простого возврата к производственным уровням довоенной и дореволюционной России; оправдать эту деятельность могла лишь куда более высокая цель – социализм.
Уравнивание в деревне
Несмотря на возрождение рабочего класса, Россия оставалась крестьянской страной. Сельское население насчитывало почти 121 млн. человек и было рассеяно по 613 587 населенным пунктам, размеры которых варьировались в чрезвычайно широких пределах. Это могли быть крошечные селения всего из нескольких изб с десятком-другим жителей (распространены они были преимущественно в лесных и болотистых районах северо-запада), а могли быть и крупные поселки или казацкие станицы на сельскохозяйственном юге, в степях или Сибири, с населением до нескольких тысяч человек.
Русская деревня и после революции отличалась огромным разнообразием местных условий; да иначе и быть не могло в стране, которая в силу своей протяженности охватывала самые различные с географической точки зрения районы, районы со своими историческими особенностями и традициями. Это обстоятельство следует постоянно иметь в виду, в частности, чтобы понять события, которые последовали позже. Всякое описание деревни «вообще» страдало бы, таким образом, условностью. Имелись вместе с тем некоторые черты, общие для деревни на всем бескрайнем протяжении СССР. Одной из них – и, конечно, главной – продолжала оставаться техническая и культурная отсталость. Орудия труда были самые примитивные. В 1924 г. еще около половины хозяйств пахало сохой, а не плугом. Правда, в последующие годы распространение плугов и других металлических орудий труда пошло очень быстро. Однако в подавляющем большинстве случаев крестьяне продолжали сеять вручную, жать хлеб серпом и молотить его цепами. Машин, даже самых простых, было крайне мало. В земледелии господствовала трехпольная система, при которой один из участков оставался под парами раз в три года. Преимущественно ручной сельский труд был малопродуктивен. Если взять за основу расчета тот факт, что земледелием занимались примерно 72 млн. человек (включая подростков), то получается, что в целом по стране каждый крестьянин кормил, помимо себя самого, лишь еще одного своего соотечественника.
Разумеется, не все крестьяне были одинаковы. Однако произведенное революцией великое уравнивание оставалось характерной чертой русской деревни на протяжении всех 20-х гг. Следствием этого явилось одно поразительное явление – возрождение старой общины, к уничтожению которой вел до революции капитализм. Мы знаем, что община не исчезла и после сокрушительного удара, нанесенного ей реформами Столыпина. Великий земельный передел 1917–1920 гг. вдохнул в нее новую жизнь. Земельный кодекс 1922 г. предоставил крестьянам право выбирать ту форму хозяйственного устройства, которую они предпочитают: индивидуальную, коллективную или общественную, то есть основанную как раз на общине. Именно общинное землепользование и стало абсолютно преобладающим: на его долю приходилось до 98–99 % всех крестьянских земель в Центральной и Южной России, несколько меньше, но также преобладающая часть – на Украине и в Сибири, то есть там, где и раньше действовали более сильные стимулы к разложению общины.
Община, которую советский кодекс называл «земельным обществом», представляла собой территориальную ассоциацию частных производителей-земледельцев, не лишенную своеобразного крестьянского демократизма. В общем пользовании находилась лишь часть земли: выгоны, пустоши, леса. Пашня же, составлявшая в среднем 70–80 % всей земельной площади, нарезалась посемейно – по дворам, причем каждая семья обрабатывала надел своими силами. Все общественные вопросы разрешались на собрании членов общины – сходе, который выбирал определенное руководство. По традиции в сходе должны были участвовать лишь главы семей. Советский же закон требовал, чтобы на сходе присутствовали все труженики, включая молодежь и женщин. Однако принцип этот, насколько можно судить по имеющимся в распоряжении исследователей данным о посещаемости сходов, далеко нельзя было считать утвердившимся на практике.
Это был, впрочем, не единственный пункт, по которому возникали трения между традиционными представлениями крестьянской общины и курсом новой советской политики. Начиная с 1922 г. законом были установлены сроки – как правило, девять лет – для периодического перераспределения земли, которое в предшествующий период гражданской войны производилось ежегодно. Сделано это было для того, чтобы не лишать крестьянина стимулов к проведению мелиоративных работ на своем наделе. Но и это установление выполнялось далеко не всегда. Причины, по которым это происходило, становятся более понятными, если обратить внимание на тот факт, что община в деревне обладала куда более реальной властью, нежели Совет. В стране имелось 319 тыс. сельских общин и только 73 584 сельских Совета, ибо сплошь и рядом распространение Советов не шло дальше административного уровня волости. Помимо этого, Совет, как правило, не располагал собственными источниками финансирования, в то время как община обеспечивала их себе путем самообложения, и не мог вмешиваться в вопросы землепользования.
Однако не стоит идеализировать общину. Ей был свойствен консерватизм, особенно в том, что касалось агротехнических методов (севооборота и т. д.); она тормозила всякую индивидуальную инициативу, глушила предприимчивость крестьян. С другой стороны, даже выражая тенденции к солидарности и коллективизму, община отнюдь не умаляла ни силы крестьянского индивидуализма, опиравшегося на прямую связь крестьянина с обрабатываемой землей, ни прочности патриархальных устоев, связанных с сохранением двора как первичной ячейки, в которой господствующим оставалось влияние старейшего главы семьи. Но с точки зрения производственной главным ее пороком оставалась по-прежнему чересполосица – нарезание земли лоскутами. Принцип, которым руководствовалась община, требовал, чтобы всем дворам были предоставлены равноценные наделы. На практике это означало, что каждый получал весь надел в виде множества маленьких участков (порой до 10–20, а то и до 40–50 в зависимости от района), зачастую отстоящих друг от друга на большом расстоянии. Затраты времени и труда в результате резко возрастали, а это отрицательно сказывалось на производительности.
С восстановлением экономики и оживлением рыночных отношений в деревне снова начал развиваться медленный процесс социального расслоения. Определение его точных масштабов – задача наитруднейшая. Источники того времени, как правило, не являются достоверными с точки зрения точности именно потому, что вопрос об определении масштабов явления и составлял предмет острейших разногласий, питавших политическую борьбу, развернувшуюся в те годы в рядах коммунистов. Оппозиция кричала об опасности возрождения сельского капитализма, явно преувеличивая размеры явления. Большинство в свою очередь невольно стремилось к его преуменьшению. Позже картина протекавших процессов была искажена с целью оправдания сталинских методов коллективизации. Но задача затруднена не только искажениями по политическим мотивам.
Советские историки неизменно придерживались ленинской классификации социального состава деревни, по которой крестьянство подразделялось на бедняков, середняков и богатых, или кулаков. Однако сам Ленин, исходя из констатации происшедшего уравнивания, в последние годы уже не прибегал к этой классификации. Ее восстановили его преемники. Между тем в послереволюционной деревне установить классовые различия между теми или другими слоями крестьян было крайне трудно: критерии менялись от района к району. Имелось около 25 млн. первичных производственных единиц, дворов, состоявших в среднем из 5 человек. Получалось, что у одних земли больше, чем у других: как считают, около 350 тыс. семей засевали участки размером больше 16 га, а 3,3 млн. семей – меньше 1 га. Но первые жили преимущественно на юге или в степных восточных районах, где земли было вдоволь. Сопоставления эти, следовательно, мало о чем говорят. Куда более важным различительным критерием служила собственность на средства производства. Поскольку единственным существовавшим тягловым средством было животное, владение лошадью становилось решающим условием (к концу 20-х гг. конское поголовье в СССР составляло около 35 млн.). Те, у кого лошади не было, брали ее взаймы и, как правило, на очень тяжелых условиях. С 1922 по 1927 г. процент безлошадных крестьян в РСФСР сократился с 37,1 до 28,3 %.
Когда более богатый крестьянин давал более бедному в долг семена или что-нибудь из орудий труда, то взамен он требовал отработку долга либо часть урожая. Другим различительным признаком являлась способность арендовать землю или нанимать работников; но и тот, и другой критерий могут ввести в заблуждение, поскольку речь идет об операциях, к которым прибегал – пускай даже в меньшей мере, чем другие, – также середняк и даже бедняк. Все это свидетельствует о том, что общественная жизнь в деревне отнюдь не походила на идиллию. Однако рудиментарный характер этих явлений – которые к тому же сами крестьяне склонны были считать обычными, если не просто естественными, – говорит о том, насколько трудно в этом случае установить собственно классовые различия между теми или другими слоями крестьян.
Не все крестьяне – особенно в некоторых губерниях – состояли в общине. Некоторые выходили из нее, чтобы стать полностью независимыми: их наделы назывались хуторами или отрубами, смотря по тому, прилегали ли они к жилью или находились вдали от него. Среди таких хозяев кулаков было больше. Как правило, это были более предприимчивые и зажиточные крестьяне. Продуктивность их хозяйств, насколько можно судить по скудным данным тех лет, была более высокой. Но они не меняли общей картины села. Точно так же не меняли ее сохранившиеся зародыши коллективного земледелия – колхозы и совхозы. Число последних уменьшалось вплоть до 1925 г., а затем немного увеличилось в течение двух последующих лет. В 1927 г. существовало 4987 государственных хозяйств с 3,5 млн. га пашни и 600 тыс. работников, включая не только постоянных, но и сезонных. Им недоставало, однако, опытных руководителей, они сталкивались с серьезными организационными трудностями и в подавляющем большинстве своем были убыточными. Колхозов было больше (14 832 в 1927 г.), но они были мелкими и состояли почти исключительно из бедняков. Всего ими было охвачено менее 200 тыс. дворов, то есть меньше 1 %. Зачастую они подчинялись общине, и их коллективный характер ограничивался лишь совместной обработкой земли, а все остальное оставалось индивидуальным. В целом годы нэпа, по крайней мере его первая фаза, представляли собой период кризиса коллективного хозяйствования в деревне. Распространение, напротив, получило кооперативное движение, которое с 1924 г. под воздействием последних ленинских статей весьма активно стимулировалось Советским правительством.
Нарисованная картина отражает положение русских, украинских, белорусских крестьян или крестьян других национальных групп, живших в европейской части страны. Она не отражает, однако, положения тех 15–18 млн. нерусских крестьян, которые проживали в восточных республиках, особенно в таких почти целиком сельскохозяйственных зонах, как Средняя Азия и Казахстан (не говоря уже о народностях, рассеянных по просторам Крайнего Севера и насчитывавших около 250 тыс. человек). Здесь также революция прошла через превратности гражданской войны, но она не привела к ломке социальных отношений среди сельского населения. Аграрные реформы не затронули эти районы. Здесь, по определению советских исследователей, сохранился феодально-патриархальный уклад: скорее феодальный, чем патриархальный в Узбекистане, где оазисное земледелие представляло собой главный вид деятельности, а широкое внедрение хлопководства уже создало первые предпосылки для капиталистических связей с русским рынком; скорее патриархальный, чем феодальный в Казахстане, Киргизии, Туркмении, среди бурят и монголов, где население занималось кочевым или полукочевым скотоводством.
Хотя старая крестьянская община у узбеков сохранила свое значение, особенно в вопросах распределения воды по ирригационным системам, существовали весьма сильные различия в имущественном положении традиционных вождей, располагавших большими земельными угодьями, и огромным большинством дехкан, бедных крестьян, у которых было совсем мало земли. У кочевников или полукочевых народностей основным социальным ядром за отсутствием традиционной деревни служил аул, образованный одной большой патриархальной семьей или семейными группами. Советов здесь практически не существовало. Господствовали патриархальные и племенные институты и обычаи. Однако различия с точки зрения обладания скотом – будь то верблюды, лошади, овцы, свиньи или другие животные – были весьма значительны.
Аграрные преобразования в этих регионах начались лишь в 1926–1927 гг. В земледельческих районах они включали, помимо перераспределения земли, также изменение режима пользования водой для полива. У кочевых народностей они предварялись усилиями по советизации аулов и были направлены на перераспределение поголовья скота. Лишь в некоторых областях Средней Азии эти реформы были доведены до конца, вызвав определенное выравнивание социальных условий. В других местах они – еще до того, как были завершены, – оказались «перекрыты» и поглощены в конце десятилетия волной коллективизации.
Абсолютное преобладание середняка привело к тому, что из продавца своей продукции деревня стала превращаться в ее потребителя. Революция избавила земледельца от пут рабства, от долгов и т. п.; теперь он пользовался этим, чтобы жить лучше. Но общая отсталость деревни не позволяла ему развивать свое производство так, как это было бы необходимо. Урожайность оставалась чрезвычайно низкой и во многом зависела от капризов погоды. В 1926 г. сбор зерновых составил почти 77 млн. т. Государство, которое после денежной реформы перешло от натурального налога к денежному обложению, смогло заготовить 11,6 млн. г (между тем до войны при меньших урожаях на рынке заготавливалось около 17 млн. г). Цифры 1926 г. показали, таким образом, предел, потолок: в последующие годы его ни разу не удалось достичь. Отсюда и ограниченность экспортных возможностей.
Нэпман
У города тем временем тоже появились новые запросы. По мере того как хозяйственная разруха уходила в прошлое, все больше давали знать о себе чаяния, пробужденные революцией. Восстановленная до своего довоенного уровня промышленность была слишком слабо развита, чтобы удовлетворить растущие потребности деревни и города. Промышленная продукция имела тенденцию оседать в городах. Подсчитано, что менее половины произведенных промышленностью потребительских товаров достигало сельских районов, где их хватало от силы на покрытие одной трети спроса. В конце 1925 – начале 1926 г. начал сказываться, пользуясь выражением советских авторов, «товарный голод», которому при всей его серьезности суждено будет постоянно сопровождать развитие советского общества. Несмотря на все использованные государством средства контроля, вновь возникли «ножницы цен», ликвидированные было в 1924–1925 гг. Экономическая смычка города с деревней – главная цель нэпа – оказывалась, таким образом, противоречиво реализуемой задачей.
Свобода торговли в дозволенных и контролируемых пределах является одной из основ нэпа, сказал Зиновьев на XIII съезде РКП(б). Торговля была также областью, в которой частный капитал нашел наибольший простор для своего применения. Нэпман – двусмысленная фигура капиталиста в стране, которая поскорее хотела стать социалистической, – был прежде всего торговцем. В промышленности, где он ограничивался обычно арендой у государства того или иного предприятия, его удельный вес был минимальным: меньше 2 % выпускаемой продукции. Правда, этот показатель вырастал до 24 % с учетом ремесленников и владельцев совсем крошечных фабрик. Другое дело – торговля. Товарообмен был возрожден после 1921 г. главным образом силами частников. Их роль была господствующей, особенно в розничной торговле, и таковой оставалась до середины 20-х гг., когда государственная и кооперативная торговая сеть начала брать верх. В 1924 г. после кризиса предыдущего года был образован Народный комиссариат торговли. К 1926–1927 гг. частники осуществляли в этой области уже не более 37 % всех операций, хотя в абсолютных цифрах их оборот по-прежнему продолжал расти. Тем не менее недостаток товаров, слабый товарооборот между городом и деревней оставляли вопрос открытым. Руководствуясь логикой спекулянтской предприимчивости, нэпман пролезал во все «щели» хозяйственного механизма, которые общественный сектор – государственный или кооперативный – оставлял неприкрытыми.
Такова была констатация руководящих органов. В СССР 20-х гг. речь к тому же шла не просто о «щелях», но о широчайших пределах неудовлетворенных потребностей. Отсюда и опасность, которую с гнетущей тревогой ощущали коммунисты, стоящие у власти: надвигающийся риск возрождения капитализма, пускай даже вытесненного пока на обочину общества.
Подступы к планированию
Если сопоставить конкретные решения и многочисленные документы, принятые в 1924–1927 гг. по вопросам экономической политики, нетрудно прийти к общему выводу. Указанные документы – постановления съездов, конференций, а также, начиная с этого времени, и пленумов ЦК, резолюции которых неукоснительно публиковались, – отражают разные, подчас противоречивые требования различных отраслей экономики, но в то же время акценты в них постепенно смещаются на новые задачи развития.
Так, на XIII партконференции, которая подвела итоги декабрьской дискуссии 1923 г., а также на последующем XIII съезде РКП(б) в мае 1924 г. господствующими были темы союза рабочего класса с крестьянством, торговли, финансовой стабильности. Вместе с тем признание получила также идея необходимости «усилить плановое начало».
Недород 1924 г. и последовавший за ним неспокойный период на селе явились стимулом к тому, что вплоть до 1925 г. в политике партии наступила «более крестьянская» фаза, когда партия, по выражению Зиновьева, должна была повернуться «лицом к деревне». Именно тогда были предприняты наиболее радикальные меры в поддержку крестьянства. Они были направлены на то, чтобы побудить крестьян, не особенно считаясь с их социальным расслоением, развивать свое индивидуальное хозяйство. Для этого был продлен срок земельной аренды с 6 до 12 лет, облегчены условия найма работников и т. д.
Тогда же началась широкая поддержка самых разнообразных форм кооперации: торговой, кредитной, сельскохозяйственной. В кооперации могли равноправно участвовать все: крестьяне и ремесленники, зажиточные и бедные. Роль кооперативного движения на селе уподоблялась роли профсоюзов среди рабочих.
Уже в 1925 г. появились новые ноты, порожденные рядом насущных потребностей. Период простого «восстановления» хозяйства подходил к концу и готов был уступить место периоду «реконструкции» (родившееся в спорах тех лет, это терминологическое различие сделалось позже традиционным для советских историков и экономистов). Для технического перевооружения заводов, да и сельского хозяйства требовались современные машины и средства производства. В апреле 1925 г. начали составляться программы более быстрого восстановления производства металлов. В конце того же года XIV съезд РКП(б) предложил «взять курс на индустриализацию». Великий лозунг был наконец произнесен. Указание было еще нечетким, но это не помешало советским историкам с некоторым насилием над фактами объявить XIV съезд «съездом индустриализации». Правда, всего несколько месяцев спустя Пленум ЦК в апреле 1926 г. уже расценил индустриализацию как «решающую задачу». Интерес смещался в сторону промышленности, и в особенности в сторону тяжелой промышленности.
Речь шла не просто о политических лозунгах. Документы формулировались все более и более четко. В каждом отдельном случае надлежало определить не только источник финансирования первых программ развития, но и способ расходования этих пока еще очень скромных средств, а также точную сферу капиталовложения. Каждая отрасль производства выдвигала весомые доводы в поддержку своих собственных запросов.
Начало нэпа показало, что новое государство было почти не в состоянии контролировать экономику. Но само проведение новой экономической политики привело к тому, что по мере восстановления хозяйства государство все более становилось хозяином тех рычагов управления, которые оно сохранило в своих руках. ВСНХ, руководить которым с 1924 г. стал Дзержинский, продолжал выполнять регулирующие функции, обычно принадлежащие министерству промышленности. В то же время реорганизация финансов придала соответствующему наркомату и государственной банковской системе значительный вес и внушительную силу. Власть непосредственно устанавливала многие цены и отчасти контролировала остальные. Теперь она была в состоянии оперировать крупными суммами, выражавшимися уже не в грудах обесцененных бумажных знаков.
Вслед за публикацией последних статей Ленина и после споров с оппозицией о плане и экономической политике больший авторитет и влияние стал приобретать также Госплан. Политические успехи создали условия для прихода во все органы хозяйственного управления немалого числа специалистов, преимущественно некоммунистов. В Госплан их пришло, пожалуй, больше, чем в любое другое учреждение. Его руководителем был назначен большевик Кржижановский, но в целом коммунисты составляли там меньшинство: в 1924 г. на 527 сотрудников их было лишь 49, причем 23 принадлежали к неквалифицированному техническому персоналу. Разработка плана развития всей страны в целом представляла собой задачу, которую никогда прежде не пытался осуществить никто из советских деятелей. Первым был план ГОЭЛРО, составленный в 1920 г.
В середине 20-х гг. Госплан начал впервые применять методы общего планирования, то есть планирования, уже не ограниченного рамками отдельных отраслей, подобно плану ГОЭЛРО, ставшие с той поры достоянием истории теории и практики планирования. Первым шагом в этом направлении явилась разработка «контрольных цифр» для каждого года. В ходе этой работы противоборствовали разные теоретические школы. Сторонники «целевого» планирования, то есть планирования, призванного обеспечить первоочередное выполнение задач, «сознательно» поставленных перед национальной экономикой, сталкивались с ревнителями «генетического» курса, которые склонны были больше внимания уделять выявлению тенденций, объективно складывающихся в ходе развития данной экономики. На самом деле эти две концепции не были столь несовместимы, как могло показаться, ибо каждая из них выражала, в сущности, одну из двух взаимодополняющих потребностей. Столкновение между ними приобрело особую ожесточенность, когда выявился их разный подход к практическому решению вопроса об определении темпов индустриализации.
В конце 1927 г., в десятую годовщину революции, сначала ЦК, а затем съезд партии решили дать директивы по составлению пятилетнего плана развития всего народного хозяйства. По поводу этой впервые предпринятой инициативы и первых конкретных формулировок, в которые она была облечена, вполне можно утверждать, что все это было результатом жарких споров и сопоставлений различных позиций, споров и сопоставлений, которые еще могли состояться в обстановке «значительной интеллектуальной свободы». Несмотря на растущую ожесточенность, сама политическая борьба скорее стимулировала, чем тормозила такого рода работу. Заметим, правда, и то, что эти первые директивы по планированию пока обходили наиболее острые проблемы и рекомендовали добиваться максимума пропорциональности и сбалансированности между различными отраслями и потребностями народного хозяйства: накоплением и потреблением, промышленностью и сельским хозяйством, тяжелой промышленностью и легкой и т. д.
Это нисколько не умаляет того факта, что именно борьба и сопоставление противоположных мнений сделали возможным закладку фундамента той плановой работы, которая обеспечила в дальнейшем рост СССР. Результатом, однако, не стало смягчение разногласий; более того, практически планирование осуществлялось как раз тогда, когда политическая борьба вышла за рамки разрешимых конфликтов между группами.
«Изолированная Россия будет примером…»
Генеральный секретарь Сталин
XIII съезд РКП(б) (май 1924 г.) очень осторожно ознакомил со знаменитым «завещанием» Ленина и его требованием лишить Сталина должности генерального секретаря. Документ не был зачитан на пленарном заседании: его сообщили отдельным делегациям вместе с рекомендацией Центрального Комитета не давать хода предложению и сохранить содержание письма в тайне. Прошло полтора года, как Ленин написал его. Зиновьев и Каменев выступили в защиту деятельности Сталина. Он сохранил свой пост и благополучно миновал опасную стремнину. Правда, он еще не был истинным вождем партии. Второй раз подряд с докладом на съезде выступал Зиновьев. Второй был и последним. Восхождение Сталина с этого момента было неудержимым. Рассмотрим поближе фигуру, которой будет суждено почти 30 лет безраздельно господствовать на советской политической сцене.
Родившийся в грузинском городке Гори Иосиф Виссарионович Джугашвили представлял собой личность, достаточно отличавшуюся от остальных главных большевистских вождей. Следует сказать, что за бурную историю большевизма круг наиболее близких соратников Ленина менялся не раз. Сталин вошел в этот круг довольно поздно. Он почти не жил в эмиграции. Путь политического формирования он прошел в подпольных партийных организациях России. В Центральный Комитет он был не избран, а кооптирован в 1912 г. В великих общественных битвах 1917 г. он никак себя не проявил, и лишь созданная позже его пропагандой легенда утверждала, что во всех внутрипартийных дискуссиях он всегда и неизменно становился на сторону Ленина.
В центральных органах Советского государства Сталин укоренился в годы гражданской войны. В тот период он выполнил несколько поручений на фронтах, в результате чего возникли те конфликты с Троцким, которые предвещали ненависть, разделившую этих двух деятелей. С 1919 г., после смерти Свердлова, он стал единственным из партийных руководителей, кто одновременно входил в состав двух высших органов партии: Политбюро и Оргбюро. В это же самое время он возглавлял Народный комиссариат по делам национальностей, а с 1920 г. еще и Рабкрин. Это не означает, что он был влиятельнее других. Несомненно, он был менее известен и популярен. Неважный оратор, он не принадлежал к пламенным трибунам, поражавшим воображение голодных и мятущихся толп. Немногословный, он не ввязывался и в крупные публичные дебаты, которые происходили тогда в партии: на съездах он выступал лишь с докладами по вопросам, связанным с его должностными обязанностями.
Тем более характерно его появление и активное участие там, где принимаются действительно важные решения. Это вносит поправку в образ, созданный позже Троцким и его сторонниками, по высказываниям которых в те годы он был безликим, никому неведомым, второстепенным работником. Правильнее будет сказать: мало бросающимся в глаза. Рисуя такой образ, Троцкий воевал тем самым с еще более лживой легендой, многие годы спустя пущенной в ход апологетами Сталина: легендой, согласно которой Сталин наряду с Лениным был главным творцом революции. Троцкий явно недооценивал Сталина. Он даже считал Сталина ленивым. Как раз в начале конфликта Троцкий назвал его «самой выдающейся посредственностью партии». Это – жестокая ошибка: Сталин не был посредственностью. «Мы практики», – не раз говорил Сталин о себе и тогда, и много лет спустя; слово «практики» он, однако, брал в кавычки с саркастическим оттенком человека, взявшего реванш. Ленин, конечно, не обманывался, когда расценил его – правда, даже и он с чересчур большим запозданием – как «выдающегося» и опасного вождя.
Нельзя, на мой взгляд, согласиться и с мнением такого вдумчивого исследователя, как Карр, когда он видит в Сталине «самого безликого из великих исторических персонажей». В ходе дальнейшего рассказа мы убедимся в том, насколько велико было трагическое влияние его личности на ход событий. Безликой была скорее его манера выступать в первой трудной фазе восхождения к абсолютной власти. Микоян, один из тех, кто поддерживал его во внутрипартийной борьбе фракций, рассказывает, что на XII партконференции (август 1922 г.) Сталин, только недавно ставший генеральным секретарем, держался «подчеркнуто в тени», причем, конечно же, не столько из «скромности», сколько из соображений «тактики». Это помогает понять, почему, опасаясь утверждения нового Бонапарта, другие руководящие деятели смотрели скорее на Троцкого, нежели на Сталина.
Ленин не ошибся и насчет оценки его человеческих черт. Сталин был груб, жесток, коварен. Интрига, притворство, месть – таковы «инструменты», которыми он умел пользоваться, как никто, лишь изредка позволяя уловить мотивы, определявшие его поведение. Мало кто подозревал, до какой степени жестокости он способен дойти. Когда после смерти Сталина это подтвердили его самые близкие соратники, которые тем самым повторили то, что раньше говорили его побежденные противники, многие испытали ужас и изумление. Не нашлось между тем никого, кто смог бы привести доводы, опровергающие эту характеристику. Скопилось, не говоря уже о ленинском «завещании», слишком много и слишком разных свидетельств, рисующих именно такой портрет; некоторые восходят к дореволюционному периоду. Облика не меняют и слабые, хотя вполне понятные, попытки дочери оправдать отца, она, кстати, сама напоминает, что наряду с грубостью Сталин умел «завоевывать людей». И однако же, если мы поставим на этом точку, его образу будет недоставать чего-то такого, что необходимо для понимания его судьбы. Сталин был незаурядным политиком: это вынуждены были признать сначала его противники по партии, а они отнюдь не были новичками в политике, затем его партнеры по международным контактам, которых еще менее можно заподозрить в политической неопытности.
Сталин, пожалуй, раньше других выступил как фракционный деятель. Один оратор от оппозиции рассказал на X съезде, что во время дискуссии о профсоюзах в 1921 г. Сталин раздавал представителям печати сообщения о внутрипартийной борьбе, напоминавшие сводки военных действий. Микоян, в ту пору совсем еще молодой руководитель партийной организации Нижнего Новгорода, рассказывает, что в январе 1922 г. Сталин вызвал его в Москву и послал с тайным заданием в Сибирь. Он должен был не допустить избрания сторонников Троцкого делегатами на предстоящий XI съезд партии. Между тем Троцкий в тот период, после того как были улажены разногласия предыдущего года, вовсе не конфликтовал с остальными членами руководства.
Если принять во внимание, что и Сталин в тот период не обладал еще всей той властью, какую получил впоследствии, то мы получим первое представление о методах, которые он готовился применить в предстоящей борьбе. Одних этих методов было бы, однако, недостаточно, чтобы обеспечить победу. Справедливо отмечалось уже, что Сталин лучше, чем любой другой из большевистских вождей, «отдавал себе отчет» в том, какие тенденции начали утверждаться в партии и Советском государстве после гражданской войны. На мой взгляд, можно сказать больше. Сталин был не только тем эмпириком, каким его постоянно описывали; исходя из понимания этих тенденций, он выработал собственную оригинальную политическую концепцию, которую и сумел искусно и постепенно навязать другим в условиях кризиса, охватившего революцию после 1921 г.
Вплоть до того дня, когда сам Сталин пожелал, чтобы его считали четвертым классиком марксизма, никому не приходило в голову, что в его лице скрывается возможный теоретик, способный двинуть вперед развитие марксистских идей. Разумеется, ему была неведома научная изысканность размышлений таких деятелей, как Троцкий или Бухарин, не говоря уже о глубине Ленина. Для него характерна не недооценка теории, а ее подчинение – это было подмечено такими двумя разными учеными, как Лукач и Карр, – непосредственным запросам практики. Что вовсе не означает, будто у Сталина не было своей политической идеи. Его преемник и критик Хрущев сказал, что он «возвел в норму внутрипартийной и государственной жизни ограничения внутрипартийной и советской демократии»; Хрущев здесь подразумевает необходимость этих ограничений на первых порах. Что ж, формулировка приемлема, но ее необходимо расширить: при помощи теории и практики Сталин развил еще не оформившиеся и временные черты режима, сложившегося в России в период голода и гражданской войны (известно, насколько сильны были тогда ограничения, о которых говорил Хрущев), развил и превратил их в законченную систему государственных институтов – систему, добавим, какой еще не знала история.
Сталина всегда интересовала сущность власти, но не столько с точки зрения ее классовой природы, сколько с точки зрения ее механизмов. В 1918 г. он говорил: «Властвуют не те, кто выбирает и голосует, а те, кто правит». В 1920 г. он повторяет ту же мысль, добавляя, что «страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами». А в 1924 г. он проводил четкое различие между руководящими (в кавычках) органами и ответственными работниками, которые реально руководят. Когда после смерти Ленина он наряду с другими большевистскими вождями стал популяризатором и комментатором его теории, то в качестве основной ленинской идеи он выдвинул «диктатуру пролетариата», более того – «систему диктатуры пролетариата», то есть государство. Бухарин хотя и в косвенной форме, но заметил, что это совершенно не соответствует истине. Весьма спорное само по себе, сталинское толкование становилось прямым искажением, если учесть, что, излагая ленинские взгляды по этому вопросу, он даже не упоминал об идее «отмирания государства». Для Сталина, напротив, все заключается в том, чтобы «удержать власть, укрепить ее, сделать ее непобедимой». По поводу еще одной его статьи о Ленине Троцкий заметит позже, что никому из русских марксистов, кроме Сталина, не пришло в голову поставить на первое место среди заслуг Ленина организационные заслуги. Это было неслучайно: больше всего Сталин интересовался организацией государства и государственной власти.
«Орден меченосцев» и «приводные ремни»
Концепция «революции сверху», марксистское происхождение которой весьма сомнительно, родилась у Сталина не сразу. Имеется одна его работа, написанная в 1921 г., малоисследованная, но очень показательная. Известна она просто как «Набросок плана брошюры». В ней содержатся его размышления об опыте предыдущих лет, главным образом об опыте «военного периода, наложившего печать на всю внутреннюю и внешнюю жизнь России». При этом он излагает свое представление о партии, прибегая к сравнению, которое – будь оно обнародовано в то время – привело бы в недоумение многих его товарищей. В самом деле, там подчеркивается: «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». Строкой ниже он уточняет: «могучий орден», а еще ниже – «командный состав и штаб пролетариата».
В этом наброске Сталин также кратко обобщил предшествующую историю партии, которая представлялась ему лишь историей кадров, их формирования, развития, защиты или «сохранения». Понятие партии-ордена было чем-то большим, нежели обобщением того опыта милитаризации и огосударствления, через который прошла в те годы организация большевиков; одним словом, то была скорее программа, взгляд в будущее, чем простая констатация. «Задачи военного искусства, – писал Сталин примерно в то же время, – состоят в том, чтобы обеспечить за собой все рода войск, довести их до совершенства и умело сочетать их действия. То же самое можно сказать о формах организации в политической области».
Разумеется, Сталин отдавал себе отчет в невозможности руководить партией и государством точно так же, как руководят армией. И не только отдавал себе в этом отчет, но и сказал об этом с трибуны XII съезда РКП(б), первого, на котором отсутствовал Ленин. Не лишены интереса доводы, приведенные им для разъяснения разницы и сводящиеся, по существу, к следующему двоякому утверждению. Армию, говорил он, создает и взращивает (в буквальном смысле слова) сам командный состав; «в политической области дело обстоит много сложнее». Когда в ходе дискуссии в конце 1923 г. его обвинили в том, что «наша партия, по сути дела, превратилась в армейскую организацию», он отверг упрек, прибегнув к тем же аргументам, попытавшись, правда, как того требовали обстоятельства, представить их не столь прямо, как прежде. Вполне очевидно, эта идея не была чужда ему. В самом деле, на том же XII съезде и в том же докладе по организационному вопросу, который слишком часто рассматривался как заурядный отчет, он добавил, окончательно разъясняя разницу между своей политической концепцией и чисто военным методом руководства: «Необходимо, чтобы партия облегалась широкой сетью беспартийных массовых аппаратов, являющихся щупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии». Обратим внимание на то, что на протяжении всего этого доклада слова «аппарат» и «организация» употребляются Сталиным как совершенно взаимозаменимые. Партии, добавлял он, нужны разнообразные «приводные ремни».
Каковы были эти «ремни»? Сталин перечислил их в два приема: в уже упомянутом отчете на XII съезде, а затем в 1926 г. в одной из своих статей во время полемики с Зиновьевым. В первом случае он называл: профсоюзы, кооперативы, комсомол, женские организации, школа, печать («Печать, – говорил Сталин, – не является массовым аппаратом, но… по своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера»), армия («На армию, – добавлял он, – привыкли смотреть как на аппарат обороны или наступления. Я же рассматриваю армию как сборный пункт рабочих и крестьян») и, наконец, государственный аппарат. Во втором случае Сталин снова назвал профсоюзы, кооперативы и комсомол, но добавил еще Советы, которые воспринимались им уже не как органы власти, а как «массовая организация всех трудящихся города и деревни». На этот раз он добавил и партию, разумеется поставив ее надо всем в качестве «руководящей силы», но все же считая ее частью механизма, частью «системы» правления – одним словом, государства. Что же касается того, что должны передавать «приводные ремни», то в обоих случаях Сталин дал четкое определение – «руководящие указания»: «Диктатура пролетариата состоит из руководящих указаний партии, плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата, плюс их претворение в жизнь населением».
В свете подобных концепций следует рассматривать и его полемику тех же лет (1923 и 1926 гг.), когда он обвинял Зиновьева в отождествлении «диктатуры партии» с «диктатурой пролетариата». Сталин при этом вовсе не отрицал, что партия должна осуществлять свою диктатуру. Напротив, он открыто заявлял, что она «не делит и не может делить руководства с другими партиями». Позже он создал теорию однопартийной системы как единственно верной при любом опыте построения социализма. Но формула Зиновьева была для него одновременно и чрезмерной и недостаточной. Недостаточной, объяснял он, потому, что партия одна, без всех перечисленных инструментов рисковала оказаться неспособной осуществлять какую бы то ни было реальную власть, рисковала оказаться в полной изоляции, в среде глухого к ее указаниям общества; чрезмерной – потому, что Сталину вовсе не импонировала подразумеваемая в зиновьевской формуле идея коллективной диктатуры всего того организма, каким является партия. Ведь сама партия в его глазах была инструментом, пускай даже самым важным из всех, но инструментом. Уже на XII съезде он определил ее в качестве «аппарата, дающего лозунги и проверяющего их осуществление». Его «орден меченосцев» представлял собой наиглавнейший институт государственной системы: именно это, но не более этого.
Заняв пост генерального секретаря и оставаясь по-прежнему членом Политбюро и Оргбюро, Сталин оказался во главе партийного и государственного строительства. Он был, пожалуй, единственным человеком, понижавшим всю важность обладания этой командной позицией. Неудивительно, что, занимая ее, он с непоколебимой решительностью проводил в жизнь свои концепции. «После того как дана правильная политическая линия, – заявлял он, – необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы, как свои родные, и умеющие проводить их в жизнь». Нетрудно понять, что это означало также: люди, на которых он, Сталин, может положиться. Еще на XII съезде он указал на губкомы как на «основную опору» системы и нашел положительные моменты даже в происходивших в них «склоках и трениях», свидетельствующих якобы о «стремлении губкомов создать внутри себя спаянное ядро, сплоченное ядро, могущее руководить без перебоев». Он сказал, что необходимо создать резерв хотя бы в 200 или 300 уездных секретарей, которых можно было бы потом отдать на помощь губкомам, чтобы облегчить им руководство работой в уездах. Он защищал «громадное значение» учраспреда (который в будущем станет «отделом кадров»), то есть того сектора аппарата Центрального Комитета, который под его контролем занимался назначением и перемещением наиболее ответственных работников на различные руководящие посты различных организаций и в котором не без оснований видели решающе важный инструмент его огромной власти.
Структура Советского государства рисовалась Сталину в виде многоэтажной пирамиды, опускающейся от верхушки к периферии и функционирующей практически только в одном направлении – сверху вниз. «Иерархия секретарей» составляла один из ее наиболее существенных компонентов. Дискуссия 1923 г. дала Сталину предлог не только для решительной защиты партийного аппарата, подвергавшегося нападкам оппозиции, но и для того, чтобы дополнить свою концепцию новыми существенными деталями. Самой важной из них была «монолитность». Иначе говоря, он тоже признавал, что, оставшись единственной политической силой в стране, партия не может не отражать различные тенденции общества, которое отнюдь не было монолитным. Однако трудность эту он разрешил, обвинив оппозицию в том, что она «выражает настроение и устремления непролетарских элементов в партии» – утверждение, сильное не аргументацией, а единственно тем, что исходило оно от того, кому принадлежала власть. Но что является пролетарским, а что не является – отныне предстояло решать верхушке.
Расхождение с Лениным
Могут возразить, что вклад Сталина в такого рода систему представлений не был оригинален, ибо, например, идея «приводных ремней» принадлежала Ленину. Мы подходим, таким образом, к проблеме отношений Ленина – Сталина, которая, без сомнения, представляет собой одну из самых сложных проблем, ждущих своего решения. Она была предметом большой политической полемики, однако это не значит, что ее можно игнорировать.
О формировании политических идей Сталина мы знаем очень немного из-за почти полного отсутствия документов, которые бы позволяли проследить сам процесс формирования; отсюда, кстати, и столь большой интерес к «наброску», о котором говорилось выше. Серьезные советские исследователи сочли возможным утверждать, будто сильное влияние на него оказал Нечаев – самый экстремистски настроенный из русских народников XIX в., утверждавший, что любое, даже самое отвратительное средство может быть поставлено на службу революции и что сама организация революционеров должна управляться волей немногих индивидов, готовых на все. Тезис соблазнителен, но нет доказательств, которые подтверждали бы его. Исторически неоспоримым является то, что деятельность Сталина строилась на основе ленинизма, опыта большевиков, революции и ее кризиса. Здесь-то и начинаются двусмысленности.
В борьбе с оппозицией, да и позже Сталин был достаточно ловок, чтобы именно в тех случаях, когда он дальше всего отходил от ленинских идей – как было, например, при рождении Советского Союза, – объявлять себя простым учеником Ленина или прикрываться ссылками на него: ленинская мысль продолжала быть источником авторитета. В более близкие к нашему времени годы нападки советских авторов на Сталина после его смерти способствовали возникновению путаницы, ибо с этого момента Ленину просто приписывалось все то, что желали сохранить из сталинского наследия.
Более тщательный анализ отношений между этими двумя личностями затрудняется теми, кто, особенно на Западе, постоянно утверждал, будто Сталин представляет собой неизбежное продолжение Октябрьской революции, истории большевиков и ленинского курса. Имеется, наконец, и тенденция манихейского противопоставления Ленин – Сталин: один – «хороший», другой – «плохой», один – воплотивший в себе все лучшее, второй – все худшее, что было в русском революционном движении, и т. д. Подобное упражнение, возможно, и поучительно, но мало что дает историку. Однако после всех этих предпосылок, думаю, ясно, что нерационально было бы замалчивать те глубокие различия, которые имелись не только между методами и чертами характера, но также и взглядами этих двух людей.
Понятие «приводные ремни» служит как раз хорошим примером на этот счет. Ленин употребил его два раза – в 1919 и 1920 гг. (еще в одном случае он говорит о «сложной системе нескольких зубчатых колес») – и развил заложенную в нем идею, но уже без метафорических фигур, в работе «Детская болезнь “левизны” в коммунизме». Речь там идет о периоде военного коммунизма и о ленинском указании на огромное значение профсоюзов, необходимость поддерживать контакт с массами, способность чутко улавливать их настроение – одним словом, о необходимости широкой разветвленности и большой гибкости политического руководства. Сталин же превратил образ и понятие «приводных ремней» в часть институционной системы, в костяк всей государственной машины, предназначенной для передачи руководящих указаний сверху вниз. Аналогичным образом использовал он и большевистскую идею о партии. Оговоримся, что вся концепция отношений между «авангардом», которым является партия, и рабочим классом, который представляет самые широкие непролетарские массы, – эта концепция осталась у Ленина, особенно применительно к «переходному» периоду, скорее намеченной, нежели изложенной в окончательной форме. И все же нельзя не видеть пропасть между тем, что говорил по этому вопросу Ленин, и представлением о партии как о военно-религиозном ордене и рабочем классе в качестве его армии. Центральной у Сталина была идея государства и его предельного усиления. Становится понятно, почему самый острый конфликт между двумя деятелями вспыхнул именно по вопросу о нерусских национальностях и образовании СССР. Это был тот пункт, который Ленин считал не только решающим для развития мировой революции, но и с которым он связывал требование о создании весьма гибких государственных структур. Мы можем также догадаться, почему этот конфликт приобретал в глазах Ленина значение, выходящее за рамки эпизода: в нем таилось столкновение основополагающих принципов и идей.
Разумеется, Сталин действовал не на голом месте. Почвой ему послужила та реальная обстановка, которая сложилась в первые послереволюционные годы. Он уловил заключенные в ней не только временные возможности и перенес их в свои политические замыслы. В последний период своей жизни Ленин был занят главным образом борьбой с такого рода реальной обстановкой, а Сталин защищал ее на свой лад. Мы уже видели, как по-разному говорили они о большевистской партии в ее конкретном воплощении тех лет: критически – Ленин, апологетически – Сталин (в уже упоминавшейся «клятве»). Еще более отчетливым было расхождение по вопросу о государственном аппарате; Ленин охарактеризовал его как «до неприличия» плохой; несколько недель спустя, на XII съезде РКП(б), Сталин говорил о нем: «…тип самой машины хорош, он… правильный», лишь некоторые «составные части» в нем следует заменить. Четырьмя годами позже он будет говорить о нем как о «высшем по типу государственном аппарате в сравнении со всеми существующими в мире государственными аппаратами». Противоречие вполне очевидно.
Дело еще в том, что успеху сталинских положений в определенной степени способствовали некоторые идеи, имевшие хождение среди большевиков и закрепленные предшествующим опытом революционной борьбы в России. Когда Зиновьев на XIII съезде РКП(б) по-инквизиторски добивался от Троцкого публичного признания в ошибках в ходе дискуссии 1923 г., тот ответил знаменитой фразой – «партия в последнем счете всегда права, потому что партия есть единственный исторический инструмент, данный пролетариату для разрешения его основных задач». Тем самым вольно или невольно он утверждал идеалистическое представление о партии, которое, вопреки его намерениям, способствовало насаждению сталинского курса (во всяком случае, не менее, чем тому же содействовало поведение Зиновьева). Идея Троцкого была сразу же отвергнута Крупской, которая в то же время сочла столь же неправомерным притязание Зиновьева навязать противнику признание ошибок. Она даже подверглась критике Сталина, который, напротив, был заодно с Зиновьевым. Однако фидеистское представление о партии благодаря таким эпизодам все шире прокладывало себе путь.
Главный элемент ограниченности сменявших друг друга противников Сталина состоял в неспособности противопоставить ему другую, альтернативную концепцию организации власти, которая обладала бы такой же цельностью и не останавливалась просто на требовании большей демократии в партии, требовании, которое, помимо всего прочего, выдвигалось, когда они оказывались в меньшинстве и, следовательно, вызывали подозрение в тактическом оппортунизме. Это не значит, что никакие другие концепции не были возможны. Последние усилия Ленина были направлены именно на поиски иного пути. Нам могут возразить, что дальше поиска и сам Ленин не пошел. Как бы то ни было, вряд ли можно отрицать, что поиск его был направлен в противоположную сторону, чем поиск Сталина. Можно, следовательно, утверждать и то, что заслуга Сталина – хотя бы в силу того, что у нас нет оснований для доказательства противного, – состояла в ликвидации пробела, то есть в том, что он дал ответ на оставшийся нерешенным вопрос.
Партия, неустанно стремившаяся наладить практическое руководство необъятной страной, которая переживала процесс преобразования, не могла не откликнуться на подобные предложения. «Практики» шли за Сталиным: чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть их многочисленные выступления на XIII съезде РКП(б). Вряд ли, однако, можно по-прежнему утверждать, как это делалось на протяжении десятилетий, будто сталинская концепция идентична ленинской; вряд ли можно отрицать, что сталинская концепция влекла за собой, пускай даже не вполне осознанно, уже не только обусловленный реальной обстановкой отказ от многих постулатов революции и некоторых существенных аспектов самой ленинской теории.
Кроме самобытности сталинские концепции обладали также определенной живучестью. В них отражались не только тенденции, проявившиеся в послереволюционной России, но и потребности, которым суждено получить широкое распространение в современном мире, такие как растущее значение аппарата и в политико-государственной, и в хозяйственной сферах. Неслучайно они будут более или менее широко подхвачены в других странах, которые – имея или не имея программы социалистического преобразования – примутся за решение проблем, сходных с проблемами Советской России. Сталинская пирамида вовсе не исключала поиска сознательного одобрения общества или, по крайней мере, подавления несогласия: говоря словами Сталина – поиска «поддержки большинства рабочих масс, по крайней мере благоприятного нейтралитета большинства класса».
В своем «наброске» 1921 г. Сталин дал также классификацию технических приемов политического руководства, призванных обеспечить действенность механизма власти. В их число входили директивы, определенные как «прямой призыв к действию в такое-то время, в таком-то месте, обязательный для партии». Имелись и два других средства: «лозунг агитации» и «лозунг действия», «смешивать» которые «нельзя, опасно» Самым убедительным и, уж во всяком случае, самым знаменитым примером их применения явилось выдвижение им в 1924 г. лозунга «социализм в одной стране». Этот лозунг навсегда останется связанным с именем Сталина, хотя он и утверждал – а советская историография и по сей день утверждает, – что и его он унаследовал от Ленина.
Изолированная Россия будет примером
Впервые Сталин высказал эту идею в конце 1924 г., когда в ходе вновь разгоревшейся острой полемики с Троцким и его старой теорией «перманентной революции» предпринял попытку противопоставить тезисам противника позитивную платформу. Некоторые авторы считают, что сам Сталин лишь постепенно пришел к пониманию того, какой огромный потенциал заключался в этой теме. Однако уже в его первом выступлении содержались все те главные мотивы, которые послужат стержнем последующей широкой агитации. Троцкий считал, что лишь европейская революция могла освободить социалистическую революцию в России от трудностей, обусловленных отсталостью страны и связанных в социальном отношении с бесчисленными массами мелких сельских собственников. До этого момента за подобные идеи Троцкого упрекали в недооценке роли крестьянства. Теперь Сталин решил атаковать и по другому направлению. Он обвинил Троцкого в том, что, по его утверждению, «необходимые силы» можно черпать лишь «на арене мировой революции пролетариата», а не «среди рабочих и крестьян самой России». Он обвинил его в «неверии в силы и способности нашей революции», более того, в неверии уже не только в революционные способности крестьянства, но и «российского пролетариата». Следовал вывод, что теория Троцкого представляет собой «перманентную безнадежность», ибо, рассчитывая лишь на помощь со стороны Европы, она обрекает русскую революцию на гниение на корню или буржуазное перерождение в ожидании революции на Западе, ожидании, которое неизвестно сколько продлится. Даже в одиночестве и несмотря на свою отсталость Россия может построить социалистическое общество. Мало того, именно этим самым Россия окажет поддержку рабочим Западной Европы. По Сталину, получалось, что Ленин всегда думал так.
Непросто было протащить эти тезисы в советских руководящих кругах. Им противилась вся теоретическая традиция большевиков: как в силу того, что они всегда считали свою революцию частью международного революционного процесса, так и по той причине, что среди них не было ни одного, кто не представлял бы себе всю тяжесть экономической и культурной отсталости страны. Да и сам Сталин всего несколько месяцев назад отстаивал прямо противоположную концепцию. В разыгравшейся позже битве на ленинских цитатах лучшие шансы были скорее у противников сталинских тезисов, хотя всегда оставалась возможность для двусмысленных толкований, ведь у Ленина фактически не было развернутого ответа на вопрос именно по той причине, что он никогда не рассматривал его под тем углом зрения, под каким теперь ставил его Сталин. Сталинская историография (и сам Сталин) рассматривает резолюцию XIV партконференции о задачах Коминтерна, принятую в апреле 1925 г., как официальное признание лозунга «социализм в одной стране», в действительности этот документ куда более осторожен. Но когда борьба с оппозицией, возглавлявшейся уже не одним Троцким, возобновилась с предельной ожесточенностью, именно этот лозунг стал центральной темой столкновения. XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) сделал из этого первый практический вывод: СССР должен завоевать «экономическую самостоятельность», не быть «экономическим придатком капиталистического мирового хозяйства». А это, в свою очередь, означало: превратиться «из страны, ввозящей машины и оборудование… в страну, производящую машины и оборудование». Это было предпосылкой индустриализации.
Решающую роль сыграли обстоятельства того периода, когда был выдвинут новый лозунг. Страна находилась в глухой изоляции. В марте 1925 г. большевики и Коминтерн отметили, что после вызванного войной кризиса капитализм вступил в фазу относительной «стабилизации». В период, когда Россию начали признавать буржуазные страны, родилась надежда на получение крупных зарубежных кредитов, но теперь она мало-помалу сходила на нет. Жесткий протекционизм, обусловленный государственной монополией на внешнюю торговлю в качестве специфического орудия накопления, стимулировал подъем отечественной индустрии. В 1924–1925 гг. в СССР предпринимаются попытки наладить производство тех машин, которые раньше импортировались – от грузовиков до тракторов. Этого требовали, в частности, металлисты, ибо предприятия машиностроения еще далеко не полностью использовали свои потенциальные ресурсы. В газетах можно было прочесть рекламные объявления: «Русская электролампочка не уступает заграничной».
Вокруг «социализма в одной стране» разгорелась жгучая дискуссия. Всех тех, кто не пережил ее лично и начинает изучать ее многие годы спустя, поражает одно обстоятельство: если оставить в стороне полемические обвинения, крайне трудно понять саму суть столкновения. Оппозиционеры – и Троцкий первым среди них – отнюдь не утверждали, что в ожидании мировой революции нужно отказаться от «строительства социализма» – напротив, именно тогда они были самыми рьяными сторонниками ускоренной индустриализации. Они лишь уточняли, что усилие это приведет к подлинно социалистическому обществу при наличии соответствующей международной, а не только национальной обстановки. Сталин, в свою очередь, поскольку слишком недвусмысленны были ленинские цитаты по этому вопросу, вынужден был признать, что «окончательная победа» социализма в одной, отдельно взятой стране невозможна. Однако в порядке толкования этого ограничительного положения он добавил, что невозможна она единственно из-за отсутствия гарантии от нападения извне: если бы не было этой внешней угрозы, все внутренние условия были бы вполне достаточны для построения социализма. И все же страсти были накалены не столько этими византийскими ухищрениями спорящих, сколько обвинениями, брошенными Сталиным своим противникам: обвинениями в том, что они утратили веру, стали пессимистами, готовы капитулировать перед трудностями, неспособны понять гигантские силы, таящиеся в рабочем классе и крестьянстве России.
Лозунг «социализм в одной стране» явился радикальным новшеством в истории СССР и русского большевизма. Но он был таковым не потому, что знаменовал новый этап в развитии марксистской теории или с самого начала представлял собой точный выбор политической и экономической стратегии. На деле под этим лозунгом проводились разные политические курсы. Когда он был впервые провозглашен, под ним понималось более осмотрительное отношение к крестьянству, союз с деревней, а следовательно, и более осторожная позиция по вопросу о темпах индустриализации. В таком виде его энергично защищал Бухарин. В этом смысле, кстати, его истолковал и такой осведомленный и проницательный иностранный наблюдатель, как Тольятти; и он даже писал, что на рубеже 1925–1926 гг. СССР «оказался перед лицом исторического поворота, равного по важности и аналогичного по смыслу повороту 1917 г.». Между тем позже, с развитием индустриализации и ростом ее трудностей, под этим же сталинским лозунгом проводился, как мы увидим, совсем иной политический курс.
«Социализм в одной стране» стал ответом на фактическую изоляцию Советского Союза, осуществленную странами развитого капитализма. Сначала, если воспользоваться советской терминологией, он стал ответом в качестве «лозунга агита». Потом, по мере того как он завоевывал успех, – в качестве идеологии, несущей в себе сильный заряд веры партии, которая переживала в тот момент фазу наиболее быстрого роста своих рядов, – он требовал, чтобы она стала «законом партии, обязательным доя всех членов партии». Лишь в таком качестве он позволит позже оправдать новые «лозунги действия».
Карр и Дойчер посвятили несколько отличных страниц анализу сильно выраженного национального характера нового сталинского тезиса. Стержнем сталинской агитации служили утверждения такого типа: «И без помощи со стороны мы унывать не станем, караул кричать не будем, своей работы не бросим»; «мы имеем в нашей стране все необходимое и достаточное для построения социализма». Мы говорили, что Сталин как бы экспромтом открыл «социализм в одной стране» в 1924 г. Следует отметить и другое: в отличие от всех остальных руководителей большевиков ему давно была сродни эта идея, что именно Россия призвана указать другим странам путь к социализму. Мы обнаруживаем эту идею в одной из его речей в июле 1917 г., в «наброске» 1921 г. и, наконец, в очерке, в котором он выдвинул новый лозунг в 1924 г.: русская революция здесь характеризуется как «образец» применения теории пролетарской революции.
Что дальше? План Бухарина и план Сталина
Постановка вопроса
XV съезд ВКП(б) состоялся в декабре 1927 г. и проходил в напряженной атмосфере, вызванной внутренними трудностями и тревожным международным положением. В руководящих кругах партии к этому времени утвердилась не только идея об индустриализации, но и мысль о необходимости высокого «темпа» ее проведения, такого, который позволил бы СССР «догнать и перегнать» наиболее развитые капиталистические страны. Этому содействовали старое большевистское понимание отсталости России, успехи в восстановлении хозяйства в предыдущие годы, наконец, критика и напоминания оппозиции. Было завершено строительство ГЭС на р. Волхов, предусмотренное планом ГОЭЛРО, и начаты две стройки, которым суждено остаться в анналах советского экономического развития. Одна – Днепрострой: сооружение плотины и самой крупной в ту пору европейской ГЭС на Днепре близ Запорожья; другая – Турксиб: новая железная дорога, напрямую связывающая Транссибирскую магистраль (на широте Новосибирска) со Средней Азией. Тракторный завод строился в Сталинграде. Проектировались также другие крупные промышленные объекты. Спорили о территориальном размещении: разные республики приводили доводы в пользу строительства их в своих пределах. XV съезд сформулировал также директивы по составлению пятилетнего плана развития, но никто не предполагал тогда, что это может привести к внезапной ломке всех сложившихся соотношений между разными отраслями народного хозяйства.
О деревне на съезде было сказано новое слово – коллективизация. Впрочем, оно было не совсем новым. Понятие, вложенное в него, содержалось в партийной программе, принятой в 1919 г. Многое изменилось с той поры, и идея коллективизации сохранялась скорее как некая историческая цель, а не прямая актуальная задача. Компромисс в форме нэпа был заключен в первую очередь с крестьянином-единоличником. Поэтому новой была довольно категорическая постановка вопроса, данная в докладе Сталина. Отметив явную тенденцию к более медленным темпам развития в сельском хозяйстве по сравнению с промышленностью, он заявил, что нет иного решения проблемы, кроме «перехода мелких и распыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли», «перехода на коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники». Молотов затем развил эту мысль в специальном докладе о работе в деревне. Однако и тот и другой сделали к своим предложениям такое множество оговорок о необходимости осторожности и постепенности процесса, о многообразии его форм, о терпеливой работе по убеждению крестьянина на основе его собственных интересов, что в целом их доклады отнюдь не ставили под вопрос общую линию нэпа. В заключительной резолюции говорилось о «решительном наступлении на кулака», но сам Сталин предупредил, что репрессивные меры в этом случае были бы ошибкой.
Кризис заготовок зерна
Между тем надвигался новый кризис. На XV съезде о нем почти не говорилось. Урожай зерновых если и не уменьшился по сравнению с прошлогодним, то, во всяком случае, и не увеличился. Потребление же выросло, особенно с началом индустриализации. Государственные заготовки зерна осуществлялись с трудом: начавшись более или менее нормально летом, они резко сократились осенью. К концу года государство недобрало более 2 млн. г (128 млн. пудов). Поскольку запасы были минимальными, это означало, что и города с их возросшим населением, и армия рискуют остаться без хлеба, особенно к весне, когда распутица на несколько недель прервет нормальное сообщение. Недостаток хлеба ощущался также в других аграрных регионах – потребителях зерновых, таких как Средняя Азия. Экспортные поставки зерна, запланированные за приобретенные машины и оборудование, оказались под угрозой. Все экономические проекты могли сорваться.
Кризис объяснялся многими причинами. Серьезные ошибки были допущены в политике цен, которая стимулировала развитие технических культур и животноводства за счет посевов зерновых. Делу вредила конкуренция разных учреждений, занимавшихся государственными хлебозаготовками. Страх перед войной побуждал крестьянина, насколько это было возможно, придерживать зерно. Едва наметилась его нехватка – в игру сразу включились мелкие спекулянты: они вздули цены. Политические руководители и партийные организации, поглощенные внутрипартийной борьбой и захваченные врасплох непредвиденной угрозой, напротив, проявили известную беспечность.
Решение лихорадочно изыскивалось в начале 1928 г. Оно было типичным для новой политической организации, сложившейся под руководством Сталина, и в то же время роковым по своим последствиям. Впервые оперативное руководство взял в свои руки сам Сталин. Проблемой занялся не съезд, хотя он проходил в декабре. Ее не обсуждал и Центральный Комитет, выбранный этим съездом. Действовать начал Секретариат (правда, как предполагается, на основании инструкций, полученных от Политбюро): он давал руководящие указания партийным комитетам. В первых числах января указания приобрели императивно-угрожающий тон: зерно требовалось достать «во что бы то ни стало», и партийные руководители на разных уровнях лично отвечали за это. Высшие руководящие деятели направлялись в главные зернопроизводящие области, чтобы возглавить операцию на месте; Сталин выехал в Сибирь. На заготовки в деревню было мобилизовано 30 тыс. коммунистов из числа работников аппарата. Сталин вернулся к языку военного коммунизма и заговорил о «заготовительном фронте». Основной причиной кризиса был назван кулак и его спекуляция зерном с целью повышения цен. Этот анализ перекликался с доводами, выдвигавшимися на протяжении двух лет оппозицией. К кулакам, не сдававшим зерно, должна была применяться та статья Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к суду с конфискацией имущества как спекулянтов; четверть конфискованного зерна должна была передаваться крестьянам-беднякам. Судей и партийных работников, не выполняющих эти меры, следовало снимать с работы.
Большая часть зерна, как признал несколько месяцев спустя сам Сталин, находилась, однако, не у кулаков, а у трудно отличимой от них массы середняков. Если требовалось получить зерно любой ценой, а именно это и требовалось, значит, его необходимо изъять и у середняков, ибо они тоже отказывались сдавать зерно по государственным ценам: на рынке можно было выручить за него куда больше. Тут уже мало было Уголовного кодекса. Нашли другие способы вроде принудительной сдачи зерна в счет займа, самообложения деревень, досрочного взимания налога. Каковы бы ни были их конкретные формы, они неизменно сводились к жесткому нажиму на крестьянина, располагающего зерном. Для стимулирования его материальной заинтересованности на село направлялся большой поток промышленных товаров, отнятых у городов, но их все же не хватало.
Печать освещала «битву за хлеб», каждые пять дней публикуя сводку о ходе хлебозаготовок. Применявшиеся методы были заимствованы из опыта 1918 г., комбедов и хлебных реквизиций. В апреле и Пленум ЦК признал, что в ход были пущены методы той поры: повальные обыски и конфискации, запрещение торговать на рынке, заградительные посты на дорогах, насильственный «товарообмен» – одним словом, нечто напоминавшее продразверстку времен гражданской войны. Подобные приемы были вскоре осуждены Москвой как прискорбное и недопустимое искажение данных указаний местными органами власти. К этому времени худшее, казалось, миновало: за период с января по март с помощью жестких сталинских мер, названных «исключительными», было собрано достаточно зерна, чтобы покрыть недостачу по сравнению с прошлым годом. Эпизод, следовательно, можно было считать завершенным.
Но так только казалось. Весной обстановка снова стала угрожающей. Ко всему прочему добавились неблагоприятные погодные условия, из-за которых погибли озимые на обширных площадях хлебного юга (Украина и Северный Кавказ). Требовалось зерно для пересева. В поисках выхода партия опять прибегла к чрезвычайным мерам. Последствия были еще более тяжелыми. Сам Сталин признал, что теперь речь шла о том, чтобы вырвать у крестьян их «страховые запасы». В атмосфере напряженности, слухов о готовящейся войне, о конце нэпа, о кризисе Советов вновь начались обыски и обход дворов. Официальные обращения и документы неизменно призывали бороться с кулаком или вообще с «зажиточными слоями» деревни, однако определялись эти социальные категории весьма расплывчато. Все созданное в предыдущий период на селе в области советской законности опрокидывалось под такими ударами.
Упорнее стало сопротивление крестьянства. Напряженность приобретала политический характер и нарастала весь год, по мере того как возвращение к нормальным условиям становилось проблематичным. Участились так называемые «террористические акты», то есть нападения на партийных активистов и работников Советов и убийства их. На Северном Кавказе, в Сибири, Средней Азии отмечались случаи бунтов целых деревень, манифестаций, поджогов, оживления партизанской борьбы (или «политического бандитизма» по терминологии советских историков). Проявления недовольства имели место в армии, волнения произошли в некоторых промышленных областях Центральной России. Весенние заготовки дали немного, и государственные запасы в 1928 г. были меньше, чем в 1927 г. В городах у булочных выстраивались длинные очереди. В начале лета карточная система была введена на Урале.
Разумеется, и кулаки, и нэпманы или спекулянты, против которых Сталин призывал развернуть решительное наступление, отнюдь не были вымышленными фигурами. Они физически олицетворяли ту долю мелкого частного капитализма, который сохранился в советской экономике. Закрытие рынков, произведенное вопреки закону распоряжением органов власти, влекло за собой возрождение «черного рынка». Положение усугублялось стремительно растущим разрывом между ценами, установленными государством или подконтрольными ему, и ценами «свободного» рынка, на которые его контроль не распространялся. Кризис заготовок зерна и чрезвычайные меры приводили в расстройство рынок, служивший основой нэпа. Их последствия, однако, на этом не кончались. Кулак был не только социальным слоем, но и политической фигурой. Неоднократно пытались тогда определить его классовый облик. Но в публицистике той поры – да и позже в статьях советских авторов – к кулакам относили всех тех, кто в деревне продолжал оставаться активно враждебным к новой власти, в том числе нередко людей, которые до 1921–1922 гг. по тем или иным причинам сражались по эту сторону баррикады. Чрезвычайные меры были для кулака благодатной почвой для агитации; ее влияние сказывалось не только на массе середняков, но и части беднейшего крестьянства. Принимая политический характер, кризис начинал с этого момента охватывать и партию, ее верхушку.
Бухаринские концепции
После XV съезда членами Политбюро были избраны девять человек – Бухарин, Ворошилов, Калинин, Куйбышев, Молотов, Рыков, Рудзутак, Сталин, Томский – и еще восемь – кандидатами в члены Политбюро: Петровский, Угланов, Андреев, Киров, Микоян, Каганович, Чубарь, Косиор. Насколько можно судить, ни один из этих руководителей в начале 1928 г. перед внезапной и поздно осознанной опасностью остаться без хлеба не выступал против чрезвычайных мер. Но едва обрисовались масштаб и последствия этих мер, как проявились две совершенно различные линии.
В первой половине года Сталин, руководя новым сражением и навязывая партии свои директивы, все настойчивее и категоричнее акцентировал новую идею, высказанную на XV съезде: выход из кризиса – в переходе от мелкого частного хозяйства к крупному коллективному. Значит, нужно ускоренно создавать колхозы и совхозы в широких масштабах. Эта тема стала лейтмотивом всех его выступлений. Нет оснований утверждать, будто у Сталина уже тогда было четкое представление о том, как будет осуществляться коллективизация. Вместе с тем ясно, что, став ревностным поборником высоких темпов индустриализации, он уже поставил все на эту карту и не считался с таким препятствием, как медленная эволюция отсталой деревни. Утверждают, что в эти месяцы он, резко сменив курс, взял на вооружение тезисы только что разгромленных троцкистов. Отчасти такое утверждение, бесспорно, соответствует истине: в дебатах, вызванных его новыми предложениями, он, оправдывая борьбу с кулаком, защищая ускоренную индустриализацию и обосновывая необходимость наложения «дани» на крестьянство, использовал доводы, целиком заимствованные у тех, кто несколько месяцев назад был его противником. В его программных выступлениях было в то время нечто новое; этим «нечто» как раз и была коллективизация.
Опасения по поводу методов хлебозаготовок и новых сталинских установок высказывались в партии на очень раннем этапе. Они встречали сопротивление со стороны низовых организаций, особенно слабых сельских партячеек, которым нужно было преодолеть немало трудностей, чтобы укорениться в деревне. В верхах дискуссия развернулась не столько по вопросу о «чрезвычайных мерах» как таковых, сколько о принципиальном направлении экономической политики.
Уже в конце января глава могущественной московской партийной организации Угланов высказался против исключительно крупных вложений в тяжелую промышленность и чрезмерных надежд на колхозы, которые, по его мнению, годились как решение для более отдаленного будущего. В свою очередь, в марте Рыков вступил в конфликт с большинством Политбюро: он предлагал сократить капиталовложения в металлургию и машиностроение. На Пленуме ЦК в апреле впервые открыто выявились противостоящие направления.
К Угланову и Рыкову присоединились Бухарин и Томский – глава профсоюзов. Они выражали тревогу по поводу ухудшения политической обстановки в деревне, где недовольство, по их словам, нарастало и было направлено против советской власти в целом, союз с середняком оказывался под угрозой и снова, как в 1920 г., намечалось сокращение посевных площадей. Заключительная резолюция, осуждавшая эксцессы, приписанные периферийным организациям, прозвучала как компромисс.
Однако когда применение чрезвычайных мер возобновилось, противоречия в Политбюро обострились. На этот раз критиков возглавил Бухарин. В мае и июне он направил две записки своим коллегам по руководству. Он нападал на сталинскую концепцию коллективизации, ибо коллективизацию, утверждал он, можно проводить лишь на основе агротехнического прогресса, который для СССР еще в будущем. «Если все спасение в колхозах, то где взять деньги на машинизацию? – писал он. – И правильно ли вообще, что колхозы у нас должны расти на нищете и дроблении?». «Никакая коллективизация, – добавлял он в другой записке, – невозможна без известного накопления в сельском хозяйстве, ибо машины нельзя получить даром, а из тысячи сох нельзя сложить ни одного трактора». В конце июня Бухарин изложил свои тезисы в Политбюро: единоличные крестьяне еще долгое время останутся решающей силой в деревне; необходимо спасти союз с ними, оказавшийся под серьезной угрозой; значит, больше никаких чрезвычайных мер и сохранение методов нэпа.
Среди крупнейших советских руководителей Николай Иванович Бухарин был самым молодым, одним из самых образованных и, несомненно, самым обаятельным. В 1928 г. ему исполнилось 40 лет. Он был интеллигентом по духовной направленности, по широте интересов, наконец, его творческая деятельность – а он занимался публицистикой – подтверждала это. Простота в обращении и сердечность характера сделали его любимцем партии – так назвал Бухарина Ленин в своем «завещании». Его деятельность развернулась на поприще печати; здесь он опирался на целую когорту блестящих последователей – Астрова, Слепкова, Цейтлина, Марецкого. Авторитетом Бухарин пользовался прежде всего благодаря своей деятельности в области культуры, а также как теоретик. Это подтверждают и его работы, и отзывы на них Ленина, и избрание в Академию наук. Пожалуй, ни один из большевистских руководителей не спорил столько с Лениным до и после революции, сколько Бухарин, но при всем упорстве в спорах, он неизменно был предан Ленину, пользуясь с его стороны чем-то вроде отеческого внимания. Крупнейший лидер крайне левого крыла большевиков в 1918 г. и поборник военного коммунизма, Бухарин мучительнее других переживал кризис и поворот 1921 г. Еще более глубокий след в его сознании оставила тесная связь с Лениным в последний период его жизни. С этого момента Бухарин стал – пускай в нем и было нечто схоластическое, по утверждению Ленина, – выразителем последних ленинских идей.
Во имя верности им он после недолгих колебаний с головой ушел в борьбу с Троцким и поддержал (хотя, как он сказал, «дрожа с головы до пят») всю ту безжалостную резкость, малопривлекательные методы и полемические преувеличения, которые эту борьбу сопровождали. Он выступал поэтому как активный союзник Сталина, охраняя, правда, в этом союзе идейную самостоятельность. Поддержал он и лозунг о «социализме в одной стране». Бухарин не был его автором, как порою утверждалось, но снабдил его более тонкими, чем у Сталина, аргументами. Идя по стопам Ленина, он больше, чем кто-либо иной, развивал идею о стыковке революций на империалистическом и пролетарском Западе с революциями на угнетенном и крестьянском Востоке: именно он первым прибег к образу промышленного Запада как «всемирного города» и бескрайнего отсталого Востока как «всемирной деревни». В дебатах середины 20-х гг. он упорно отстаивал союз с крестьянством как основу всей стратегии построения социализма. К социализму следовало идти через медленный прогресс: экономический, социальный, политический – другого верного пути не было. Придя к власти в результате неизбежной гражданской войны, сами большевики, по его мнению, превратились в партию мирного экономического строительства, партию «социального мира».
Эти программные взгляды заставляли Бухарина бурно реагировать на продление чрезвычайных мер в деревне, на перспективу разрыва с крестьянством, в чем он, подобно Ленину, видел смертельную опасность для советской власти, наконец, на новые концепции Сталина. Бухарин не игнорировал новых проблем, обусловленных индустриализацией, с которой он согласился, но он утверждал, что их решение не должно вызывать «существенного изменения экономической политики», проводившейся после 1921 г., то есть нэпа. Страна должна развиваться в соответствии с планом «динамического равновесия» между «различными сферами» производства и потребления так, чтобы смягчать, если не предотвращать, кризисы такого типа, в каком оказалась Россия в 1921 г. Нарушение правильных экономических соотношений приводило к нарушению и политического равновесия. Самая серьезная диспропорция в СССР заключается сейчас в отсталости сельского хозяйства, особенно производства зерна. Здесь срочно требовалось выправить положение. Темпы индустриализации должны быть высокими. Однако ускорять их еще больше, утверждал Бухарин, равносильно переходу на позиции троцкизма. Усилия страны не должны сосредоточиваться исключительно на строительстве новых крупных заводов, которые начнут давать продукцию лишь через несколько лет, тогда как уже сейчас поглотят все имеющиеся средства. И так уже нет резервов на случай непредвиденных обстоятельств. Товарный голод достиг такой степени, когда напряженность рыночных отношений подобна натянутой до предела струне: натяни еще немного – и лопнет. Нужно поднимать сельское хозяйство: сделать это в данный момент можно лишь с помощью мелкого, единоличного сельского производителя.
Властное требование сохранить союз рабочих и крестьян оставалось для Бухарина превыше любых других соображений. В январе 1929 г., уже в условиях полным ходом развивавшегося конфликта со Сталиным, он посвятил одно из своих публичных выступлений последним статьям Ленина, которые охарактеризовал как «политическое завещание». Именно тогда он первым заговорил о них как о глобальном «великом плане» деятельности для партии. Эта программа, подчеркивал он, остается верной. По мнению Бухарина, не требовалось никакой «третьей революции»: все проблемы «индустриализации, хлеба, товарного голода, обороны» сводились, на его взгляд, к «фундаментальной проблеме» взаимоотношений между рабочими и крестьянством. Это его истолкование ленинского замысла несколько дней спустя получило столь же теплую, сколь и бесполезную поддержку со стороны Крупской.
Самокритика
Сталин очень быстро подготовился к схватке с новыми критиками. На этот раз он решил первым воспользоваться выгодной темой демократии – темой борьбы с бюрократизмом. Дело в том, что XV съезд, исключая из своих рядов оппозиционеров, не мог ограничиться одним этим актом и полностью игнорировать их аргументы. Это относилось к политике не меньше, чем к экономике. Вот почему съезд по докладу Орджоникидзе, а он возглавлял тогда объединенную ЦКК – РКИ, принял резолюцию, вновь напоминавшую о «пролетарской демократии», «действительной выборности» партийных руководителей, «постепенном вовлечении всего трудящегося населения поголовно в работу по управлению государством». Потребность во всем этом сохранялась. Несколько месяцев спустя Сталин взял эту резолюцию на вооружение и использовал так, как это стало типично для его методов правления.
Поводом послужил один неясный эпизод. В марте 1928 г., в разгар хлебозаготовок, было объявлено, что в районе донецкого города Шахты группа технических специалистов давно уже организовала и проводила в широких масштабах саботаж на угольных шахтах, действуя в сообщничестве с заграничными антисоветскими центрами и бежавшими за рубеж бывшими владельцами рудников. Процесс над 53 обвиняемыми был с большим пропагандистским шумом проведен в мае – июне и завершился вынесением пяти смертных приговоров, оправданием нескольких подсудимых и осуждением остальных на разные сроки тюремного заключения. Обвинения, приводившиеся на суде, свидетельствовали не столько о сознательном саботаже как таковом (достоверные улики были скудными), сколько о вопиющей халатности и из рук вон плохой администрации, поистине граничащих с преступлением.
«Шахтинское дело» положило начало кампании, в ходе которой давнее недоверие к буржуазным спецам приобретало нездоровые формы. Это явление вызывало тревогу и сразу же стало причиной еще одного столкновения в Политбюро, срочно собравшемся по инициативе Бухарина, Рыкова и Томского. Все трое подчеркивали, что советская экономика не может обойтись без старых технических специалистов. Апрельский Пленум ЦК, который занимался этим вопросом до «шахтинского дела», принял по докладу Рыкова компромиссную резолюцию. Ее критика сосредоточивалась совсем не на специалистах; скорее выражалась озабоченность по поводу того, что партия и ее люди в то время были почти не в состоянии компетентно управлять предприятиями.
Сталин сделал другие выводы. «Шахтинское дело» в его глазах служило доказательством «экономической контрреволюции», новой иностранной «интервенции» и наряду с кризисом заготовок зерна свидетельствовало о возобновлении классовой борьбы в широком масштабе. Партия должна была подготовиться к отражению опасности. Именно в этой связи Сталин и выдвинул свой знаменитый лозунг «самокритики». Он считал, что коммунисты должны быть способны не только на критику в свой собственный адрес, как об этом всегда думали большевики при Ленине. Сталин не скупился на требования «критики снизу», «массовой критики» со стороны коммунистов, да и вообще трудящихся, на призывы к «беспощадной борьбе» как против «старых», так и против «новых бюрократов», против «бюрократов-коммунистов», невзирая на чины и былые заслуги. В его призывах слышалась, однако, определенно бонапартистская интонация, особенно тогда, когда лозунги, обращенные к низам, молодежи или кадрам среднего звена, были явно рассчитаны на то, чтобы направить недовольство в стране против части самого руководящего аппарата; мало того, как сказал Сталин, против некоторых имеющих большой «авторитет вождей», дабы они «не зазнавались». Желательной объявлялась не всякая критика, а только правильная и честная, усиливающая, а не ослабляющая советскую власть; при этом критерии «правильности» и «честности» были довольно расплывчатыми и субъективными. Сталин тогда впервые упомянул о «бдительности».
Развертывание самокритики помогло в 1928 г. провести чистку в некоторых партийных организациях (наиболее известными были «дела» областных и городских парторганизаций Смоленска и Астрахани), где были обнаружены серьезные случаи коррупции и морального разложения. Кампания самокритики послужила тем «предмостным укреплением», с которого Сталин повел наступление на новые очаги сопротивления своей политике.
Борьба внутри аппарата
В середине 1928 г. антисталинистская оппозиция была очень сильна, по крайней мере на бумаге. В нее входили председатель Совнаркома, значительная часть профсоюзных руководителей, группировавшихся вокруг Томского, и руководящая группа Московского партийного комитета, включая почти всех секретарей райкомов. Помимо этого, оппозиционеры контролировали ряд центральных органов печати, начиная с «Правды». В их числе были трое из девяти членов Политбюро; по крайней мере еще один, Калинин, председатель ВЦИК и всегдашний сторонник политики, учитывающей интересы крестьянства, колебался. Сталин поэтому постарался избежать открытого столкновения. Он пошел на компромисс. Новый Пленум ЦК в июле стал свидетелем весьма жарких дебатов, но завершился единодушным принятием резолюции, которая, по сути дела, признавала правоту бухаринских тезисов. В ней отмечалась опасность разрыва между городом и деревней, осуждались наиболее грубые методы, применявшиеся в ходе заготовительной кампании, высказывалось намерение как можно скорее преодолеть отсталость сельского хозяйства и на первый план выдвигалась задача оказания помощи крестьянину-единоличнику, мелкому или среднему. На практике, к сожалению, меры, принятые для уменьшения нажима на село, носили ограниченный характер и были запоздалыми: речь шла о повышении цен и ввозе из-за границы ограниченного количества зерна.
Июльский Пленум был поэтому расценен внешними наблюдателями как поражение Сталина: так истолковали его меньшевики за границей, Троцкий в Алма-Ате, различные наблюдатели, находившиеся в Москве. К середине 1928 г. Сталин, как считали, был наиболее близок к поражению. В то же время тайная проба сил, какой явились дебаты на Пленуме ЦК – а к ним обе стороны готовились заранее, – показала, что такое предположение маловероятно. Сталинская группировка была явно сильнее. Его противники оставались в меньшинстве. Бухарин понимал это. Перед самым окончанием пленума он даже пошел на тайную встречу с Каменевым, организованную Сокольниковым, чтобы обеспечить себе поддержку или хотя бы нейтралитет побежденной оппозиции. Точно озаренный внезапным откровением, он говорил своему собеседнику о Сталине как о новом Чингисхане, который не остановится перед насильственным устранением всех своих прежних товарищей и соперников.
В новой борьбе Сталин не только не стеснялся в выборе средств, но и прибегал к дорогой его сердцу тактике постепенного перехода от «лозунгов агитации» к «лозунгам действия». Его агитационным лозунгом на это раз была борьба с правыми, с правой опасностью, с правым уклоном, с примиренческим отношением к правым. Кто такие эти правые, которых обличали на протяжении нескольких месяцев, публично не говорилось, между тем пропагандистское наступление на неназванного врага разрасталось, словно снежная лавина.
Началось оно на VI конгрессе Коминтерна, проходившем в Москве в июле – августе. В Коминтерне задача облегчалась тем, что можно было называть по имени и фамилии представителей зарубежных правых течений. Бухарин стал в Интернационале председателем вместо Зиновьева. Поражение Коминтерна и коммунистов в Китае ударило и по положению Бухарина, который частично отвечал за него. Тем не менее его авторитет был по-прежнему высоким. Анонимная кампания против правых должна была исподволь подготовить почву для нанесения удара по нему. Из Коминтерна эта кампания была затем перенесена в русло внутреннего движения за самокритику.
Борьба Сталина с Бухариным носила совершенно иной характер в отличие от только что проведенной против троцкистско-зиновьевской оппозиции, хотя и была ее продолжением в том смысле, что являлась заключительной фазой распада прежней ленинской руководящей группы. В ходе этой борьбы публичная дискуссия велась намеками, эзоповским языком, доступным только для посвященных, а самые напряженные схватки в верхах прикрывались внешним единодушием. Происходило это не только потому, что Бухарин и его союзники старались не делать ничего, что могло навлечь на них обвинение во фракционности, ставшее роковым для Троцкого. Этот фактор оказал свое действие. Но он был не единственным. Особенность этого конфликта в том, что он происходил в недрах аппарата. Оппозиция новым установкам Сталина исходила на этот раз именно из аппарата – из профсоюзных, советских, хозяйственных, кооперативных организаций, которые в силу своего положения были восприимчивее к новому политическому напряжению в стране. Москва еще раз оказалась центром схватки. Борьба приняла форму скорее слухов, нежели прямых политических заявлений, чаще велась шепотом, чем громогласно. Исход отдельных схваток выражался в смене одних лиц другими на тех или иных постах и других административных мерах, как и подобает аппаратам.
Даже когда Бухарин сделал главный выпад, опубликовав в «Правде» свои знаменитые «Записки экономиста», он не нападал на Сталина прямо, а полемизировал с его тезисами, делая вид, будто воюет с троцкистами. В свою очередь многие члены Политбюро в ответ опубликовали статьи с критикой воззрений Бухарина, но ни разу не назвали его по имени. Одним словом, публично неизменно говорилось об отсутствии разногласий между вождями ВКП(б).
Первая настоящая схватка разыгралась в Москве. В сентябре 1928 г. Московский городской комитет партии принял на своем заседании тезисы, отличавшиеся от сталинских, в особенности по вопросу о правой опасности. Секретариат ЦК развернул контрнаступление в самих московских парторганизациях, вынудив городской комитет месяц спустя сдать свои позиции. Это произошло на втором заседании, именно на нем руководители комитета подверглись атакам со всех сторон. Сначала были смещены самые боевые секретари райкомов. Затем и главным руководителям московской партийной организации, Угланову и Котову, пришлось уступить свои посты соответственно Молотову и Бауману, который практически и возглавил новый комитет. Одна из главных цитаделей оппозиции была, таким образом, разоружена.
С профсоюзами разделались не на самом их съезде, состоявшемся в декабре, а на заседании его коммунистической фракции, созванной для одобрения некоторых изменений в руководстве. К Томскому против его воли и откровенно в противовес ему был приставлен Каганович, правая рука Сталина, деятель, быстро набиравший силу и уже отличившийся на Украине авторитарными методами, вызвавшими немалую враждебность по отношению к нему. Сразу же после этого из областных профсоюзных советов удалили сторонников Томского. Кадровые изменения были произведены также в редакциях «Правды» и других газет, где сильнее всего было влияние Бухарина.
Борьба в рамках аппарата облегчала устранение людей, сила которых определялась больше занимаемой должностью, нежели личным авторитетом. Например, Угланов в Москве был могущественным, но нелюбимым деятелем. Нападкам на Томского предшествовала длительная кампания против бюрократии в профсоюзах, проводившаяся в рамках «движения самокритики». Выдвинутые обвинения были отнюдь не безосновательными, но закончилось все это лишь заменой одной бюрократии другой, еще более жесткой, а главное – отличающейся большей готовностью исполнять директивы генерального секретаря.
Однако неправильно было бы сводить все к одним персональным заменам. Борьба и чистка в аппарате длились много месяцев и велись во имя партийного руководства «массовыми организациями». Следовательно, это было наступление на все и всякие формы автономии. В результате была осуществлена генеральная структурная перестройка массовых организаций, причем настолько радикальная, что можно утверждать – да это признавалось позже, – что лишь после битвы с правыми советский аппарат действительно сделался «приводным ремнем» от верхов к низам в том самом значении, в каком задумал и желал его видеть Сталин. В этом состоял главный политический итог конфликта.
Сталинская фракция
Между тем в дебаты верхов вплетались новые мотивы. Очередной урожай нельзя было назвать обнадеживающим. Как и год назад, не хватало хлеба. Дело шло к повсеместному введению карточной системы в городах, что было сделано в первые месяцы 1929 г.
Чтобы получить зерно от крестьян без повышения цен, требовалось еще раз прибегнуть к чрезвычайным мерам: это становилось почти кормой. Обстановка осенью 1928 г. характеризовалась, таким образом, нарастанием экономических трудностей и политической напряженности. Большинство в руководстве попыталось найти выход в еще большем ускорении темпов индустриализации: пусть усилие будет каким угодно напряженным, но даст возможность стране вырваться из гнетущего плена. Наиболее откровенно эту тенденцию выражал Куйбышев, председатель ВСНХ. В действительности же это была лилия Сталина, и представлял он ее как национальную и социалистическую потребности одновременно. Именно тогда он с восхищением ссылался на прецедент с Петром Великим, который «лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны» в честолюбивой попытке «выскочить» из тисков отсталости. Разработка пятилетнего плана, находившаяся на заключительной стадии, проходила теперь под сильным политическим нажимом, требованием запрограммировать еще более массированное развитие индустрии, вопреки возражениям специалистов. Конфликт в верхах сместился поэтому на вопрос о темпах промышленного развития.
Новые жаркие споры разгорелись на Пленуме Центрального Комитета в ноябре 1928 г. Рыков, докладчик по вопросу о плане на 1928/29 хозяйственный год, предпринял еще одну попытку противостоять индустриальной горячке. На него нападали многие ораторы. На бумаге дебаты снова завершились компромиссом, но компромисс этот становился все менее реальным. В условиях всепроникающей агитации против правых судьбу подлинных политических установок решали уже несбалансированные резолюции, принимаемые по окончании прений. Хотя бухаринское крыло отстаивало те же самые идеи, которые партия лишь год назад защищала от Троцкого и Зиновьева, оно оказалось разбитым, прежде чем смогло развернуть хотя бы одно наступление. Не решились бухаринцы и на открытый бой перед всей партией и страной: этим лишь подчеркнули собственное бессилие.
Бесцеремонное применение Сталиным власти только отчасти объясняет исход схватки. Уже в июле и еще очевиднее в ноябре бухаринцы убедились, что могут рассчитывать в Центральном Комитете на меньшее число сторонников, чем предполагали. Против них выступали все секретари обкомов, составлявшие весьма многочисленную часть участников пленума, в частности Эйхе, Кабаков, Постышев, Варейкис, Шверник, Голощекин, Гамарник, Косиор, Петровский, Андреев, Шеболдаев, Хатаевич (если ограничиться только теми, кто совершенно определенно сформулировал свою позицию). Все эти люди, в свою очередь, завоевали в управляемых ими республиках или областях весьма внушительную власть. Конечно, они были связаны с генеральным секретарем. Но это не значит, что они были просто его креатурой. Почти все они выдвинулись во время гражданской войны. Энергичные деятели, практики, привыкшие командовать, они видели в индустриализации любой ценой, то есть проводимой при крайнем напряжении сил и воли, подкрепленной решительным применением власти, единственное решение драматических проблем. Престарелый Рязанов, со свойственной ему едкой иронией, так обобщил смысл их тогдашних речей: «Дайте завод на Урале, а правых к черту!», «Дайте электростанцию, а правых к черту!». На этой основе они признавали в Сталине своего вождя, а в деятелях вроде Орджоникидзе и Куйбышева – своих лидеров и готовы были подписать обвинения в малодушии, неверии, паникерстве и капитулянтстве, которые те бросали теперь бухаринцам, как вчера – троцкистам.
Позиция Бухарина и его сподвижников имела немало слабых мест. Прежде всего, бухаринцев отличала политическая слабость: они не были сплочены и даже в решающие месяцы на рубеже 1928–1929 гг. не всегда выступали единым фронтом. Сам Бухарин не обладал хваткой вождя и среди крупнейших советских руководителей 20-х гг. был, пожалуй, единственным, кто никогда не представлял себя в этой роли. Его воззрение на социально-экономическое развитие страны не было цельным. Индустриализация была сопряжена с крайними трудностями, а отношение бухаринцев к ним не всегда было до конца последовательным: кризис первых месяцев 1928 г. их тоже захватил врасплох, они оказались не в силах своевременно предложить свое решение. Тем не менее сказанное не означает, что от их взгляда на будущее развитие страны можно отмахнуться, как от нереальных и абстрактных спекуляций. Историки много спорили, существовал ли для советской индустриализации менее болезненный путь, альтернативный сталинскому. Вопрос может показаться праздным, поскольку любой ответ будет голословным, необоснованным. Невозможно, однако, отвергать бухаринскую идею более гармоничного роста и сохранения союза города и деревни как несостоятельную лишь на основе тех аргументов, которые выдвигались против нее в те годы. Тогда утверждалось, что предложенный Бухариным путь развития слишком медленный, что он оставляет страну без эффективной защиты от внешнего нападения и позволяет капиталистическим силам взять верх. Подобные возражения можно было бы выдвинуть с самого начала и против нэпа в целом. На основе последующего опыта трудно доказать, что эти возражения весомее тех, которые высказывались бухаринцами против сталинской стратегии. Впрочем, в иные периоды бухаринским концепциям сопутствовала удача.
Существует вместе с тем некий глубинный мотив, по которому идеи Бухарина не могли утвердиться в СССР в 1928 г. Для своего осуществления они потребовали бы иной партии, иного аппарата, иной системы власти – отличных от тех, что сложились при Сталине: более гибких, более способных «торговать», по выражению Ленина, то есть умело пускать в ход разные рычаги управления контролируемой экономикой, приводить их в действие с оперативной чуткостью к реакциям общества и народного хозяйства. Неслучайно Бухарин задавался тогда вопросом, не наступил ли момент «сделать некоторые шаги в сторону ленинского государства-коммуны». Впрочем, он мало что сделал и для продвижения к этой цели. А сталинская партия со своим руководящим аппаратом, прошедшим гражданскую войну и борьбу с троцкистами, разумеется, не была готова к подобному переходу. Но она воодушевлялась, когда Сталин, повторяя выражение, заимствованное у экономиста Струмилина, провозглашал: «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики».
Изгнание Троцкого. Поражение правых
Резкий поворот Сталина привел в замешательство многих деятелей старой оппозиции, высланных в дальние углы страны. Зиновьевцы прекратили всякое сопротивление и ждали лишь момента восстановления в партии. Троцкий из Алма-Аты усмотрел в новых установках победу собственных тезисов и склонялся к тому, чтобы поддержать «сталинский центр» в борьбе с правыми. В рядах троцкистов произошли первые обратившие на себя внимание случаи «смены фронта»: их героями были Пятаков и Антонов-Овсеенко. Распад оппозиции замедлился к середине 1928 г., когда Сталин под давлением Бухарина несколько умерил свои тезисы, но с еще большей интенсивностью возобновился в конце года. Оппозиция теперь раскололась на два течения: одно – а его лидерами были Преображенский и Радек – выступало за соглашение со Сталиным и поддержку его линии; другое, возглавляемое Троцким, а также Раковским, считало такой шаг неприемлемым до тех пор, пока не будет гарантий внутрипартийной реформы.
Троцкисты сохранили по всей стране, где было возможно, свои подпольные ячейки. Напряженность 1928 г. благоприятствовала возобновлению их деятельности, особенно на заводах и в промышленных центрах, поскольку они представляли собой единственную известную и более или менее организованную оппозиционную силу. Отмечались случаи их поддержки на заводских собраниях и даже отдельные забастовки и рабочие волнения, хотя, конечно, сегодня нелегко различить, где было простое недовольство, а где – проявление симпатий к собственно троцкизму.
В ответ последовали репрессии. Маневрируя, чтобы разложить оппозицию изнутри, Сталин в то же время не искал никакого политического соглашения с противником. В январе 1929 г. Политбюро большинством голосов – Бухарин, Рыков и Томский были против – приняло решение о высылке Троцкого за пределы страны: он был депортирован в Турцию. Сталин написал для «Правды» передовую статью без подписи, в которой впервые утверждал, что троцкисты превратились «из подпольной антипартийной группы в подпольную антисоветскую организацию», так что между ними и партией «уже легла непроходимая пропасть». В резолюциях собраний первичных партийных организаций эти слова переводились так: «Троцкизму, как ярко выраженной контрреволюционной группировке, нет места в Советском Союзе».
Наталкиваясь на все большие трудности при защите своих позиций, три правых деятеля подали в отставку со всех своих постов. Отставку не приняли, но Бухарин и Томский все же отказались от выполнения своих обязанностей, мотивируя тем, что иначе им пришлось бы, подчиняясь дисциплине, проводить курс, который они считают пагубным. Сталина, по всей вероятности, проинформировали об июльской встрече Бухарина и Каменева; тем не менее до января 1929 г. он молчал и использовал это как повод для атаки лишь после того, как отчет был напечатан в подпольной троцкистской газете. И снова именно его противники выступали как «беспринципные» фракционеры: в этом качестве они предстали как подсудимые на объединенном заседании Политбюро и Президиума ЦКК.
На этот раз Бухарин контратаковал. Он обрушился с критикой на политику и методы генерального секретаря. Говорят о самокритике, отметил он, а в партии нет ни одного действительно выбранного секретаря. Но группировки уже окончательно сложились. Была принята резолюция, осуждавшая «троицу». Написана она была в стиле Сталина: сарказм в ней чередовался с грубостью. Апрельский Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии, а затем XVI партконференция утвердили ее. Однако резолюцию не предали гласности: формально все трое еще некоторое время оставались на своих постах.
Борьба Сталина с Бухариным и поражение правых усугубили последствия конфликта с троцкистской оппозицией. Противозаконной теперь считалась уже не только фракция – даже возможность ее образования, просто «уклон». Все более нетерпимым становилось отношение к политической дискуссии: любая попытка спорить сразу же квалифицировалась как проявление скептицизма и малодушия. Осуждалось уже не только распространение собственных идей, но и их защита в предусмотренных Уставом органах партии. Если требование Троцкого провести публичную предсъездовскую дискуссию по вопросу о политической линии партии в целом было сочтено неприемлемым, то теперь простого подозрения в намерении устроить подобную дискуссию было достаточно для обвинения противников в преступных замыслах. Методы и воззрения генсека стали всеобщими. Его власть сделалась всемогущей. Дорого обошлось это превращение: были опрокинуты все нормы демократической жизни. Политическая борьба не прекратилась, но с этого момента она будет развиваться по обходному, скрытому, все более опасному пути.
Троцкизм был объявлен вне закона в тот самый момент, когда многочисленные троцкистские идеи широко влились в новые сталинские концепции. На апрельском Пленуме 1929 г. Сталин выступил с предельно резкой речью против Бухарина. В презрительном тоне уже слышалась глухая угроза; искажая историю, оратор по-своему излагал оппозицию противника к Брестскому миру, прозрачно намекая, что Бухарин, возможно, был не чужд замыслов «арестовать Ленина». (И это о том, кого Ленин называл «любимцем».) Сталин теперь мог позволить себе процитировать одну-единственную фразу из «завещания» Ленина – ту, в которой содержалась критика в адрес Бухарина, – не обмолвившись ни словом об остальном содержании. В этих условиях Бухарин доверительно сказал своему другу, швейцарскому коммунисту и секретарю Коминтерна Жюлю Эмбер-Дро (Jules Humbert-Droz), что он готов пойти на блок со старыми оппозиционерами и согласился бы даже на использование против Сталина террористических методов.
Повергнув противников, Сталин в той же речи вновь вернулся к идеям, которые высказывал в первой половине 1928 г., а затем несколько приглушил по тактическим соображениям. Его высказывания отличались безудержным волюнтаризмом. Он возвестил о новом «наступлении социализма против капиталистических элементов народного хозяйства по всему фронту», которое будет сопровождаться «обострением борьбы классов», а не только борьбы с кулаком. Он заявил, например: «Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма». По его словам, вредители сидят «во всех отраслях нашей промышленности», причем «далеко еще не все» они «выловлены». Он ополчался также на «старых большевиков», которых, не называя по именам, охарактеризовал как людей «опустившихся и политически потускневших»; людей, которые «не имеют права требовать от партии уважения к себе».
Все это предвещало наступление в советской истории новой фазы. По остроте политической напряженности и масштабам последствий она может быть сопоставлена лишь с периодом 1916–1920 гг. У порога стояла новая революция, но на этот раз это будет – как позже решился назвать ее Сталин и как давно уже не называет ее советская историография – «революция сверху». Ей суждено было пробудить энтузиазм, жаркие страсти, даже проявления героизма. Однако исходной чертой для нее послужил глубокий разрыв со значительными социальными силами, которые, как считали вплоть до этого момента, могут сыграть свою роль в построении социалистического общества. Это противоречие решающим образом повлияло на все дальнейшее развитие.
Первая пятилетка. Трудности, хаос и успех
Конец нэпа
Вопрос о том, когда кончился нэп, был и остается предметом споров для историков. Ответ на него представляет трудность, потому что никто в Москве не объявлял новую экономическую политику 1921 года завершенной или прекращенной; об этом было сказано лишь значительное время спустя после ее заката. Процесс ее конвульсивного угасания пришелся на 1928–1929 гг., когда шли сражения с правыми. Судороги, которые свели ее на нет, не были чисто политического свойства. К трудностям с заготовками продовольствия добавлялись усилия по изысканию средств для индустриализации, неустойчивость рубля из-за быстрого роста цен на свободном рынке, угрожающая неясность международной обстановки, крайний недостаток валюты для оплаты закупок за границей. Даже когда нэп получил полную отставку, Сталин и другие деятели продолжали тем не менее говорить о нем, будто он все еще продолжался.
В 1928 г. резко сократились все виды частного предпринимательства. Уже годом раньше оно было охвачено кризисом, развивавшимся под воздействием различных факторов. Товарный голод ограничивал объем возможных операций. Нажим государства доделывал остальное. С одной стороны, частникам был отрезан путь к банковским кредитам, и на транспорте они платили дискриминационно высокие тарифы; с другой стороны, при налогообложении к ним применялись наиболее высокие ставки сборов и пошлин. Тем не менее число мелких предпринимателей, по крайней мере в торговле в 1927 г., еще продолжало увеличиваться. Много их было на селе, особенно в окраинных республиках Средней Азии и Закавказья, где они контролировали практически все торговые точки. Заготовительный кризис 1928 г. повлек за собой новое закручивание гаек по отношению к ним. Частные мельницы, число которых было довольно велико, подвергались реквизициям и принудительно закрывались. Наступление на кулака сопровождалось наступлением на нэпмана. Многие договоры, по которым частникам были сданы в аренду предприятия, были аннулированы. Свобода торговли ограничивалась все больше и больше. Там, где налоговое давление не достигало цели, в ход шли административные запреты.
При невозможности контролировать рынок, на котором отсутствовали самые жизненно необходимые товары, война с остатками частного капитала – пускай даже в облике простого лоточника – неизбежно отождествлялась с борьбой против спекуляции. Началась постепенная ликвидация иностранных концессий, которые принесли советской стороне столько разочарований. Ремесленников все энергичнее подталкивали к объединению в кооперативы, угрожая в противном случае экспроприацией, а поскольку они тоже трудились главным образом в деревне, эти усилия слились воедино с общей волной коллективизации. Начавшись в 1928 г., все эти процессы резко ускорились в 1929 г. и были практически завершены в 1930 г. Государство, однако, было еще не в силах заменить своей инициативой все те виды предпринимательской деятельности, которые вплоть до этого времени осуществлялись частником. Взамен закрытых лавок не появлялись другие, это создавало новые трудности со снабжением. В возникающем вакууме инициатива одиночек находила благоприятные условия – все дело было только в том, что государство не признавало ее больше законной. Скорее упраздненный, чем экономически сокрушенный, мелкий капитал не исчез: он был загнан в подполье, где все равно пытался действовать, даже после официального провозглашения его смерти.
Оптимальный вариант
В огне схваток 1928 г. родился первый пятилетний план. Начиная с 1926 г. в двух учреждениях, Госплане и ВСНХ, один за другим подготавливались различные проекты плана. Их разработка сопровождалась непрерывными дискуссиями. По мере того как одна схема сменяла другую, превалирующей становилась тенденция – на ней настаивали как представители сталинского течения, так и экономисты вроде Струмилина, – которая состояла в установлении максимальных задач индустриального развития страны. Бухарин и его группа пытались было воспротивиться этому. Чересчур честолюбивые цели без необходимого экономического обоснования, говорили они, приведут к потрясению экономики, породят опасные межотраслевые противоречия, а следовательно, обрекут на провал саму идею индустриализации. «Из кирпичей будущего нельзя построить сегодняшних заводов» – этой своей получившей широкую известность фразой Бухарин хотел сказать, что бессмысленно форсировать рост одних отраслей, если взаимодополняющие их отрасли продолжают отставать. Но бухаринское крыло потерпело поражение именно на этом поприще. Его осуждение и представление первого пятилетнего плана совпали по времени с XVI партконференцией (апрель 1929 г.). Госплан подготовил к конференции два варианта плана: один – минимальный, или «отправной», а другой – максимальный, или «оптимальный»; его показатели превосходили показатели первого примерно на 20 %. Но Центральным Комитетом уже было решено, что во внимание принимается только второй вариант. Накануне Рыков еще раз попытался внести в него некоторые поправки. Он предлагал, в частности, принять специальный двухлетний план, призванный создать «особо благоприятные условия» для сельского хозяйства и тем ликвидировать его отставание, или, как говорил Рыков, для «выпрямления сельскохозяйственного фронта». Его предложение было отвергнуто Сталиным. Так, наиболее честолюбивый вариант плана сделался его официальной версией и в таком виде был утвержден после конференции также V съездом Советов в мае 1929 г. По времени он охватывал промежуток с октября 1928 г. по сентябрь 1933 г. – иными словами, в момент утверждения плана его осуществление следовало считать уже начавшимся. Планом предусматривалось, что за пятилетие выпуск промышленной продукции увеличится на 180 %, средств производства – на 230, сельскохозяйственное производство – на 55, национальный доход – на 103 %. Речь шла об ошеломительно быстром прогрессе, не имеющем прецедента в мировой истории. Были установлены и некоторые абсолютные показатели: 10 млн. т чугуна, 75 млн. т угля, 8 млн. т химических удобрений, 22 млрд. кВт электроэнергии.
Утверждение первого пятилетнего плана нередко расценивается как драматический выбор всего будущего страны, то есть как сознательно принятое решение пожертвовать всем ради накопления национального богатства и укрепления базовых отраслей, обеспечивающих индустриализацию. Однако такое впечатление неточно. Это правда, что на XVI партконференции признавалось, что осуществление плана будет сопровождаться «преодолением огромных трудностей внутреннего и внешнего порядка», вытекающих в первую очередь из «напряженности самого плана». Но на конференции вовсе не говорилось, что какие-то отрасли или потребности должны быть принесены в жертву развитию других. Такое утверждение, как мы увидим, было высказано лишь задним числом. Но в апреле же 1929 г. предусматривалось, что сельскохозяйственное производство будет увеличиваться если не наравне с промышленным, то уж, во всяком случае, в достаточно существенных масштабах. То же самое относилось и к выпуску предметов потребления. Реальная зарплата, в свою очередь, должна была вырасти на 71 %, доходы крестьян – на 67, производительность промышленного труда – на 110 % и т. д. Предусматривался, иначе говоря, гармоничный прогресс.
Многие годы спустя, обращаясь к событиям уже как к фактам политической истории, Пальмиро Тольятти заметил, что, начиная с определенного момента, «советские товарищи… перестали знакомить в плане постановки проблем» членов братских партий с темпами «социалистического строительства». Так вот, если первое проявление этой тенденции можно датировать, то оно совпало как раз с утверждением первого пятилетнего плана. Речь шла, впрочем, не только об иностранных коммунистах, но и о самой советской компартии. Кое-кто, например некоторые экономисты – не говоря уже о бухаринских правых, – обращал внимание на внутреннюю несовместимость некоторых задач плана. Этим людям отвечали, что они настроены скептически, упадочнически, что они не верят либо заражены тоской по буржуазному прошлому, и приказывали им молчать. Можно все же задаться вопросом, не было ли среди самих высших руководителей сталинского крыла более глубокого понимания того, что в решении безоговорочно взять курс на индустриализацию форсированными темпами была заложена неотвратимая необходимость последующего отказа от многих целей плана. Возможно, такое понимание и существовало, но вполне определенно этого утверждать нельзя, ибо открытого выражения оно так и не получило. У массы членов партии и ее руководителей среднего звена такое сознание, во всяком случае, отсутствовало: стенограмма прений на XVI партконференции с очевидностью показывает это.
С этого момента изменилась сама идея плана. На конференции по этому пункту выступали целых три докладчика – Рыков, Кржижановский и Куйбышев: эпизод скорее единственный, чем редкий в истории партийных и советских съездов. Рыков, подчиняясь дисциплине, защищал проект, которого не одобрял, ибо тот противоречил его тезисам, тезисам, которые он тщетно отстаивал в Центральном Комитете. Кржижановский, в свою очередь, выступил с докладом, весьма отличавшимся от того, который он сделал в декабре 1927 г. на XV съезде партии. Тогда он утверждал, что оба варианта плана – и минимальный, и «оптимальный» – равно необходимы для обеспечения определенной свободы маневра. Планирование, кроме того, должно было носить непрерывный характер, то есть ежегодно, помимо заданий на следующий год, должны были устанавливаться задачи на предстоящие пять лет, с тем чтобы всегда была ясная перспектива общего развития. Теперь все эти идеи исчезли, но Кржижановский все же отстаивал еще свой взгляд на план как на проект, основывающийся на экономических и научных критериях. Иначе ставил вопрос Куйбышев. Нужно добиться «во что бы то ни стало» – он дважды повторил эти слова – быстрых темпов развития; «во что бы то ни стало… догнать и перегнать… капиталистических врагов». Сегодня, оглядываясь назад, нетрудно понять, что именно Куйбышев, а не Кржижановский лучше всего выражал убеждения сталинского течения.
План с этого момента уже переставал быть тем, чем он был в замыслах нэповских лет, то есть инструментом сознательного управления экономикой, по-прежнему сохраняющей собственные законы и механизмы функционирования. Он становился скорее выражением решительной воли, исходящей из убеждения о допустимости ломки экономических законов и механизмов, становился, следовательно, выражением общих целей, которых следовало достичь, как уже было сказано, «во что бы то ни стало». Несколько утрируя, его можно бы рассматривать как своего рода «лозунг агитации», поставленный на службу этой воле. Отныне экономическому развитию страны надлежало идти «большевистскими темпами», как они были определены.
«Оптимальный» вариант плана, ставший после утверждения обязательным, обосновывался Госпланом на основе того предположения, что произойдет стечение благоприятных обстоятельств: все годы будут урожайными, качественные показатели экономики – себестоимость, производительность труда, урожайность – значительно улучшатся, торговля с заграницей намного увеличится благодаря кредитам или расширению экспортных возможностей и, наконец, удельный вес затрат на оборону в общей массе расходов уменьшится. Ни одной из этих надежд не суждено было сбыться. Именно на этот случай и предусматривался тот минимальный вариант, который был презрительно отброшен.
Великие стройки
Партия, страна взялись за трудную работу по выполнению «пятилетки», как сокращенно стали называть план. Целое созвездие строительных площадок возникло как в старых промышленных областях, так и в новых многообещающих районах, где раньше не было или почти не было промышленности. Шла реконструкция старых заводов в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, в Донбассе: их расширяли и оснащали новым импортным оборудованием. Строились совершенно новые предприятия, они были задуманы масштабно и в расчете на самую современную технику; строительство велось зачастую по проектам, заказанным за границей: в Америке, Германии. План отдавал приоритет отраслям тяжелой индустрии: топливной, металлургической, химической, электроэнергетике, а также машиностроению в целом, то есть тому сектору, который призван будет сделать СССР технически независимым, иначе говоря, способным производить собственные машины. Для этих отраслей и создавались гигантские строительные площадки, возводились предприятия, с которыми навек будет связана память о первой пятилетке, о которых будет говорить вся страна, весь мир: Сталинградский и Челябинский, а потом и Харьковский тракторные заводы, огромные заводы тяжелого машиностроения в Свердловске и Краматорске, автомобильные заводы в Нижнем Новгороде и Москве, первый шарикоподшипниковый завод, химические комбинаты в Бобриках и Березниках.
Самыми знаменитыми среди новостроек были два металлургических комбината: Магнитогорский – на Урале и Кузнецкий – в Западной Сибири. Решение об их сооружении было принято после долгих и острых споров между украинскими и сибирско-уральскими руководителями, начавшихся в 1926 г. и затянувшихся до конца 1929 г. Первые подчеркивали, что расширение уже существующих металлургических предприятий на юге страны потребует меньших расходов; вторые – перспективность индустриального преобразования советского Востока. Наконец, соображения военного порядка склонили чашу весов в пользу вторых. В 1930 г. решение получило развернутый крупномасштабный характер – создание в России наряду с южной «второй промышленной базы», «второго угольно-металлургического центра». Топливом должен был служить уголь Кузбасса, а руда – доставляться с Урала, из недр знаменитой горы Магнитной, давшей название городу Магнитогорску. Расстояние между двумя этими пунктами составляло 2 тыс. км. Длинные железнодорожные составы должны были совершать челночные рейсы от одного к другому, перевозя руду в одном направлении и уголь в обратном. Вопрос о расходах, связанных со всем этим, не принимался во внимание, раз речь шла о создании нового мощного индустриального района, удаленного от границ и, следовательно, защищенного от угрозы нападения извне.
Многие предприятия, начиная с двух колоссов металлургии, сооружались в голой степи или, во всяком случае, в местах, где отсутствовала инфраструктура, за пределами или вообще вдали от населенных пунктов. Апатитовые рудники в Хибинах, призванные дать сырье для производства суперфосфата, размещались вообще в тундре на Кольском полуострове, за Полярным кругом.
История великих строек необычна и драматична. Они вошли в историю как одно из самых потрясающих свершений XX в. России не хватало опыта, специалистов, техники для осуществления работ такого размаха. Десятки тысяч людей принимались строить, практически рассчитывая лишь на собственные руки. Лопатами они копали землю, нагружали ее на деревянные повозки – знаменитые грабарки, которые бесконечной вереницей тянулись взад и вперед с утра до ночи. Очевидец рассказывает: «Издали строительная площадка казалась муравейником… В тучах пыли работали тысячи людей, лошадей и даже… верблюды». Сначала строители ютились в палатках, потом – в деревянных бараках: по 80 человек в каждом, меньше 2 кв. м на душу.
На сооружении Сталинградского тракторного завода впервые было решено продолжать стройку и зимой. Нужно было торопиться. Поэтому работали и при 20, 30, 40 градусах мороза. На глазах у иностранных консультантов, порой восхищенных, но чаще скептически относящихся к этой картине, которую они воспринимали прежде всего как зрелище грандиозного хаоса, устанавливалось дорогостоящее и самое современное оборудование, купленное за границей.
Один из руководящих участников так вспоминает рождение первого Сталинградского тракторного завода: «Даже тем, кто видел это время своими глазами, нелегко бывает вспомнить сейчас, как все это выглядело. Людям помоложе и вовсе невозможно представить все то, что встает со страниц старой книги. Одна из глав ее называется так: «Да, мы ломали станки». Эту главу написал Л. Макарьянц – комсомолец, рабочий, приехавший в Сталинград с московского завода. Даже для него были дивом американские станки без ременных трансмиссий, с индивидуальным мотором. Он не умел с ними обращаться. А что говорить о крестьянах, пришедших из деревни? Были неграмотные – читать и писать было для них проблемой. Все было тогда проблемой. Не было ложек в столовой… Были проблемой клопы в бараке…». А вот что писал первый директор Сталинградского тракторного завода в книге, вышедшей в начале 30-х гг.: «В механосборочном цехе я подошел к парню, который стоял на шлифовке гильз. Я предложил ему: “Померь”. Он стал мерить пальцами… Инструмента, мерительного инструмента у нас не было». Одним словом, это был скорее массовый штурм, нежели планомерная работа. В этих условиях многочисленными были акты самоотверженности, личного мужества, бесстрашия, тем более героические, так как в большинстве своем им суждено было остаться безвестными. Были люди, которые ныряли в ледяную воду, чтобы заделать пробоину; которые даже с температурой, без сна и отдыха, по несколько суток не уходили с рабочего поста; которые не спускались с лесов, даже чтобы перекусить, лишь бы поскорее пустить в ход домну…
Среди советских авторов, доверяющих сегодня бумаге свои размышления о том периоде и оценивающих его в соответствии с собственными идейными предпочтениями, одни склоняются к тому, чтобы приписать заслугу этого порыва необыкновенной стойкости русского народа в самых тяжелых испытаниях, другие, напротив, скрытой энергии, таившейся в народных массах и высвобожденной революцией. Как бы то ни было, из многих воспоминаний явствует, что мощным стимулом для множества людей служила мысль о том, что за короткий срок ценой изнурительно тяжелых усилий можно создать лучшее, то есть социалистическое, будущее. Об этом говорилось на митингах. На собраниях вспоминали о подвигах отцов в 1917–1920 гг. и призывали молодежь «преодолеть все трудности» ради закладки фундамента «светлого здания социализма». В то время когда во всем остальном мире свирепствовал кризис, «молодежь и рабочие в России, – как заметил один английский банкир, – жили надеждой, которой, к сожалению, так недостает сегодня в капиталистических странах». Подобные коллективные чувства не рождаются путем стихийного размножения. Несомненно, суметь вызвать и поддержать подобную волну энтузиазма и доверия само по себе немалая заслуга; и эта заслуга принадлежала партии и сталинскому течению, которое отныне полностью руководило ею. Нельзя отказать в обоснованности рассуждению Сталина, когда он в июне 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) заявил, по сути дела выдавая свою сокровенную мысль, что, не будь идеи «социализма в одной стране», не был бы возможен и этот порыв. «Отнимите у него (рабочего класса. – Прим. ред.) уверенность в возможности построения социализма, и вы уничтожите всякую почву для соревнования, для трудового подъема, для ударничества».
Скомканный план
На этом, однако, было бы рано ставить точку в разговоре о плановом руководстве, а следовательно, о правильном применении всей той колоссальной массы материальных средств и человеческой энергии, которая им охватывалась. План был утвержден весной 1929 г. Уже во второй половине того же года он был полностью искорежен. Следует обратить внимание на дату: она знаменует один из самых критических моментов советской истории. Это был момент, когда осуждение Бухарина и других правых было предано гласности. Это был также период перехода к массовой и принудительной коллективизации. Всякое сопротивление внутри ядра высших руководителей было сломлено.
В эти же месяцы было намечено ошеломительное ускорение выполнения плана. Началось с выдвижения лозунга «Пятилетку – в четыре года!». Речь еще раз шла об одном из тех «лозунгов агитации», которые Сталин считал необходимыми для осуществления руководства. Лозунг писали на красных полотнищах, которые вывешивались в заводских цехах, повторяли на митингах вперемежку с бранью в адрес «маловеров и нытиков» из числа правых. В Москву отправлялись «красные составы», груженные «сверхплановой продукцией». Между тем выполнить за четыре года программу, которая, как признавалось, очень трудна и напряженна даже для пятилетнего срока, было явно малореалистической задачей, а следовательно, сопряженной с риском и для самой «агитации». Сталин все же не остановился на этом – он пошел дальше. Кампания «пятилетку – в четыре года» сопровождалась нарастающим, астрономическим раздуванием предусмотренных показателей.
По пятилетнему плану выплавку чугуна предусматривалось довести с 3–5 до 10 млн. т. Это было много, даже слишком много, по мнению многих специалистов. Но в январе 1930 г. Куйбышев объявил решение увеличить ее до 17 млн. т (10 – на Украине и 7 – на урало-сибирском комплексе) за тот же отрезок времени. Потенциальные мощности, запроектированные для Кузнецка и Магнитогорска, были увеличены в четыре раза. За первый год пятилетки (1928–1929) промышленное производство выросло примерно на 20 %, то есть чуть меньше, чем предусматривалось планом (21,4 %), но все же весьма существенным образом. Тогда было решено, что его прирост на протяжении второго года должен составить 32 %, то есть будет больше чем наполовину превышать запланированный уровень.
В один из самых лихорадочных приступов этого повышения показателей пришелся на XVI съезд партии (июнь – июль 1930 г.). По одной из версий, еще накануне съезда Сталин с Молотовым явились в Совнарком и потребовали, чтобы все цифры плана в целом были удвоены; на этот раз даже Рыков не решился возражать. Как бы то ни было, в своем докладе на съезде Сталин потребовал гигантского увеличения заданий пятилетки, утверждая, что «по целому ряду отраслей промышленности» план может быть выполнен «в три и даже в два с половиной года». Требовалось произвести, таким образом, не только 17 млн. т чугуна, но также 170 тыс. тракторов вместо запланированных ранее 55 тыс., вдвое больше цветных металлов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и т. д. Причем и на этот раз Сталин выдвигал эти задачи как тяжелое, но необходимое решение. Он уверял, что одновременно будет происходить увеличение выпуска потребительских товаров, ибо «мы имеем теперь возможность развивать ускоренным темпом и тяжелую, и легкую индустрию».
Наслаивание все более впечатляющих плановых заданий происходило почти в течение всего хода выполнения пятилетки. Сами по себе они могли выглядеть и не такими уж произвольными, особенно в глазах людей, которые с энтузиазмом отдавали все силы нечеловеческому труду на стройках пятилетнего плана. В самом деле, за ними стояли реальные трудности, такие как нехватка металла, который приходилось поэтому ввозить из-за границы, оплачивая золотом, возросшая потребность в сельскохозяйственной технике, обусловленная масштабами и драмами коллективизации, и т. д. Складывается, однако, впечатление, что каждая вновь возникающая или непредусмотренная проблема решалась простым повышением соответствующих цифр плана без какой-либо корректировки других его показателей, отчего последние делались все менее достижимыми. Таковы шутки, которые способен разыгрывать не знающий пределов волюнтаризм. Страна была охвачена индустриальной лихорадкой, своего рода помешательством, пароксизмы которого затянулись вплоть до 1932 г. Для того чтобы найти что-либо похожее в истории двадцатого столетия, нужно перенестись к концу 50-х гг. – периоду «большого скачка» в Китае. Результаты и в том и в другом случае были весьма далеки от ожидаемых.
Разумеется, то и дело звучавший в речах руководителей неотступно тревожный призыв строить поскорей имел под собой основания. Но уже во второй половине 1930 г. можно было видеть, что подобный путь не ведет к ускорению прогресса: темпы роста не увеличивались, а скорее падали. Объем производства за год вырос не на 32 %, как требовалось, а – по противоречивым свидетельствам официальных источников – лишь на 22 %, да и то в промышленности, то есть той сфере, где были сосредоточены все усилия и средства. Тем не менее Сталин заявил, что в следующем году можно и должно увеличить выпуск промышленной продукции на 45 %. Это заявление содержалось в его знаменитой краткой речи, произнесенной в феврале 1931 г. на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности.
Знаменитой эта речь стала прежде всего благодаря высказыванию, которому суждено было обернуться поразительным пророчеством: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Десять лет спустя наступил 1941 г. – год нападения нацистов на СССР. Речь эта, впрочем, заслуживает внимания не только по названной причине. Тем, кто спрашивал, нельзя ли замедлить темпы индустриализации, Сталин отвечал категорическим: «Нет, нельзя!». Этот свой ответ он впервые подкреплял обращением к патриотическому чувству, к уязвленной гордости за «матушку-Русь». Иностранцы всегда били Россию за ее отсталость. Сталин приводил строки поэта Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь». И добавлял: «Таков уж закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит, ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит, ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться». Правда, сразу вслед за этим он вводил интернационалистский мотив, напоминание об «обязательствах» русского рабочего класса по отношению к мировому пролетариату, от которого он в прошлом получил поддержку и надежды которого должен оправдать; напоминание о том, «что мы делаем дело, которое в случае успеха перевернет весь мир и освободит весь рабочий класс». Однако ценность этой речи, притом даже, что она содержит некоторые из самых удачных приемов ораторского искусства Сталина, выглядит существенно иной, когда мы обнаруживаем, что в ней он ставит перед страной совершенно нереалистические цели, закрывая глаза на неумолимые причины, делающие такое целеуказание произвольным.
Кульминационная точка этого безрассудного вздувания обязательств была ознаменована XVII партконференцией в январе – феврале 1932 г., когда были сформулированы первые директивы на второй пятилетний план, который должен был закончиться в 1937 г. В докладах Молотова и Куйбышева, а также в резолюции «О пятилетнем плане» говорилось, что к этому времени производство электроэнергии должно быть доведено до 100 млрд. кВч, а угля – до 250 млн. т, чугуна – до 22 млн. т, нефти – до 80–90 млн. т, зерна – до 130 млн. т. Одним словом, советская экономика должна была прыжком достигнуть американского уровня.
Успехи и диспропорции
Как бы то ни было, в конце 1932 г. пятилетка была объявлена завершенной в четыре года и три месяца. В обширном докладе на объединенном Пленуме Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) 7 января 1933 г. Сталин лично изложил, что, на его взгляд, должно было считаться результатами выполнения плана. Оценка подлинных результатов, достигнутых к концу 1932 г., порождает разногласия и продолжает оставаться предметом споров. Углубление в подобную дискуссию, сколь бы интересным оно ни было само по себе, увело бы нас в сторону от целей нашего анализа. Дело в том, что в ходе самого выполнения план был до такой степени скомкан и переиначен, что в его итогах чрезвычайно трудно распознать его первоначальный облик, тот вариант, который был утвержден в 1929 г. Задача поэтому состоит не столько в том, чтобы установить, был ли план выполнен или нет, сколько в том, чтобы подвести итоги развитию страны за четыре года. Ради этой цели мы можем воспользоваться советскими оценками – самыми оптимистическими из всех, – ограничившись лишь напоминанием, что почти вся статистика Запада считает необходимым скорректировать их в сторону уменьшения.
Итак, все усилия постепенно сосредоточились на промышленности, более того – на тяжелой индустрии. Однако и в этих отраслях не был достигнут запланированный уровень. Правда, выпуск промышленной продукции в 1932 г. удвоился в сравнении с 1928 г., в то время как по оптимальному варианту он должен был вырасти на 180 %, а по минимальному – на 135 %. Но что касается отраслей «группы А», производящих средства производства, то их уровень производства повысился лишь на 170 % вместо запрограммированных 230 %. Это и неудивительно, потому что со второй половины 1930 г. темпы роста здесь были ниже предусмотренных планом. Пока речь шла о процентах. Если же обратиться к главным отраслям промышленности, где достижения измеряются в абсолютных цифрах, то можно убедиться, что их рост не только не приблизился к астрономическим наметкам, раз за разом устанавливавшимся Сталиным и Куйбышевым, но не достиг и тех, тоже, впрочем, весьма высоких, показателей, которые значились в первоначальной редакции пятилетнего плана. Было выплавлено не 17 млн. т чугуна или стали (выполнения чего «во что бы то ни стало» требовал Сталин) и даже не 10 млн., а около 6 млн. т. Выработка электроэнергии составила 13,5 млрд. кВч вместо 22 млрд. по плану. Плановые задания, напротив, были выполнены по добыче нефти и почти выполнены по добыче угля (65 млн. т против 75 млн.). Химическая промышленность осталась весьма далека от намеченных целей. В особенности это касалось производства удобрений: вместо запланированных 8 млн. т было изготовлено меньше 1 млн.
Эти результаты были получены при гораздо более высоких, чем было предусмотрено, расходах. Капиталовложения в промышленность составили 23,3 млрд. руб. вместо 16,4 млрд., при этом тяжелой индустрии досталось значительно больше, чем было предусмотрено. Легкая промышленность – «группа Б» – была принесена в жертву. Сельскохозяйственное производство претерпело не подъем, а сильное падение. Реальная зарплата и доходы населения уменьшились. Транспорт переживал кризис.
Но было бы вместе с тем грубой ошибкой рассматривать пятилетку как неудачу. Законна гордость, с какой этот подвиг сохраняется в коллективной памяти советских народов. «Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях, – скажет позже Эренбург. – Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить». В чудовищно напряженном и хаотическом движении вперед были заложены основы индустриализации страны. Полторы тысячи крупных предприятий было построено или реконструировано настолько, что практически они стали новыми. Много других осталось в незавершенном виде: они будут достроены в последующие годы, и тогда скажется их благотворный вклад в развитие экономики. Несмотря на нечеловеческие трудности, Магнитогорск и Кузнецк становились явью. Электростанция на Днепре была закончена. Машиностроение добилось потрясающих успехов, хотя и по сей день их нелегко измерить; появились целые отрасли, каких не было в России: самолетостроение, тракторные и автомобильные заводы, станкостроительные предприятия. Из страны, ввозящей оборудование, СССР превращался в страну, производящую оборудование. Станочный парк в промышленности обновился более чем наполовину. Именно тогда был заложен фундамент советского могущества. В особенности это относилось к производству современных видов вооружений. Среди иностранных наблюдателей было все больше таких, которые улавливали очертания этой действительности под бесформенной магмой изуродованной пятилетки.
Создание колхозов. «Лучше перегнуть, чем недогнуть»
Напряженность в деревне
Яростный штурм первой пятилетки сочетался с коллективизацией сельского хозяйства. После революции страна не знала подобного бурного внутреннего процесса. Нельзя, однако, представлять себе этот новый этап аграрных преобразований чем-то вроде урагана, налетевшего на страну, где жизнь протекала с буколической безмятежностью. Это правда, что крестьянские массы воспринимали их как катаклизм. Но, с другой стороны, кризис, который советская деревня переживала в 20-е гг., был реальным кризисом.
С революцией крестьяне получили землю, и все же десять с лишним лет спустя они жили еще под гнетом нищеты и бескультурья. Индустриализация вызвала массовый уход с земли. На селе начиналась вербовка рабочей силы. На новые стройки приходили порой целые деревни во главе со своими «старостами», с собственными тачками и лопатами. Как ни билось большинство земледельцев, жили они плохо. «Дети ходят раздетые… Лошадь меня объедает…» – говорил один из них. Хотя влияние коммунистов в деревне было невелико, а неграмотность – повсеместной, среди крестьян бродили новые идеи. Патриархальные устои так и не возродились.
В убедительном, хотя, пожалуй, излишне оптимистичном выступлении Баумана на XV съезде ВКП(б) описывались те резкие контрасты, к которым все это приводило: появление групп комсомольцев и «звериная ненависть» к коммунистам; первое пробуждение интереса к мировой политике и «одновременно антисемитизм»; радиоантенны над соломенными крышами избенок и беспросветный алкоголизм; незавершенность «дела буржуазно-демократической революции» и замыслы социалистической революции. Кто в прежней русской деревне знал о событиях в Китае? Теперь же новости доходили и до села, и кое-кто радостно восклицал: «В Китае побили всех коммунистов, скоро и у нас будут бить».
Путь к повышению низкого уровня производительности сельского хозяйства лежал через крупное хозяйство, объединение усилий и материальных средств, широкое внедрение механизации – кто-кто, а большевики всегда исходили из этого убеждения. Идея была разумной. Однако, даже прозябая в далеко не блестящих условиях, крестьянин – и в особенности пресловутый середняк – сохранял недоверчивость к такого рода проектам. Помимо привязанности к недавно обретенному земельному наделу в его психологии была заложена еще глубинная враждебность к крупному хозяйству. Из-за многовекового опыта угнетения оно ассоциировалось у крестьянина с невозможностью трудиться на себя, с обязанностью работать на других, чуть ли не с возвратом крепостного права. Мотив этот, кстати, неслучайно был широко использован противниками коллективизации. В теории классиков марксизма – Маркса и Энгельса, а затем Ленина – необходимое преодоление подобного крестьянского мышления неизменно связывалось с медленным процессом, в ходе которого возрастающее давление экономических потребностей сопровождается возникновением технико-агрономических предпосылок, способных намного повысить производительность земледельческого труда. XV съезд ВКП(б) подтвердил верность этой линии.
Да и в те месяцы 1928–1929 гг., на протяжении которых споры о коллективизации становились все более напряженными, не было никаких резких отходов в сторону от этого ориентира. Бухаринцы предчувствовали, что дело придет к этому, но сталинское течение отрицало такую возможность. В существе своем курс не был изменен и на XVI партконференции в апреле 1929 г., хотя на ней и ощущался куда более сильный нажим в пользу сокращения сроков процесса. Конференция постановила, что за годы пятилетки 5–6 млн. дворов, то есть примерно 20 % крестьянских семей, должны быть объединены в предприятия социалистического типа. Задуманы они были как крупные хозяйства с обширными угодьями. Что касается зерновой проблемы, то главная роль в ее решении отводилась совхозам: предполагалось, что эти государственные хозяйства смогут с помощью техники освоить огромные пространства залежных земель.
Стимулы, призванные побудить крестьян к вступлению на новый путь, должны были быть разными. Развитие кооперации, в том числе и в самых простых ее формах, еще отнюдь не сбрасывалось со счета; да к тому же она приобрела к этому времени уже большое распространение. Немалые надежды возлагались на так называемую контрактацию – систему договоров, заключаемых государственными закупочными органами с сельскими кооперативами или сообществами; получая кредиты или определенные услуги, эти последние гарантировали сдачу государству зерна или других продуктов. Однако в роли самого важного рычага неизменно выступала механизация, распространение современной агротехники. Речь шла и о химических удобрениях, но прежде всего о машинах, обобщающим символом которых служили первые «тракторные колонны». Выезд таких колонн – обычно из совхозов, и в первую очередь для обработки полей тех крестьян, которые объединили свои наделы, – обставлялся с большой торжественностью. Дебаты на XVI партконференции были весьма жаркими: доклад Калинина, носивший еще сравнительно осторожный характер, вызвал многочисленные критические возражения с более крайних позиций. Как бы то ни было, почти все ораторы исходили из незыблемости сочетания «коллективизация – трактор». Два знаменитых ученых – Вавилов и Тулайков – были специально приглашены на трибуну, чтобы рассказать делегатам о научных предпосылках современного сельского хозяйства.
Тем временем напряженность в деревне, вызванная вторым подряд кризисным годом в области хлебных заготовок, продолжала нарастать. Государственные хлебозаготовительные меры и порождаемое ими сопротивление представляли собой лишь один из аспектов кризиса, правда такой, в котором концентрировались и все остальные. Борьба окрашивалась в зловещие тона: убийства и другие проявления насилия множились от месяца к месяцу. Споры на XVI партконференции в первую очередь велись по вопросу о том, можно ли разрешить кулакам вступать в коллективные хозяйства. В самом деле, наступление на кулачество было не только экономическим, но и политическим. Намерение поэтому – так признается теперь в исторических работах – состояло в том, чтобы продемонстрировать середняку, что индивидуальный путь к достатку (ради чего он и стремился выбиться в кулаки) для него закрыт. Перед ним как бы ставилась глобальная альтернатива, состояла она, если обозначить ее обобщенно, в выборе двух путей, которые так или иначе вели к крупному хозяйству: один, стихийный путь, был капиталистическим, другой – социалистическим. Первый путь блокировался во имя идеалов революции на том основании, что капиталистическое развитие деревни не смогло бы долго сосуществовать с социалистической индустрией, не угрожая поглотить ее. Но у русского крестьянина – в силу самой отсталости деревни – сохранялся еще третий путь, его собственный Путь отступления: возврат почти что к натуральному хозяйству, лишь бы оно было в состоянии прокормить его. Под нажимом власти кулак или крестьянин, у которого только-только начинал появляться достаток, стремились отделаться от своего инвентаря и имущества, например продать их, в надежде сохранить деньги в кубышке до лучших времен. Посевные площади сокращались. Городской рынок получал все меньше продуктов. Советское правительство лицом к лицу сталкивалось с серьезной, быть может, непоправимой опасностью упадка производительных сил деревни в таких же масштабах, в каких это произошло во время гражданской войны.
«Перелом» 1929 года
Первое ускорение хода коллективизации произошло летом 1929 г. К 1 июня в колхозах было около 1 млн. дворов, 3,9 %. К первым числам ноября процент повысился до 7,6. Это было много. Начались все более настойчивые разговоры о деревнях, районах и даже областях «сплошной» коллективизации. Но большинство вступивших продолжало оставаться бедняками, то есть теми, кто меньше рисковал. Середняки в колхозах по-прежнему составляли явное меньшинство.
Впрочем, слово «колхоз» далеко не имело тогда того точного смысла, который оно приобрело позже. Оно означало пока по крайней мере три типа производственной ассоциации. Самым старым из них, ведущим начало непосредственно от революции, была коммуна, в которой коллективным было все: земля, скот, инвентарь, даже жилые постройки. Потом шла артель, в которой в общественном пользовании находились только земля и часть инвентаря, а следовательно, и урожай. Наиболее же распространенным типом – около двух третей общего числа – были простые товарищества по совместной обработке земли (тозы), в которых собственность оставалась в основном раздельной. По отношению к этому типу колхоза крестьянин испытывал меньшее недоверие, чем к другим.
Как бы то ни было, прогресс был: трудный, но реальный. Этим же летом, однако, прозвучали и первые сигналы тревоги. Шла новая, третья по счету, хлебозаготовительная кампания. До июня колхозное движение было скромным, но действенным. Потом началось форсирование, а с ним и более серьезные конфликты. «Здесь действительно не на шутку идет сейчас классовая борьба. Просто как на фронте», – говорилось в сообщении из одного района, где коллективизация шла ускоренным темпом. По деревням ходили апокалипсические слухи: на землю пришел Антихрист, скоро будет конец света, готовится «Варфоломеевская ночь» и все вступившие в колхоз будут вырезаны, крестьяне останутся без хлеба. Партийным активистам, которых посылали в села, рекомендовали не выходить по ночам, не садиться вечером у освещенного окна, чтобы не вырисовывался профиль на стекле, и т. п.
Одним словом, уже первые попытки показывали, что там, где стремятся достичь сплошной коллективизации, вступление крестьян в колхозы не может быть добровольным. Напряженность приобретала поэтому грозный оттенок, расстановка сил становилась неясной. Решения, принятые меньшинством, навязывались и всем остальным. Когда убеждений оказывалось недостаточно, уговоры сменялись запугиванием: «Ты за что: за кулака или за советскую власть?», что означало: если не вступишь в колхоз, значит, ты враг и соответственно с тобой следует обращаться. Случалось, однако, слышать в ответ и такое: «Я не за кулака и не за власть, а за трактор». Тогда некоторые руководители не скупились на обещания: «Все дадут – идите в колхоз!». Но государство могло дать весьма мало, и первые коллективные хозяйства уже страдали от нехватки инвентаря, ощущали на себе бремя общей отсталости русской деревни и неохотно сдавали зерно.
Сверху не последовало указаний действовать с большей осмотрительностью. Совсем наоборот. Начал Сталин статьей «Год великого перелома», написанной в годовщину революции. В статье утверждалось, что «в колхозы пошел середняк», а «коренной перелом» в отношении крестьянства к коллективизации сельского хозяйства изображался как нечто уже достигнутое. Через несколько дней (10–17 ноября) собрался Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии. Были обсуждены целых три доклада о сельском хозяйстве. Кроме того, пленум вновь занялся правыми и Бухариным; этот последний был выведен из Политбюро, после того как на него и остальных обрушивались массированные нападки и потоки критики в течение нескольких дней подряд. В подобной атмосфере даже видимость умеренности по вопросу о колхозах выглядела бы как уступка правым.
По мнению Молотова, который был одним из докладчиков, нужно было полностью коллективизировать главные сельскохозяйственные области или даже целые республики, и не за пятилетие, как он сам говорил несколькими месяцами раньше, на XVI партконференции, а в ближайшем году. Сталин заявил: «Теперь даже слепые видят, что колхозы и совхозы растут ускоренным темпом». Оратора, обращавшего внимание на первые опасные перегибы, Сталин прервал репликой: «Что же вы хотите, все предварительно организовать?». Тем не менее неверно было бы на этом основании представлять себе дело так, будто Центральный Комитет сопротивлялся форсированию, а Сталин с Молотовым заставляли его идти против собственной воли. Если судить по известным нам фактам, коллективизаторская лихорадка была присуща большинству ораторов. Впечатление было такое, что руководящие круги были сплошь охвачены надеждой одним махом разрешить проклятые проблемы села путем лихой атаки на старый крестьянский мир, с которым следовало расправиться самыми решительными методами. Уже в 1921 г. Ленин отмечал, что в партии есть немало «фантазеров», которые мечтают, что «в три года можно переделать экономическую базу, экономические корни мелкого земледелия». В резолюции пленума говорилось как раз о «гигантском ускорении темпов развития… которое предвидел Ленин».
Подобное стремление было свойственно не одному только Сталину, но в лице Сталина оно получило самого авторитетного сторонника, которому немногие теперь осмеливались перечить. В декабре он заявил даже, полемизируя с Энгельсом, что привязанность крестьянина к своему клочку земли в СССР не так уж и сильна, потому что земля уже была национализирована. Сталин говорил поэтому о «сравнительной легкости и быстроте» развития колхозного движения. Как «гнилую теорию» он отвергал идею возможности развития этого процесса «самотеком»: колхозы и совхозы следовало «насаждать» в деревне извне, со стороны «социалистического города», по отношению к которому крестьянин уже не будет испытывать прежнего «зверского недоверия». В этом же выступлении Сталин выдвинул новый лозунг – «ликвидировать кулачество как класс».
Так в ноябре – декабре 1929 г. произошел подлинный «перелом» в аграрной политике советских коммунистов. Он радикально изменил постановления как XV съезда, так и XVI партконференции. По значению своему это было нечто сравнимое с переходом к нэпу, хотя и нацеленное в противоположную сторону. Скудость документации пока затрудняет понимание всех мотивов, которые продиктовали такую перемену курса. Причем это трудно понять не только нам: такой поворот не могли объяснить себе и современники, которым приходилось проводить эту политику. Именно советский историк (Трапезников) первым обратил внимание на то, что каждый из предыдущих «крутых поворотов» в политике партии становился предметом обсуждений и, следовательно, коллективной выработки решений на специально созывавшихся съездах или конференциях. На этот раз ничего подобного не было. Поворот к новой политике, собственно, не был провозглашен и Пленумом ЦК, ибо ноябрьский Пленум, с одной стороны, остался тайным, а с другой – завершился принятием резолюций, которые отнюдь не вносили ясности в происходящее. Роковые решения тех месяцев вырабатывались специальными комиссиями Политбюро ЦК, статус которых никак не оговаривался Уставом партии и в которых решающая роль впервые принадлежала секретарям обкомов, то есть тем людям, чье влияние оказалось столь значительным при разгроме бухаринского крыла в 1928 г. Что же касается оперативного осуществления решений, то оно проводилось в соответствии с излюбленным сталинским методом. Вслед за провозглашением лозунгов принимались директивы. В некоторых случаях они носили форму постановлений узких правительственных и партийных органов. В других в этой роли выступали просто передовые статьи «Правды». Чаще же всего это были секретные циркуляры или телеграммы из центра на периферию. Подобные инструкции нередко, как мы увидим, противоречили друг другу. Неудивительно поэтому, что партия была плохо подготовлена к встрече с выраставшей перед нею грандиозной задачей, к тому, чтобы предвидеть ее коварные последствия и заранее рассчитать эффект.
Самой известной среди комиссий, вырабатывавших директивы по коллективизации, была комиссия под председательством Яковлева, главы нового объединенного Наркомата земледелия СССР, созданного по решению ноябрьского Пленума. Помимо представителей центральных сельскохозяйственных ведомств в ее состав входили секретари партийных комитетов главных хлебных областей: Косиор (Украина), Андреев (Северный Кавказ), Шеболдаев (Нижняя Волга), Хатаевич (Средняя Волга), Варейкис (Центрально-черноземный район), Голощекин (Казахстан), Бауман (Москва). Подразделенная на восемь подкомиссий, она изыскивала решения для основных проблем: сроки операции, тип коллективных хозяйств, распределение кадров и технических ресурсов, отношение к кулачеству. В целом комиссия делала упор на максимальное ускорение процесса. В рамках этой общей установки вырисовались тем не менее две тенденции. В одной, представленной главным образом Яковлевым, проявлялась известная осмотрительность; в другой – ее решительными сторонниками были Шеболдаев и Рыскулов, занимавший тогда пост Заместителя предсовнаркома РСФСР, – отбрасывались всякие сомнения, и она во имя не столько «добровольного», сколько «революционного» характера всего предприятия тяготела к самым радикальным решениям. Любые попытки тормозить движение она рассматривала как оппозицию.
Как бы то ни было, право принятия окончательных решений принадлежало не комиссии, а Политбюро. Но прежде чем оно произнесло свое слово, Сталин распорядился внести в подготовленный проект решения такие поправки, которые фактически утверждали наиболее радикальные предложения или, во всяком случае, оставляли открытой дверь для их применения на практике. Так появилось на свет постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г., которому суждено было стать основополагающим документом всей коллективизации: краткий, скорее административный, нежели политический текст. Им устанавливалось, что к концу первой пятилетки должно быть коллективизировано уже не 20 %, а «огромное большинство» возделываемых земель. Основные зерновые районы (Нижняя и Средняя Волга, Северный Кавказ) должны были завершить процесс к осени 1930 г. или самое позднее – к весне 1931 г.; другие хлебные районы – к осени 1931 г. или в самом крайнем случае – к весне 1932 г. Преобладающим типом колхоза должна была стать «артель как переходная к коммуне форма». В колхозы ни под каким видом не разрешалось принимать кулаков.
Ликвидация кулачества
Когда документ был опубликован, было уже поздно: по меньшей мере уже два месяца, как в стране шла яростная битва – не было почти ни одного села, где бы «колхоз» не стал причиной конфликта.
Какие же силы столкнулись в этой борьбе? За коллективизацию (с оговоркой, что политический смысл «за» и «против» весьма условен, когда речь идет о процессе, вынуждающем миллионы людей к драматическому личному выбору) выступали в основном беднейшие крестьяне и батраки, которых коммунисты с 1928 г. пытались объединить в особые бедняцко-батрацкие группы. Однако организованность и престиж этих слоев в деревне были невелики, что, впрочем, нисколько не оправдывает тех, кто, претендуя на исторический анализ, огульно именует их «бездельниками» или, хуже того, «проходимцами». Помощь им оказывал рабочий класс, особенно там, где он был меньше связан с селом: с коллективизацией рабочие связывали как минимум надежды на выход из затруднений с продовольствием. Партия потребовала, чтобы рабочий класс дал селу не меньше 25 тыс. организаторов колхозов. В действительности на село поехало 35 тыс. человек, из них 70 % – коммунисты. Вооруженные решимостью, но со скудными средствами, они встретились там со столь же трудной, сколь неблагодарной работой, протекавшей зачастую в таких обстоятельствах, от которых у них не могли не опускаться руки. Основной силой в любом случае была государственная власть, причем не только в виде средств принуждения, которые были широко пущены в ход, но главным образом в виде той системы аппаратов – «приводных ремней», – которая сложилась при Сталине. Например, в ходе создания колхозов в массовом порядке использовалась комсомольская молодежь, отличавшаяся наибольшей готовностью следовать новаторскими путями.
Немалыми были и силы сопротивления. Одних лишь кулаков, как их классифицировала налоговая статистика, было миллион семей, то есть 4–5 млн. человек. Трехлетняя битва в ходе хлебозаготовок продемонстрировала, помимо всего прочего, как трудно было изолировать их от остального сельского населения: родственные связи, хозяйственный опыт, общественный престиж – все это обеспечивало кулакам влияние не только среди середняков, но и самих бедняков. Не случайно с лета 1929 г. тех, кто не хотел ввязываться в борьбу с кулаками на селе – а таких было немало, – в печати широко именовали «подкулачниками». Против коллективизации были все церкви: от православной до мусульманской. Наконец, притихшие и раздробленные противники советского строя обрели в новом конфликте выгодное для себя поле действий.
Оставалась огромная середняцкая масса: ее переход на ту или другую сторону мог решить исход борьбы. Но в силу тех обстоятельств, при которых началось наступление, именно для убеждения середняка как раз и не нашлось главного, решающего довода.
Еще в августе 1929 г. «Правда» открыла свою полосу огромным заголовком: «Вперед, за крупное колхозное хозяйство! Советским комбайном и трактором подрежем корни капиталистической эксплуатации, выкорчуем капиталистические элементы в деревне». Но в 1929 г. в СССР было выпущено всего 3300 тракторов, а производство комбайнов еще только предстояло наладить. Оставалось обратиться к импорту, но мы уже знаем, насколько напряженным было положение с ним из-за индустриализации. Решено было ускорить строительство двух новых, помимо Сталинградского, тракторных заводов; однако их продукция начала бы поступать лишь позднее. Уже в середине 1929 г., когда колхозы были редкими и небольшими, лишь один из четырех имел трактор; с увеличением их числа техническая оснащенность отставала все больше. До самого последнего мгновения партийные руководители среднего звена, вплоть до обкомов, надеялись и просили – в том числе и в самой комиссии Яковлева – оказать финансовую и техническую помощь. Вместо этого коллективизацию пришлось проводить на нищенской производственной базе русской деревни: нищенской не только в техническом, но и культурном отношении.
Колхозы, иначе говоря, пришлось создавать и развивать не на базе машин, полученных от государства, а используя крестьянские орудия труда. Вместо трактора середняка встречало в колхозе требование отдать в общее пользование свою драгоценную лошадь, ради которой он привык жертвовать всем. Мало того, у него требовали также корову и инвентарь плюс денежный аванс для закупки машин, которые должны были поступить лишь значительно позже. Убеждать его в подобных условиях было безнадежно.
Здесь-то и вводилась «ликвидация» кулачества. Это означало две вещи. Зажиточный крестьянин подлежал, во-первых, экспроприации – его земля и имущество, иначе говоря, переходили в собственность колхоза, а во-вторых, депортации. Кулаков с этой целью подразделяли на три категории. Тех, кто оказывал активное и организованное сопротивление, надлежало отправлять в концентрационные лагеря. Вторую группу «наиболее богатых кулаков» следовало высылать в отдаленные и малопригодные для проживания местности. Все остальные должны были изгоняться из деревень и переселяться на новые участки за пределами колхозных массивов, на малонаселенные и невозделанные земли. Выработанные специальной комиссией, вроде комиссии Яковлева, эти инструкции, однако, не публиковались. Официальное постановление от 1 февраля 1930 г. в общем виде предоставило областным властям право применять «все необходимые меры борьбы с кулачеством». Да и поступили эти инструкции с опозданием, когда раскулачивание проводилось уже во многих районах местными властями по собственной инициативе или, как выразился один из секретарей обкома, Варейкис, «на свой страх и риск». С января 1930 г. оно стало лишь более систематическим: в каждом районе были образованы «тройки», включавшие секретаря райкома, председателя райсовета и местного руководителя ГПУ, задачей которых было составление списков лиц, подлежащих экспроприации и депортации.
Коллективизаторское неистовство
Среди областей развернулось состязание – кто наколлективизирует больше. В этом всеобщем вихре ускорения, еще более усложнившем ситуацию, свою роль сыграла и боязнь оказаться обвиненным в причастности к бухаринской оппозиции, как признавался позже Калинин. Даже при ударных темпах коллективизации в соответствии с замыслом Сталина и при повсеместно неблагоприятных для нее объективных условиях обстановка, в которой она проводилась, довольно значительно отличалась от района к району. Одна обстановка складывалась в районах с преобладанием технических культур или в южных степях с экстенсивным производством зерновых, где были крепче связи с рынком, сильнее укоренился мелкий сельский капитализм, легче было использовать машинную технику; и совершенно другая – в северных областях, где крестьяне жили в небольших селениях, разбросанных на большом расстоянии друг от друга, либо в зонах кочевого скотоводства, где население, ко всему прочему, было нерусским. Если обобщить, то можно сказать, что в районах первого типа предпосылки для коллективизации были менее враждебными, нежели в районах второго типа.
Первым о своем намерении закончить «сплошную» коллективизацию в считаные месяцы, до весны 1930 г., заявил Северный Кавказ. И это было сделано, несмотря на то что руководитель местной партийной организации Андреев признавал, что даже на Кубани, то есть в той части области, которая по идее должна была представлять собой один из наиболее подготовленных в этом отношении районов СССР, «хлеборобская масса, в том числе близкие нам слои населения, не уясняет сущности коллективизации». За Северным Кавказом последовали Нижняя Волга, Московская областная организация, Центрально-черноземный и северные районы, Бурятская и Калмыцкая автономные области и, наконец, все остальные. Республикой сплошной коллективизации среди прочих, например, объявила себя Белоруссия, хотя при ее разбросанных мелких хуторах она весьма мало была подготовлена к такому мероприятию и вряд ли могла бы его осуществить даже в куда менее неблагоприятных условиях.
Такая гонка объяснялась не только спешкой местных руководителей. Инструкции, изданные в декабре такими центральными органами, как Всесоюзный Наркомат земледелия и Колхозцентр (ведомство, основанное специально для руководства созданием коллективных хозяйств), устанавливали, в свою очередь, головокружительно высокие задания по коллективизации в кратчайшие сроки. Указания эти были мало скоординированы с другими решениями, в том числе и с решениями Политбюро, но по значению своему не могли не утверждаться высшим партийным руководством, начиная с самого Сталина. Они поощряли вторую тенденцию, которой суждено было оказаться не менее пагубной, чем спешка: коллективизировать все, то есть не только землю и рабочий скот, но также коров, овец, свиней, даже кур. Если на «тозах» был окончательно поставлен крест, то теперь и артель казалась недостаточно высокой целью: при любой возможности ставилась задача сделать скачок прямо к «коммуне». К тому же в сталинских речах, а следовательно, и в официальной пропаганде того периода часто говорилось о хозяйствах-гигантах, с десятками тысяч гектаров пашни; именно это и попытались сделать – с весьма отрицательными результатами – на Урале и в Сибири.
Поскольку в деревне база колхозов была слабой, их организация поручалась большей частью активистам или кадровым работникам со стороны, присланным из районного центра или более отдаленного города. Зачастую эти люди плохо знали деревенскую жизнь и сельскохозяйственное производство. Их задачей было организовать бедняков и середняков. Но крестьяне продолжали относиться к ним недоверчиво. Тогда всякая забота о соблюдении законности отодвинулась в сторону. Руководитель Колхозцентра Каминский, который был в это время заведующим агитпропом ЦК, говорил: «Если в некотором деле вы перегнете и вас арестуют, то помните, что вас арестовали за революционное дело». Не удивительно поэтому, что мог получить хождение лозунг «Лучше перегнуть, чем недогнуть».
Или что районная партийная организация могла дойти до того, чтобы постановить: «Коллективизировать все население во что бы то ни стало… Все это выполнить к 15 февраля без минуты отсрочки!». В ход широко шли угрозы и насилие: тому, кто не вступал в колхоз, говорили, что с ним поступят как с кулаком, то есть экспроприируют и вышлют. Хотя изданная в конце января инструкция устанавливала, что доля ликвидированных кулаков не должна превышать 3–5 % от массы крестьянства (всегда считалось, что именно таков, и не больше, их социальный удельный вес), имелись области, где раскулаченные составляли 10–15 %, а в некоторых местах до 20–25 %.
Противодействие, в свою очередь, приобрело формы отчаянного сопротивления. В крестьянской среде стали говорить: «В колхозы, но с пустыми руками». Раз его заставляли вступать, крестьянин подчинялся, но в коллективное хозяйство он собирался принести возможно меньше. Тайный забой скота начался летом 1929 г. В последующие месяцы он приобрел немыслимый размах, достигая порой катастрофических размеров. Да, впрочем, у молодых колхозов даже и не было еще коллективных коровников и конюшен. Крестьянин стал набивать утробу мясом. Он резал коров, телят, свиней, лошадей – все. Несмотря на то что январское постановление 1931 г. угрожало высылкой и конфискацией имущества за хищнический убой скота, он продолжался в течение всей коллективизации и был одним из самых тяжелых ее последствий.
Сопротивление к тому же не было лишь пассивным. По селам вновь загулял «красный петух» – поджог, оружие всех крестьянских бунтов в России. В 1929 г. по одной только РСФСР было зарегистрировано около 30 тыс. поджогов, то есть без малого по сотне в день. На Украине в том же году было отмечено в четыре раза больше «террористических актов», то есть эпизодов вооруженного насилия, чем в 1927 г. Употребляемые некоторыми современными историками выражения вроде «настоящая война», «гражданская война», похоже, не являются преувеличением. В конце декабря – первой половине января мятежи имели место в 20 деревнях Нижней Волги; со второй половины декабря до середины февраля – в 38 деревнях Центрально-черноземной области. Вспышки отмечались также в районах, населенных казачеством, на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе, в Сибири. В Средней Азии вновь разгорелась партизанская война басмачей, которая хронически тлела в приграничных районах. Советская историография всегда подчеркивала зверства кулаков, а западная – жестокости репрессий. Ожесточение насилия – явление отнюдь не новое в среде русского крестьянства – нельзя приписать одной лишь стороне. Кулаков или подкулачников высылали вместе со всей семьей, включая детей. В свою очередь уполномоченных, разъезжавших по селам, либо местных сторонников колхоза находили не просто убитыми, но со следами истязаний, подчас изрубленными на куски.
Первое колхозное наступление рисковало окончиться катастрофой. В запросах с периферии у центра просили более ясных указаний. Партия оказалась в положении путника, захваченного грозой. Никто толком не знал, как поступать при решении таких важнейших вопросов, как, например, внутренняя структура колхоза, способ организации работы, система оплаты труда колхозников. Это замешательство, вызванное нечеткостью распоряжений, нельзя сравнивать с импровизацией первых месяцев после октября 1917 г., когда сам Ленин призывал массы действовать по собственной инициативе, не дожидаясь особых указаний; тогда революция уже шла сама по себе, и никому в голову не приходило, что ее нужно «насаждать» в деревне.
В исследованиях последнего времени отмечается, что в конце января – первых числах февраля из Москвы в некоторые союзные республики были отправлены телеграммы, предостерегавшие от наиболее опасных перегибов. Такого рода меры не меняют, однако, картину общей сумятицы. Раз в пять дней Секретариат ЦК получал сводки о ходе коллективизации, где, похоже, отнюдь не скрывался и не приукрашивался тот драматический оборот, который приобрели события. Лично в адрес Сталина в эти недели поступило около 50 тыс. писем, авторы которых стремились сообщить ему об истинном положении дел.
Из всего этого складывается впечатление, что верхушка намеренно позволяла движению развиваться своим ходом в надежде, что пусть такой ценой, но все же удастся добиться решающего прорыва на этом фронте. В середине февраля Сталин еще раз публично призвал «усилить работу по коллективизации в районах без сплошной коллективизации». В подобных условиях несколько предостережений насчет перегибов лишь усиливали противоречивость указаний для тех, кто действовал на местах. Разве не об этом, например, свидетельствовала установка Сибирского окружкома партии, потребовавшего вступления всех крестьян в колхозы к весне, хотя все это происходило уже в феврале и к этому моменту коллективизировано было лишь 12 % пашни?
К концу февраля крестьянские мятежи грозили превратиться в общее антисоветское восстание. Было забито 15 млн. голов рогатого скота, треть поголовья свиней и свыше четверти поголовья овец. Но вырисовывалась и еще более грозная опасность: срыв весеннего сева. Надежда на то, что форсированная коллективизация поможет «спасти средства производства» в сельском хозяйстве – а именно с этой надеждой многие руководители очертя голову бросились подстегивать сумасшедшие темпы движения, – теперь оборачивалась своей противоположностью. Из Центрально-черноземного района Варейкис сообщал, что к концу марта завершит коллективизацию, но настойчиво просил, чтобы в Политбюро было обсуждено трудное положение, сложившееся в его области. В Москве состоялись тогда два совещания: одно с работниками союзных республик, другое для утверждения Примерного устава сельскохозяйственной артели. Это были совещания, весьма насыщенные критикой. Первые тормозящие усилия шли отсюда. Необходимо было принимать контрмеры, пока еще было не слишком поздно.
Новое наступление после передышки
Второго марта в «Правде» появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Она прозвучала как взрыв бомбы. Автор признавал, что в деревне допущены серьезные ошибки. В ряде районов не были соблюдены два условия, в равной мере необходимые для успеха колхозного движения: «добровольный» характер вступления в колхозы и учет разнообразия ситуаций в разных частях СССР. Была совершена еще и третья ошибка теми, кто поспешил забежать вперед, пытаясь перейти сразу к коммунам. Ни разу до сих пор Сталин не говорил об опасностях такого рода. Но в статье между тем не было ни малейшего намека на самокритику: вина приписывалась целиком периферийным исполнителям, у которых «закружилась голова» после первых «успехов».
Такое запоздалое, резкое и двусмысленное исправление директив на несколько недель вызвало замешательство, возможно, еще более глубокое, чем то, которое уже царило на местах. Все те, кто без оглядки целиком отдавал силы проводившейся кампании, вдруг обнаружили, что они дезавуированы Москвой и стали мишенью крестьянских атак на местах. Противники торжествовали: «Говорили же мы, что не нужно вступать в колхоз». Среди коммунистов были и такие, кто не поверил статье, кто пытался запретить ее распространение, кто истолковал ее как простую тактическую уловку, которую не следует принимать всерьез. Некоторые восприняли ее как полный подрыв их собственного авторитета. Другие просто не знали, что делать дальше. Старый «децист» Рафаил написал Сталину письмо, в котором спрашивал, не находится ли партия перед новым Брестом. Стало известно письмо одного рабочего, 25-тысячника, который с негодованием писал: «Мы все, низы и пресса, проморгали этот основной вопрос о руководстве колхозами, а т. Сталин, наверно, в это время спал богатырским сном и ничего не слышал и не видел наших ошибок…». Сами высшие партийные руководители, поспешившие в провинцию, продолжали отдавать противоречивые распоряжения; так явствует, по крайней мере, из отрывочных сведений, которые приводятся советскими авторами по поводу некоторых выступлений Кагановича и Орджоникидзе: первый по-прежнему отстаивал жесткие методы, второй же призывал к большей осмотрительности.
Возникла необходимость опубликовать 14 марта коллективное постановление Центрального Комитета, воспроизводившее основные положения сталинской статьи. Тем не менее подлинная корректировка курса произошла только в начале апреля, то есть в тот последний срок, когда еще можно было успеть придать отступлению некоторый порядок. Крестьянские массы истолковали новые установки в том смысле, что можно уходить из колхозов. Там, где официального дозволения не давали, они сами забирали назад свой инвентарь и землю. Процентные показатели коллективизации стремительно упали. Если в целом по СССР к первым числам марта было коллективизировано, по крайней мере на бумаге, 58 % крестьянских хозяйств, то к июню показатель упал ниже 24 %. В некоторых областях сокращение было еще более резким: с 81 до 15 % в Центрально-черноземном районе, с 73 до 7 % в Московской области. Большая устойчивость отмечалась на Северном Кавказе. В обоснование своего ухода крестьяне приводили тысячи причин. Самое же искреннее объяснение было дано тем из них, который сказал: «Ухожу, потому что насилия нет, и желаю обождать».
Зато был спасен весенний сев. Серия последовавших мероприятий гарантировала колхозам и колхозникам известное число финансово-налоговых льгот. 1930 г. был весьма благоприятным для сельского хозяйства, тогда был собран рекордный урожай зерновых. Прибавка к намолоту была обеспечена большей частью за счет хлеба, снятого новыми совхозами с ранее не возделывавшихся земель. В любом случае это был крупный успех. В работах советских ученых всегда подчеркивалось, что коллективные хозяйства в этом году получили, по крайней мере в некоторых областях, лучшие результаты, нежели единоличные. Наблюдение, вероятно, правильное, хотя нелегко установить, насколько широко оно может быть обобщено: колхозы ведь имели то преимущество, которое состояло в использовании инвентаря, конфискованного у кулаков (к лету 1930 г. он составлял более трети их неделимых фондов). Сравнительно обильный урожай также несколько облегчил для части крестьянства заготовительную кампанию, остававшуюся все же трудным мероприятием.
Отступление 1930 г. было лишь перемирием. После засыпки урожая в закрома колхозное наступление возобновилось. Мы не знаем, какие соображения побудили Сталина и его сподвижников на такой шаг. Вероятно, они считали, что уже сожгли мосты, бесповоротно утратили доверие индивидуального земледельца, и опасались политических последствий, которые могла бы повлечь за собой смена курса. Выступая в середине года на XVI съезде ВКП(б), руководитель партийной организации Северного Кавказа Андреев сказал, что, пока единоличное хозяйство находится накануне объединения в колхозы, оно неспособно обеспечить нужных стране темпов подъема производительных сил. Сталин был категоричен: «Нет больше возврата к старому. Кулачество обречено и будет ликвидировано. Остается лишь один путь – путь колхозов». Поражает, впрочем, не столько это, сколько то, что после проделанного опыта эти руководители продолжали говорить о создании в короткий срок высокопроизводительного и современного сельского хозяйства. Это обещал Сталин. Андреев убеждал, что превосходство коллективных хозяйств можно будет доказать более высокой урожайностью, большей доходностью, лучшей организацией труда, применением механизации. Яковлев нарисовал делегатам съезда картину сельского хозяйства «американского» типа: с четкой специализацией по областям и высоким уровнем индустриализации.
За основу продолжения коллективизации были взяты тогда темпы, установленные знаменитым постановлением ЦК от 5 января 1930 г. Эти темпы были, однако, уточнены. Вся страна была подразделена на три зоны, для каждой из которых были установлены свои задания. До конца 1931 г. первая зона, куда входили наиболее крупные зерносеющие области, должна была коллективизировать 80 % крестьянских хозяйств; вторая, также включающая зерносеющие районы, – 50 и третья, охватывающая потребляющие районы и районы с нерусским населением, – 20–25 %. Идея установления жестких норм была несовместима с принципом добровольного вступления в колхозы, которым снова пренебрегли. Сталин по телеграфу передал на места распоряжение ускорить процесс. Внутренний циркуляр вновь потребовал от парторганизаций не ждать, когда крестьяне на основе положительных результатов убедятся в преимуществах колхозов, но добиваться «решительного сдвига» и «нового мощного подъема колхозного движения».
Что касается хода коллективизации в течение двух последующих лет, то решающим годом явился 1931-й. Если к концу 1930 г. в колхозах числилось около 6 млн. крестьянских дворов, то за первую половину 1931 г. было коллективизировано еще 7 млн. Это составило уже почти 53 %. 1931 г. стал также свидетелем наиболее мощной волны ликвидации кулачества. Обычно утверждается, что этот второй подъем колхозного движения отличался от первого менее насильственным характером или, во всяком случае, вызвал меньшее сопротивление. Опыт предыдущего года был учтен. Наступление велось более систематически. Для организации колхозов создавались инициативные группы или формировались вербовочные бригады. Немногочисленные пока средства механизации были сосредоточены в машинно-тракторных станциях (МТС), управляемых государством и обязанных обслуживать колхозы. Все это смогло до известной степени облегчить положение дел. Однако негативные явления предшествующего года повторились, хотя политические последствия их и не достигли угрожающих размеров февраля 1930 г.
Крестьянин нередко вступал в колхоз, потому что «не оставалось другого выхода». В противном случае он рисковал подвергнуться официальному остракизму: у него могли отнять надел и дать другой участок, менее плодородный и расположенный дальше от дома. В марте 1931 г. было провозглашено, что советская власть считает «союзником» рабочего класса только колхозника, а не крестьянина-единоличника. Перед этим последним, говорилось в постановлении VI съезда Советов СССР, стоит отныне выбор «за или против колхоза». «Бедняк и середняк-единоличник, который помогает кулаку бороться с колхозами и подрывать колхозное строительство, не может быть назван союзником и тем более опорой рабочего класса – он на деле союзник кулака. Лишь тот бедняк и середняк-единоличник продолжает оставаться союзником рабочего класса, кто вместе с рабочим классом помогает строить колхозы, кто поддерживает колхозное движение, кто помогает вести решительную борьбу с кулаком».
И все же наиболее серьезные осложнения начались после мощной волны коллективизации в первой половине 1931 г. Осенью число колхозников почти перестало увеличиваться: в первые месяцы 1932 г. полтора миллиона семей вышли из колхозов в РСФСР, несмотря на опасности, которым они себя подвергали. Успехи, напротив, отмечались в других частях страны. Центральный Комитет партии пересмотрел предыдущие задания в сторону уменьшения и объявил, что «сплошная коллективизация» может считаться осуществленной там, где в колхозы вовлечены не все 100, а 70 % крестьян. В целом по СССР уровень коллективизации стабилизировался в 1932 г. на уровне 61–62 %, что соответствовало примерно 15 млн. дворов. Эти обобщенные показатели скрывали за собой предельное разнообразие обстановки на местах: от главных зернопроизводящих областей, где коллективизация превысила уже 80 %, до районов, где результаты были куда скромнее. Пестрота картины свидетельствовала о том, насколько непрочными были еще новые коллективные хозяйства и насколько сильным сопротивление, на которое они наталкивались.
«Сталинская модель» экономики
Индустриализация удается
Середина 30-х гг. ознаменовалась в СССР великим результатом: индустриализация становилась реальным фактом. Материальные и человеческие затраты оставались очень высокими, диспропорции – тревожно большими, достижения – не всегда соответствующими первоначальным наметкам, но основной итог был неоспоримым. По объему валовой промышленной продукции СССР стал в 1937 г. второй державой в мире; он еще намного отставал от Америки, но опережал любую отдельно взятую европейскую страну. Советская крупная промышленность родилась и, что важнее, действовала. В те самые 30-е гг., когда после великого кризиса экономика капиталистических стран фактически топталась на месте, этот успешный итог вносил изменения в баланс мировых сил. В самом же Советском Союзе он имел целую серию важных последствий в области дальнейшей эволюции социальных структур, экономической географии, организации развивавшихся производительных сил.
Поправки, принятые в 1933–1934 гг., имели с точки зрения достижения этого успеха никак не меньшее значение, чем то колоссальное усилие, которое было предпринято в непосредственно предшествующие годы. Второй пятилетний план, более трезво рассчитанный, не столь отчаянно драматический, как первый, был столь же жизненно важным для индустриализации. Более сбалансированным выглядело то великое напряжение сил, которое предстояло населению страны. Не было попыток сократить срок выполнения плана. Капиталовложения были выше, чем в первой пятилетке, однако на протяжении первых двух лет они направлялись большей частью на завершение уже начатых строек, лишь позже возобновилось в широких масштабах новое промышленное строительство. В строй действующих вступили 4500 крупных предприятий, в числе которых и такие знаменитые, как Уралмаш или аналогичный гигант в Краматорске, могучие заводы заводов, предприятия по производству оборудования для металлургии и других отраслей тяжелой индустрии. По данным советской статистики, в конце пятилетки, в 1937 г., промышленное производство на 120 % превышало уровень 1932 г., то есть выросло более чем в четыре раза по сравнению с 1928 г. В 1937 г. в СССР было выплавлено 17,7 млн. т стали, добыто 128 млн. т угля, 28,5 млн. т нефти, выработано 36 млрд. кВт-ч электроэнергии, произведено 48,5 тыс. металлорежущих станков. Девятью годами раньше соответственно было произведено: 4,2 млн. т стали, 35,5 млн. т угля, 11,6 млн. т нефти, 2 тыс. станков, выработано 5 млрд. кВт-ч электроэнергии. Это не значит, что план был выполнен, как первоначально было задумано. Из числа приведенных данных, например, результаты в области металлургии и машиностроения соответствовали или даже превышали запланированные показатели, между тем как добыча топлива была ниже намеченного уровня. Тем не менее в целом вторая пятилетка была куда удачнее первой: по крайней мере в области тяжелой индустрии итоги соответствовали поставленным целям. Наиболее серьезная перестройка, которую план претерпел в ходе его выполнения, касалась, напротив, легкой промышленности, то есть как раз тех отраслей, которые по проекту, принятому XVII съездом партии, должны были быть поставлены в привилегированное положение. Показатели по всем этим отраслям оказались далеки от намеченных. Отставание их было более или менее сильным (большим в текстильной промышленности, например, меньшим – в пищевой), но общим для всех, так что к концу пятилетки легкая промышленность не только не вышла вперед, как планировалось, но и еще больше отстала по сравнению с тяжелой индустрией, которая, напротив, в целом росла быстрее, чем предусматривалось.
Не исключено, что такого рода фундаментальное изменение плана в ходе его выполнения было результатом внутренней политической борьбы. Главные решения в каждом случае принимались Политбюро. К сожалению, ничего не известно о спорах, которые шли на его заседаниях. Можно выявить лишь те объективные причины, которые способствовали сохранению преимущественного положения тяжелой индустрии, и в первую очередь оборонные усилия, которые оказали на выполнение второй пятилетки большее влияние, чем первой. С 1934 г. бюджетные ассигнования на оборону росли год от года. За пятилетку военная промышленность почти утроила объем выпускаемой продукции, то есть росла быстрее любой другой отрасли; в 1936 г. все ее предприятия, по предложению Сталина, были сосредоточены под руководством специального наркомата. Капиталовложения на ее развитие изымались из других отраслей, которым первоначально предназначались. Примечательно, что производство тракторов, достигшее в 1936 г. внушительной цифры – 113 тыс. штук, год спустя резко упало (до 51 тыс.): вероятно, началась перестройка тракторных заводов для выпуска танков.
Требования, обусловленные нарастанием международной напряженности, еще не объясняют всего. Другой причиной затруднений в легкой промышленности был тяжелый процесс восстановления сельского хозяйства, которое не в состоянии было пока поставлять предприятиям сырье в достаточных количествах. Отставание объяснялось и причинами более общего характера. Рост тяжелой индустрии в значительной мере был обусловлен вступлением в строй предприятий, строительство которых началось в первой пятилетке, а легкая промышленность еще только ожидала новых заводов и фабрик. Между тем предприятия, которые должны были снабдить ее необходимым оборудованием, то и дело отвлекались от выполнения этой задачи постоянным притоком новых, непредусмотренных заказов для армии, для транспорта, для других отраслей тяжелой индустрии. Эти срочные задания выполнялись и перевыполнялись, в то время как заказы для легкой промышленности урезывались, а потом не выполнялись даже и в таком виде.
Здесь следует обратить внимание на другой существенный аспект второго пятилетнего плана. Делалось многое, чтобы ликвидировать или по крайней мере несколько расширить наиболее опасные узкие места экономики, грозившие парализовать все усилия предыдущей пятилетки. Но ликвидировать все такие узкие места не удалось. Большое внимание уделялось добывающей промышленности. В широких масштабах были развернуты геологические изыскания: до 1940 г. они обеспечили необходимыми ресурсами развитие страны во всех областях и выявили необыкновенное богатство природных запасов СССР. Получив реалистический план, химическая промышленность выполнила его, увеличив выпуск продукции примерно в три раза. Помимо черной металлургии, было увеличено производство цветных металлов: золота, меди, алюминия, а также олова, никеля, сурьмы (что касается последних, то их производство впервые было налажено в СССР). Все эти участки ранее отставали. Ради преодоления этого отставания, что было необходимо для успешной работы тяжелой индустрии, вновь было принесено в жертву производство предметов потребления.
Самым серьезным узким местом был транспорт. Его нормальная работа стала поэтому одним из первоочередных, ударных заданий плана. Существенного улучшения удалось добиться только в 1935 г. благодаря сосредоточению финансовых средств, производственных усилий и политической мобилизации. Железные дороги получили новое оборудование, их штаты увеличились. Были предприняты шаги к усилению также других видов транспорта, в частности речного флота; но решающим транспортным средством остались все же железные дороги. Партийные организации на железнодорожном транспорте были поставлены под руководство Политотделов, назначенных сверху. Возглавлять всю транспортную сеть был поставлен Каганович. На новом посту он развил крайне энергичную деятельность, которую отличали также грубость и жестокость, позже вмененные ему в вину не только потому, что не диктовались необходимостью, но и потому, что наносили ущерб делу. В целом транспортная система значительно прогрессировала и смогла обеспечивать перевозки, необходимые для работы всего хозяйственного организма. Тем не менее она осталась относительно отсталым участком народного хозяйства СССР. 60 % пассажирских вагонов, находившихся в эксплуатации накануне войны, были построены до 1914 г.
Благодаря успехам в промышленном развитии СССР достиг значительной степени самообеспечения. В соответствии с требованием, поставленным еще в 1925 г., когда велись споры о «социализме в одной стране», он превратился из импортера в производителя машин. Он стал в состоянии, иначе говоря, поставлять самому себе оборудование, необходимое для быстро растущей промышленности. За границей он мог теперь закупать только прототипы машин или особые установки; в 1937 г. такого рода закупки равнялись 9 % его потребностей. Сокращены были и закупки металлов, поскольку теперь страна могла производить все большее количество металла, и причем как раз тех специальных сплавов, без которых не могли развиваться современное машиностроение и военная промышленность. Куда более скромными стали масштабы заграничных технических консультаций. Если гидростанция на Днепре была построена по американскому проекту, то ГЭС на реке Свирь под Ленинградом была спроектирована советскими специалистами (автором проекта был инженер, позже академик Графтио); ее строительство ознаменовало начало создания целой серии гидроэлектростанций, которые советские инженеры уже самостоятельно возведут на равнинных реках России. В период обострения протекционистских тенденций, отмечавшихся тогда повсюду в мире, экономическая независимость представляла собой важное завоевание.
Советская внешняя торговля претерпела резкое сокращение: с 1643 млн. рублей, высшей за все послереволюционное время точки, достигнутой в 1930 г., ее объем понизился до 477 млн. в 1935 г. и 271 млн. в 1939 г. В мировой торговле на долю СССР приходилось в 1938 г. чуть больше 1 % (по сравнению с 3–4 % в дореволюционное время), несмотря на бурное развитие его национальной экономики за минувшие годы. Такое сокращение объяснялось в основе своей враждебностью окружающего его капиталистического мира; особенно заметно уменьшилась его торговля с Германией. Изоляция имела тем не менее и свои положительные стороны. Расплатившись по полученным ранее кредитам, СССР мог уже не вывозить то зерно, которое было столь необходимо для внутреннего потребления. С другой стороны, впрочем, увеличение добычи золота обеспечивало ему другие средства для оплаты закупок.
На базе достижений второй пятилетки был составлен третий пятилетний план, рассчитанный на период 1938–1942 гг. Он также был обнародован с опозданием, только в марте 1939 г., на XVIII съезде ВКП(б), то есть год спустя после того, как уже должно было начаться его осуществление. Частичная реализация третьей пятилетки потребует отдельного рассмотрения. Дело не только в том, что выполнение плана было прервано гитлеровской агрессией, но также в том, что сам ход его выполнения оказался под воздействием ряда исключительных обстоятельств, важным, но не единственным среди которых было приближение войны. Тем не менее кое-что об идеях этого плана следует сказать уже здесь, ибо эти идеи входят составной частью в общий процесс индустриализации СССР в довоенный период. С принятием третьего пятилетнего плана впервые была практически сформулирована так называемая основная экономическая задача СССР: «…догнать и перегнать также в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны Европы и Соединенные Штаты Америки, окончательно решить эту задачу в течение ближайшего периода времени». В экономическом отношении, объяснил на XVIII съезде Сталин, это значит, что выпуск промышленной продукции нужно оценивать уже не только в абсолютном исчислении, но и на душу населения. В этом смысле СССР еще намного отставал не только от Америки, но и от главных европейских стран: благодаря своим размерам он превзошел эти страны только с точки зрения общего объема промышленного производства. Честолюбивые замыслы добиться ускоренного развития легкой промышленности по сравнению с тяжелой индустрией были окончательно отставлены в сторону: третья пятилетка была задумана как план, отдающий приоритет вооружению, топливу, особым сталям, химии; несмотря на достигнутые успехи, химическая промышленность в СССР продолжала оставаться менее развитой, чем в других странах.
Значение индустриализации для общества
Довоенные пятилетки в целом существенно изменили экономическую географию СССР. Развитие огромной страны не было, да и не могло быть неким единообразным процессом. Старые индустриальные районы сохраняли свою ведущую роль и наибольшую насыщенность промышленными предприятиями, они же поглощали пока и наибольшую долю капиталовложений. Тем не менее перемещение на Восток становилось все более выраженной тенденцией. Непрерывно рос удельный вес Урала: Свердловская и Челябинская области относились теперь к числу наиболее важных промышленных районов. Во второй пятилетке началась и в третьей получила дальнейшее расширение эксплуатация нефтяных месторождений между Волгой и Уралом, в обширном районе, названном «вторым Баку». Поиски и добыча цветных металлов привели промышленность туда, где раньше ее не было вовсе, в частности в Казахстан. Здесь началось освоение угольного бассейна Караганды. Этот небольшой центр за несколько лет превратился в крупный город. Новые предприятия вырастали и в отдаленных от центра зонах, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Географическое распространение промышленности явилось одним из тех факторов, которые наиболее положительно повлияли на национальную политику в СССР. Самостоятельность отдельных республик, конечно, не выросла за годы индустриализации. Происходило, скорее, нечто противоположное. Все они зависели от единого плана и единого бюджета. Все управлялись из Москвы. Деспотические проявления сталинской власти, как признают в ретроспективном плане некоторые советские авторы, могли лишь усугублять эту сторону дела. Тем не менее с точки зрения промышленного развития нерусские республики не только не подвергались дискриминации, но и оказывались в предпочтительном положении всякий раз, когда экономические соображения или другие факторы общего порядка не были тому препятствием. Некоторые из них развивались быстрее, чем остальные части страны. Расходы по бюджету в Казахстане и Киргизии во второй пятилетке были в процентном отношении вдвое более высокими, чем в целом по СССР. Узбекистан и вся Средняя Азия не только выращивали хлопок, который оплачивался более высоко, чем русская пшеница, но и строили фабрики по переработке этого хлопка.
В самой Российской федерации те восточные районы, где возникали новые предприятия, были по большей части областями с преобладанием нерусского населения, например татар или башкир. Хотя начальное ядро персонала новых заводов, как правило, составляли выходцы из старых промышленных областей, вокруг них впервые начинал складываться местный рабочий класс. Совершенно новые идеи и представления прокладывали себе путь на ранее крайне отсталую периферию страны; бывшие окраины теперь активно включались в хозяйственные преобразования огромного размаха и динамизма, сопровождающиеся соответственным расширением возможностей социального продвижения. Подтвержденное Конституцией 1936 г. право отдельных республик на отделение было чисто формальным, как и многие другие принципы, провозглашенные в этом документе; важно отметить, однако, что всеобщая индустриализация содействовала тому, что это право в известной мере становилось анахронизмом.
Начатое индустриальное преобразование старой колониальной окраины России было составной частью того глобального процесса обновления, который продолжался повсюду в стране. Численность населения вновь стала расти и, как показала перепись 1939 г., превысила 170 млн. человек. Жители городов составляли 33 % населения, если в число их включить и жителей тех до недавнего времени просто деревень, которые за несколько лет превратились в малые или средние города. Отток населения из деревень, таким образом, продолжался, хотя и не в столь массовом масштабе, как в первую пятилетку: в 1934 и 1935 гг. в города переселялось 2,5 млн. человек в год.
Число лиц, занятых в народном хозяйстве – как в отраслях материального производства, так и в других секторах, – увеличилось с 22 млн. в 1932 г. до 26,7 млн. в 1937 г., а затем – до 31 млн. в 1940 г. Число занятых в промышленности выросло соответственно с 8 млн. до 10,1 и затем до 11 млн. Рост, таким образом, продолжался, но замедленнее, чем в первой пятилетке. В некоторых других отраслях увеличение было более быстрым: на транспорте, например, число занятых выросло с 2 млн. человек в 1932 г. до 3,5 млн. в 1940 г. Еще более впечатляющий рост отмечался в области образования: численность персонала в системе Наркомпроса за тот же период удвоилась: с 1,3 млн. до 2,7 млн. человек. Также удвоилось число занятых в здравоохранении и научно-исследовательских учреждениях. Эти цифры показывают, что индустриализация по мере своего успеха начинала приносить благотворные плоды не только в виде одного лишь усиления экономического потенциала страны.
Число промышленных рабочих в 1938 г. превысило 8 млн. После застоя, отмечавшегося в наиболее критические годы (1932 и 1933), их ряды вновь стали расти в 1934–1935 гг., когда на заводы и фабрики пришли еще 1 млн. человек. В подавляющем своем большинстве это были по-прежнему жители деревни. Организованный набор посредством прямых контактов между представителями предприятий и крестьянами, состоящими или не состоящими в колхозах, приобрел большее значение. По одному из подсчетов того времени, потребность в дополнительной рабочей силе на протяжении второй пятилетки удовлетворялась за счет следующих источников: около 1,5 млн. молодых рабочих пришли из профучилищ, 1 млн. человек составляли бывшие домохозяйки и другие категории трудовых ресурсов, имевшихся в городах, и почти 2,5 млн. человек пришли из деревень.
Еще в середине второй пятилетки доля молодежи среди рабочих была очень высока: более трети были моложе 23 лет. Затем средний возраст стал повышаться. Во всех сферах занятости – как промышленной, так и иного рода – весьма быстро рос удельный вес женского труда: за годы второй пятилетки работу в народном хозяйстве получили свыше 3 млн. женщин. Тенденция усилилась по мере приближения войны настолько, что в 1939 г. среди работавших в промышленности женщины составляли уже 42 %. Намного сократилась, напротив, численность занятых в строительстве; она стабилизировалась на уровне около 1,5 млн. человек. Дело в том, что на строительных площадках работа велась уже не только с помощью заступов и тачек, как в первые годы индустриализации, но с использованием все большего числа машин и механизмов. Многие строители первой пятилетки определились на постоянную работу на тех самых заводах и фабриках, которые были воздвигнуты их собственными руками.
Рабочие и новая техника
Проблемы, порожденные ускоренным формированием нового пролетариата, не были сняты с повестки дня. Высоким продолжал оставаться процент брака, особенно у рабочих, только-только начавших трудиться на промышленных предприятиях. Частыми были прогулы, опоздания, отсутствовала дисциплина. С 1937 г. на заводах даже начала ощущаться нехватка рабочей силы. В годы третьей пятилетки увеличение числа рабочих достигалось уже с трудом. Это усилило текучесть рабочей силы, устранить которую полностью так и не удалось: в 1939 г. 39 % рабочих трудились на своем предприятии менее года. Трудности, обусловленные всем этим, были столь велики, что для их преодоления понадобился целый комплекс драконовских законов.
Несмотря на многочисленные препятствия, вторая пятилетка ознаменовалась большими успехами в повышении качества труда. Для страны то были годы по-прежнему тяжелой работы. И в эти годы не было недостатка в примерах нечеловечески напряженных, подлинно героических строек, вроде сооружения огромного медеплавильного завода на берегах озера Балхаш, посреди пустыни, куда не было пока даже железнодорожного пути. Большого напряжения требовал и пуск уже построенных предприятий. Но в целом обстановку отличала тенденция к нормализации. Сформулированная вначале задача «стать хозяевами» новых машин и технологии в общем была решена. Производительность труда, по советским подсчетам, выросла на 82 %, то есть более чем вдвое по сравнению с первой пятилеткой. Увеличение выпуска продукции было лишь в меньшей части достигнуто за счет увеличения числа работающих, а в большей – благодаря более эффективному и рентабельному использованию новой техники. В сравнении с годами первого пятилетнего плана картина была, таким образом, прямо противоположной. По существу, именно это подразумевается, когда говорят, что созданная в такой спешке советская индустрия в годы второй пятилетки доказала свою способность функционировать. В действие ее привел рабочий класс, в подавляющем большинстве своем состоявший из только что перебравшихся в город крестьян; для многих из них это означало совершить скачок от сохи к уже довольно развитой машинной технике 30-х гг. нашего столетия (а вовсе не к той технике, которая существовала на Западе многие десятилетия раньше, когда там развернулся процесс индустриализации).
Одним из факторов, способствовавших совершению этого перехода, было знаменитое стахановское движение – одновременно продолжение и качественно новое развитие социалистического соревнования предыдущего этапа. Это движение подготовило благоприятную атмосферу в том смысле, что уже создало в обществе привычку к публичному прославлению отдельных работников, показавших выдающиеся результаты в труде. Но старых его форм было уже недостаточно. Необходимо было стимулировать максимально эффективное использование того машинного оборудования, которое страна приобретала с таким трудом. Многое было предпринято, чтобы улучшить подготовку молодых рабочих. Там, где для этого имелась возможность, их обучали в школах фабрично-заводского ученичества. Но подавляющее большинство приходилось учить прямо на рабочем месте, в ходе самого производственного процесса. Велась кампания за овладение «техминимумом»: на специально устроенном экзамене рабочие должны были продемонстрировать владение наиболее элементарными техническими знаниями. Введенная раньше сдельная оплата получила в 1934–1935 гг. широкое распространение. Применялась и так называемая сдельно-прогрессивная оплата – более высокое и постепенно возрастающее вознаграждение по мере превышения нормы.
В 1935 г. по-прежнему возглавлявший тяжелую индустрию Орджоникидзе был занят как раз поисками путей пересмотра норм, установленных в начале пятилетки на весьма низких уровнях. В этих условиях и развилось новое движение, стимулируемое и питаемое партией, которая даже в этот мучительно трудный период своей истории демонстрировала тем самым немалую способность к инициативе.
В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. донецкий шахтер Алексей Стаханов, поощряемый местной партийной организацией, провел в своей шахте смелый эксперимент. Своим пневматическим отбойным молотком он вырубил 102 т угля, что в 14 раз превышало обычную сменную норму. Секрет заключался в следующем: обычно шахтер рубил уголь, а затем крепил лаву в забое; Стаханов занялся только первой операцией, оставив вторую двум помощникам, которые спустились с ним в шахту. Он доказал тем самым, насколько производительнее может быть отбойный молоток, если использовать его практически без перерывов. На следующий день сообщение об этом было помещено на видном месте в донецкой печати, а затем подхвачено и разнесено по всей стране центральной прессой. Партийная организация Донбасса высоко оценила почин и одобрила вызовы на соревнование между шахтерами. В ходе его дальнейшего развития было доказано, что и результат, достигнутый Стахановым, не предел.
По всей стране началась широкая кампания с целью вызвать аналогичные начинания не только в смежных областях, но и в других отраслях промышленности. Газеты заполнились сообщениями о разных рекордах, поставленных на тех или иных предприятиях. Внезапно знаменитыми стали накануне еще никому не известные Дюканов, Бусыгин, Изотов, Кривонос, Мазай, Евдокия и Мария Виноградовы, не говоря уже о самом Стаханове. В ноябре в Москве собрались на совещание наиболее известные стахановцы страны. На совещании выступили многие из крупнейших партийных руководителей, включая самого Сталина. «Стахановское движение, – сказал он, – представляет будущность нашей индустрии».
Хотя внимание общественности к этому явлению привлекалось путем прославления отдельных героев и их рекордов, глубинное его значение состояло в другом. Достижение Стаханова, как мы видели, в сущности своей было результатом иного разделения труда, что дало возможность лучше использовать потенциальные возможности техники. Аналогичные изменения позволяли достигать поразительных результатов не только в горнодобывающей промышленности. Здесь-то и крылся наиболее ценный элемент начинания. Речь шла о том, прямо заявил Орджоникидзе, чтобы сделать популярным разделение труда на базе новой техники и наглядно показать, какие резервы огромного увеличения производительности труда таятся в соответствующей организации производства. Движение носило поэтому наставительно-воспитательные черты. Требовалось, однако, от необыкновенных подвигов одиночек перейти к такому положению, когда явление получило бы массовый характер, – таков был смысл постановления, принятого Центральным Комитетом в конце 1935 г.
Первые стахановцы прославились и получили весьма высокое вознаграждение. Наиболее известным из них были вручены новые награды, учрежденные Советским государством: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени. Начиная с 1938 г. им стали присваивать самое высокое звание: Герой Социалистического Труда. Многие из них получили назначения на руководящие посты в промышленности. Движение вызвало очень широкие последствия. Оно ознаменовало постепенное повышение норм, опирающееся на стимулы, заложенные в более дифференцированном «веере» зарплаты. Правда, цель достичь технических норм, то есть норм, соответствующих объективным возможностям новой техники, вместо практиковавшихся до этой поры среднестатистических норм, так и не была реализована. Но новые методы труда получили все же широкое распространение: на 1 января 1938 г. четверть всех рабочих считалась стахановцами.
Много речей в те годы было произнесено по поводу того глухого сопротивления, на которое наталкивалось стахановское движение. Действительно, факты противодействия со стороны рабочих имели место, подобно тому, как это было на протяжении первых фаз социалистического соревнования. Менее ясен смысл обвинений, выдвигавшихся тогда в адрес многочисленных руководящих работников. Уже вскоре эти обвинения слились воедино с более широкими сталинскими обличениями целого ряда категорий руководителей промежуточного звена, в лице которых народу были указаны его «враги». В подобных условиях весьма нелегко установить, где кончается консервативное сопротивление стахановцам, как о том официально говорилось, и где начинаются, напротив, более глубокие противоречия, обусловленные теми проблемами, которые стахановские методы порождали, особенно в отраслях, где их применение представляло собой более трудное дело, нежели в угледобыче. Да и сам тот факт, что отдельные труженики или группы тружеников ставились в привилегированное положение, способен был еще вызывать возражения во имя старых эгалитарных идеалов. Именно против них настойчиво обращались своим острием полемические выпады Сталина, подчеркивавшего, что вознаграждение при социализме, по известной формуле Маркса, происходит не по потребностям, «а по той работе, которую он произвел для общества».
Советская торговля
Стахановское, движение и повышение производительности труда были бы невозможны, если бы одновременно не улучшались условия жизни. Та же дифференциация зарплаты мало чем могла бы помочь, если бы не выросла товарная масса. Начиная с 1934 г. прогресс был несомненным. Увеличивалась не только номинальная зарплата как ответ на значительное повышение цен; вновь начала расти и реальная оплата труда: за период с 1932 по 1940 г. (когда она вновь достигла уровня 1928 г.) ее рост составил 30–35 %. К тому же в семьях тем временем увеличилось число работающих, что также способствовало увеличению их доходов.
После принятого в ноябре 1934 г. решения на протяжении года была отменена карточная система. В январе 1935 г. были отменены карточки на хлеб и муку, 1 октября – на другие продовольственные товары, 1 января 1936 г. – на все остальные товары, ранее отпускавшиеся по карточкам. Мероприятие было подготовлено и проведено постепенно. В период наибольшей нехватки всего во время первой пятилетки некоторые рационированные товары были пущены в свободную продажу в нескольких государственных магазинах по так называемым коммерческим ценам, то есть ценам, намного более высоким, чем те, по которым те же предметы приобретались по карточкам. В 1933–1934 гг. такая система была распространена и на продовольственные товары. Отмена карточек повлекла за собой установление новых цен, которые находились между карточными и коммерческими, но ближе ко вторым, чем к первым. Отсюда и необходимое повышение зарплаты.
Большее развитие в этот период получила и система советской торговли. Истребленная во время первой пятилетки частная торговля нашла свое последнее прибежище лишь на колхозных рынках. Что же касается торговли, контролируемой государством, то на первых порах она носила весьма примитивный характер. Магазинов было мало. В тех из них, которые вели открытую торговлю, продавались товары по карточкам и без какого-либо выбора. Другие магазины носили закрытый характер в том смысле, что доступ в них – для приобретения тех же товаров – имели лишь категории с особыми правами: технические специалисты, руководящие работники, иностранцы, рабочие-ударники, премированные специальными талонами и т. д. Имелись, наконец, магазины, в которых торговля велась по коммерческим ценам, а в некоторых случаях – даже на золото и конвертируемую иностранную валюту.
С отменой карточек эта система претерпела изменения. Оставшиеся в руках государства товарные запасы быстро увеличивались. Нужно было организовать их сбыт. Различие было сохранено между государственной и кооперативной торговлей: постановлением от сентября 1935 г. сферы их действия были разграничены таким образом, что первая призвана была действовать в городах, а вторая – в сельской местности. Однако, если отвлечься от такого ведомственного подразделения, разница между двумя торговыми сетями была скорее формальной, потому что и кооперативная торговля носила в большей степени огосударствленный характер, то есть попросту призвана была продавать те товары, которые поступали от государства. По сравнению с собственно государственной это была, пожалуй, просто торговля второго сорта, ибо ее отличали более скудное оборудование и меньший выбор товаров. В 1935 г. на государственную торговлю приходилось 77 % всего торгового оборота в стране.
Начали появляться и распространяться крупные магазины. Их вывески – «Гастроном» или «Универмаг», – в зависимости от того, продавались ли в них продовольственные продукты или потребительские товары, вошли постоянной составной частью в панораму советских городов. Они призваны были служить образцом и подчинялись непосредственно Наркомату торговли, которым руководил предприимчивый Микоян; уже тогда он совершил поездку в Соединенные Штаты для изучения американских методов торговли, поклонником которых был. Тем не менее торговая сеть оставалась бедной: торговых точек не хватало, лишь изредка попадались специализированные магазины, чаще же всего – магазины, в которых торговали всем сразу; в особенности это было правилом для села. Хотя товарные запасы увеличивались и торговля придавала советской улице несколько более оживленный вид, нехватка товаров оставалась неизменно острой, правда не достигая драматической остроты времен первой пятилетки; но в этом находило свое отражение невыполнение программы развития легкой промышленности. После наиболее благоприятной в этом отношении фазы, которая пришлась на 1936–1937 гг., явление в дальнейшем вновь обострилось. В 1940 г. 70–75 % реализуемых через розничную торговлю товаров снова принадлежало к категории остродефицитных и потому распределяемых в централизованном порядке.
В 1934 г. советские люди вступили в полосу возобновившегося роста потребления; это была вместе с тем и полоса ускоренного роста потребностей, обусловленных бурным развитием страны. Прогресс был, и его можно было зафиксировать, но в рамках и на фоне существования, продолжавшего оставаться спартанским. В бюджетах рабочих семей Ленинграда больше половины всех расходов по-прежнему приходилось на продукты питания. Ликвидация карточной системы повлекла за собой резкое сокращение сети общественного питания на предприятиях, да и цены в заводских столовых уже не так выгодно отличались от рыночных, как прежде. Жилищное строительство велось несколько более скорыми темпами, чем в первой пятилетке, но все равно еле поспевало за увеличением численности городского населения. Куда более существенными зато стали социальные льготы, ибо расходы на эти нужды и на удовлетворение культурных потребностей народа выросли за годы второй пятилетки в четыре раза. Школьное образование было бесплатным, медицинское обслуживание – тоже; более ощутимыми сделались пенсии и другие выплаты по социальному страхованию.
Организация народного хозяйства
Эволюция профсоюзов отражала все, что происходило в мире труда. Отражая в высшей степени интересы государства, они по-прежнему охватывали подавляющее большинство трудящихся: в 1937 г. в их рядах насчитывалось 22 млн. человек. В управлении системой социального обеспечения и организации различных форм социалистического соревнования, и в том числе стахановского движения, они обрели наконец главное поприще своей деятельности и, следовательно, свое постоянное место в обществе.
Наряду с этим более ясные черты получила и вся экономическая структура, в которой развились многочисленные характерные особенности, появившиеся в период первого пятилетнего плана. Процесс этот также не был прямолинейным. Корректировка хозяйственной политики, произведенная в ходе составления второго пятилетнего плана, сопровождалась попыткой связать все промышленное производство с более последовательно проводимыми принципами хозрасчета. Началась кампания за то, чтобы и тяжелая индустрия работала без государственных дотаций, превратив в рентабельные все свои предприятия. Кампания началась в конце 1933 г. по инициативе одного из крупнейших металлургических заводов – Макеевского, на юге, – которым руководил тогда энергичный кавказец Гвахария, один из тех раскаявшихся бывших троцкистов, которых Орджоникидзе взял под свою опеку. Макеевский завод первым отказался от правительственных дотаций на основе комплекса мер по снижению себестоимости, призванных служить примером для всей страны. В этой кампании были достигнуты немалые успехи. В 1936 г. была введена новая система оптовых цен, более высоких для тяжелой индустрии, с тем чтобы сделать ее целиком рентабельной и, таким образом, более активно участвующей в процессе накопления. Но в 1938 г. эта группа отраслей в целом снова попала в число убыточных и смогла добиться бездефицитного баланса на протяжении последующих двух лет лишь благодаря дальнейшему увеличению цен на свою продукцию. Несравненно более важным источником накопления оставался «налог с оборота», начислявшийся в основном на цены сельскохозяйственных продуктов и изделий легкой промышленности.
Так сформировалось то, что позже было охарактеризовано как «сталинская модель» экономики. Верно или неверно это определение, факт тот, что именно по этой модели действовала советская экономика при Сталине. Количественные показатели промышленного производства в этой модели обладали четким приоритетом в сравнении с любыми другими соображениями, даже когда предпринимались усилия по улучшению других аспектов производства (качества, себестоимости и т. д.). Понятие планирования расширилось до того, что стало включать в себя не только составление перспективных программ, но и элементы текущего управления. Планом, иначе говоря, стала не только пятилетка, но и та совокупность заданий, которые получало на протяжении года каждое предприятие. Госплан представлял собой орган координации различных отраслевых программ с целью установления баланса между ресурсами, необходимыми для получения требуемых производственных результатов. Сам пятилетний план изменялся на протяжении его осуществления, с тем чтобы обеспечить выполнение «ударных задач», то есть экстренных или непредусмотренных заданий, внезапно приобретавших первоочередной характер. Самостоятельность предприятий была минимальной: сверху им назначались не только те или иные производственные задания с заранее указанными поставщиками и клиентами, но также показатели по отдельным аспектам их деятельности (штаты, зарплата, себестоимость и т. д.), нередко охватывавшие самые мелкие детали. В соответствии с принципом жесткой централизации все предприятия подчинялись определенным наркоматам в лице их главков. Растущие масштабы народного хозяйства вскоре потребовали более дробного подразделения технических наркоматов, начиная с Наркомата тяжелой промышленности: в 1940 г. насчитывался уже 21 наркомат, возникший в результате такого отпочкования.
Рост оборонной мощи
Успех индустриализации повлек за собой, наконец, еще один очень важный в те годы нарастания международной напряженности результат: он создал условия для значительного роста военной мощи СССР. В середине 30-х гг. в организации Советских Вооруженных Сил произошел подлинный качественней сдвиг: если на протяжении всех 20-х гг. их численность оставалась на уровне менее 600 тыс. человек, то еще до конца 1937 г. она повысилась до 1433 тыс. Дело, впрочем, было не только в количественном росте. Начиная с 1935 г. частично действовавшая еще система территориальной милиции была мало-помалу упразднена и заменена системой постоянной кадровой армии; это преобразование было завершено в 1938 г. Конституция 1936 г. установила принцип всеобщей воинской обязанности. Увеличилось число военных академий для формирования высших командных кадров и военных училищ для подготовки офицерского состава: соответственно до 13 и 75 к концу второй пятилетки. Были возрождены ступени воинской иерархии, хотя и с другими наименованиями, чем до революции. Полностью реформированы были и центральные органы командования. Старый Реввоенсовет, рожденный в гражданской войне, был распущен. Возросла, напротив, весомость Наркомата обороны, неизменно возглавлявшегося Ворошиловым, и Генерального штаба под руководством Егорова.
Этим переменам сопутствовало коренное техническое переоснащение Вооруженных Сил. Например, артиллерия, которая была одним из сильных родов войск и в старой царской армии, улучшилась качественно и увеличилась количественно: с 7 тыс. стволов в 1929 г. до 46 тыс. в 1939 г. Самый ощутимый прогресс, однако, был отмечен в области тех видов вооружения – авиации и танков, – которые, находясь во время Первой мировой войны еще на эмбриональной стадии развития, теперь считались воплощением новаторской военной мысли, решающим средством в будущей войне. В 1929 г. они составляли менее 10 % военных средств СССР. Во время первой пятилетки было налажено серийное производство танков, пока еще легких, которые вскоре окажутся устаревшими, но этим был начат процесс совершенствования данного вида военной техники. Нечто аналогичное происходило и в области авиации: самолеты, состоявшие на вооружении в 1929 г., были малочисленными и почти все разведывательными; в 1938 г. при весьма возросшей численности советская авиация состояла уже на 90 % из истребителей и бомбардировщиков. Из 75 военных училищ 18 готовили авиаторов и 9 – танкистов. Главным поборником и вдохновителем такой технической перестройки Вооруженных Сил был Тухачевский, заместитель наркома обороны по военной подготовке и теоретик мобильной войны с использованием новейших моторизованных средств: именно в СССР под его руководством был осуществлен первый опыт оперативного использования парашютно-десантных войск.
Современная по своему техническому оснащению, Красная Армия все более отдалялась от своего первоначального облика, сложившегося в гражданской войне, и все более приобретала черты классических вооруженных сил великой державы. Тем не менее она по-прежнему была сильно политизирована. Не следует забывать, что Сталин рассматривал ее не только как военный механизм, но и как «приводной ремень». Доля коммунистов в армии была выше, чем где бы то ни было: 25,6 % в 1934 г. Полномочия командиров были значительно расширены, а комиссары исчезли; но Главное политуправление армии со своими представителями в каждом подразделении и разветвленной сетью армейских партийных организаций продолжало оставаться важной составной частью системы командования. Возглавлял его Ян Гамарник, политический деятель, бывший в то же время заместителем Ворошилова наравне с Тухачевским. Подготовкой страны к обороне занималась, помимо этого, мощная гражданская военизированная ассоциация – Осоавиахим, насчитывавший свыше 10 млн. членов и обладавший весьма значительными средствами. Главной его задачей была подготовка молодежи к службе в армии и приобщение юношей и девушек к военной технике. Именно в Осоавиахиме, в частности, были проведены первые эксперименты с реактивными двигателями, которые стали прообразом нынешних космических ракет.
С индустриализацией и развитием военной техники сильный импульс получили также научные исследования. Возник целый ряд специализированных институтов. В подавляющем большинстве своем они входили в систему Академии наук, ставшей главным координационным центром научных исследований. У этого старого дореволюционного учреждения была долгая история. Отношения Академии с Советской властью были нелегкими: последние конфликты имели место в начале 30-х гг., когда были предприняты попытки подчинить плановому началу деятельность Академии. Тем не менее к середине десятилетия она превратилась в обширный не только научный, но и административный комплекс, подчиненный непосредственно правительству, но сохранивший целый ряд вольностей и привилегий. Развитие науки получило сильный толчок. Помимо Академии наук возникли также другие специализированные научные учреждения по сельскому хозяйству, медицине, технике и технологии, подчиненные непосредственно отраслевым наркоматам.
Успехи науки и Советской страны в целом в ту пору многократно подчеркивались подвигами и рекордами, поражавшими воображение и возбуждавшими энтузиазм не меньше, чем полет искусственных спутников Земли двумя десятилетиями позже. Начало им положили в 1932 г. попытки проложить морской путь из Мурманска во Владивосток через Арктику. Зимой 1933/34 г. массы людей с замиранием сердца следили за судьбой челюскинцев – экипажа судна, затертого и раздавленного льдами; после нескольких недель пребывания в ледовом лагере они были спасены летчиками. Такой же подъем энтузиазма вызвали несколько лет спустя ошеломительные подвиги советских авиаторов, установленные ими первые мировые рекорды: самым знаменитым явился в 1937 г. беспосадочный перелет Чкалова из Москвы в Америку через Северный полюс.
Все эти эпизоды имели большое символическое значение. Страна рывком продвинулась вперед. Ко всему прочему, она продвинулась по совершенно новому пути, без кредитов и иностранных капиталов, без пружины в виде частной прибыли, но во имя коллективных интересов, хотя и сформулированных и выраженных волей верховной власти. Быстро выросшая экономика находилась целиком в руках государства. К концу второй пятилетки государственной была практически вся промышленность, как крупная, так и средняя и мелкая; государственной была и торговля: оптовая, внешняя и внутренняя. Впрочем, государственным, как вскоре мы убедимся, был также контроль над всеми формами производства, даже не зависящими непосредственно от государства. Прогресс, которого добилась страна, выглядел еще более рельефно на фоне кризиса всего остального мира. Разумеется, Россия и на исходной черте не могла считаться слаборазвитой страной; это можно было сказать самое большее лишь о некоторых ее, правда весьма обширных, частях. Теперь и эти территории были охвачены процессом всеобщего преобразования. Каждый шаг вперед был оплачен дорогой ценой; настолько дорогой, что следы ее еще долго не исчезнут. Но результаты наконец начинали консолидироваться. В историю развития человечества была вписана новая глава, и это добавляло еще один мотив к тем, которые привлекали к СССР такое множество симпатий и внимательных взоров.
Компромисс в деревне. Два новых фактора силы
Колхозный съезд и колхозный Устав
Во второй половине 30-х гг. была доведена до конца и коллективизация. Для социального преобразования страны завершение этого трудного дела было не менее важным фактором, чем создание крупной промышленности. Однако результаты его в силу средств и методов, примененных для их достижения, были отнюдь не положительными. К концу 1932 г. 211 тыс. колхозов объединяли 14,7 млн. крестьянских дворов, что составляло 61,5 % общего их числа. В октябре этот показатель возрос до 71,4 %, в июле 1935 г. – до 83,2, к концу 1937 г. он составил 93 и к середине 1940 г. – 97 %. Непрерывное увеличение процента коллективизации не отражает всей сложности явления, ибо процент этот выведен на основе резко сократившегося числа крестьянских дворов. С 1 января по 1 апреля 1933 г. – решающий период для закрепления достигнутого в процессе коллективизации: число единоличных хозяйств уменьшилось на 4,8 млн. единиц, однако в колхозы вступило лишь 2,1 млн., остальные просто прекратили существование. До начала коллективизации насчитывалось около 25 млн. дворов; к началу 1933 г. их оставалось еще 23,7 млн.; к апрелю 1935 г. – 21 млн. и к концу 1937 г. – меньше 20 млн. В 1940 г. в колхозах числилось 18 661 300 дворов, представлявших без малого 100 % крестьянских хозяйств. Значительное численное уменьшение объяснялось уходом в города, а также – особенно в 1933–1934 гг. – большим сокращением населения в самих деревнях.
Завершению коллективизации способствовали важные элементы компромисса, которые по ходу дела были в нее введены. Возобновление колхозного наступления после тяжелого кризиса зимой 1933/34 г. опиралось на итоги дискуссий по вопросам сельского хозяйства, состоявшихся в Центральном Комитете партии и на совещаниях секретарей обкомов во второй половине 1934 г., то есть в то время, когда всего сильнее было то направление, которое мы условно обозначим как «кировскую тенденцию». Это вовсе не значит, что начиная с какого-то момента вступление в колхозы крестьян, остававшихся вне коллективных хозяйств, сделалось просто делом их доброй воли. На них оказывалось сильное давление: взимались большие налоги, устанавливались более высокие, чем для колхозников, заготовительные нормы, хотя нормы в колхозе были и без того весьма обременительными. Инициатива введения этих мер, как утверждают, исходила лично от Сталина. В то же время в ход были пущены некоторые реальные стимулы и средства убеждения. Даже после вступления в колхоз крестьянину предоставлялось небольшое личное хозяйство – клочок земли и хлев.
По правде говоря, и после катастрофических перегибов зимы 1929/30 г. колхозник сохранял право собственности на маленький участок земли вокруг своего дома, хотя никто толком не знал, в чем оно состоит. В июле 1934 г. на последнем совещании секретарей обкомов, о котором имеются сведения, было решено облечь это право собственности в четкую законодательную форму. Процесс ее выработки продлился несколько месяцев и завершился в феврале 1935 г. на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Съезд утвердил также новый Примерный устав сельскохозяйственной артели, придавший колхозам более определенный юридический статус.
Новому Уставу суждено было целых 35 лет оставаться чем-то вроде основного закона советской деревни. Его статьи гласили: земля остается государственной собственностью, но передается колхозам в вечное пользование; каждый колхозник может располагать для личных нужд участком земли размером от четверти до половины гектара (в некоторых районах до гектара), содержать корову с двумя телятами, одну или двух свиноматок, до десяти овец, неограниченное количество кур и кроликов, до двадцати ульев. Все эти цифры увеличивались, если речь шла о районах, где преобладало скотоводство, а не земледелие.
Второй важнейшей отличительной чертой нового Устава были демократические принципы, которые он закладывал в основу деятельности колхозов как кооперативных предприятий. Высшим руководящим органом колхоза объявлялось общее собрание колхозников, единственно уполномоченное принимать решения по наиболее важным вопросам. Для ведения всей текущей работы собрание выбирало председателя и правление из 5–9 человек в зависимости от размеров артели. Закреплялась организация труда по бригадам, и устанавливались принципы и примерные пропорции распределения коллективного дохода и продукта артели. После покрытия производственных издержек и уплаты налогов от 10 до 20 % денежных доходов предназначалось на расширение так называемых неделимых фондов, то есть достояния колхоза; остальное распределялось между колхозниками в соответствии с выполненной каждым работой.
В работе созванного в феврале 1935 г. Второго съезда колхозников-ударников можно отметить целый ряд конструктивных и интересных элементов. Единственный доклад на съезде был сделан Яковлевым, руководившим теперь сельскохозяйственным отделом ЦК. Докладчик прямо поставил многие существующие в деревне проблемы. Темой, преобладавшей в выступлениях, было личное хозяйство колхозника и размеры этого хозяйства: здесь-то и коренился самый неотложный вопрос.
В прениях выступил Бухарин. Его речь – а это была его последняя речь на большом публичном заседании – встретили «горячими продолжительными аплодисментами» и даже криками «ура». Выступление Бухарина представляло собой страстное напоминание о том историческом пути, который прошла русская деревня, где меньше столетия назад «крестьянин был рабом, вещью, которую помещик мог продавать, менять на борзого щенка или на бочонок с водкой, пороть, отдавать в солдаты, женить и разводить по своему произволу». Оратор высоко оценивал новшества, внесенные новым Уставом: гарантированное колхозам вечное пользование землей как «составную часть этого твердого хозяйственного порядка, социализма»; развитие рыночных отношений и торговли как основу здорового роста экономики; «демократизацию» колхозов путем повышения «роли общего собрания» как предпосылку превращения каждого колхоза в случае войны «в несокрушимую крепость обороны нашей страны» от врага (того врага, которым, по мнению Бухарина, становился фашизм: его обличению была посвящена вторая, не менее страстная половина речи).
В отличие от других Сталин на заседаниях съезда не выступал. Он взял слово лишь в комиссии по редактированию Устава, причем позже разрешил опубликовать из своей речи лишь краткую выдержку, в которой защищал предложение оставить колхознику его «личное хозяйство, небольшое, но личное». Разумеется, Сталин отстаивал это решение как вынужденный компромисс, хотя он ни разу не употребил этого слова, поскольку большинство крестьянства думает пока иначе, чем меньшинство в лице колхозников-ударников, и поскольку колхозы еще не в состоянии удовлетворить «личные нужды» колхозников. Речь шла поэтому о необходимом компромиссе, без которого невозможно было бы добиться «укрепления колхозов».
О том, что дело не сводилось на этот раз к простой пропаганде, свидетельствует хотя бы тот факт, что и в 1932 г. в республиках и областях с нерусским и даже неславянским населением процент коллективизации был ниже. Для преодоления сопротивления местных жителей применялись разнообразные приемы. В Закавказье, например, крестьянам оставили небольшие сады и виноградники. После гибельного опыта начала 30-х гг. еще более осторожной сделалась работа по коллективизации в районах скотоводов и кочевников, в горных районах Кавказа, в Дагестане, Казахстане, Киргизии, Туркмении, на Крайнем Севере. Здесь уже не создавались артели, но старались основать простые трудовые ассоциации типа тозов, оставляя скот в личном владении. Было даже дано согласие на то, чтобы подобные ассоциации образовывались на традиционно племенной основе. За границей был закуплен скот с целью возместить потери животноводам Казахстана. С большей осторожностью стали подходить и к задаче перевода кочевников на оседлый образ жизни.
Правда, с конца 1935 г. и в этих районах началось преобразование более простых коллективных хозяйств в артели. Но процесс на этот раз шел довольно медленно: настолько, что кое-где завершился лишь в 1940 г. (сохранившиеся остатки прежней системы еще давали о себе знать 10–15 лет спустя). С другой стороны, новый Устав позволил колхозникам в этих краях держать больше скота: до 10 лошадей, 8–10 коров, 100–150 овец, 5–8 верблюдов в зависимости от области. Скот сверх этих пределов был куплен колхозами, а не просто коллективизирован.
Облик колхоза
Решения Второго съезда колхозников неравномерно претворялись в жизнь. В 1935 г. с немалой торжественностью начали проводиться церемонии вручения колхозам актов, которыми государство передавало им землю в вечное пользование. Значение этой процедуры состояло в том, чтобы доказать крестьянам, что с коллективизацией они вовсе не потеряли землю, а, напротив, приобрели ее навсегда, правда не в индивидуальное, а в коллективное пользование. Установления, касающиеся небольшого личного хозяйства колхозников, были практически выполнены: с затруднениями и сопротивлением, но выполнены. Не будет преувеличением утверждать, что на этой основе советскому строю удалось победить или по крайней мере нейтрализовать ту широкую враждебность, которую породила коллективизация. Более сложно обстояло дело с внедрением принципа оплаты труда по выполненной работе: его реализация наталкивалась на упорную приверженность крестьянства к эгалитарной идее распределения «по ртам», то есть в соответствии с числом едоков в каждой семье. Наконец, на бумаге остались те нормы демократического управления колхозами, на которые возлагал надежды Бухарин: их выполнение свелось к чистой формальности. Не лучшая участь, впрочем, ожидала и другую дорогую для Бухарина идею: развитие хозяйства на основе рыночных отношений и учета экономических законов.
Здесь необходимо более подробно рассмотреть, что же представлял собой колхоз во второй половине 30-х гг. Всего в стране в 1937 г. насчитывалось 243 700 колхозов, причем в дальнейшем число это уменьшалось, потому что наиболее мелкие хозяйства сливались друг с другом. Каждый возделывал 450–500 га земли и объединял 74–78 дворов, то есть около 320 человек. Из них чуть меньше половины (150–155) признавалось трудоспособными. За этими средними цифрами скрывались весьма значительные различия между хозяйствами: пятая часть колхозов насчитывала менее 30 семей, между тем как более четверти объединяли по 100 с лишним дворов. Число деревень к этому времени несколько сократилось по сравнению с 20-ми гг.: в 1939 г. их было 573 тыс. Проводилась широкая операция по ликвидации хуторов в северо-западных районах и Белоруссии путем переселения их жителей в крупные деревни или поселки. Получалось, таким образом, что в одних местах границы колхозов совпадали с границами деревни или села, а в других (например, в старых казацких станицах) на одно селение приходилось несколько колхозов. С ликвидацией межей и чересполосицы крестьянские поля объединялись, но по размерам своим колхозы оставались предприятиями довольно скромных масштабов.
Работа организовывалась по бригадам, каждая из которых трудилась на одних и тех же полях на протяжении всего сезона. Специальная бригада выделялась на животноводство. В основе системы оплаты труда лежал принцип своеобразной сдельщины: каждый получал вознаграждение в соответствии с числом заработанных трудодней. Трудодень соответствовал не единице времени, а выражал определенное количество выполненного труда: вспашка стольких-то гектаров, уход за столькими-то коровами, заготовка такого-то количества дров и т. д. За год колхозник мог заработать и 600 трудодней. При некоторых своих достоинствах эта система отличалась серьезным недостатком: единица измерения труда никак не была связана с его плодами, которые становились зримыми лишь в момент уборки урожая. Каждую бригаду возглавлял бригадир. Во главе колхоза стоял председатель; формально избираемый, он на самом деле практически назначался районными властями и, хотя по Уставу должен был оставаться на своем посту в течение двух лет, во многих случаях сменялся чаще. Подобная практика, уже осужденная на Втором съезде колхозников в 1935 г., не исчезла и в последующие годы (в частности, потому, что нелегко было находить дельных председателей). Полномочия общего собрания в действительности оказывались более чем скромными. Роль его ограничивалась простым утверждением, зачастую пассивным, решений, принятых в другом месте.
Конституция 1936 г. установила, что в СССР имеется две формы социалистической собственности: государственная (общественная) и кооперативно-колхозная, то есть коллективная, принадлежащая отдельным группам граждан. Эта последняя была представлена в основном колхозами. Указанное различие позже было возведено в ранг классической формулы, но оно лишь в малой степени отражает положение дел в СССР. В Советском Союзе долго велись споры о достоинствах той или иной формы собственности, причем колхозно-кооперативная на протяжении длительного времени рассматривалась как собственность второго сорта. Зависимо-подчиненной была ее роль и на практике. Ко всему прочему, в ней было очень мало от кооператива. Своими средствами производства колхозы владели лишь в минимальной степени. Земля не принадлежала им, а только передавалась в пользование. Земля была государственной. Государственными были и механические орудия труда, целиком сосредоточенные в государственных предприятиях, какими являлись МТС. Число последних все время возрастало: 2446 в 1932 г., 5818 в 1937 г. и 7100 в 1940 г., когда они были уже в состоянии обслужить более 90 % колхозов. С конца 1932 г. даже самые простые машины, находившиеся еще в собственности колхозов, были переданы МТС. У колхозов оставались, следовательно, лишь наиболее простые орудия труда и скот.
Еще существеннее то, что и сама производственная деятельность проводилась в соответствии с решениями, принимаемыми государственными органами, которые находились вне колхозов и стояли над ними. Исходный принцип состоял в том, что и колхозное производство должно охватываться единым государственным народно-хозяйственным планом. Но, не будучи в состоянии добиться этого результата с помощью присущих экономике рычагов (тех самых, о которых говорил Бухарин: цен, кредита, организации рыночных отношений), правительство прибегало просто к администрированию. Уже по самому Уставу колхозы были обязаны принимать «к точному исполнению» вручаемые им планы сева и уборки. На практике дело заходило значительно дальше. Это объяснили советские историки, следующим образом описавшие функционирование системы: «Составление производственных планов колхозов зачастую превращалось в разверстку государственных заданий, полученных из центра. Организация производства колхозов от начальных процессов всего цикла сельскохозяйственных работ вплоть до завершающих операций по сдаче продукции государству была строго регламентирована и централизована. Товарная продукция колхозов все больше поступала в распоряжение государства в порядке обязательной сдачи по низким ценам, а не путем продажи по ценам, обеспечивающим нормальное воспроизводство общественного хозяйства колхозов». Поскольку это влекло за собой, как мы вскоре увидим, также низкую оплату труда в коллективном хозяйстве, неудивительно, что колхозники слабо или вовсе не чувствовали кооперативного характера своих предприятий.
Отставание сельского хозяйства
На селе имелись и государственные предприятия – совхозы. К началу 40-х гг. их насчитывалось 4159, и они наравне с промышленными предприятиями были сгруппированы под началом специального наркомата. Их работники получали зарплату и потому рассматривались советской статистикой не как крестьяне, а как сельскохозяйственные рабочие. Совхозы были, как правило, специализированными хозяйствами в том смысле, что в них преобладал один какой-то тип культуры или направление животноводства. Они владели собственными машинами. История их была далеко не безоблачной. Надежды, первоначально возлагавшиеся Сталиным на гигантские степные «фабрики зерна», не оправдались. Совхозные массивы позже подверглись дроблению, и средняя норма пашни на один совхоз понизилась с 50 тыс. до 23,3 тыс. га. Даже самый знаменитый и служивший как бы эталоном для других совхоз «Гигант» в Ростовской области сократил обрабатываемую площадь со 126 300 до 46 500 га, остальное было поделено между другими шестью государственными хозяйствами. По первоначальным замыслам совхозы призваны были стать образцово-показательными предприятиями в сельском хозяйстве. Нет сомнения, что по сравнению с колхозами они находились в более выгодном положении, получая капиталовложения непосредственно от государства. Вместе с тем нельзя сказать – да этого и не утверждает ныне никто из советских историков, – что совхозы действительно осуществляли авангардную роль. Разумеется, благодаря им были сохранены некоторые имевшие большую важность плантации или ценные породы скота – то, что требовало специального ухода. Однако подлинно образцовыми предприятиями они так и не стали. Рентабельностью они тоже существенно не отличались от колхозов.
Сосредоточенные только в МТС и совхозах, государственные инвестиции в сельское хозяйство были скромными. Соответственно, весьма относительным был и технический прогресс в этой сфере. На этот счет имеются свидетельства иностранных граждан, более чем благожелательно настроенных к Советскому Союзу. Они подтверждаются цифрами и сведениями из официальных источников. Имевшиеся финансовые средства поглощались индустрией.
Наиболее примитивные орудия труда исчезали в деревне. Самая важная перемена к лучшему состояла в распространении машин. Тракторный парк увеличивался особенно во второй пятилетке и значительно меньше в третьей, когда тракторные заводы переводились на производство танков. Число тракторов в сельском хозяйстве выросло со 148 тыс. в 1932 г. до 456 тыс. в 1937-м и 531 тыс. (зачастую, правда, большей мощности) в 1940 г. В 1941 г. имелось также 182 тыс. комбайнов и 228 тыс. грузовиков. Вспашка к этому времени была механизирована на 70–90 % (в зависимости от культуры), а уборка зерновых – на 46 %; все остальные операции оставались целиком ручными. Этому несомненному прогрессу не сопутствовали, однако, ни увеличение производительности труда, ни аналогичное улучшение на других участках. Крайне недостаточно использовалась электроэнергия: электричество в 1940 г. имелось лишь в 4 % колхозов, 36 % МТС и 28 % совхозов. Совершенно неудовлетворительно обстояло дело с химическими удобрениями. Производство их увеличилось с 1 млн. до 3 с лишним млн. г; 8 млн. г планировалось получить уже в первой пятилетке. Шли они исключительно на наиболее важные технические культуры – хлопок и сахарную свеклу, остальные вынуждены были обходиться без удобрений.
Отсталой была система обработки почвы. Во второй половине 30-х гг. были официально одобрены, вслед за чем получили обязательное и догматическое распространение биологические теории Лысенко и агрономические теории академика Вильямса. Достоинства их, как выяснилось впоследствии, были мифическими в первом случае и сомнительными или, во всяком случае, ограниченными – во втором. Но и та, и другая теории обладали одним преимуществом в глазах Сталина и московских руководителей: они, видимо, сулили резкий рост плодородия без внесения удобрений. Так называемая «травопольная система» Вильямса обещала сохранение плодородия с помощью одних лишь соответствующим образом подобранных севооборотов, преимущественно благодаря многолетним травам, исключая обращение к химическим удобрениям. Ни одна из этих двух теорий не устояла бы перед серьезной экспериментальной проверкой и серьезным научным обсуждением. Однако сталинские методы правления не предусматривали подобных дискуссий. Жертвами этих методов пали сами ученые – в первую очередь Вавилов и Тулайков, – которые на заре коллективизации, на XVI партконференции, поднимались на трибуну, чтобы своим авторитетом подкрепить перспективу будущего – передового и ведущегося в соответствии с требованиями науки сельского хозяйства. Лишь многие годы спустя в СССР вынуждены были признать, что теории Вильямса и Лысенко нанесли «огромный ущерб» развитию советского сельскохозяйственного производства как тем, что привели к истощению почв, так и тем, что парализовали поиски более рациональных методов ведения хозяйства.
Застой в сельскохозяйственном производстве
После тяжелого кризиса, порожденного ударной коллективизацией, сельское хозяйство стало проявлять признаки оживления в 1934 г., но положение улучшилось лишь в 1935 г. Преодоление чудовищных трудностей 1932–1933 гг. как раз и представляло собой главный успех новой колхозной системы. Система эта сумела начать действовать. Сокрушенной в ходе битвы, однако, оказалась другая честолюбивая надежда, изначально связанная с замыслом коллективизации: обеспечить новый подъем сельского хозяйства. Во второй половине 30-х гг. выдавались удачные (1935-й и 1940-й) или даже просто отличные (1937-й) по урожайности годы; были и плохие (например, 1936 г.) или, на худой конец, посредственные сезоны. Однако сельскохозяйственное производство оказалось не только по-прежнему уязвимым для капризов погоды, но и, по сути дела, пребывало в застое. Его отставание от промышленности, которое уже в 1928–1929 гг. было признано «чрезмерным», за это время лишь усилилось. Запланированный на вторую и третью пятилетки прирост производства сельскохозяйственной продукции остался полностью неосуществленным: увеличение, полученное в 1940 г., было еще весьма далеко от того, которое намечалось на одну только первую пятилетку.
Самой серьезной продолжала оставаться проблема зерна, ибо его производство по-прежнему составляло основу всего сельского хозяйства. Сталин объявил ее решенной, и на протяжении многих лет это его мнение считалось неоспоримым в СССР. Подобный тезис, правда, противоречил его собственным высказываниям в 1935 г., когда он заявил, что ежегодный сбор зерновых необходимо в ближайшее время довести до 110–130 млн. т. Реальные сборы даже и не приближались к этим показателям. Среднегодовые урожаи во второй пятилетке равнялись 71 млн. т, а в третьей – 77 млн. Урожайность с гектара составляла соответственно 7,1 и 7,7 ц, между тем как планировалось довести ее до 10, а затем до 13 ц/га. (Средняя урожайность в непосредственно предреволюционные годы составляла 3,9 ц/га, в 20-е гг. уже намечалась тенденция к превышению этого уровня.)
Это не означает, что не было вовсе никакого прогресса. Наиболее существенные успехи были достигнуты в возделывании некоторых технических культур, служивших необходимым сырьем для промышленности: хлопка, сахарной свеклы, подсолнечника, чая, который стал широко культивироваться в Грузии. Особое место в этом списке принадлежит хлопку: еще до войны СССР сумел обеспечить себе независимость от импорта хлопка. Правда, на пути к реализации этой задачи были допущены и ошибки, вроде той, например, что хлопок из года в год упрямо пытались выращивать на обширных пространствах европейской части России и Украины, где он в лучшем случае давал смехотворно низкий урожай. Главные усилия, впрочем, были сконцентрированы на Средней Азии – особенно Узбекистане – и некоторых районах Закавказья, где были развернуты крупные работы по строительству ирригационных сооружений. Благодаря этому удалось не только увеличить сбор хлопка (2,5 млн. т против 0,7 млн. т в дореволюционные годы), но и добиться повышения его урожайности и качества. Но не по всем техническим культурам были достигнуты аналогичные успехи. Валовой сбор сахарной свеклы и подсолнечника удвоился за счет значительного расширения площади под посевами, между тем как урожайность оставалась ниже дореволюционной. Что же касается льна, ценной культуры, традиционно выращивавшейся во влажных северо-западных районах России, то отмечалось резкое падение как валовых сборов, так и урожайности.
Больше всего пострадало животноводство. Здесь также в 1935 г. началось некоторое оживление, но потери, вызванные повальным забоем скота в годы интенсивной коллективизации, пока не были восполнены. Еще и в 1940 г. общее поголовье сельскохозяйственного скота – в особенности крупного рогатого – было в СССР заметно меньше, чем в 1928 г., и не достигало дореволюционного уровня. Да и само наметившееся увеличение поголовья было обязано больше индивидуальному хлеву крестьянского двора, нежели колхозным и совхозным общественным фермам.
Для возрождения животноводства колхозников еще с 1934 г. стали поощрять обзаводиться тем минимумом скота, который потом был официально гарантирован Уставом сельскохозяйственной артели. Разведение домашних животных поощрялось также среди членов уцелевших коммун (в свою очередь пониженных до ранга артели), работников совхозов и даже промышленных рабочих, особенно в маленьких городах. Несмотря на жесткие ограничения индивидуальной собственности, поголовье скота в частном владении на протяжении всех довоенных лет было больше, чем общественное (4:1 по крупному рогатому скоту), и продолжало быстро увеличиваться. Произведенные колхозами мясо, молоко, яйца, шерсть составляли лишь ничтожно малый процент в общем потреблении этих продуктов. Поэтому не будет ошибкой утверждать, что коллективизация, по крайней мере в этот период, удалась в области обобществления земли, которая почти вся перешла в коллективное владение, но не состоялась в области животноводства, которое в преобладающей своей части осталось частным. В этом заключался один из самых важных аспектов компромисса, достигнутого в деревне.
Дань села
По крайней мере по одному пункту коллективизация все же изменила экономическое положение страны. В производстве сельскохозяйственной продукции, даже не обнаружившем роста, принимало участие теперь меньше работников, а объем продукции, предназначенной для потребления за пределами деревни, увеличился. Рост этот был настолько значителен, что некоторые историки, суммируя оба эти явления, сочли возможным даже утверждать, что если в 20-е гг. каждый сельский труженик кормил, помимо себя самого, только еще одного человека, то накануне войны он кормил уже четырех своих сограждан. Речь идет как раз о том явлении, которое советские авторы именовали ростом «товарной продукции» и на которое с особым тщеславием упирал Сталин, доказывая полный успех коллективизации. Термин «товарная», однако, весьма мало подходит в этом случае. В самом деле, колхозная продукция не продавалась по эквивалентным ценам, а скорее силою власти перекачивалась в государственные закрома по разным каналам, наиболее важными среди которых продолжали оставаться обязательные поставки и натуроплата МТС.
Производство зерна не превысило прежнего уровня, но зато непрерывно возрастала часть, изымавшаяся государством. В 20-е гг. правительство с трудом добивалось получения 10–11 млн. т хлеба. К концу первой пятилетки ему удавалось, правда ценой конфликта с самими колхозами, заготовлять вдвое больше. Во второй пятилетке, когда колхозы были уже под надежным контролем, среднегодовой объем заготовок повысился до 27,5 млн. т, затем в третьей пятилетке увеличился до 32 млн. т и наконец достиг высшего предела – 36,4 млн. т в 1940 г., в самый канун войны. Так же обстояло дело с заготовками других продуктов земледелия. Реальные же цены, по которым государство оплачивало эту продукцию, становились все более низкими; если исключить 10 % повышения в 1935 г., они оставались по-прежнему на уровне 1928 г., между тем как общий индекс цен в стране за это время повысился в 5,3 раза к концу 1937 г. и в 6,3 раза – к концу 1940 г.
Советские историки писали позже о «символических» ценах, далеко не возмещавших коллективным хозяйствам даже основных издержек производства. Например, цены на сахарную свеклу были чуть выше затрат на одну лишь транспортировку урожая с полей на заготовительные пункты; ничего удивительного поэтому не было в том, что сборы свеклы с одного гектара не росли даже при внесении удобрений. У колхозов не было никакой заинтересованности в увеличении производства продукции. Районные власти указывали им, сколько гектаров и какими культурами они должны засеять, и колхозы обязаны были исполнять это. Что же касается их денежных доходов, то они сразу начинали расти, как только хозяйствам удавалось завести какое-нибудь подсобное производство, не предусмотренное планами заготовок.
Размеры поставок по-прежнему устанавливались на базе так называемого биологического урожая, то есть по оценке урожая до начала жатвы. Таким образом, колхозы жили под бременем постоянного сильного нажима. Самым лучшим из них приходилось к тому же сдавать дополнительное количество продукции, компенсируя недовыполнение плана поставок более слабыми хозяйствами; делалось это по настоянию районных властей, озабоченных реализацией полученных сверху заданий. Для улучшения положения дел в хозяйствах требовалась совсем иная система. Это доказывает пример с хлопком. В 1935 г., когда решено было резко увеличить его производство, заготовительные цены на хлопок повысили почти в четыре раза: сборы в хлопководческих республиках сразу же подскочили вверх. С той поры колхозы в Средней Азии, например узбекские или таджикские, развивались гораздо успешнее, чем колхозы в русской или украинской деревне, в чем также находила отражение последовательность советской национальной политики, исключающей дискриминацию.
Низкие заготовительные цены были той данью, которую село платило индустриализации; цены служили инструментом «перераспределения национального дохода в пользу промышленности». Если в первую пятилетку сельское хозяйство представляло собой относительно скромный источник накопления, то начиная со второго пятилетия его вклад приобрел решающий характер. Налог с оборота был главной статьей доходов государства – той, которая питала большую часть капиталовложений. В значительной мере поступления от этого налога обеспечивались продуктами сельского хозяйства. Главным налогоплательщиком в стране стало Заготзерно: в 1935 г. оно одно внесло в казну свыше 20 млрд. руб. из общей массы налоговых поступлений в 52 млрд. Центнер пшеничной муки продавался населению по цене 216 руб., а колхозу оплачивался по цене 10 руб. 10 коп.: 195 руб. 50 коп. изымались в форме налога. Килограмм говядины, за который производителю выплачивалось от 21 до 55 коп., поступал в розничную продажу по цене 7 руб. 60 коп.; за литр молока соответственно 9–14 коп. и 1–1,5 руб. Подобные жертвы диктовались, по-видимому, потребностями индустрии. Расчет, однако, был иллюзорно выгодным, ибо низкие заготовительные цены тормозили сельскохозяйственное производство и тем самым препятствовали расширенному накоплению. Уже в 30-е гг. сталинская политика в этой области попала в порочный круг.
Имелись в ту пору и отдельные колхозы, которым удавалось добиться неплохих результатов. Их часто ставили в пример. Но число таких колхозов было еще незначительно, а их успехи не могли изменить общей картины неудовлетворительного состояния колхозного земледелия. С точки зрения экономического состояния между одним колхозом и другим существовали значительные различия. Некоторые оказывались в более выгодном положении: причиной тому могли быть близость крупного города с рынками, возможность выполнения хорошо оплачиваемой работы, пусть даже и не земледельческого характера, наконец, просто более плодородные почвы. В общем и целом, впрочем, это не меняло облика деревни. Как утверждали советские экономисты, и в те годы продолжался рост общественного достояния колхозов, их неделимых фондов, в которые они были обязаны отчислять часть своих доходов. Даже если это и было так, речь шла об очень незначительном росте; а поскольку изначально колхозы находились на очень низком уровне, трудно было почувствовать сколько-нибудь реальный прогресс.
Крестьянин, его огород и двор
Плохое состояние дел отражалось на доходах колхозников. В 1937–1938 гг. произведенная в колхозе продукция делилась примерно в следующих пропорциях: треть шла в счет разных обязательств государству, треть – на производственные нужды самого колхоза (корм скоту, семена и т. д.) и около четверти распределялось между колхозниками по заработанным трудодням. Что касается денежных доходов, то 20 % расходовалось на покрытие производственных издержек хозяйства и в среднем 14 % – на внутреннее накопление. По уплате налогов около 45 % дохода распределялось между колхозниками.
Заработки работающего в колхозе крестьянина могли варьироваться в значительных пределах от колхоза к колхозу. Средние цифры, как те, что публиковались в описываемые годы, так и те, которые подсчитаны советскими историками, являются довольно приблизительными. Из них явствует тем не менее, что колхозник получал на трудодень в 1937 г. (наиболее урожайном) в среднем 4 кг зерна, а в другие годы – около 2 кг. Другого рода продуктов распределялось весьма мало. В основном труд оплачивался зерном. Выдавалось и денежное вознаграждение, но минимальное: в среднем оно ни разу не достигало рубля на трудодень. Денежный годовой заработок колхозной семьи, как утверждается, вырос со 108 руб. в 1932 г. до 376 руб. в 1937 г., когда средний годовой заработок городских трудящихся превышал 3000 руб. Но и эти цифры мало о чем говорят: были и такие хозяйства, где на трудодень не выдавали ни копейки. Крестьянин, таким образом, был поставлен в такое положение, когда он мог ждать от колхоза в лучшем случае хлеба, но не денег: денег давали мало и не всегда. Суммируя натуральную оплату и денежную, крестьянин констатировал, что итог получается мизерный. Это, в свою очередь, побуждало его, если возможно, заниматься деятельностью другого рода или уж, во всяком случае, отдавать максимум энергии оставшемуся у него маленькому личному хозяйству.
Чтобы составить себе представление о значимости явления, необходимо напомнить, что представляло собой колхозное крестьянство во второй половине 30-х гг. По переписи 1939 г., в сельской местности в СССР проживало около 115 млн. человек по сравнению с 56 млн., проживавшими в городах. Из этих 115 млн. 67 % жили в колхозах, причем 27 % составляли рабочие и служащие (в категорию рабочих в данном случае включаются работники совхозов), 3,6 – крестьяне и кустари-единоличники, 2,4 % – коллективизированные кустари. Колхозников было около 75 млн. человек, из которых 35,5 млн. – в трудоспособном возрасте (от 16 до 59 лет): в составе советского общества они были не только наиболее многочисленной, чем любая другая, но и самой четко очерченной социальной группой. Четко очерченной, но не однородной, как не было однородным сельское население в целом. В преобладающей части своей – 90 % – колхозники занимались ручным и малоквалифицированным трудом. Правда, в результате усилий государства по подготовке крестьян к управлению машинной техникой появилась новая для советской деревни фигура – механизатор, то есть, как правило, тракторист или комбайнер. Механизаторы составляли чуть больше 7 %, что означало как-никак 2,5 млн. человек. Если они работали в МТС, то, в отличие от простых колхозников, пользовались правом на минимальную гарантированную зарплату. Но именно потому, что моторы для них уже были не в диковинку, многие из них стали уезжать в город. Еще около миллиона человек принадлежали к слою колхозного руководства, включавшего наряду с председателем бригадиров и специалистов, если таковые имелись, что пока было редкостью.
За внешним однообразием советская деревня представляла собой мир в процессе преобразования, полный противоречий и испытывающий на себе одновременно притягательные импульсы и многообразное давление со стороны переживающего индустриализацию города. Эта притягательная сила и это давление были тем более мощными, что заработок в колхозе был крайне мал. Колхозник, правда, не мог уйти по собственной воле, ибо введенная в 1932 г. паспортная система обязывала его заручиться предварительным разрешением колхозного правления. Развитие индустрии пробивало, впрочем, неизбежные бреши в этой системе. В 1938 г., например, около 4 млн. колхозников числились в «отходниках», то есть были заняты на сезонных работах вне колхозов. С другой стороны, городские «колхозные рынки», на которых как колхозники, так и неколхозники могли продавать по свободным ценам излишки имеющихся у них сельскохозяйственных продуктов, открывали выход для продукции индивидуального огорода и индивидуального скотного двора. В количественном отношении это были ничтожно малые величины, но, учитывая сохранявшиеся масштабы неудовлетворенного спроса, цены на эти продукты оставались весьма высокими, намного выше тех, которые государство запрашивало в своих магазинах с надбавкой на «налог с оборота». Вот почему для многих крестьян рынок стал главным источником дохода.
Теоретически оставленное колхознику небольшое личное хозяйство должно было носить исключительно подсобный характер: его крошечные размеры уже сами по себе, по-видимому, не допускали иных предположений. Но такая постановка вопроса зачастую затушевывала то экономическое значение, которое надолго сохранило это мельчайшее хозяйство и которое никак нельзя назвать ничтожным. В 1937 г. это мельчайшее хозяйство обеспечивало 40 % национального дохода, созданного в сельском хозяйстве, и давало от половины до двух третей всей продукции животноводства. Колхозные рынки в городах – где продавцами выступали исключительно крестьяне, ибо колхозы еще не в состоянии были использовать их прилавки, – покрывали 20 % всей розничной торговли продовольственными товарами; доля эта повысится до 30 %, если брать в расчет только сельскохозяйственную продукцию, не прошедшую промышленной обработки. На своем маленьком приусадебном участке колхозник разводил огород или сад, злаки или технические культуры здесь почти не возделывались; главное же место занимали картофель (свыше 41 % всех площадей под картофелем в стране принадлежало к категории индивидуальных участков), овощи, плодовые и ягодные растения. Получаемое в колхозе зерно использовалось колхозником для собственного питания и в качестве фуража, остальное шло на рынок. Если в крупных городах, вроде Москвы или Ленинграда, доставляемые колхозниками продукты составляли важную, но все же меньшую часть продовольствия, то в некоторых небольших городах, особенно на юге, положение выглядело иначе. У колхозников, в частности, приобреталось мясо и молоко.
С политической точки зрения компромисс, заключенный с деревней, был жизненно необходим после жесточайших столкновений в ходе массовой коллективизации в начале 30-х гг. Вместе с тем с точки зрения экономических законов он был малорационален. В самом деле, крестьянин был заинтересован в том, чтобы сосредоточить максимум усилий на мельчайшем участке обрабатываемой земли и минимальных сельскохозяйственных ресурсах, и вынужден был тратить много времени, чтобы доставить на рынок и реализовать там те немногие продукты, которые он производил в индивидуальном порядке. Он охотно отправлялся в город еще и потому, что с большей легкостью мог приобрести там те промышленные изделия, которые из-за слабого развития торговой сети на селе не доходили до него. Из этих противоречий – а аграрная политика Сталина так и осталась в их плену – рождался целый ряд нелегких проблем.
Так же как среди рабочих, власти старались повысить трудовое рвение колхозников с помощью соревнования, присуждения почетных титулов и развития движения, сходного со стахановским. Поскольку рабочих рук на селе не хватало, поощрялся труд женщин. Привлечение женщин ко всем видам трудовой деятельности, чему способствовал прежде всего спрос на рабочую силу в городах, на промышленных предприятиях, представляло собой одно из самых значительных социальных явлений в СССР 30-х гг. Неслучайно самым знаменитым, пожалуй, представителем ударников на селе была именно женщина – Прасковья Ангелина. Она первой научилась водить трактор и затем убедила подруг последовать ее примеру. Однако из-за слабости реальных экономических стимулов соревнование дало в деревне скудные плоды, не сопоставимые с результатами, полученными в промышленности.
Борьба вокруг создания колхозов утихла. Юридически выход из колхоза допускался, но на практике это значило поставить себя в невозможные условия существования. Камнем преткновения сделалось, скорее, стремление расширить возможно больше крошечный личный участок и сократить до минимума работу в колхозе. Следует остерегаться, естественно, поспешных обобщений, но масштабы явления были более чем внушительными. В 1937 г. более 13 млн. колхозников трудоспособного возраста, то есть более трети общего их числа, либо совсем не работали в колхозе, либо вырабатывали менее 50 трудодней в год, иначе говоря, работали лишь месяц или менее месяца за год (1 трудодень в переводе на рабочие часы в среднем равнялся 1,27 рабочего дня). Еще 6 млн. вырабатывали от 50 до 100 трудодней; таким образом, значительно больше половины колхозников принимали в делах общественного хозяйства ничтожно малое участие (удовлетворительной нормой считалось 200 трудодней в год). В 1938 г. положение не улучшилось: даже в июле, то есть в момент наиболее напряженных полевых работ, 22,4 % колхозников не принимали участия в коллективном труде. В подавляющем большинстве своем это были женщины, на которых как раз и падали заботы по ведению личного хозяйства. Одновременно отмечалась повсеместно тенденция к расширению приусадебных участков сверх положенных пределов.
В мае 1939 г. после сурового вмешательства Центрального Комитета партии положение было отчасти исправлено. По постановлению ЦК был проведен новый обмер всех индивидуальных участков для выявления и изъятия излишков земли у тех, чьи наделы по размерам превышали установленные нормы: колхозами были отторгнуты у частных лиц 2,5 млн. га. Сверх того, было установлено, что не могут считаться членами колхозов и, следовательно, сохранять право на приусадебный участок те семьи, члены которых не вырабатывают минимума трудодней (минимум равнялся 60, 80 или 100 трудодням, в зависимости от области). По этим же причинам были ликвидированы хутора. В той же резолюции ЦК постановлялось созвать осенью 1939 г. Третий съезд колхозников для внесения новых изменений в Устав сельскохозяйственной артели. В отличие от других решений это так и не было выполнено.
Неудовлетворительное положение дел в советском сельском хозяйстве 30-х гг. – а оно продлится много лет, вплоть до послевоенного времени, – многократно приводилось в публицистике как пример, подтверждающий абсолютную неизбежность провала идеи коллективного труда в сельском хозяйстве. В задачу данной работы не входит всестороннее рассмотрение проблемы социалистического коллективизма в деревне. Единственное замечание, которое представляется правомерным сделать в этой связи, состоит в том, что советский опыт 30-х гг. отмечен исключительными и слишком драматическими чертами, чтобы служить безоговорочным доказательством в этом споре. Слишком слабой была экономическая и техническая база, на которой проводилась коллективизация; слишком судорожным и бескомпромиссным было ее практическое осуществление; слишком тяжким – бремя, которое продолжало тяготеть над деревней и после создания коллективных хозяйств. В подобных условиях результаты вряд ли могли оказаться более благоприятными, чем те, что были получены.
Что же касается истории СССР, то одного этого вывода будет недостаточно. В самом деле, благодаря коллективизации Советское государство обрело два новых и важных фактора силы. Теперь оно могло ежегодно располагать крупными количествами сельскохозяйственной продукции, в первую очередь хлебом и сырьем для промышленности. Для удовлетворения всех потребностей этого количества было пока недостаточно. Тем не менее при сокращении потребления теперь оказывалось возможным накормить города, армию, снабдить заводы и фабрики и – особенно в урожайные годы, такие как 1937 и 1940, – создать необходимые запасы.
С помощью колхозов была достигнута такая «железная» степень унификации страны, о какой не могло даже мечтать старое российское государство. Из края в край необъятной территории, с ее бесчисленными деревнями и селами, где ранее сосуществовали самые различные производственные уклады, была «насаждена» (по сталинскому выражению) единая для всех социальная структура. Разумеется, ей присущи были различия, варьировавшиеся в зависимости от района и особенно заметные в неевропейских окраинных частях страны; однако речь шла не о существенных различиях. Один и тот же способ производства был внедрен на равнинах древней Московии, на бывших землях казачества, в украинских степях, в среднеазиатских оазисах и в тундре Крайнего Севера, среди племен охотников и скотоводов, пасущих стада северных оленей. Все и всякие предшествующие социальные формации были сметены прочь. В целях большей унификации было задумано и территориально-административное деление страны; достижению этой цели, впрочем, гораздо больше способствовало радикальное преобразование деревни по единому, в сущности, образцу.
Самые глубинные различия, сохранявшиеся между разными нациями, были в результате этого серьезно поколеблены и до известной степени притуплены.
Сталинизм. Национальные мотивы
Вождь и народ
С 1938 г. власть Сталина сделалась безграничной. Уничтожены были, иначе говоря, все препятствия к прямой связи между вождем и народом, которую он использовал как орудие борьбы с руководящим слоем партии и как миф, способный зарубцевать разрывы в социальной ткани общества, вызванные конфликтами начала 30-х гг. Один советский писатель, который смотрит на Сталина отнюдь не с осуждением, описал его размышления, должно быть, довольно достоверно: «Был народ, и был его вождь Сталин… который знает, что нужно народу, по какому пути должен идти народ и что на этом пути совершить. Даже ближайших своих соратников он рассматривал прежде всего как посредников, главная задача которых состоит в том, чтобы неустанно разъяснять партии и народу то, что было высказано им, Сталиным, проводить в жизнь его указания».
Изображение в точности соответствует реальному положению вещей. Переменилась и сама связь между Сталиным и другими руководителями, какими бы испытанными сталинистами они ни были. В марте 1939 г. в Москве состоялся XVIII съезд ВКП(б). Вместе со Сталиным в Политбюро вошли Молотов, Каганович, Андреев, Ворошилов, Жданов, Калинин, Микоян, Хрущев плюс Берия и Шверник как кандидаты. В Секретариат вошли Сталин, Андреев, Жданов и Маленков. Получилось, иначе говоря, сочетание новых имен с несколькими уцелевшими деятелями прежней сталинской фракции. Но отношения между Сталиным и прочими были именно отношениями вождя с исполнителями. Вследствие этого все остальные выглядели, словно на одно лицо. Совершенно невозможно приписать одному из них сколько-нибудь реальное превосходство перед другими. Иные, вроде Молотова, к примеру, пользовались, быть может, большей известностью, так как дольше находились на политической сцене; но их позиция от этого не становилась более прочной. Даже Каганович и то частично утратил свое значение. Все знали, что в архивах НКВД на каждого из них заведено досье с обвинениями. У некоторых были арестованы самые близкие родственники, например жена Калинина; вскоре такая участь постигла и других. Каждое слово Сталина было законом для всех них.
Новая интеллигенция
Но то была лишь одна сторона советской действительности. Другой продолжало оставаться коренное преобразование страны, самоотверженный труд народа, рост могущества государства, расширение его промышленного потенциала. Одним из наиболее крупных завоеваний в этих условиях было по-прежнему распространение образования. По переписи 1939 г., неграмотность в СССР оказалась ниже 18 % и была почти полностью ликвидирована среди лиц в возрасте до 50 лет. Более высокий процент неграмотности – около 30 – отмечался еще в республиках Средней Азии, однако, если учесть, что исходный уровень здесь был близок к нулю, результат этот выглядел даже более блестящим, нежели в среднем по стране. Развитие системы просвещения шло по нарастающей на протяжении второй и третьей пятилеток благодаря значительному увеличению капиталовложений; особенно чувствительным оно стало начиная с 1935 г, то есть как только успех индустриализации в целом позволил стране хоть немного перевести дыхание. Относительно более высокими были ассигнования на школу в отсталых национальных районах. В 1937 г. было осуществлено всеобщее обязательное начальное образование. Уже в 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) смог поставить целью продление всеобщего обязательного образования с четырех до семи лет на основе единой для всей страны системы. Продолжались в то же время и усилия по обучению взрослых. Если в 1928 г. на тысячу жителей насчитывалось 84 человека, охваченных теми или иными видами обучения, то в 1939 г. пропорция составляла уже 185 на тысячу, то есть учебой была охвачена уже без малого пятая часть населения.
Большое развитие получила также система специального среднего и высшего образования. Основой первого были техникумы, готовившие специалистов среднего уровня. Что же касается высшей школы, то она переживала не только период роста, но и период все большей специализации. Главенствующей заботой в первой пятилетке была подготовка инженеров для новых предприятий. Позже наряду с быстрым ростом технических и политехнических институтов стали развиваться университеты и педагогические вузы. В учебном 1937/38 г. насчитывалось уже более полумиллиона студентов. Спрос на высококвалифицированный персонал рос не только в сфере экономики. За первую и вторую пятилетки расходы на научные исследования увеличились в 3,5 раза: требовалось, следовательно, большее число научных работников. С 1936 г. были отменены ограничения на прием в вузы в связи с социальным происхождением.
Так же как в хозяйственном отношении, в развитии среднего и высшего образования не было никакой дискриминации нерусских национальностей. Наоборот, по всем колониальным окраинам, где до революции не существовало учебных заведений университетского уровня, возникли и стали множиться вузы. В этом состоял важный элемент новизны. В то время как уже преследовались все истинные или вымышленные проявления национализма, обеспечивался и рост местной интеллигенции, она поощрялась к включению в общее движение страны по пути прогресса.
В период 1937–1940 гг. началось широкое распространение славянского алфавита среди неславянских народностей. Ранее, в 20-е гг., предпочтение отдавалось латинскому шрифту: в этом отражалась тенденция рассматривать развитие народов СССР как часть всемирного революционного процесса, близкого к победоносному завершению. Такой шрифт получили как те народы, которые отказались от прежних форм письменности (например, от арабской в Азербайджане), так и те, которые получили письменность впервые за всю историю существования своих устных языков (например, казахи). Во второй половине 30-х гг. и те, и другие перешли на славянский алфавит, исключение составили те народы, которые, подобно грузинам, неизменно сохраняли свой собственный традиционный алфавит. Интеллектуальное развитие отдельных народов, иначе говоря, теперь рассматривалось в основном в рамках Советского Союза, то есть в том комплексе, где стержнем служила более развитая русская культура; русский язык, кстати говоря, повсюду преобладал в системе высшего образования.
Расширение системы образования на разных уровнях с последующим выдвижением кадров привело к формированию советской интеллигенции. В 1939 г. Молотов определил ее численность в 9,6 млн. человек. В это число, правда, были включены довольно разнородные профессии: рядом с инженерами или преподавателями соседствовали медицинские сестры или счетоводы. Но даже при некотором «усечении» слой этот оставался весьма многочисленным. Очевидное большинство в нем составляли технические специалисты. Несколько труднее установить, какую часть составляла интеллигенция собственно советской формации. На протяжении двух первых пятилеток из специальных средних и высших учебных заведений вышло около 1,5 млн. дипломированных специалистов. Но слой новых кадров не ограничивался ими, поскольку в него входили также работники-практики или активисты-общественники, выдвинувшиеся другими путями. Следует учитывать, например, что среди самих секретарей райкомов, которые, бесспорно, входили в этот слой, в 1939 г. менее 29 % получили среднее или высшее образование. Таким образом, если согласиться признать 9,6 млн. человек, названных Молотовым интеллигенцией, как единый социальный слой, то нужно, по крайней мере, оговориться, что слой этот был весьма пестрым по уровню образования, происхождению, характеру труда и национальному составу.
Тем не менее, по словам Сталина, в целом речь шла просто о «новой, народной, социалистической интеллигенции, в корне отличающейся от старой, буржуазной интеллигенции» и составляющей «плоть от плоти и кровь от крови нашего народа».
Сталинские кадры
Репрессии 1937–1938 гг. причинили СССР громадный вред. Советская критика Сталина после его смерти была настолько недвусмысленной по этому вопросу, что для сомнений не остается места. «Наше движение к социализму и подготовка страны к обороне, – сказал Хрущев в 1956 г., – были бы более успешными, если бы кадры партии не понесли столь тяжелых потерь в результате необоснованных и неоправданных массовых репрессий». Жертвами, даже когда речь шла об участниках гражданской войны, были, как правило, люди 40–50-летнего возраста: как бы тяжело ни отразились на них суровые битвы предыдущих лет, они оставались еще полноценными работниками, не говоря уже о том, что за их плечами был большой опыт. Если отрицательные последствия сказались во всех областях жизни общества, то наиболее тяжкими они были в экономике и Вооруженных Силах – там, где репрессии косили, как чума. Уже в 1937 г. темпы роста промышленного производства и национального дохода резко снизились. Не лучше дело обстояло и в последующие годы. Из 151 директора металлургических заводов 117 исчезли.
То же произошло в химической промышленности. В 1939 г. и даже еще в 1940 г. руководящие посты почти повсюду были заняты работниками, которые пришли на эти должности не более года-двух назад: нередко это была молодежь, окончившая вузы в 1933–1934 гг. Их неопытность давала знать о себе на каждом шагу; ко всему прочему за первую же ошибку или упущение молодые руководители расплачивались если не арестом, то снятием с работы.
Как невосполнимые были расценены потери, нанесенные Вооруженным Силам как раз в самый ответственный момент их развития в преддверии войны. Уже в 1937 г. 60 % командирских должностей в пехоте, 40 – в бронетанковых частях и 25 % – в авиации было занято новичками. Еще более тревожный характер нехватка опытных командиров приобрела в последующие годы в связи с ростом численности армии: лишь немногие обладали подготовкой, соответствовавшей занимаемой должности. Подобные факты не оставляют камня на камне от выдвигавшегося позже в различных формах предположения, будто целью сталинских репрессий была подготовка страны к надвигавшейся уже войне, попытка сделать ее более сплоченной. На самом деле репрессии ослабили СССР до такой степени, что грозили поставить его на край гибели.
Достаточно одного типичного примера. Выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев, уже тогда бывший светилом первой величины советской авиации, в довоенные годы был арестован и, находясь в заключении, проектировал самолеты, с помощью которых СССР потом вел борьбу с нацистами. Вместе с ним в неволе работали многие из тех, чьи имена сейчас составляют славу советской науки, и в том числе будущий академик Сергей Королев, который впоследствии прославился на весь мир как создатель космических ракет, или, если обратиться к имени, более близкому итальянцам, Роберто Бартини, крупный инженер-конструктор, бежавший из фашистской Италии и обладавший немалыми заслугами в деле развития советской авиации. То, что и в подобных условиях эти люди создавали и осуществляли свои проекты, представляет собой тему, достойную многих размышлений. Но неотступным остается вопрос: насколько же более плодотворным был бы их труд в иных условиях?
И все же, констатируя всю тяжесть понесенного ущерба, нельзя не поразиться другому явлению: сколь бы обширными ни были образовавшиеся пустоты, они заполнялись. Истребление прежних руководителей повлекло за собой отставание и кризисные ситуации, но, несмотря ни на что, нашлись новые работники. Иногда возникала обстановка осадного положения. Госплан доверили блистательному 34-летнему экономисту Вознесенскому. Во главе нового Наркомата химии был поставлен деятель, никогда не работавший в промышленности. Случалось, что ничего не подозревавшего человека вдруг вызывали к Сталину и предлагали занять пост, сопряженный с высочайшей ответственностью. В 1939 г. Сталин и Жданов с гордостью говорили о том, что на протяжении предыдущих пяти лет они выдвинули на руководящие должности более полумиллиона молодых работников; но сколько среди них было таких, чье выдвижение пришлось именно на 1937–1938 гг.? Потрясение было слишком сильным, чтобы не вызвать отрицательных последствий. Но и при всех недостатках новых кадров неоспоримым остается тот факт, что именно им суждено было управлять страной во время войны и привести ее к победе. Их наступление было своего рода реваншем выдвиженцев, то есть всех тех новых людей, которые волнами выходили на авансцену на протяжении 20-х и 30-х гг. В 1939 г. от 80 до 93 % главных руководящих должностей в партийном аппарате – секретарей и заведующих отделами областных и районных комитетов – разом перешло к коммунистам, вступившим в партию после 1924 г., то есть после ленинского призыва.
Вот эта-то перемена и дала позже пищу для предположения, высказывавшегося как в СССР, так и за его пределами, о том, что сталинские репрессии были, конечно, прискорбным явлением, но, в сущности, представляли собой операцию, призванную вызвать – и сумевшую вызвать – антибюрократическое обновление аппарата, так сказать, замену прошлых политических заслуг молодой компетентностью. Подобное толкование, опиравшееся на объяснения, которые сам Сталин пожелал дать, получило хождение прежде всего среди самих выдвиженцев в СССР и было подхвачено кое-кем из историков за границей. Слишком большое число фактов не согласуется с этой по меньшей мере односторонней версией. В массе жертв были как некомпетентные люди, так и блестящие знатоки своего дела; как бюрократы, так и подлинные новаторы. Нельзя отрицать, что проблема обновления существовала в советском обществе в 30-е гг. Но именно неспособность разрешить ее демократическими методами и обусловила страшную трагедию 1937–1938 гг. Ее последствия поэтому были совсем не теми, какие правомерно было ждать от антибюрократической кампании. Да, действительно, на всех уровнях на первый план выдвинулись новые руководящие работники. Было бы упрощением считать всех их оппортунистами потому лишь, что выдвижение их произошло по известной причине. Были среди них недюжинные люди. Были такие, кто пользовался авторитетом и уважением. Были и отличавшиеся упорством в достижении цели. Однако все они несли на себе глубокий отпечаток тех обстоятельств, при которых произошло их выдвижение, и отпечаток этот был каким угодно, но только не положительным.
Убедительный портрет руководителя этого типа (одного из лучших представителей этого типа) был нарисован писателем, выросшим вместе с этим поколением: «“Солдат партии” – это не были для него пустые слова. Потом, когда в употребление вошло другое выражение, “солдат Сталина”, он с гордостью и, несомненно, с полным правом считал себя таким солдатом… Он уклонялся от вопросов, которые могли смутить его как коммуниста, смутить его совесть; уклонялся самым простым из способов: это не мое дело, это меня не касается, не мне об этом судить. Эпоха наложила на этих людей свой жесткий отпечаток, привила им первую заповедь солдата – уметь исполнять. Их девизом, их кредо стало правило безотказного бойца: выполнять приказ – и никаких разговоров… Он принимал поведение Сталина как неотвратимый высший закон… То было убеждение всей его жизни, действующее автоматически, почти, можно сказать, с силой инстинкта: превыше всего дисциплина, преданность Сталину, каждому его слову, каждому его указанию… В этом исполнении… он находил глубокое удовлетворение, огромное наслаждение».
Разумеется, подобное мышление было отражением только что пережитого чудовищного опыта. Но дело было не только в этом. С одной стороны, в нем спрессовались напластования норм и обычаев, уже сложившихся за предыдущий период советской истории; с другой – то был результат неотступно навязчивого политического воспитания. Здесь-то и начиналась вторая половина сталинской операции.
Возобновление приема в партию
После целых четырех лет запрета на прием новых членов в партию он вновь был разрешен между сентябрем и ноябрем 1936 г., как раз тогда, когда начали развертываться массовые репрессии. Происхождение решения неясно. Известно только то, что эффект его был невелик, пока свирепствовал террор: слишком рискованно было тогда вступать в партию, слишком опасно было давать рекомендацию вступающему. Немного новых коммунистов появилось в 1937 г. Постепенный прогресс стал намечаться в 1938 г. под воздействием целого ряда постановлений, целиком направленных на стимулирование более широкого притока. Однако наиболее ощутимые изменения произошли лишь к концу года. Напротив, 1939 г. стал годом массового наплыва: 1 млн. человек вступили в члены партии и около 0,5 млн. – в кандидаты. Затем прием постепенно стали притормаживать, и так продолжалось вплоть до начала войны; в общем и целом, однако, двери партийных организаций оставались открытыми. Особенно интенсивным процесс был в армии, где коммунистическая прослойка к концу 1937 г. была самой тонкой за весь период с 20-х гг.: всего 147,5 тыс. человек. Прием усилился в 1938 г. и достиг в 1939 г. самого высокого (из зарегистрированных) уровня: 165 тыс. человек в год. К середине 1941 г. в вооруженных силах насчитывалось более полумиллиона коммунистов, из которых примерно половину составляли кандидаты в члены партии.
Этому способствовали решения XVIII съезда ВКП(б) (март 1939 г.), отменившего старые дискриминационные различия на основании социального происхождения при приеме в партию. Нормы стали едиными как для рабочих, так и для крестьян, служащих или интеллигенции: вступающий должен был выдержать годовой испытательный срок в качестве кандидата; для вступления требовались рекомендации трех членов партии с партийным стажем не менее трех лет. Новые правила смягчали в особенности те строгости, которые прежде существовали для выходцев из интеллигенции. Это новшество объяснялось Сталиным тем, что, поскольку в социалистическом Советском Союзе больше не существует враждебных отношений между классами, не должны сохраняться и различия при приеме той или иной группы населения.
XVIII съезд утвердил этот принцип в рамках более широкой реформы Устава партии, отражавшей воссоздание своего рода внутрипартийной законности после разгула репрессий. Сталин и Жданов на съезде провозгласили, а потом было записано в документах, что больше не будет массовых чисток. В Устав была введена новая глава с перечислением прав члена партии наряду с его обязанностями: право критиковать любого работника партии, право выбирать и быть избранным в партийные органы, право требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о нем; право обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию, вплоть до самых высших. На съезде снова говорилось о «внутрипартийной демократии»: голосование при выборах должно было производиться не списком, а по отдельным кандидатурам. Все эти меры создавали видимость обнадеживающего прогресса по сравнению с тем, что делалось на протяжении двух предшествующих лет: они призваны были внушить членам партии то чувство большего спокойствия, без которого вряд ли оказалась бы возможной какая бы то ни было их деятельность. Отчасти такая цель была достигнута. Вместе с тем, однако, от внимания не может укрыться вся шаткость новых уставных норм: достаточно вспомнить, что ведь и репрессии оправдывались Сталиным во имя расширения демократии.
Правда, когда собрался XVIII съезд, массовый террор ушел уже в прошлое. Рядом секретных распоряжений аресты были приостановлены, наиболее важное из них было отдано в ноябре 1938 г. В своем докладе Жданов даже подверг критике некоторые примеры перегибов в деле исключения из партии, имевших место в течение двух предыдущих лет. Была организована процедура некоей реабилитации: благодаря ей несколько месяцев спустя, уже перед самой войной, на свободу вышли некоторые арестованные, в частности кое-кто из военных, например прославившиеся впоследствии Рокоссовский и Горбатов. Большим снисхождением пользовались те, кого судили в этот период. Исправление курса было существенным, но значение его не следует преувеличивать. По сравнению с размахом предыдущих репрессий то было явление весьма ограниченных масштабов. Насколько известно, исправлены были даже не все те случаи, которые упоминались Ждановым. Репрессии стали более избирательными, но полностью так и не прекратились. Да они и не могли прекратиться. Слишком тяжкими были удары, нанесенные партии и обществу, чтобы можно было говорить о сколько-нибудь реальной демократизации. Аресты продолжались, в особенности среди интеллигенции: еще в 1939 и даже в 1940 гг. им подверглись многие видные деятели культуры, включая и новоизбранных членов Центрального Комитета.
События 1937–1938 гг. повлекли за собой еще одно долговременное последствие. Оно касалось положения и роли политической полиции. В общем и целом в истории СССР нашла решение проблема, встающая перед любой современной революцией и заключающаяся в установлении гражданского контроля над армией. Ее решению способствовали, пусть даже уродливо искаженным образом, и сами репрессии. Этого нельзя сказать об органах НКВД. Безграничный произвол их, длившийся в течение двух страшных лет, теперь уже сохранится надолго, превратив эти органы, как потом было написано, в «наводящую ужас службу… стоящую над высшими органами партии и государства». Именно в 1939 г. в связи с протестами, исходившими на этот раз и от обновленных периферийных партийных органов, Сталин секретным телеграфным циркуляром напомнил, что двумя годами ранее НКВД было дано и сохраняется по сей день право применять пытки. Это не значит, что над политической полицией не было никакого контроля: единственным остававшимся был только личный контроль Сталина.
Символом этой небывалой и исключительной власти НКВД по отношению к самой партии выступал новый глава Наркомата внутренних дел Берия. Его назначение на место Ежова в первый момент было воспринято как симптом, предвещающий возврат к законности. Но уже на XVIII съезде ВКП(б) он предстал в совсем ином облике, заявив: «Укрепление всех звеньев советского государственного аппарата проверенными, крепкими кадрами, изгнание оттуда всех еще не разоблаченных и притаившихся врагов народа являются задачей первостепенной важности… Подлые враги народа и впредь с еще большей ожесточенностью будут пытаться вредить, пакостить нам…». Он обещал поэтому обеспечить «разоблачение, разгром и искоренение всех врагов народа». Внезапное возвышение этого уроженца Кавказа было по-своему многозначительным. Его большевистское происхождение было более чем сомнительным. Все собранные позже свидетельства подтверждают, что его поведение во времена гражданской войны в лучшем случае может быть охарактеризовано как двурушническое. Единственным источником его силы было личное доверие к нему Сталина; со своим талантом коварного интригана он сумел воспользоваться им гораздо лучше, чем Ежов. С годами Берия зарекомендует себя как один из самых хладнокровно безжалостных министров полиции, каких только знала история.
И все же по сравнению с совсем недавним прошлым период с 1939 г. до середины 1941 г. выглядел совершенно нормальным, когда внешняя угроза определенно возобладала над опасениями, порожденными внутренней напряженностью. При всей своей трагичности выдвижение новых кадров на место истребленных было свидетельством неисчерпаемости тех ресурсов людской энергии, которые были приведены в движение всей чередой потрясений, сменявших друг друга, начиная с 1917 г. Возобновившийся количественный рост вернул партии ту численность, какую она уже имела в 1932 г.: свыше 3,5 млн. человек, если считать членов и кандидатов. В то же время вновь начатый прием вызвал радикальную перемену в классовом составе партии.
По своему социальному составу коммунисты подразделялись в начале 1938 г. следующим образом: 64,3 % – рабочих, 24,8 – крестьян, 10,9 % – служащих. Это соотношение лишь незначительно отличалось от того, которое существовало в 1932 г., свидетельствуя о том, что чистки и репрессии сказались на всех трех категориях примерно равным образом. В 1941 г., напротив, соотношение выглядело существенно иным: 43,7 % коммунистов было из рабочих, 22,2 – из крестьян и 34,1 % – из служащих (мы пользуемся этим термином условно, имея в виду, что двумя главными категориями, которые он охватывает, являются руководящие работники и интеллигенция). Следует напомнить, что социальное происхождение необязательно совпадало с профессиональным положением в момент вступления: например, в 1932 г., притом что 65,2 % членов партии происходили из рабочих, лишь 43,5 % продолжали трудиться в качестве рабочих на заводах и фабриках (для крестьян соответствующие показатели составляли 26,9 и 18,3 %). Мы не располагаем аналогичными сведениями за 1941 г., но можно предположить, что соотношение к этому времени существенно не изменилось. Это означает, что третья категория, то есть категория руководящих работников и интеллигенции, стала преобладающей в партии. Иными словами, вербовка новых членов партии в предвоенные годы шла большей частью именно за счет новых кадров, выдвинутых на новые рубежи в обществе, и из тех, кого осчастливило своими плодами развитие системы образования: по подсчетам одного западного исследователя, из этих слоев партия черпала в этот период 70 % своего пополнения.
«Краткий курс» истории ВКП(б)
На этой почве и была осуществлена главная сталинская идейно-политическая акция. Появилась книга под названием «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». Вышла она в конце лета – начале осени 1938 г., то есть тогда, когда заканчивались массовые репрессии. В некотором роде она была их венцом. Ее появление отвечало одной из постоянных забот Сталина, не оставлявших его на протяжении всего периода его правления. В начале 30-х гг. Сталин предпринял первое решительное наступление на любые самостоятельные течения в области научных марксистских исследований, то есть в той области, где более естественно могла найти отражение ожесточенная социально-политическая борьба того периода. По мере бурного развития системы образования повышалась и сталинская бдительность в отношении теоретических исследований; большое внимание, в частности, стало уделяться созданию единых учебников по различным дисциплинам, преподаваемым в учебных заведениях. Особые старания при этом сосредоточились – что само по себе неудивительно – на истории, ибо именно через изучение истории каждое сообщество приобретает самосознание и познает свои проблемы. Наконец, в том же самом своем докладе в марте 1937 г., в котором давалось теоретическое обоснование развязывания репрессий, Сталин потребовал также создания систематизированной сети партийных школ, простирающейся от центра до периферии и охватывающей в обязательном порядке все руководящие кадры.
Несколько лет спустя Сталин присвоил авторство «Краткого курса» себе, хотя книга была написана группой авторов. Как бы то ни было, книга действительно создавалась под его прямым руководством: он лично начертал ее план и продиктовал периодизацию. Другие члены Политбюро, в частности Молотов, внесли в рукопись некоторые замечания. По стилю изложения получившийся текст был доступным, лапидарным, схематическим, не лишенным убедительности, что и отвечало поставленной перед ним задаче. Содержанием же его была перелицовка истории партии, имеющая весьма мало общего с ее действительным прошлым. Книга между тем претендовала не только на изложение истории: вся марксистская теория, например, содержалась в ней на двух с небольшим десятках страниц, резюмированная в известном разделе главы четвертой, озаглавленном «О диалектическом и историческом материализме». Раздел этот, как тотчас же стало известно, был написан собственноручно Сталиным. Разумеется, этот пересказ был весьма далек от идейного богатства оригинала и выглядел почти как катехизис, но именно поэтому его положения легче запоминались.
Сходным же образом авторы книги обходились с политической теорией Ленина: в тексте доходчиво пересказывались некоторые ее аспекты, как правило относящиеся к дореволюционному периоду ее формирования, и широко замалчивалась, напротив, вся ее эволюция после Октября. Отбрасывались всякая сложность, все богатство мысли: целью было сохранить лишь немногие весьма упрощенные принципы. Красной нитью через книгу проходила (нигде, правда, не выраженная прямо и открыто) идея «двух вождей» большевизма и революции – Ленина и Сталина. В качестве самой даты рождения партии указывался 1912 г. – год проведения Пражской конференции, на которой Сталин был впервые кооптирован в Центральный Комитет. Ход гражданской войны излагался искаженно, чтобы из рассказа явствовало, что решающая роль в достижении победы принадлежала Сталину. Главное же – центральной тенденцией книги было изображение всех споров и идейных столкновений в рядах большевиков как «принципиальной борьбы с антиленинскими течениями и группами», без чего «партия… переродилась бы» и вся история этой борьбы выглядела бы как «непонятная склока». В таком ключе преподносились как те споры, которые велись при жизни Ленина и которые он сам никогда не расценивал подобным образом, так и те, что развернулись после его смерти, когда он уже не мог судить о них. Незыблемость ленинских принципов была олицетворена, следовательно, в Сталине как для настоящего времени, так и для тех периодов, когда иные из этих принципов вообще не имели ничего общего с реальной действительностью, а сам Сталин (о чем умалчивалось) вступал в противоречие с Лениным.
Увенчивал книгу пассаж о больших процессах, официальная версия которых возводилась тем самым в ранг исторической истины. Осужденные, «эти подонки человеческого рода вместе с врагами народа – Троцким, Зиновьевым и Каменевым – состояли в заговоре против Ленина, против партии, против Советского государства уже с первых дней Октябрьской социалистической революции. Провокаторские попытки срыва Брестского мира в начале 1918 года; заговор против Ленина и сговор с левыми эсерами об аресте и убийстве Ленина, Сталина, Свердлова весной 1918 года; злодейский выстрел в Ленина и ранение его летом 1918 года; мятеж левых эсеров летом 1918 года; намеренное обострение разногласий в партии в 1921 году с целью расшатать и свергнуть изнутри руководство Ленина; попытки свергнуть руководство партии во время болезни и после смерти Ленина; выдача государственных тайн и снабжение шпионскими сведениями иностранных разведок; злодейское убийство Кирова; вредительство, диверсии, взрывы; злодейское убийство Менжинского, Куйбышева, Горького – все эти и подобные им злодеяния, оказывается, проводились на протяжении двадцати лет при участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их прихвостней по заданиям иностранных буржуазных разведок.
Судебные процессы выяснили, что троцкистско-бухаринские изверги, выполняя волю своих хозяев – иностранных буржуазных разведок, – ставили своей целью разрушение партии и Советского государства, подрыв обороны страны, облегчение иностранной военной интервенции, подготовку поражения Красной Армии, расчленение СССР, отдачу японцам советского Приморья, отдачу полякам советской Белоруссии, отдачу немцам советской Украины, уничтожение завоеваний рабочих и колхозников, восстановление капиталистического рабства в СССР».
Может возникнуть вопрос, как же Сталин решился на ликвидацию всего того великого наследия, которое представляли эти люди, возглавлявшие революцию, – наследия идейно-политических битв старой большевистской партии, из недр которой вышел и он сам. Ответ сводится к тому, что в этом-то на самом деле и заключалась его истинная цель, так же как и репрессий. Он бросал мрачную тень на всю прежнюю партию или по крайней мере на ее руководителей, но тем более яркий свет сосредоточивался на его собственной фигуре. Большевизм, в соответствии с его центральным тезисом, выродился бы, если бы не было Ленина (само собой разумеется, воспринимаемого как необходимое начальное звено в дальнейшей преемственной связи), но особенно – если бы не было Сталина, человека, который всегда оказывался прав. Великие свершения народа после революции были осуществлены под его руководством.
Отныне имена его противников будут упоминаться не иначе как с бранью и проклятием. Их произведения, приравненные теперь к опасным подрывным текстам, изымались из библиотек и запирались в труднодоступных отделах специального хранения. Поскольку они были рассеяны также по подшивкам советских газет и журналов, эти издания ожидала аналогичная участь. Изображения этих людей никогда более не воспроизводились: на старых групповых фотографиях их замазывали перед перепечаткой. В дальнейшем на небытие были осуждены и имена тех, кто не был официально заклеймен в качестве провинившегося. В начале 1939 г. умерла Крупская, фактически проведшая остаток жизни в полной изоляции. Ее торжественно похоронили на Красной площади в Москве. Но на следующий же день издательства получили приказ: «Ни слова больше не печатать о Крупской».
Единственным, кто продолжал отстаивать историю старого большевизма, оставался Троцкий в своем вечном изгнании. По сравнению со сталинскими фальсификациями, его реконструкция истории, даже будучи связанной со специфическим взглядом на вещи, неизменно отличалась скрупулезной верностью фактам и обстоятельствам. Покинув Принцевы острова у берегов Турции, Троцкий последовательно менял прибежища во Франции, Норвегии и Мексике. После 1932 г. его последние контакты с СССР мало-помалу сокращались и наконец совсем прекратились. В годы, когда охота на троцкистов превратилась в навязчивую до наваждения тему советской политической жизни, у него практически не осталось никаких реальных возможностей воздействовать на ход событий в СССР. Большим был международный эффект его пропагандистско-агитационной деятельности. Она тоже, впрочем, была отмечена серьезными слабостями.
Так, после резкой критики коминтерновских тезисов о «социал-фашизме» Троцкий не понял установки на «народные фронты» и повел с ними борьбу. IV Интернационал, который он пытался основать, «умер прежде, чем родился». Репрессии и процессы в Москве, на которых его имя неизменно называлось как имя наиглавнейшего злодея, скрывающегося от правосудия, дали Троцкому пищу для всей последней фазы его битвы в одиночку, вдохнули в нее новый пыл. С помощью неопровержимой логики он разрушил фальшивую конструкцию обвинений и посвятил себя систематическому разоблачению сталинских искажений истории. Хотя и эта его деятельность находила сравнительно ограниченный отклик в мире, сама весомость его аргументов не давала покоя Сталину. В СССР теперь о Троцком говорили не иначе как об «архивраге», воплощении всяческой мерзости. За границей советские секретные службы неотступно охотились за ним до тех пор, пока наконец их человеку не удалось смертельно ранить его в Мексике 20 августа 1940 г. На следующий день Троцкий умер.
Идеологическая ортодоксия
В СССР сразу же было отпечатано 12 млн. экземпляров «Краткого курса» на русском языке и еще 2 млн. – на языках других народов Советского Союза. На XVIII съезде Жданов уточнил: «Надо прямо сказать, что за время существования марксизма это первая марксистская книга, получившая столь широкое распространение». Том этот был положен в основу всей пропаганды и всех теоретических разработок. Его опубликование сопровождалось специальным постановлением Центрального Комитета, в котором цель издания определялась следующим образом: «…дать партии единое руководство по истории партии, руководство, представляющее официальное, проверенное ЦК ВКП(б) толкование основных вопросов истории ВКП(б) и марксизма-ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований». Это провозглашение догмы сопровождалось характеристикой книги как «энциклопедии основных знаний в области марксизма-ленинизма», а следовательно, «важнейшего средства» познания того, что отныне прямо и откровенно объявлялось официальной идеологией. Штудирование «Краткого курса» стало обязательным. В этом месте, однако, напрашивается двоякое замечание. Нельзя отрицать, что благодаря этой книжке, как подчеркивает, например, английский историк Шлесинджер, марксизм тогда становился достоянием большей части тех политических работников, которые руководили шестой частью земного шара, а также немалого числа зарубежных коммунистов, как рядовых, так и руководителей (на иностранных языках было сразу же отпечатано 673 тыс. экземпляров книги). Столь же верно вместе с тем, как позже было объявлено авторитетными советскими источниками, что этот учебник «заслонил собой от исследователей теоретическую сокровищницу марксизма-ленинизма, труды Маркса, Энгельса, Ленина».
Для того чтобы определенная система идей могла играть роль официальной идеологии, требуется специальный аппарат, способный пропагандировать ее тезисы и отстаивать ее ортодоксальность, или – как отныне будут говорить в СССР – ее чистоту. Именно такой мощный и централизованный аппарат и был задуман. Предложенные Сталиным партийные школы были созданы, основным учебным текстом в них стал «Краткий курс». Школы были разных уровней и образовывали как бы пирамиду, на вершине которой находилась Высшая партийная школа. Все руководящие работники были подразделены на три категории, каждой из которых надлежало действовать на своем уровне идеологического образования; лишь на высшем уровне изучение «Краткого курса» дополнялось изучением соответствующих произведений классиков марксизма.
В аппарате Центрального Комитета были восстановлены функциональные отделы, упраздненные в 1934 г. XVII съездом, в частности отдел пропаганды и агитации и отдел кадров. В распоряжении первого имелось большое число профессиональных пропагандистов; инструментами, которыми он должен был пользоваться, были газеты, радио, кино. Журнал «Большевик» стал главным орудием насаждения и охраны доктрины. Почти полностью, напротив, была ликвидирована учеба в кружках, объявленных проявлением кустарщины, средством, свойственным «преимущественно нелегальному периоду», и имеющих тенденцию к превращению «в автономные и бесконтрольные организации, ведущие работу на свой риск и страх». Всякое самостоятельное исследование было сочтено неуместным: основная задача научного работника сводилась на практике к толкованию и правильному комментированию произведений Сталина.
Ни о какой свободной дискуссии в подобных условиях не могло быть речи. Сталин провозгласил, что социализм в СССР уже построен, и возвестил о начале перехода к коммунизму, когда каждый сможет удовлетворить все свои потребности. Обсуждение великих творений марксизма вызвало бы немало сомнений насчет правильности подобных утверждений или по крайней мере насчет серьезных недочетов сталинского социалистического общества. На исторических факультетах вузов было поэтому практически упразднено чтение курса «истории социализма», или истории социалистических идей. Анализ любых иных теорий, пусть даже единственно с целью полемики, рассматривался как дело предосудительное. Сам Сталин несколько лет спустя сказал, что сначала надо укрепиться в вере учения, а потом изобличать ересь. Даже великолепный аппарат примечаний к третьему изданию сочинений В. И. Ленина, по сей день весьма полезный для всякого, кто изучает советскую историю, был объявлен совокупностью «грубейших политических ошибок вредительского характера». Не допускалось больше и публичных исследований по тем или иным проблемам советского общества; исследований, которые имели такое значение в 20-е гг. Речь в этом случае шла не о каком-то единовременно принятом решении, а скорее о процессе, постепенно развивавшемся на протяжении 30-х гг. Цензура печати все более усиливалась, так что без предварительного разрешения никакие данные, цифры больше невозможно было ни приводить в печати, ни публично оглашать. В обоснование необходимости такой секретности приводился отнюдь не пустячный довод: нельзя снабжать внешнего врага никакой информацией, которая может оказаться полезной для него. Мало-помалу из обращения были изъяты и статистические материалы, за редким, тщательно проверенным исключением. В результате исчезли какие бы то ни было документальные данные о внутреннем положении страны, доступные публике за пределами узких официальных кругов. Так охранялось то «морально-политическое единство народа», которое стало отныне обязательной темой любой речи.
Тезисы Сталина о государстве
Если теперь, в заключение этого обзора, мы попытаемся одним взглядом охватить советскую коммунистическую партию в том виде, как она трансформировалась за годы сталинского правления, и в особенности какой она стала к концу 30-х гг., после жестоких репрессий, трудно, на мой взгляд, не заметить, насколько она приблизилась к тому образу «ордена меченосцев», который был задуман Сталиным еще в 1921 г.
На XVIII съезде ВКП(б) Жданов, кстати говоря, употребил одну формулировку, которая потом часто повторялась на протяжении этого периода. Объясняя отмену категории социального происхождения при рассмотрении заявлений о приеме в партию, он заявил, что критерием должен быть «отбор в партию действительно лучших людей из рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции». «Новый порядок, – добавил он, – облегчает отбор лучших людей в партию». Ленинская идея «авангарда» превращалась, таким образом, в понятие партии «лучшие». Эта партия к тому же имела теперь свой свод ортодоксальных положений, дисциплину военного типа, строгую систему продвижения кадров по распоряжению сверху и настолько абсолютную веру в вождя, что позже она будет названа культом. Она обзаводилась и собственным церемониалом: на XVIII съезде, где не было уже и тени дискуссии, при упоминании имени Сталина участники не просто хлопали в ладоши, а вставали и аплодировали стоя.
И все же, если мы можем на основании всего этого говорить об ордене, то это был весьма разветвленный орден, с многочисленными подразделениями и ступенями. В нем были высшие руководители, секретари, «кадры», рядовые члены, наконец, активы, с помощью которых партия пользовалась содействием тех сочувствующих, которые еще не вступили в ее ряды и для которых Сталин нашел определение «беспартийные большевики».
Полное осуществление нашла и другая сталинская концепция – государство как совокупность «приводных ремней». Первым по значению среди них оставалась партия. Непосредственные обязанности по организации производства по-прежнему были одной из главных ее задач. XVIII съезд наделил партийные организации правом контролировать администрацию предприятий; некоторое время спустя было все же уточнено, что на всех уровнях они должны помогать хозяйственным ведомствам, начиная с отраслевых наркоматов, проверять исполнение предприятиями решений наркоматов. В районных и областных комитетах партии была введена должность секретаря по промышленности.
Под безраздельным руководством партии действовали в качестве «приводных ремней» другие массовые организации. По своему значению среди них особенно выделялись три: профсоюзы, комсомол и Советы. О первой уже говорилось, когда речь шла о промышленности. Что касается молодежной организации, то в годы чисток она тоже численно сократилась; но как бы то ни было, в ее рядах насчитывалось свыше 4 млн. человек и она уже вполне научилась мобилизовывать молодежь на все кампании, объявленные наиболее важными в данный момент, шла ли речь о строительстве новых заводов и городов или о посылке учителей в деревню. Советы и их руководящие органы представляли собой, особенно после принятия новой Конституции, пирамиду административных органов с исполнительными функциями, соответствующих партийных комитетов того же уровня. Именно поэтому, однако, они были единственным «приводным ремнем», охватывающим все население: при составлении списков кандидатов, подлежащих избранию на выборах, использовалась любопытная сталинская формула «блока коммунистов и беспартийных». Наконец, не менее эффективными «приводными ремнями» были печать и наряду с ней кино, литература, искусство – все те виды деятельности, которые Жданов квалифицировал как «могучие средства» пропаганды. Из комплекса всех этих аппаратов слагалось государство, которое «направляет все отрасли хозяйства и культуры».
Здесь возникало вопиющее противоречие между существованием столь могущественного государства и общеизвестным тезисом марксизма и ленинизма о том, что с установлением социалистического общества государство должно начать «отмирать». Процесс, который развивался ныне в СССР, шел в противоположном направлении. После опыта 1937–1938 гг. никто не взялся бы утверждать, что у государства в Советском Союзе отмщают карательные функции или органы, специально существующие для их отправления. Мало того. Начиная с 1933 г., когда Сталин выдвинул требование «максимального усиления» государства, он неоднократно возвращался к этой теме и полемизировал, правда не без некоторой осторожности, со сторонниками тезиса об отмирании или по крайней мере того, что он называл «неверным» толкованием этого тезиса. На XVIII съезде партии Сталин решил взять быка за рога и открыто заявил, что высказывания Энгельса и Ленина по этому поводу не могут относиться к Советскому государству. Сохранение и упрочение этого государства он оправдывал международной изоляцией СССР, находящегося в кольце капиталистического окружения.
На фоне общеизвестных марксистских положений его аргументация выглядела весьма запутанной. Она плохо согласовывалась даже с другими его собственными тезисами, начиная с тезиса о «социализме в одной стране» (ведь именно на невозможность отмирания государства, пока остается окружение, и ссылались в 1926 г. его противники, доказывая, что речь не может идти о подлинном социализме) и кончая тезисом о непрерывном обострении классовой борьбы (Сталин теперь утверждал, что, поскольку народ «един», государственная сила требуется только для подавления врагов, засылаемых извне). Но там, где сталинским тезисам не хватало логической стройности, недостаток убедительности возмещал как раз могущественный аппарат Советского государства, стоявший за его плечами. Его слова на XVIII съезде были подхвачены многочисленными ораторами и названы «гениальным» развитием марксистской теории. Берия с величайшей развязностью позволил себе говорить даже об «антиленинской теории отмирания государства рабочего класса». С тех пор все издания знаменитой ленинской работы по этому вопросу – «Государство и революция» – выходили с обязательным добавлением-поправкой в виде сталинского текста.
Провозглашение сталинской доктрины государства положило начало переоценке существенных моментов истории русского государства. Именно государства, а не только нации. Более или менее отчетливо сформулированный мотив национальной гордости постоянно, на протяжении всех пятилеток сопутствовал развитию советского общества после тезиса о «социализме в одной стране». Некоторые старые идеи «сменовеховства», сначала отвергнутые, а потом забытые, молчаливо внедрялись в ткань советского общества. Слово «отечество» возвращало себе в 30-е гг. все более торжественное звучание. Враждебность внешнего мира питала настроения коллективного самоупоения. Сталин в 1939 г. сказал: «Последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши». И вот теперь среди мотивов национальной гордости начали подниматься на щит – с большей или меньшей обоснованностью – такие моменты прошлого России, которые отнюдь нельзя причислять к моментам ее революционной истории.
С утверждением тезисов Сталина о государстве явление, которое мы можем с полным правом назвать сталинизмом, приобретало полный и окончательный облик. Оно выступало как комплекс политических концепций, правительственной практики и авторитарных отношений с массами населения. Сам термин, однако, никогда не применялся в СССР. Официальная идеология по-прежнему носила название «марксизм-ленинизм». Между тем многими своими отличительными чертами эта идеология – в том виде, как она преподносилась в конце 30-х гг. и еще будет преподноситься на протяжении долгого времени, – была обязана больше Сталину и его переработанным тезисам, нежели Марксу и Ленину.
Накануне войны. Советская экономика в 1939–1941 годах
Наперегонки со временем
Бремя напряженного комплекса усилий, которое советское общество несло на себе с конца 1930-х годов до немецкой агрессии, один из западных авторов назвал «бегом наперегонки со временем». Это точная формулировка. Начиная с войны с Финляндией, гонка стала драматической, лихорадочной, но началась она раньше, когда разразилась мировая война и СССР лишь в последний миг удалось остаться в стороне от нее. Война застала Советский Союз за выполнением третьего пятилетнего плана, который – по крайней мере теоретически – вступил в силу в январе 1938 г. Этот план с момента первого упоминания о нем на XVIII съезде ВКП(б) и далее с течением времени все более испытывал на себе влияние требований, связанных с укреплением обороноспособности страны. При его оценке поэтому нельзя абстрагироваться от значения этого фактора, хотя на основании тех данных, которые имеются в распоряжении исследователей, отнюдь не легко определить его весомость и рост из года в год. В то же время специфика советской экономики этого периода не может быть просто сведена к последствиям растущего удельного веса оборонного фактора. В этой специфике отражаются некоторые типичные сталинские концепции либо традиционные для советских коммунистов приемы действия, сложившиеся на основе их опыта; а многое из этой специфики сохранится еще и долгое время после войны.
Отброшена была, например, попытка ликвидировать отставание легкой промышленности, о чем, напротив, говорилось как об императивном требовании в период утверждения второго пятилетнего плана. В третьей пятилетке вновь подтверждалось, что абсолютный приоритет принадлежит тяжелой индустрии. В этом отражался, среди прочего, рост запросов армии. Но то была не единственная причина произведенной перемены. Сталин и Молотов в своих докладах на XVIII съезде ни разу прямо не сослались на эти запросы. Мало того, решение отдать предпочтение тяжелой промышленности связывалось ими с так называемой основной экономической задачей СССР, поставленной на несколько пятилеток вперед: «догнать и перегнать» главные капиталистические страны по производству на душу населения. Сталин при этом ясно сказал, что для этого требуется «готовность пойти на жертвы». Не менее сталинским по своему характеру было другое решение – ограничить тенденцию колхозников уделять слишком много времени своему маленькому личному хозяйству. Приоритеты третьего пятилетнего плана отражали, таким образом, прежде всего господство сталинских концепций.
Если теперь перейти к анализу выполнения плана, то более всего обращает на себя внимание то, с каким огромным трудом страна справлялась с его заданиями. Самые последние советские статистические подсчеты утверждают, что за трехлетие 1938–1940 гг. выпуск промышленной продукции увеличился на 45 % при запланированном на всю пятилетку росте на 92 %. Более полных данных, которые бы позволяли подтвердить или опровергнуть эти подсчеты, не существует. Можно тем не менее обратиться к абсолютным показателям производства таких важнейших видов продукции, как сталь, цемент, нефть, уголь, электроэнергия, строительные материалы. Эти цифры далеко не подтверждают вышеприведенный итоговый процент: они свидетельствуют о куда более скромном увеличении либо даже о настоящем застое производства. Единственным исключением, судя по официальным данным, в этом случае с трудом поддающимся проверке, была машиностроительная промышленность, продукция которой выросла на 76 %, то есть увеличивалась именно теми темпами, какие изначально предусматривались планом (выпуск продукции оборонного назначения внутри этого подразделения вырос в 2,3 раза). Общее впечатление, следовательно, таково, что производство весьма отставало от установленных планом уровней.
Был ли то результат усилий, направленных на укрепление обороноспособности страны и требовавших, помимо всего прочего, срочного формирования стратегических запасов? Разумеется, такие усилия могли способствовать общему замедлению развития, но их одних недостаточно для исчерпывающего объяснения этого замедления. В самом деле, кризис переживали, в частности, и те отрасли, которые являлись жизненно важными именно для подготовки страны к войне, такие как металлургия, которая была едва ли не главным предметом гордости и забот советской промышленности в предыдущие пятилетки. В 1937–1940 гг. выпуск металлургической продукции сохранялся почти на одном и том же уровне, а в 1939 г. даже претерпел некоторое сокращение; при этом наряду с количественными ухудшились и качественные показатели. В химической промышленности, которая по проектам должна была стать головной отраслью третьей пятилетки и важность которой для оборонных целей трудно переоценить, были отмечены скудные успехи. Производство цемента, необходимого для возведения намеченных оборонительных сооружений на границах, претерпело даже сокращение.
В обстановке подобных экономических трудностей и приходилось советским людям вести ускоренную подготовку своей страны к грядущему испытанию войной. Нельзя сказать, чтобы для достижения этой цели делалось мало или недостаточно энергично. Совсем наоборот. Удельный вес расходов на оборону в государственном бюджете, равный 12,7 % в годы второй пятилетки, повысился в третьей пятилетке до 25,4 %; по отдельным годам военные ассигнования росли следующим образом: 25,6 % в 1939 г., 32,6 в 1940-м и 43,4 % в 1941 г. В сентябре 1939 г. была введена всеобщая воинская обязанность: численность советских вооруженных сил выросла с 1433 тыс. человек в 1937 г. до 4207 тыс. к 1 января 1941 г. и превысила 5 млн. в июне этого года. Производство вооружений расширялось и ускорялось. Особое развитие получила одна из тех инициатив, всю дальновидность которых можно будет оценить лишь позже. Во второй половине 30-х гг. советская оборонная промышленность размещалась еще большей частью вдоль оси, проходившей от Ленинграда через Центральный район к Харькову и Днепропетровску в восточной части Украины. Теперь началось ускоренное сооружение заводов-близнецов в восточных районах: в Поволжье, на Урале, в Сибири. Этим стремились уберечь оборонную промышленность от возможных ударов вражеской авиации. Как выяснится позже, опасаться следовало не только одной авиации.
Советский историк Медведев упрекнул Сталина и других советских руководителей, что они планировали завершить подготовку обороны страны лишь на конец 1942 г. То, что советские руководители думали тогда именно об этом сроке, подтверждается и другими источниками. Убедительными вместе с тем выглядят по этому специфическому пункту объяснения, которые дает в своих мемуарах маршал Жуков. Он пишет, что в тех условиях физически невозможно было сделать больше того, что делалось, не переводя всю экономику страны на военные рельсы, с теми серьезными последствиями, какие повлек бы за собой этой шаг. Изучение имеющихся документов не дает оснований утверждать, что в период с 1939 по 1941 г. имелась возможность действовать быстрее, чем действовали участники этой гонки, по крайней мере в тех пределах, которые могли реально повлиять на ход последующих событий. Корень зла и в этом случае следует искать в другом.
Самые различные свидетельства сходятся на том, что в середине 30-х гг. (точнее, в 1936 г.) вооружение и тактико-стратегические концепции Красной Армии, оснащавшейся по мере успехов индустриализации, соответствовали самым передовым представлениям в этой области, какие только существовали в тогдашнем мире. Самолеты, которые посылались в первое время Испанской республике, победоносно выдерживали противоборство с немецкими машинами, на которых летали фашисты. То же можно сказать о танках. Благодаря творческой мысли Тухачевского советская военная теория верно предугадала новые характерные черты современной войны с широким применением техники: СССР первым приступил к формированию мотомеханизированных корпусов. Экспериментальные радарные установки были созданы советскими специалистами и начали использоваться в армии раньше, чем в Америке и Англии.
Во всех этих областях Советские Вооруженные Силы три года спустя сильно отстали. Немецкие «мессершмитты» и «юнкерсы» явно превосходили теперь советские самолеты, оставшиеся теми же самыми. Аналогичную ситуацию можно было констатировать и в танковом деле. Мотомеханизированные корпуса были расформированы. Танкам, как и авиации, отводилась лишь задача тактической поддержки. Работы над радаром были заморожены. Сами уроки испанской войны были истолкованы неверно. В конце 1939 г. контраст между немецким «блицкригом» в Польше и затяжной советской кампанией в Финляндии со всей очевидностью поставил московских руководителей перед лицом тревожной действительности. Специальная комиссия во главе со Ждановым и Вознесенским не смогла сделать ничего иного, как констатировать непредвиденное отставание «в разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне», а также «в ряде вопросов подготовки армии к войне».
Задыхаясь от спешки и напряжения, вызванных ростом внешних опасностей, советские люди продемонстрировали в предвоенные месяцы, даже в тех труднейших условиях, в которые они были поставлены, свою способность к свершениям, достойным восхищения. Довольно обширная ныне мемуарная литература, принадлежащая перу непосредственных участников этой ускоренной подготовки, весьма поучительна на этот счет. Именно в этот период – с конца 1939 г. до лета 1941 г. – были созданы многочисленные образцы простой в обращении и высокоэффективной военной техники, зачастую превосходившие соответствующие немецкие модели и оказавшиеся такими нужными в ходе войны. К этому времени относится создание истребителей Яковлева и Микояна, новых самолетов Туполева и Ильюшина, пикирующих бомбардировщиков Петлякова, знаменитых танков КВ и Т-34, прекрасного автомата Шпагина, некоторых усовершенствованных типов минометов и другой военной техники, не говоря уже о прославленных «катюшах» – новейшей реактивной артиллерии. Налажено было даже серийное производство этих образцов (за исключением «катюш»). Именно в 1939–1941 гг. было построено много авиационных заводов. Потребовались чудеса самоотверженности, преданности своему делу и обществу, чтобы добиться этих результатов. К сожалению, в июне 1941 г., к моменту гитлеровского нападения, массовое производство новых видов вооружений только еще начиналось.
Несвободны были от ошибок и решения, принимавшиеся в этот период, как это явствует, по крайней мере, из самокритичных оценок, высказанных рядом непосредственных участников событий. Были ошибки, обусловленные методами руководства, к которым прибегали иные из деятелей нового сталинского призыва. Единодушными были много лет спустя крайне отрицательные отзывы о таких некомпетентных работниках и интригах, как новый начальник Главного политического управления армии Мехлис, который насаждал повсюду атмосферу инквизиторской подозрительности; или о начальнике артиллерии маршале Кулике, авторе некоторых необдуманных решений, например о прекращении производства 76-миллиметровой пушки – одного из наиболее эффективных орудий, состоявших на вооружении армии. Делались, наконец, ошибки просто потому, что люди не могут не ошибаться. Наиболее характерной чертой периода было, во всяком случае, не это. Главным было то, что концентрированные усилия по подготовке к войне были в целом высокоположительным явлением и приносили блестящие результаты: они позволили закрыть наиболее опасные бреши и сыграли решающую роль в создании предпосылок для последующих побед советского оружия.
Подлинное возобновление роста промышленности, в том числе и в наиболее кризисных отраслях, вроде черной металлургии, было отмечено к концу 1940 г. Благотворное воздействие этого обстоятельства почувствовала на себе и оборонная промышленность. В феврале 1941 г. в Москве собралась XVIII партконференция. Она была целиком посвящена вопросам развития промышленности, которые были основой содержания обоих докладов – Маленкова и Вознесенского. Для осуществления новых программ снова требовалось максимальное напряжение сил всего общества. Не удивительно поэтому, что для решения соответствующих проблем было и на этот раз необходимо обратиться к методам, уже опробованным на протяжении истории СССР, – угроза извне давала им как бы дополнительное оправдание.
Произошел возврат к некоторым формам милитаризации труда. Уже в конце 1938 г., после настойчивой кампании в печати и на собраниях, для обеспечения строгой дисциплины на предприятиях и в учреждениях были введены весьма строгие правила. Для каждого работника была заведена трудовая книжка, в которой регистрировались сведения о найме, увольнениях и причинах, их обусловивших. За 20-минутное опоздание накладывался крупный штраф; после трехкратного опоздания в течение одного месяца работник подлежал увольнению и подвергался суровым судебным санкциям. Еще более драконовские законы были приняты в июне 1940 г., после финской войны и капитуляции Франции на западе. Рабочий день был продлен с семи до восьми часов, а рабочая неделя вновь стала семидневной (шесть рабочих дней и один выходной). Никто не имел права отказываться от сверхурочных. Под угрозой тюремного заключения никто не имел права переходить с одного места работы на другое без официального разрешения дирекции предприятия. Вместе с тем несколько месяцев спустя промышленные наркоматы получили право своей властью перемещать инженерно-технических работников, административный персонал и квалифицированных рабочих с одного предприятия на другое, в том числе и в другие районы страны, причем соответствующий работник не имел права отказаться от выполнения этого приказа.
В октябре 1940 г. для вербовки рабочей силы была учреждена система трудовых резервов. Уже в самом названии слышался отзвук военной терминологии. Указ уполномочивал правительство ежегодно мобилизовывать от 800 тыс. до 1 млн. юношей и девушек для обучения их в специальных ремесленных училищах промышленным профессиям: постоянные квоты устанавливались для каждого города и каждого колхоза. Обучение длилось полгода для наиболее простых профессий и два года – для более специализированных работ. Ученики содержались целиком за счет государства. Взамен они должны были отработать в обязательном порядке 4 года там, куда их направляли по распределению. Распределением же резервов занималось правительство. Как и в военных частях, в училищах имелся заместитель директора по политической части, обязанностью которого было идеологическое воспитание будущих рабочих. Сразу же было создано около 2 тыс. таких училищ; некоторые с ускоренным – под давлением обстоятельств – курсом обучения. Первый выпуск трудовых резервов состоялся в мае – июне 1941 г. и насчитывал 439 тыс. молодых рабочих. Широкое развитие система получит позже, в военные и послевоенные годы.
Другим, тоже не новым методом было распространение прямой партийной ответственности за руководство хозяйственной работой. Во время индустриализации, как мы уже видели, хозяйственная функция всех партийных органов получала все большее развитие за счет их собственно политических прерогатив. Начало этого процесса, как известно, восходило к давним временам; после репрессий и в еще большей мере в непосредственно предвоенные месяцы он достиг высшего развития. В ходе подготовки к высшим партийным форумам – XVIII съезду в марте 1939 г. и XVIII партконференции в феврале 1941 г. – обычную политическую дискуссию полностью вытеснила волна производственного рвения. В первичных партийных организациях не обсуждали политику партии, а брали обязательства улучшить работу предприятия. Обещания увеличить выпуск продукции изображались как «подарки», которые рабочие того или иного предприятия делают партии, партийному съезду. Наконец, в связи со съездом было организовано специальное соревнование между различными производственными коллективами. На эти же, а не на политические темы шел в основном разговор и на партийных форумах, как центральных, так и местных.
Упраздненные в марте 1939 г. промышленные отделы партийных комитетов были восстановлены несколько месяцев спустя. В сентябре 1940 г. первым секретарям этих производственно-отраслевых отделов было дано указание «повернуть внимание… в сторону работы промышленности и железнодорожного транспорта». Примером, впрочем, служило само высшее руководство. Как явствует из многочисленных мемуаров, Сталин в тот период лично и повседневно руководил осуществлением программы вооружений. Почти ежедневно у него бывал новый министр авиационной промышленности Шахурин. Все наиболее важные решения принимались им самим, что было не лишено серьезных неудобств, ибо его суждения обжалованию не подлежали и очень немного находилось людей, осмеливавшихся выдвигать доводы в пользу иных решений (это пытался делать, например, опытный нарком вооружений Ванников, но в июне 1941 г. он был арестован; его пришлось выпустить и вернуть на прежний пост месяц спустя, когда война была уже в разгаре).
Как бы то ни было, секретари периферийных партийных комитетов также обязаны были заниматься теми же вопросами, включая и собственно оборонные, правда лишь в чисто исполнительном плане. Наиболее прямо эти директивы были сформулированы XVIII партконференцией (февраль 1941 г.), которая вменяла в обязанность секретарям по промышленности и транспорту «хорошо знать, что делается на предприятиях, регулярно бывать на них». Секретари, говорилось далее в решении конференции, «должны быть лично связаны как с работниками предприятий, так и с соответствующими наркоматами, должны помогать им в выполнении планов и решений партии по промышленности и транспорту, систематически проверять исполнение этих решений, вскрывать недостатки в работе предприятий и добиваться ликвидации этих недостатков».
Вновь подтвержден был также принцип единоначалия. Должность политического комиссара, снова введенная в 1937 г., была опять упразднена в 1940 г.: вместо нее появилась должность заместителя командира по политической части, полностью подчиненного, впрочем, соответствующему начальнику. Этот последний, кстати говоря, особенно на высших ступенях военной иерархии, практически сам являлся членом партии, хотя во многих случаях, быть может, совсем недавно принятым. В том же 1940 г. были наконец вновь введены звания генерала и адмирала, упраздненные в годы революции (соответствующие ранги были восстановлены раньше). Под командованием этих военачальников формировались новые части: началась, в частности, реконструкция тех мотомеханизированных корпусов, которые были распущены несколькими годами ранее. Все это происходило, когда война уже была у порога.
Накануне войны
Итак, что же представлял собой Советский Союз в то время, когда наступал час самого ужасного испытания? Экзамен на полях сражений, которому суждено было вот-вот начаться, сыграл слишком важную роль в формировании того облика СССР, какой известен нынешним поколениям, чтобы можно было исключить его из совокупного итога пройденного страной исторического пути. Поэтому 22 июня 1941 г. было своего рода водоразделом в развитии страны. В заключение напомним некоторые основные характерные особенности СССР того переломного момента, как они представляются взору наблюдателя.
Страна сильно отличалась от той, которая вступала в Первую мировую войну под обветшавшей властью царей. В 1941 г. ее территория вновь стала примерно такой же, какой была в дореволюционную эпоху, и уже немногим отличалась от той, какой стала после войны. Границы, правда, были несколько иными: они будут изменены впоследствии. Площадь же мало отличалась и от прошлой, и от будущей – 22,1 млн. кв. км. До сентября 1939 г. она равнялась 21,7 млн. кв. км; прирост произошел за счет недавних территориальных приобретений.
Весьма сложным выглядело политико-административное деление СССР. В него входило 16 государственных формирований первого ранга, или союзных республик: Российская (представляющая, в свою очередь, федеративное объединение), Украинская, Белорусская, Грузинская, Армянская, Азербайджанская, Казахская, Узбекская, Таджикская, Туркменская, Киргизская, Молдавская, Литовская, Латвийская, Эстонская и Карело-Финская, образованная на территориях, только что отторгнутых у Финляндии. Затем шли 20 автономных республик, из которых 16 – в РСФСР, 2 – в Грузии и по одной – в Узбекистане и Азербайджане. В стране было 105 областей и краев, подразделявшихся, в свою очередь, на 4007 районов. Некоторые из районов, населенные небольшими этническими группами, носили название национальных округов.
Подобная пестрота административного устройства не была, однако, свидетельством большой разнородности или раздробленности. Администрация повсеместно была единообразной и централизованной и основывалась на иерархической субординации каждого периферийного органа власти вышестоящему при сохранении каждым преимущественно исполнительных функций и ответственности за свою деятельность скорее перед центром, нежели перед теми выборными органами (Советами), представителями которых они теоретически являлись. Это относилось ко всем органам такого рода, вплоть до Верховного Совета, высшей законодательной ассамблеи СССР, которая собиралась лишь два-три раза в год на кратчайшие сессии обычно для того, чтобы единогласно одобрить решения и установки, уже принятые в ином месте. Подлинным костяком этого аппарата власти была партия с соответствующей иерархией комитетов и секретарей – истинный несущий каркас нового могущества Советского государства.
По оценке 1941 г., в стране насчитывалось 190 млн. человек, то есть примерно на 20 млн. больше, чем до революции. Прирост сверх 170 млн., зафиксированных переписью 1939 г., следует отнести за счет населения недавно присоединенных областей. Больше половины населения проживало на территории РСФСР. На втором по численности месте стояла Украина. Собственно русские составляли около половины всего советского населения (в 1939 г., до территориальных приобретений, – 58,4 %).
По сравнению с царской империей население было более однородным. Классовые и национальные различия были сильно сглажены. Это не значит, что определенные категории не пользовались привилегиями по сравнению с другими. Но не это было наиболее примечательным и характерным. Благодаря распространению образования, промышленному развитию, единообразию производственных укладов и форм правления различия между русским и киргизом, например, стали неизмеримо меньше, чем четверть века назад. То же можно сказать и о различиях между разными социальными слоями.
Самая радикальная перемена заключалась в новой экономической мощи страны. Конечно, Сталин и Молотов были правы, когда подчеркивали, что СССР еще далеко не достиг уровня экономического развития Германии или Великобритании, не говоря уже о Соединенных Штатах. Но верным было и то, что промышленное производство выросло в 8,5 раза (почти в 12 раз, если взять только крупную промышленность) по сравнению с 1913 г., кануном Первой мировой войны. Эти данные можно было оспаривать, что и делалось, с точки зрения точности статистических подсчетов, но их подлинный смысл не меняется и после самого критического анализа: индустриализация была реальностью; она обеспечила стране новое могущество и преобразовала образ жизни и условия труда десятков миллионов человек. Куда менее радужную картину являло собой сельское хозяйство, где производство топталось на дореволюционном уровне, а в некоторых отраслях, например животноводстве, даже не достигало его.
В СССР имелось 90 городов с населением свыше 100 тыс. человек (в 1926 г. – лишь 31, включая новоприобретенные территории). Во многих случаях их развитие было хаотичным, но все же в нравах, обычаях, в «человеческом пейзаже» страны они представляли собой нечто совершенно новое. Символом такого развития была Москва – эта бывшая «большая деревня», которая ныне насчитывала более 4 млн. жителей и которая окончательно затмила Ленинград не только как столица, центр политической и культурной жизни страны, но и как самый крупный город государства. Ее новые дворцы, выросшие в центре, на месте домишек старых снесенных кварталов, ее парк культуры, ее роскошные станции первых двух построенных и других еще только строящихся линий метрополитена, которые послужат бомбоубежищами во время войны, – все то, что было сооружено и воздвигнуто по Генеральному плану реконструкции, принятому в 1935 г., призвано было служить образцом для других советских городов. Это были, в сущности, единственные декоративные элементы, предназначенные разнообразить стиль жизни, продолжавшей оставаться суровой и аскетической, несмотря на рост благосостояния в 1932–1940 гг.; в этот период он шел непрерывно.
Общественной была любая хозяйственная деятельность, общественным достоянием – все богатство. И все же спорным – и оспариваемым – оставался социалистический характер этого общества, несмотря на то что провозглашение его Сталиным не допускало даже тени сомнения на сей счет. Трудно сказать, многие ли из тех, кто в 1917 г. пошел на штурм старых порядков, смогли бы узнать в этом обществе тот идеал, который воодушевил их на дерзкую революционную атаку. Большинство их исчезло на протяжении этой четверти века, заполненной непрерывной борьбой. Наряду с несомненными достижениями у этого нового общества имелись такие авторитарные, казарменные, полицейские черты, которые не могли не претить человеку социалистических убеждений. Вместе с тем колоссальные национальные задачи – индустриализация, просвещение – были поставлены и решены.
Советский опыт, кто бы и что бы о нем ни говорил, продолжал представлять собой нечто совершенно небывалое в мировой истории. В этой его необычности заключался один из главных факторов идейной притягательности СССР, один из главных побудительных мотивов борьбы и надежд для людей внутри и за его пределами. Это правда, что в ближайшие несколько месяцев после заключения договора с нацистской Германией степень советского магнетизма упала, пожалуй, до самого низкого уровня. Его продолжали ревниво и фанатично отстаивать лишь группы коммунистов, большей частью изолированные и подвергавшиеся преследованиям. Но потенциальная притягательность советского опыта не исчезла; она сохранилась и в наступившие затем трудные годы обнаружила всю свою огромную ценность.
Во имя этой революционной самобытности советской истории даже Троцкий, самый непреклонный обвинитель сталинской власти, вплоть до своего последнего часа продолжал доказывать, что по характеру своему СССР является «рабочим государством» и что его при любых обстоятельствах нужно защищать от капиталистических врагов. Он продолжал проповедовать это и после соглашения между Берлином и Москвой, то есть на протяжении последних месяцев перед собственной гибелью, полемизируя с некоторыми своими сторонниками, считавшими, что Советский Союз окончательно потерян для дела социализма. Он делал это, невзирая на то что все друзья СССР считали своим долгом обрушивать на него самые порочащие обвинения. Подобная его позиция была продиктована не просто привязанностью к тому революционному делу, которое продолжало составлять существо его жизни. Скорее, здесь сказывалась присущая каждому марксисту неистребимая вера в освободительную историческую миссию рабочего класса. В СССР, считал Троцкий, эта миссия в конечном счете возьмет верх над перерождением сталинского режима.
В своем последнем послании Бухарин написал: «Если я не раз ошибался в методах построения социализма, то пусть потомки судят меня за это не более сурово, чем Владимир Ильич. Ведь это впервые мы вместе пошли к единой цели по еще не хоженному пути». На этот мотив – нехоженность пути, которым пошли советские народы, – не раз ссылались и в СССР, и за его пределами для объяснения особенностей (в том числе и самых трагических) этого первого опыта строительства социализма. Вряд ли такое объяснение можно принять за верный критерий исторического исследования, особенно если к нему прибегают, что нередко случается, как к оправданию, позволяющему просто перевернуть страницу, не затрагивая тех многочисленных проблем, которые ставит советская история.
Эта оговорка вместе с тем не умаляет верности замечания Бухарина: путь, по которому пошли советские люди, действительно представлял собой маршрут по бездорожью, где никогда никто не ходил раньше.



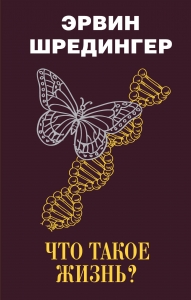
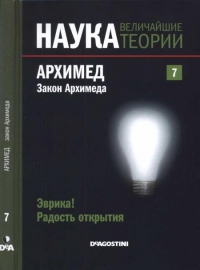
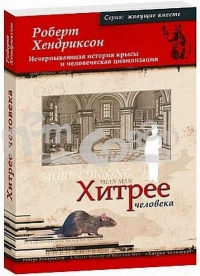

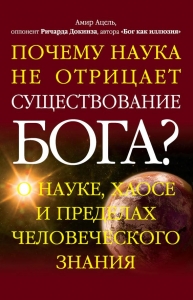



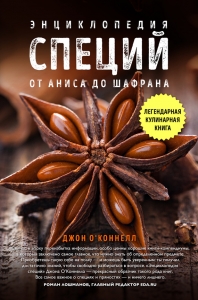

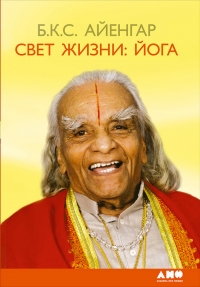
Комментарии к книге «СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв», Джузеппе Боффа
Всего 0 комментариев