Иван Крастев Управление недоверием
Архипелаг недоверия
1. «Эта книга о демократии», вот первые слова автора – и нам их довольно, чтобы почти потерять интерес. Но для Ивана Крастева демократия – в опыте работы с реальностью. В России нет мест проработки опыта, и, не распознав собственных действий, мы огульно недоверчивы ко всему. Поэтому трактат о демократии недоверия для нас актуален.
Недоверие сопровождало нашу политику с первых дней и только росло. Редкие всплески доверия всегда были частными исключениями. Уже продвижение Ельцина в президенты строилось на управлении страхами избирателя. Процедуры еще соблюдали, но лишь как технику переноса недоверия – с президента на его врагов. Иные иконы доверия потемнели и были забыты, как Григорий Явлинский, Борис Немцов или генерал Лебедь. Но каждого из былых идолов провожали столь яростным спазмом отречения, что недоверие в конце концов вошло нам в кровь.
2. Не отстояв идеал демократизации через европеизацию, Запад третий раз за сто лет после 1914-го проигрывает свою универсальную ставку. Иван Крастев никак не отграничивает упадка публичной политики в Европе от постсоветского Евровостока, которые чаще рассматривают обособленно. Размывание западного ядра евровосточной периферией объединено сюжетом общей драматургии – уже не рост прогрессивных сил. Не бунт левых «детей» против меритократических «отцов», а мятежи разобщенных граждан. Прощальный отказ горожанина, теряющего электоральную власть, от демократии участия.
Антиэлитный призрак вечно бродил в демократиях как закваска будущего. Но современный популизм не сродни мятежам 1968 года. Он не ищет утопий, требуя профинансировать ускользающий быт. Популизм движений XXI века взывает к потребительским правам, пытаясь воскресить докризисный образ жизни.
3. Центральная мысль Крастева – истощение способности демократии осваивать свой же домен, семью европейских обществ. Внешне на месте системы выборов работают политические институты. Однако все пошло чуть-чуть не так, как ждали. (Чудная метафора автора об избирателях, которые проголосуют однажды незаполненными бюллетенями, грозит сбыться в России.)
И вот это чуть-чуть не так однажды оборачивается, к примеру, падением Украины.
Украинская революция началась с ярких, знакомых сцен городского мятежа против коррумпированной автократии. Где такого не бывало? Сербия, Тунис, Таиланд… Но развертывание бунта в революцию привело к потере демократического пафоса. Завладев победой Евромайдана, старая элита спустила революцию с лестницы и, вытолкав на Восток, заклеймила «терроризмом». Не доверяя украинским избирателям Востока и Юга, Киев присвоил монополию триумфатора. (Тут Киев и Кремль мыслят одинаково, оба избирателю не доверяют.)
Украинская революция стала первой революцией недоверия. Именем «небесной сотни» развоплотили реальную страну. При помощи Москвы потеряли Крым; Одесса, как Беслан, дала новый топоним немыслимому; в кровяном пятне Новороссии размокли границы. Буржуазная толерантная Украина приобщается к сонму теней Югославии.
4. Крастева тревожит падение готовности демократий к самопознанию – ведь демократы управляли словом и побуждением к выбору.
Но голоса глохнут, а обесцвеченные выборы выливаются в яркие уличные мятежи. Оккупаи стали мейнстримом: оккупай Уолл-стрит, оккупай Таксим, оккупай Майдан… Но, в отличие от 1960-1980-х, каждый Оккупай отстаивает лишь самое себя. «Оккупай» Болотной выступил в защиту столичного стиля, политически его не уточнив. Этот консерватизм протеста был тут же подмечен властью – и обращен ею против «либералов с айфонами в норковых шубах».
Крастев говорит об упадке культуры компромисса. Избиратель уходит из институтов – демократическая система его теряет. Рост символической враждебности к элитам и мигрантам лишь симптом. Гражданин развернул герилью против воображаемых меньшинств, посягающих на его привычки. Он воюет против них виртуально, а социальные сети осыпают его «лайками», иллюзией большинства – которого он не обнаружит, когда выйдет на площадь.
5. Крастев отметает болтовню о сетевой демократии – развитие социальных сетей не привело к росту прозрачности и контроля. Подачки недоверчивым, вроде российских видеокамер на избирательных участках, – фальш-окна, которые никуда не ведут. Зато граждане заняты сбором и передачей гигабайтов никому не нужных данных, а социальные сети гудят. Всюду сетевые инициативы: одни охраняют рыбок, другие – права рыбаков, третьи – спасают червячка от тех и этих, – мощное гражданское общество – сетевая Monitory Democracy!
Но по Крастеву, процесс демократии бесповоротно ушел на территорию недоверия. Сеть предлагает изумительные видовые туры для каждого презирающего элиты. Цифровые устройства позволят наблюдать за функционером хоть круглосуточно – чем это принципиально отличается от браслета на Навальном? Как доказал Сноуден, в конце концов, все данные стекаются в один кабинет. Зато недоверчивая демократия сработала на отрицательный кадровый отбор – сильные характеры не идут в политику, это поднадзорное занятие. В результате у Европы нет хватки. Нет лидеров, способных выдвигать решения, например, по той же Украине.
Демократический субъект Европы выбрал право на отказ. Он уходит из реальной политики, чтобы далее заглядывать в нее сквозь смартфон.
6. Меритократии знали сюжет, ведущий из прошлого в будущее, – новым демократиям недостает глубины, чтоб отнестись к своему будущему всерьез.
Став беспамятной, публичная политика очень изобретательна в техниках недоверия. Расцвет конспирологий вместо критики, инфографика вместо драмы убеждений. Крастев видит беду не в институтах, а в крахе доверия масс к меритократии элит. Он рисует мир, где элиты отгорожены от избирателя экраном «сетевой демократии». А тем временем, как показала и трагедия Украины, коррупция элит при злорадной конспирологии масс ведет средний класс в ловушку.
Отсюда гипотеза Ивана Крастева: поскольку демократия без доверия невозможна, мейнстрим недоверия ознаменует паломничество Запада на Восток. Конвергенцию с нынешней Россией.
7. Россия воздвигла архипелаг недоверия, который с трудом сдерживает Путин. Местные элиты едва увертываются от масс, переадресуя их злость меньшинствам – воображаемым «бандеровцам», «либералам», «пятой колонне»… Мишени все волшебней, а реальные угрозы ближе; страх и ненависть всех ко всем все тотальней. Желая уберечь Европу от нашей судьбы, автор предупреждает, что управлять недоверием – не выход для демократий.
Сегодня недоверчивая Россия отрекается от мира, с которым едина и нераздельна (изолироваться значило бы для нас просто распасться). Но отречение смещает ориентиры, и Крастев рекомендует всем нам свериться, если не поздно. Иначе демократия станет анахронизмом прежде, чем будет отменена.
Глеб Павловский
Введение Демократия без доверия
Эта книга о демократии. О демократии не как об идеале или наборе институтов, но как о коллективном опыте. Эта книга о природе и источниках нашего нынешнего разочарования в демократии. Будучи одновременно понятием и реальностью, демократия переживает радикальную трансформацию. Социальные и политические революции 1970-х и 1980-х годов («от Вудстока до Уоллстрит»), революции «конца истории» 1989 года, цифровая революция 1990-х годов, демографическая революция, политическая революция мозга, которая разворачивается перед нашими глазами, вызванная новыми открытиями в науках о мозге и бихевиористской экономике, сделали граждан свободнее, чем когда бы то ни было. Но одновременно все эти революции ослабили власть демократического избирателя. Наши права более не обеспечиваются нашей коллективной властью как избирателей, но подчиняются логике финансового рынка и существующим конституционным механизмам. Избиратели могут поменять правительство, но абсолютно не способны изменить экономическую политику. Элиты освободились от идеологической и национальной лояльности и стали глобальными игроками, оставив общество у разбитого корыта национального государства. Наступил глубокий упадок общественного доверия к эффективности общественных институтов. Это недоверие возникает не по причине порчи общественных служб. Оно возникает из-за того, что избиратели почувствовали свое собственное бессилие, – из-за их разочарования в демократии.
Некоторые из наиболее проницательных теоретиков современной демократии – включая Пьера Розанваллона, автора блестящей книги «Контрдемократия», – настаивают на том, что мы напрасно встревожены упадком доверия к институтам представительной демократии. Они утверждают, что это недоверие является критическим элементом политической системы и что демократия – это не столько про доверие, сколько про организацию недоверия. Словом, мы живем в век, когда обычные граждане могут проводить эффективный мониторинг исполнительной власти, а избиратели могут добиваться изгнания облеченных властью негодяев. Тем не менее граждане-избиратели вынуждены признавать, что не от них теперь зависит, в каком обществе они будут жить.
Верите ли вы в такую демократию недоверия? Можем ли мы довольствоваться нашими правами, не имея реального политического выбора? Я считаю, что нет, не можем. И эта небольшая книга является попыткой объяснить, почему это так.
Эта книга задумывалась не как пособие для ведения полемики или решения практических задач. Она представляет собой размышление, и читать ее нужно ради удовольствия от вопросов, которые она ставит, а не ради пользы от удачных ответов, которые она дает. Она написана как джазовая пьеса в тональности веселого скептицизма: скептицизма по отношению к уже опубликованным некрологам демократии, равно как и по отношению к исступленному желанию возродить демократию, полагаясь на несокрушимую силу технологического воображения. Это импровизация на тему демократии и доверия. Вопрос можно поставить просто: может ли демократия существовать без доверия?
Часть I
Недоверие избирателей
«Выборы ничего не решают» – гласит граффити, намалеванное на стене в центре моего родного города Софии. «Если бы выборы что-то решали, их бы запретили».
Никто не помнит, когда это граффити впервые появилось или кто его нарисовал, – возможно, какой-нибудь молодой анархист или совсем немолодой уличный художник. Никто не знает, почему состоятельные владельцы здания никогда не удаляли его (нет ничего удивительного в том, что муниципальные службы не смыли его, ведь у них никогда нет денег на такие вещи). Но со временем граффити стало своего рода девизом путешествия болгар через дебри демократии.
Когда бы их ни спросили, болгары никогда не упускают возможности сообщить социологам, репортерам и своим друзьям, что выборы ни черта не изменят. И не только болгары так думают и говорят.
Для того чтобы подчеркнуть общественный цинизм в отношении современной партийной политики, стоит пересказать историю Владимира Бойко. Бойко – молодой украинец, амбициозный, прагматичный и предприимчивый. В 2004 году он вместе с тысячами других молодых людей проводил дни и ночи на центральной площади Киева, протестуя против фальсификации результатов украинских президентских выборов. Он и люди, подобные ему, были символом национальной мечты о подлинной демократии. Они надеялись, что демократия принесет им процветание, новые возможности и перемены. К сожалению, как мы знаем, вместо этого после революционного оранжевого десятилетия Украина стала свидетелем коррупции, высокомерия и гордыни людей, облеченных властью. Украинские олигархи снова оказались единственными бенефициарами перемен. Вскоре после этих революционных дней лидеры движения перешли в наступление, но не против коррупции, а друг против друга. Экономика перешла в свободное падение. Негодяи дней революции выставлялись теперь спасителями нации. Что касается Бойко, он перестал интересоваться национальными проблемами и занялся заколачиванием денег. Сейчас его бизнес – это «аренда толпы». Его компания, «Легкая работа», собрала базу данных на нескольких тысяч студентов, пенсионеров и безработных, которых можно мобилизовать в любой момент для организации политических демонстраций в любом месте Киева. Они могут стоять часами и по команде выкрикивать приветствия или издевки. Для Бойко и его наемных работников идеология не имеет значения, когда они соглашаются играть роль «граждан» во время этих демонстраций. Им важно только то, чтобы деньги – обычно это 4 доллара за час – были выплачены вовремя. То, что было гражданским активизмом в дни «оранжевой революции», в наше время превратилось в активизм торгашей. Демократия уже не означает политику, демократия – это деловое предложение.
Можно сказать, что Болгария и Украина – это редкие примеры крайнего разочарования в демократии. Но также верно то, что настроение болгарских и украинских избирателей стало проявлением широко распространенной тенденции. За последние три десятилетия во всем мире люди голосуют чаще, чем когда бы то ни было, но во многих европейских странах большинство из них уже не чувствуют, что их голоса что-то значат. Существует долговременная тенденция снижения электоральной явки в большинстве западных демократий, и меньше всего склонны голосовать бедные, безработные, молодежь – то есть именно те, кто должен быть в наибольшей степени заинтересован в использовании политической системы для улучшения своего положения. Драматический упадок доверия с 1970-х годов ярко иллюстрируется тем фактом, что в большинстве западных обществ люди моложе сорока лет прожили всю свою жизнь в странах, в которых большинство граждан не доверяют своему национальному правительству.
Таким образом, хотя привлекательность демократических принципов кажется все более универсальной, хотя число демократий в мире растет (с вновь прибывшими Ливией и Египтом), доверие к компонентам демократии – партиям, выборам, парламентам, правительствам – находится в серьезном упадке. Профессор Мэри Кэлдор и ее команда в Лондонской школе экономики провели исследование источников новых протестных движений в Европе. Результаты показывают, что многие участники не столько протестуют против конкретной политики правительства, сколько выражают общее убеждение, что могущественные интересы захватили демократические институты и что граждане бессильны это изменить. Неудивительно, что растущее число людей начинают голосовать за оппозиционные или экстремистские партии. Новый популизм, который находится на подъеме в Европе и США, представляет не чаяния угнетенных, но скорее разочарование правомочных. Это не популизм «народа», увлеченного романтическим воображением националистов, как это было столетие и более тому назад. Это популизм пессимистического и напуганного большинства, опасающегося, что их демографический упадок также означает утрату власти. По словам американского теоретика политики Марка Лилла, «это обстоятельство дает голос тем, кто чувствует, что им угрожают, но этот голос, подобно персонажам из фильмов с Гретой Гарбо, может сказать только одно: “Я хочу, чтобы меня оставили в покое”».
Вопреки мнению ученых, решивших, что люди потеряли веру в демократию, где-то в мире есть еще граждане, штурмующие улицы, чтобы провозгласить свое право на самоуправление. В то самое время, когда Бойко арендует толпы для украинского правящего класса за 4 доллара в час, десятки тысяч представителей московского среднего класса в путинской России – те, кто обычно зарабатывает по меньшей мере 20 долларов в час, – заполняют улицы, веря, что свободные и честные выборы дают России единственный шанс на лучшее будущее. В арабском мире миллионы людей сооружают баррикады, требуя демократического и подотчетного правительства. Что касается болгар, они не очень верят в демократию, но они также не верят ни в какие ее альтернативы. Каждой истории разочарования и отчаяния можно противопоставить пример энергии и гражданского мужества. В конечном счете все на твое усмотрение, дорогой читатель, – предаваться отчаянию или вдохновению. Тебе решать, находится ли демократия в кризисе.
Ловушка для дураков
Современная европейская история всегда оставалась очень подозрительной к обаянию буржуазной демократии. «Выборы: Ловушка для дураков» – гласил заголовок эссе Жана-Поля Сартра накануне парламентских выборов во Франции 1973 года. Веком ранее Якоб Буркхардт был еще более категоричен: «Я слишком хорошо знаю историю, чтобы ожидать от деспотизма масс чего-то иного, чем будущей тирании, которая будет означать конец истории». Но для того чтобы правильно понимать политическое отношение к демократии в Европе XX века, необходимо осознать страх перед революционными массами, лежащий в основе этого опыта. «В теории мы склоняемся к тому, чтобы видеть в революции движение, ведущее к освобождению, – писал Раймонд Арон в “Заре универсальной истории”, – но революции ХХ века благоприятствуют скорее рабству или, по крайней мере, авторитаризму».
Несмотря на то что «демократия» была боевым кличем Западной Европы в ее конфронтации с советским коммунизмом, недоверие к демократии было частью европейского консенсуса эпохи холодной войны. Демократии считались слабыми и нестабильными. Они были неэффективны в борьбе со злостными врагами. Они были слишком идеалистичны и слишком медлительны, когда надо было принимать решительные меры, связанные с применением силы. Демократический способ принятия решений был близоруким, сеющим раздор, расположенным к демагогии и манипуляциям. Не кто иной, как Уинстон Черчилль сухо заметил, что «лучшим аргументом против демократии является пятиминутная беседа с обычным избирателем».
В 1970-х немецкий канцлер от социал-демократов Вилли Брандт был убежден, что «Западной Европе осталось только 20 или 30 лет демократии; потом она сползет без руля и без ветрил в окружающее море диктатур, а от кого будет исходить диктат – от политбюро или от хунты, – это не имеет большого значения». Меритократия, но отнюдь не демократия была истинным идеалом европейского образованного класса. Меритократия и либеральный рационализм – но только не демократия – лежат в самом основании проекта европейской интеграции. Тем не менее, хотя сомнения относительно демократии всегда были в Европе, европейцы никогда не теряли веру в способность демократического общества к самокоррекции и в способность избирателей вносить изменения и преследовать коллективную цель.
Почему же в тот самый момент, когда демократия становится единственной политической идиомой глобального масштаба, многие люди в Европе и США ставят под сомнение способность демократических режимов служить коллективной цели? Что изменилось? Я считаю, что нарушилась связь между персональной свободой индивида и коллективной мощью избирателей. Некогда индивид осознавал, что он нуждается в других людях для того, чтобы защитить свои личные права; он вступал в политические партии и устраивал забастовки. Сегодня же индивид либо воспринимает свою свободу как само собой разумеющуюся, либо верит, что он может сам ее защитить с помощью клика мышки или предъявляя иск против правительства. То, чему мы оказываемся свидетелями, является не концом демократии, но, скорее, ее радикальной трансформацией.
Трансформация демократии
Некоторые полагают, что сегодня мы наблюдаем подъем постдемократического капитализма. По-моему, это больше похоже на зарождение постполитической демократии. Именно политика переживает кризис. По-прежнему верно то, что в капиталистических демократиях правительства зависят от доверия избирателей. Но природа этой зависимости изменилась. В послекризисной Европе мы стали свидетелями возникновения странного разделения труда между избирателями и рынками, когда заходит речь о работе правительства. Принятие решений в сфере экономики методично выводилось из компетенции демократической политики по мере того, как спектр политически приемлемого выбора начал драматическим образом сужаться. Политика свелась к искусству регулирования императивов рынка.
В течение XIX и XX веков гражданские свободы были защищены коллективной способностью индивидов совершать перемены. Люди получали права и сохраняли их, потому что обладали достаточной силой, чтобы их защищать. Сегодня наши свободы защищены логикой рынка, а не нашим коллективным усилием в качестве избирателей. Рынок верит в свободных автономных индивидов, способных рисковать и готовых принимать ответственность. Избиратели могут решать, кто войдет в правительство. Их голоса все еще «избирают» победившую партию. Но только рынок сейчас решает, какой будет экономическая политика правительства, безотносительно к тому, кто победил на выборах. Сегодня во время жарких споров в Европе о будущем институциональном устройстве еврозоны становится ясно, что новые правила еще больше ограничат возможность избирателей влиять на принятие решений в сфере экономики. Проще говоря, рынки хотят быть уверенными в том, что избиратели не станут принимать глупые решения. С экономической точки зрения это может иметь большой смысл, однако с точки зрения политики возникают весьма неудобные вопросы: могут ли люди хоть на что-нибудь влиять? зависит ли еще что-нибудь от избирателей? не превращается ли представительная демократия в нечто бутафорское?
Влияние рынка также сыграло свою роль в отставке итальянского премьера Сильвио Берлускони. В день его краха улицы вокруг президентского дворца были наполнены пением демонстрантов, размахивающих итальянскими флагами, и хлопаньем раскупориваемых бутылок шампанского. Зрелище было похоже на революцию. Но она была как никогда далека. Напротив, это был триумф власти финансовых рынков. Отнюдь не воля избирателей сбросила коррумпированную и неэффективную клику Берлускони. Это финансовые рынки вместе с бюрократической верхушкой Брюсселя (и руководством европейского Центробанка во Франкфурте) отправили откровенное послание «Берлускони должен уйти». Именно эти силы выдвинули преемника Берлускони, бывшего европейского уполномоченного и технократа Марио Монти на пост итальянского премьер-министра. У людей на улицах Рима были все основания чувствовать одновременно и экстаз, и бессилие. Берлускони ушел, но избиратель перестал быть самой значимой фигурой в переживающей кризис Италии. Люди на улицах были не участниками, но лишь зрителями исторических событий. Главной действующей фигурой стал рынок.
«Рынки – это голосующие машины», – сказал однажды президент Ситибанка Уолтер Ристон. – Они функционируют, проводя референдумы». Но уважение к влиятельности потребителя – не то же самое, что уважение к власти избирателя. Рынок не верит в то, что народ и правительство имеют право вмешиваться в тех случаях, когда решают, что рынки терпят крах. В начале XIX века в демократических Франции и Англии только от 5 до 10 процентов людей имело право голоса – образованные и состоятельные мужчины имели право решать все социальные, политические и военные вопросы. Сегодня избирательное право распространено гораздо шире. Но мы стали свидетелями сокращения числа вопросов, решающихся в ходе политического процесса. Все больше вопросов, например, каким должен быть размер приемлемого бюджетного дефицита, как в странах еврозоны, исключаются из электоральной политики.
В своей книге «Парадокс глобализации» гарвардский экономист Дани Родрик утверждает, что существует три точки зрения на управление напряжением между национальной демократией и глобальным рынком. Мы можем ограничить демократию для усиления конку рентоспособности национальных рынков. Мы можем ограничить глобализацию в надежде на установление демократической легитимности у себя дома. Но мы также можем глобализировать демократию ценой национального суверенитета. Однако мы не можем получить одновременно гиперглобализацию, демократию и самоопределение. Тем не менее именно это пытаются делать наши правительства. Они хотят, чтобы у людей было право голоса, но не готовы позволить им вести «популистскую политику». Они хотят снизить затраты на рабочую силу и игнорировать социальные протесты, но не хотят публично одобрять авторитаризм. Они отдают предпочтение свободной торговле и взаимозависимости, но хотят иметь решающий голос при определении закона страны. Таким образом, вместо того чтобы выбирать между суверенной демократией, глобальной демократией и дружественным глобализации авторитаризмом, политические элиты пытаются заново определять демократию и суверенитет для того, чтобы сделать невозможное возможным. Результатом стала демократия без выбора, суверенитет без смысла, глобализация без легитимности.
Короче говоря, избиратель утратил способность противостоять власти рынка ради общественного интереса. Сегодняшний кризис демократии лучше понимать не как угрозу индивидуальной свободе или как риск возвращения к авторитаризму (оппозиция «демократия/авторитаризм» стала во многом бесполезной в применении к политической ситуации на Западе), но вновь как разочарование правомочных. Избиратели не верят, что их голоса на деле что-то значат для управления страной даже тогда, когда они признают, что выборы были свободными и честными. Люди видят все меньше причин для того, чтобы голосовать. Иначе говоря, они видят все больше причин для того, чтобы голосовать незаполненными бюллетенями. Голос граждан становится простым шумом.
Большинство, голосующее пустыми бюллетенями
Это был ничем не примечательный день выборов в небольшой и номинально демократической стране где-то на периферии Европы. Дождь, идущий все утро, заставил народ сидеть дома, а политиков – опасаться или ждать с нетерпением низкой электоральной явки. Не было никаких признаков кризиса. Было общее ощущение скуки и фальши. Ожидалось, что правительство победит на выборах, а оппозиция успешно переживет поражение. В полдень дождь наконец прекратился, и люди начали приходить на избирательные участки, чтобы исполнить гражданский долг или удовлетворить политическую страсть, – возможно, просто из чувства азарта. В конце концов, граждане находят очень разные причины для участия в выборах. Но затем произошло нечто странное и действительно пугающее.
Когда избиратели проголосовали, оказалось, что число действительных бюллетеней не достигло 25 процентов. При этом партия правого крыла набрала 13 процентов, центристская – 9, а левая партия – 2,5 процента. Было совсем немного испорченных бюллетеней и только горстка воздержавшихся. Все остальные бюллетени, составляющие более 70 процентов от всех голосовавших, были пустыми. Истеблишмент, в данном случае правительство, и оппозиция были встревожены и смущены. Почему граждане оставили бюллетени незаполненными? Что они хотели этим сказать? Как голосующие пустыми бюллетенями смогли самоорганизоваться? Почему они не остались дома, если не было никого, за кого они хотели бы проголосовать? Почему они не проголосовали за оппозицию, если ненавидели правительство? Почему они не собрались перед парламентом и не взяли штурмом почтовое отделение, если настолько презирали систему?
Энергичные попытки правительства найти лидеров тайной сети голосующих пустыми бюллетенями закончились разочарованием и отчаянием. Оказалось, что у избирателей с пустыми бюллетенями не было идеологов или организаторов. Их акция не планировалась и не готовилась заранее.
О ней даже не сообщалось в «Твиттере». Расследование, проведенное тайной полицией, подтвердило, что до голосования идея пустых бюллетеней публично даже не обсуждалась, не было записано ни одного телефонного или скайп-разговора, в которых поднималась бы эта идея. Единственное рациональное объяснение состояло в том, что либо этот протест был организован некой внешней законспирированной сетью, либо большинство людей в одно и то же время – и независимо друг от друга – пришло к идее сдать незаполненные бюллетени. В итоге правительству не с кем было торговаться, некого арестовывать, некого даже шантажировать или кооптировать в свой состав. Короче говоря, фрустрация правительства отражала фрустрацию граждан. После недельной тревоги выборы были проведены снова. Но, вот поди ж ты, и на этот раз 83 процента оставило пустые бюллетени.
Это сокращенная версия истории о восстании пустых бюллетеней. Удивительно, что это восстание не произошло в изнывающей от жесткой экономии Италии или разоренной Греции, где, если верить последним опросам общественного мнения, только один гражданин из пяти считает, что его голос имеет какое-то значение для национальной политики. Оно не произошло в Румынии или Болгарии, где вроде бы постоянно происходят странные вещи. Восстание пустых бюллетеней также не случилось во Франции или Германии, где чаще всего происходят сокрушительные для всего мира события. В конечном итоге оно произошло в романе нобелевского лауреата Жозе Сарамаго, бывшего сталиниста и ярого анархиста, – в его классическом произведении «Зрение». Но сегодня восстание пустых бюллетеней могло бы произойти едва ли не в любой европейской стране. Невольно вспоминается старый советский анекдот о человеке, который стоит возле Кремля и разбрасывает листовки. Когда милиция его арестовывает, обнаруживается, что все его листовки пустые. «Всем и без того известно, – говорит человек, – что все не так, зачем же писать об этом?» Но знаем ли мы, в самом деле, чтó сегодня не так?
«Основа расшаталась»
Отношение общества к демократии в современной Европе лучше всего представить в виде смеси пессимизма и злости, как в знаменитых строках Йейтса: «Все рушится, основа расшаталась… / У добрых сила правоты иссякла, / А злые будто бы остервенились» (У. Б. Йейтс «Второе пришествие», перевод Г. У. Кружкова).
Это настроение отразилось во множестве недавно проведенных опросов. Несмотря на то что в апреле 2012 года большинство европейцев признало Европейский союз неплохим местом для жизни, их уверенность в экономических показателях ЕС и его способности играть ведущую роль в мировой политике снизилась. Еще более волнующим оказался тот факт, что 90 процентов европейцев увидели расширяющийся разрыв между народными ожиданиями и действиями правительства. Только треть европейцев заявила, что чувствует значимость своих голосов на уровне ЕС. Только 18 процентов итальянцев и 15 процентов греков заявили, что чувствуют значимость своих голосов даже в их собственных странах. По данным другого опроса, 76 процентов европейцев заявили, что их экономическая система является несправедливой, выгодной лишь для немногочисленной верхушки.
В США можно обнаружить похожее сочетание злости и недоверия по отношению к элите и общественным институтам. Растущая неудовлетворенность тем, как работает американская политическая система, заставляет многих сильно сомневаться в том, что Америка переживает сегодня свои лучшие времена. Главный герой популярного телесериала «Новостной отдел» точно схватил это новое ощущение горечи и разочарования, когда заявил, что, хотя Америка продолжает говорить о себе как о величайшей нации в мире, на самом деле «мы находимся на седьмом месте по грамотности, двадцать седьмом по математике, двадцать втором по науке, сорок девятом по продолжительности жизни, сто семьдесят восьмом по младенческой смертности, мы третьи по среднему доходу домохозяйств, четвертые по рабочей силе и по экспорту. Мы лидируем только в трех категориях: по числу заключенных на душу населения, количеству взрослых, верящих в ангелов, и по оборонным расходам, на которые мы тратим больше, чем следующие двадцать шесть стран вместе взятые». Демократия превратилась в цыплячью игру, в которой не допустить другую сторону к управлению важнее, чем управлять самому. «Затор» (gridlock) стал тем понятием, которое наилучшим образом характеризует то, как американцы описывают свою политическую систему. С 2008 по 2012 год республиканцы в конгрессе прибегали к тактике обструкции законопроектов столько же раз, сколько они применяли ее в течение семи десятилетий между Первой мировой войной и окончанием второго срока президента Рональда Рейгана.
Неудивительно, что в глазах Европы США выглядят недееспособной посткоммунистической демократией, в которой политика является неуправляемой игрой с нулевой суммой. А американцам европейские демократии кажутся упадочными полуавторитарными режимами, в которых элиты решают все за спинами избирателей.
В каком-то смысле различие между тем, как американские и европейские элиты реагируют на свертывание демократической политики, похоже на контраст между голливудским фильмом и французским экспериментальным романом. Американские политики надеются сохранить у избирателей интерес к политике, поддерживая веру в традиционный сюжет – заставляя их выбирать между белым и черным. Европейские же политики избавились от сюжета и вместо этого стараются убедить избирателей, чтобы те обращали внимание на достоинства литературного стиля. Для США и Европы существуют определенные риски. В США избиратели могут однажды осознать, что, хотя их политические представители расходятся почти по всем пунктам, они проводят пугающе одинаковую экономическую политику. В этом случае негодование против элит резко возрастет, и люди будут готовы поддержать радикальные платформы. В Европе избиратели могут просто перестать «читать». Другими словами, неголосующий станет главным персонажем европейской политики.
Роман Сарамаго, опубликованный почти десять лет тому назад, в докризисном 2004 году, передает состояние общественного сознания лучше, чем какой бы то ни было политический анализ. Он показывает, как избиратели утрачивают чувство своей значимости: хотя они и обладают правами, у них нет реального выбора.
Движения, наполненные страстью, но без лидеров
Представители новых социальных движений – «Захвати Уолл-стрит» в США, «Индигнадос» в Испании, пиратов в Германии, Швеции и других странах Северной Европы, – возникших по следам текущего экономического кризиса, напоминают тех, кто голосовал пустыми бюллетенями во все том же романе Сарамаго. Они исполнены страсти, у них нет лидеров, они очень таинственны. Они хотят перемен, но не имеют ясного представления, какими должны быть эти перемены и откуда они могут начаться. Они прекрасны в своих политических жестикуляциях, но слабы в осуществлении политического действия. Когда правящие круги Испании вынудили разгневанных радикалов представить свои требования, они получили лишь требования незначительных изменений в избирательной системе, как будто написанные каким-то студентом-политологом второго курса, который обучается в университете, страдающем от хронического недофинансирования.
Во многом новые радикалы напоминают потерянное поколение 1960-х годов – своим энтузиазмом и идеализмом, своей верой в то, что нам необходим другой мир, а не просто другая партия власти. Однако новое протестное движение – это не второе издание 1968 года. Оно не столь утопично, идеологично и мало ориентировано на будуще е. В 1968 год у общее ощущение было таково, что в новом мире вы сможете сделать кого угодно. В 2008 году появляется ощущение, что кто угодно (будь это человек или институт) может сделать вас. Бестселлер Майкла Льюиса «Большая игра на понижение» стал одной из немногих недавно вышедших книг, оказавшихся в равной степени популярными как среди демократов, так и среди республиканцев. В некотором смысле это новое поколение радикалов является консервативным и ностальгическим. Они вышли на улицы не для того, чтобы требовать перемен, но для того, чтобы их не допустить. Если в 1968 году протестующие на улицах Парижа и Берлина хотели жить в мире, отличном от мира их родителей, то новые радикалы настаивают на своем праве жить в мире своих родителей. Они не хотят брать власть. Они мечтают изменить способ существования власти. Они смогли произвести «глобальный шум» и поднять такие вопросы, как растущее социальное неравенство. Но они не смогли выработать сильный и реалистический голос, способный оправдать конкретные политические реформы.
Вопреки ожиданиям многих политических обозревателей, экономический кризис не ослабил, а, напротив, значительно усилил привлекательность политики идентичности. Именно ксенофобски настроенные правые, а не эгалитарные левые остались в выигрыше от кризиса в чисто политическом смысле. Но тут надо быть очень осторожными: четкое разделение на левых и правых, которое определяло европейскую политику со времен Великой французской революции, в настоящее время размывается. Запуганное большинство – те, кто имеет все и кто тем не менее всего боится, – стало главной силой европейской политики. Они боятся, что иммигранты или этнические меньшинства завладеют их странами и станут угрожать их образу жизни. Они боятся, что европейское процветание уже не является само собой разумеющимся, и беспокоятся, что влияние Европы на глобальной политической сцене стремительно падает. Они ставят под сомнение аксиомы либерального консенсуса.
В то же время возникающий иллиберальный политический консенсус не ограничивается правым радикализмом. Он ведет к трансформации европейского политического мейнстрима.
Если присмотреться к текущему политическому развитию европейской и американской демократий, несложно представить себе большинство, голосующее незаполненными бюллетенями. Пустой бюллетень дает возможность избирателю удовлетвориться протестом, не предпринимая действия. Это отлично подходит для новой мантры как рыночных либертарианцев, выступающих против государства всеобщего благосостояния, так и левых либертарианцев, выступающих против государства национальной безопасности: нам больше всего подходит то правительство, которое мы не видим или которое вовсе отсутствует.
Я хочу понять, почему избиратели утратили веру в то, что голосованием можно добиться перемен. Есть ли в этой современной неудовлетворенности демократией нечто еще, кроме разочарования в отдельных демократических режимах? Почему результатом демократизации общества стало падение доверия к демократическим институтам? Сможет ли демократия существовать без доверия?
Часть II
Кризис демократии
На послекризисном Западе выражение «кризис демократии» распространилось столь широко, что легко можно забыть о том, что демократия всегда пребывала в кризисе. Библиотечные полки стонут под тяжестью книг о кризисах демократии, которые за последнее столетие случались едва ли не каждые десять лет. Побежденные политики двух последних веков почти всегда были готовы заявить о наступлении какого-нибудь кризиса. Когда люди выходили на улицы, чтобы защитить свои права, эксперты спешили заключить, что демократия переживает кризис (или наоборот, когда никто не показывался на улицах, другие эксперты были обеспокоены тем, что та же самая демократия находится в кризисе). Приведение аргументов в пользу кризиса идеи демократии может оказаться напрасным занятием. Но даже если мы сумеем не поддаться обаянию «кризисной риторики», остается одно важное измерение кризиса демократического общества, которое сегодня не следует игнорировать. По самой своей сути открытые общества являются саморегулирующимися. Их легитимность и успешность зависят не от их способности приносить процветание (автократические режимы могут прекрасно с этим справляться), но от способности исправлять неудачные политические решения и действия.
В этом смысле реальный кризис демократии не следует выводить из краха демократических режимов и возникновения авторитарных правительств. Демократия может утратить способность к самокоррекции даже тогда, когда ее фасад остается безупречным. Демократия, которая постоянно меняет свои правительства, но не может справиться со своей политической недееспособностью, находится в кризисе. Демократия, в которой публичная дискуссия не способна изменять мнения, а споры лишь подтверждают существующие идеологические предубеждения, находится в кризисе. Демократия, в которой люди утратили надежду на то, что их собирательный голос может вызывать перемены и служить коллективной цели, находится в кризисе. В этом смысле наличие демократических институтов является необходимым, но недостаточным условием существования открытого и демократического общества. Нам нужно задаться вопросом, подрывает ли упадок доверия к демократическим институтам способность демократических режимов к самокоррекции. Не достигли ли мы того состояния, когда наши демократические институты просто поддерживают некоторое безнадежное status quo?
Пять революций
Именно разочарование и упадок доверия к демократическим институтам делает современный кризис демократии столь отличным от предыдущих кризисов, хотя он и не сопровождается утратой свободы или подъемом мощной антидемократической альтернативы. Нынешний кризис демократии – это не результат некоего институционального поражения демократии; напротив, это продукт ее успеха. Это итог пяти революций, потрясших наш мир в течение последних пятидесяти лет. Они сделали нас более свободными, но менее сильными, чем прежде. Я имею в виду революцию 1970-1980-х годов – «от Вудстока до Уолл-стрит»; революции «конца истории» 1989 года; цифровую революцию 1990-х годов; демографическую революцию; политическую революцию мозга, вызванную новыми открытиями в науках о мозге и бихевиористской экономике.
Эти пять революций основательно углубили наш демократический опыт. Революция «от Вудстока до Уолл-стрит», а также счастливый, хотя и порочный брак между социальной революцией 1970-х годов и рыночной революцией 1980-х годов разбили цепи авторитарной семьи и ослабили гендерные и расовые стереотипы, придав новый смысл идее индивидуальной свободы. Они сделали выбор потребителя бесспорной ценностью и превратили суверенную личность в главного героя социальной драмы. («Рынок дает людям то, что они хотят, вместо того, что они должны хотеть по мнению других людей», – говорил лауреат Нобелевской премии экономист Милтон Фридман.) Демографическая революция, вызванная спадом рождаемости и ростом продолжительности жизни, внесла большой вклад в социальную, экономическую и политическую стабильность западных обществ. Революциям «конца истории» удалось превратить демократию в выбор по умолчанию для всего человечества и дать начало поистине глобальному миру. Революция в области неврологии сделала возможным более глубокое понимание механизма индивидуального принятия решений и разрушила стену между мифическим рациональным и иррациональным избирателями. По отношению к демократии обещание цифровой революции может быть сформулировано следующим образом: «Сделай демократию реальной, а не представительной». Она заставила нас поверить, что наши общества могут снова стать республиками.
Парадоксальным образом эти пять революций, которые углубили наш демократический опыт, вызвали на Западе нынешний кризис либеральной демократии. Революция «от Вудстока до Уоллстрит» привела к утрате общей цели. Поскольку политика 1960-х превратилась в агрегацию частных требований индивидов к обществу и государству, наше общество стало не только более толерантным и открытым, но и более разделенным и несправедливым. Демографическая революция заставила стареющие общества беспокоиться об утрате культурного единства и бояться иммигрантов. Европейские революции «конца истории» 1989 года внушили веру в то, что демократизация, в сущности, – это процесс, смысл которого состоит в обретении наилучшего способа копирования западных институтов. Самостоятельный творческий поиск был уже не нужен. Революция в науках о мозге исключила из политики идеи и представления и свела предвыборные кампании к обработке больших баз данных и применению различных методов отвлечения внимания, охоты на потребителя и симуляции реальных политических изменений, при сохранении, в конечном счете, существующего положения дел. Тем временем цифровая революция поставила под вопрос саму легитимность институтов представительной демократии, взывая к более прозрачному и простому демократическому этосу, который все решает одним «кликом». Она создала лучшие условия для выражения гражданами своего несогласия, одновременно ослабив делиберативную природу демократической политики. По выражению Мика Сифри, соучредителя и исполнительного редактора организации Personal Democracy Forum, «интернет больше подходит для того, чтобы сказать “нет”, чем “да”» (T e Internet is better at “No” than “Go”).
Все пять революций дали гражданам новые возможности, но одновременно ослабили их вес как избирателей. Негативные последствия были самые разнообразные: фрагментация общества, растущее недоверие между элитами и народом, глубокий кризис демократической политики, принявший разные формы в Европе и США. В США проявлениями кризиса стали паралич правительства и неспособность институтов к управлению. В Европе кризис проявился в подозрительном отношении к политике и попытке заместить демократию технократическим управлением.
Лучшие писатели-фантасты учат нас, что для того, чтобы увидеть очевидное, нужно найти логику в алогичном. Любая серьезная попытка понять природу трансформации демократии в XXI веке должна нести ответ на три важнейших вопроса: почему триумф демократии во всем мире привел к кризису демократий в Европе и Америке? почему правительства не смогли вернуть доверие народа после Великой рецессии 2008 года, несмотря на то что рынки потерпели серьезную неудачу? и почему нынешние элиты более меритократичные и вызывают меньше доверия, чем их предшественники?
Риски нормальности
Более века тому назад британский эссеист Уолтер Бэджет сказал, что монархия – «это вразумительное правление», потому что «значительная часть человечества понимает его, и едва ли на земле найдется другое правление, которое будут так понимать». Сейчас это верно для демократии. Надо признать, что у демократии есть враги, но нет привлекательной альтернативы. Именно центрально-европейские революции «конца истории» более, чем какое-либо иное историческое событие, помогли демократии завоевать этот «безальтернативный» статус.
«Это были лучшие годы», – предположил британский дипломат и политический мыслитель Роберт Купер, говоря о 1989 годе. Он «разделил прошлое и будущее так же ясно, как Берлинская стена разделяла Запад и Восток». Аналогичным образом многие могут утверждать, что цифровая революция была «лучшей из революций», поскольку она точно так же разделила прошлое и будущее. Однако парадокс состоит в том, что обе эти мирные и блистательные революции разорвали демократию на два совершенно противоположных направления. «Революции» 1989 года были консервативными в действительном смысле слова: они хотели вернуться в тот мир, который существовал на Западе в эпоху холодной войны. «Никаких экспериментов» – таков был их девиз, поскольку они хотели заморозить время и заставить Восток раствориться в Западе. В то же время цифровая революция – это радикальная революция, обещающая, что все изменится и что демократия, которую мы знаем, изменится в первую очередь. Мое поколение было рождено этими революциями. Мы любили их обоих, а сейчас мы страдаем от последствий их развода.
Признавая, что демократия – это нормальное состояние общества и ограничивая демократизацию копированием институтов и практик развитых демократий, центрально-европейская посткоммунистическая идеология нормальности совершила два греха. Она пренебрегла напряжением между демократией и капитализмом, которое является неотъемлемым и даже необходимым свойством всех рыночных демократий, и она способствовала возникновению чувства превосходства, которое превратило демократию из привлекательного режима в выбор по умолчанию для всего человечества. Хотя история – это лучший довод в пользу того, что демократия и рынок должны быть вместе – большинство процветающих обществ являются рыночными демократиями, – противоречия между рынком и демократией также хорошо известны. В то время как демократия рассматривает индивидов как равных (все взрослые люди имеют равный голос), свободное предпринимательство предоставляет индивидам возможности на основании того, какие экономические ценности они создают и какой собственностью владеют. Таким образом, было бы справедливо ожидать, что средний избиратель при демократии будет защищать собственность богачей только в том случае, если он верит, что это сможет увеличить его собственные шансы стать богаче. Если капиталистическая система не пользуется поддержкой народа, демократия не будет потворствовать неравенству, создаваемому рынком. Революции 1989 года совершили тяжкую ошибку, допустив, что после коллапса коммунистической системы народная поддержка капитализма будет само собой разумеющейся и что все неизбежные противоречия между демократией и капитализмом можно будет обойти или проигнорировать.
Дискурс демократического триумфализма разрушил интеллектуальные основы современных демократических режимов. Демократию больше не считают наименее нежелательной формой правления – лучшей из худших. Напротив, она стала самой лучшей формой правления. Люди убедились, что демократические режимы не только спасают себя от чего-то худшего, но также обеспечивают мир, процветание, честное и эффективное управление в одном комплекте. Демократия представлялась единственно правильным ответом на множество не связанных между собой вопросов: каков наилучший способ достижения экономического роста? каков наилучший способ защиты своей страны? прав ли был известный советский диссидент Натан Щаранский, когда говорил, что «свобода в одном месте сделает мир повсюду более безопасным»? каков наилучший способ борьбы с коррупцией? каков наилучший способ ответа на демографические и миграционные вызовы? Конечно, ответом на все эти вопросы будет демократия. Риторика победила реальность. Однако миссионеры демократии не смогли понять, что одно дело утверждать, что такими проблемами, как коррупция и интеграция, лучше заниматься в демократическом окружении, и совершенно другое дело – настаивать на том, что достаточно провести честные и открытые выборы, принять либеральную конституцию, чтобы решить все эти проблемы. В воображении деятелей центрально-европейских революций 1989 г. демократизация предполагала не столько представительство, сколько копирование западных институтов и политических практик. Беженцы из дивного нового мира коммунизма, центрально-европейские общества тосковали по скуке и предсказуемости. Но, несмотря на это стремление к нормальности, революции «конца истории» 1989 года радикально изменили природу общественных ожиданий от демократии. Уставшие от жизни в диалектическом мире, где все было своей противоположностью, посткоммунистические граждане создали мировоззрение, в котором все хорошие вещи сопутствуют друг другу и случаются одновременно. Демократия означала процветание; авторитаризм означал бедность. Демократия означала отсутствие конфликтов;
авторитаризм означал постоянный конфликт. В каком-то смысле революции 1989 года создали современную версию вольтеровского доктора Панглоса, который, как хорошо известно, верил, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».
Но демократии не были и не могли быть машинами удовлетворения. Они не могут производить хорошее управление, как пекарь печь сдобные булочки. (Хорошее управление является желательным, но вовсе не неизбежным результатом демократии.) Другой ошибкой революций 1989 года стало то, что они смешали реальные преимущества демократии. Демократии не могут предлагать недовольным гражданам исполнения их мечтаний, но они могут предлагать удовлетворение от права что-то делать со своим недовольством. Это реальное преимущество демократии над быстро растущими авторитарными режимами, такими, к примеру, как Китай. Демократия – это политический режим, который лучше всего подходит нашему современному веку недовольства. В своей проницательной книге «Парадокс выбора» Барри Шварц демонстрирует, как бурный рост наших возможностей выбирать вызывает обратный эффект в виде недовольства тем выбором, который мы сделали. Чем больше мы выбираем, тем меньше мы ценим наш выбор и тем меньше довольными себя чувствуем. Покупательница, которая возвращает платье через сорок восемь часов после покупки для того, чтобы купить другое, представляет собой новый вид гражданина. Она недовольна своим выбором, но хочет попробовать еще раз. Выбор, таким образом, становится не инструментом, но целью. Для нее имеет значение лишь возможность беспрерывного выбора, а не тот выбор, который она совершает. Именно эта способность современной демократии приспосабливаться к миру недовольных граждан и потребителей, а вовсе не возможность принести удовлетворение делает ее столь привлекательной не только для обычных людей, но и для элит.
Цифровой разрыв
Цифровая революция не пыталась охладить демократический пыл, но посадила его на диету Red Bull. Она опасалась, что существующие демократические практики отстали от ритма века. Настолько велики были ожидания, что рост современных технологий ознаменует возвращение демократии к ее более аутентичной форме. С точки зрения жителей цифрового мира, демократии уже не нужно быть представительной. Таким образом, цифровая революция на свой манер внесла вклад в процесс делегитимации институтов парламентской демократии. Она демократизировала общественную жизнь ценой ликвидации политики. Политические сообщества утратили свое значение для нашей жизни. Сегодня сторонники политических партий являются лишь одной из социальных групп среди множества других выразительных сообществ, обитающих в интернете.
«Главный парадокс этого века коммуникаций, – пишет Этан Цукерман из Центра Беркмана “Интернет и общество” при Гарвардском университете, – состоит в том, что, несмотря на большую доступность информации и точек зрения из различных частей мира, возможно, сегодня нам приходится иметь дело с более ограниченной картиной мира, чем была у нас тогда, когда коммуникации были развиты меньше». Этот эффект «сегрегации» интернета хорошо изучен. У него есть свои критики. Но тот факт, что связанность не означает общности, остается бесспорным. Растущее этническое многообразие в рамках национальных государств, фрагментация публичного пространства, модная одержимость индивидуальными правами фактически разрушают основы национальной солидарности.
Для молодого поколения опыт демократии необязательно связан с политикой. Можно сказать, что демократия присутствует во всем. Сегодня люди голосуют так же легко, как дышат. В то время как выборы теряют свою силу в деле управления страной, по иронии судьбы, они становятся модными в других сферах жизни. Сегодня граждане могут голосовать за победителя в песенном конкурсе «Евровидение». Они могут выбирать дантиста месяца или парикмахера года. Спорт также стремительно демократизируется.
В 2008 году футбольная команда третьего дивизиона Эббсфлит[1] сделала важный шаг в сторону демократии: за скромную плату в 35 фунтов (около 57 долларов в 2012 году) фанаты получали право управлять командой, голосуя в режиме реального времени в интернете по всем насущным вопросам – от трансфера игроков и управления бюджетом до дизайна сувениров в магазине команды. Тридцать две тысячи человек из ста двадцати двух стран приняли участие в акции под названием «предельная футбольная фантазия». Люди получили право «напрямую» управлять коман дой в тот самый момент, когда они стали терять влияние на государственную политику.
Проблема распространения «голосования» как универсального принципа в принятии решений состоит в том, что становится все труднее увидеть преимущества – а не только недостатки – представительных институтов. Представительная демократия никогда не была только промежуточным этапом между античной прямой демократией и будущей демократией одного «клика». Она имеет свои собственные достоинства. Она сберегла для нас те беспримерные преимущества, которые давало разделение властей, и гарантировала сохранение либеральной природы демократической власти. Подобно тому как революции 1989 года ослабили демократии, сделав их статичными и скучными, цифровая революция трансформировала отношение общества к демократии, расширив применение принципа большинства на неполитические сферы жизни и подорвав легитимность институтов представительной демократии. Сейчас для большинства людей совершенствование демократии означает движение в сторону прямой демократии.
Метафоры XIX века кажутся пророческими. Когда французский историк и философ Эрнест Ренан определил нацию как «ежедневный плебисцит», он говорил как поэт. В наше время превращение существования нации в «ежедневный плебисцит» выглядит вполне реалистичным проектом. Поскольку выпуск какого-нибудь нового продукта компании Apple очень напоминает научно-фантастический роман прежних лет, нам вряд ли следует удивляться, если какой-нибудь активист уже сейчас занимается разработкой плана замены представительных институтов, таких как парламент, инструментами прямой демократии. Исландия предложила первый пример краудсорсингового проекта по созданию конституции. После коллапса национальной банковской системы и последующего за ним глубокого кризиса доверия к политическим институтам большая часть исландских политиков решила, что проведение краудсорсинга для написания новой конституции – единственный способ возродить демократию в стране, где люди были преданы своими лидерами. В настоящее время эксперимент продолжается, но можно ожидать, что инспирированный интернетом эгалитаризм и краудсорсинг станут важнейшими факторами движения по реформированию демократии. Надо готовиться к новым смелым проектам, в которых люди будут использовать краудсорсинг и безотлагательное голосование не только для совершенствования институтов представительной демократии, но также для их замены.
Представим конституционный проект, согласно которому в день инаугурации вновь избранного президента в его тело имплантируется бомба, и эта бомба соединена со смартфонами всех граждан, имеющих право голоса. После каждого принятого президентом решения избиратели нажимают кнопки «да» или «нет», чтобы сообщить, согласны они или нет. Если более чем в трех случаях количество ответов «нет» будет выше, чем количество ответов «да», бомба автоматически сработает. Можно ли представить, что президент не будет заинтересован в получении голосов большинства? Конечно, нет. Но можно ли считать такую страну демократической?
Вследствие двойного давления на демократию со стороны «нормализующих» импульсов 1989 года и стремления цифровой революции «сделать демократию реальной» наша нынешняя политика превратилась в игру надежды и отчаяния. Завершение эпохи холодной войны, как известно, переживалось как конец света ностальгирующим поколением 1989 года, тогда как обещание цифрового рая настроило молодое поколение весьма критично ко всему, что оно воспринимает как вчерашнюю демократию (все это не так уж сильно отличается от старых битв между старыми и новыми левыми). Политика определяется демографическим воображением (страхом, что мы теряем наш мир) и технологическим воображением, которое обещает построить такой мир, какой мы только захотим. Пространства для проведения подлинной политической реформы больше не существует. Нас спрашивают, хотим ли мы защитить демократию прошлого или принять демократию будущего. И хотя мы утратили то, что нас объединяло, сейчас мы связаны больше, чем когда-либо раньше. Подъем нового популизма на Западе невозможно понять, если мы не принимаем в расчет игру между подогреваемыми демографией страхами утраты сообщества и поощряемыми интернетом надеждами на обретение сообщества свободного выбора. Антииммигрантские реакционеры и технологически мыслящие сторонники прогресса, скорее всего, будут определять будущее нашей демократии.
Живое и мертвое
Следующий по порядку насущный вопрос: почему правительства не смогли вернуть общественное доверие после Великой рецессии 2008 года, несмотря на то что рынки действительно обрушились?
В октябре 2009 года британско-американский историк Тони Джадт прочитал в Нью– Йоркском университете публичную лекцию под названием «Что живо и что мертво в социальной демократии». Джадт, автор книги «После войны» – возможно, самой авторитетной работы по истории Европы после 1945 года, – был заметной фигурой в интеллектуальной жизни Нью– Йорка, поэтому неудивительно, что аудитория была переполнена. Однако многие пришли из-за опасения, что эта лекция может стать последним публичным выступлением Джадта. Все знали, что он при смерти. В 2008 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз, более известный как болезнь Лу Герига. Джадт был парализован ниже шеи и не мог самостоятельно дышать. В своей лекции он страстно защищал наследие социал– демократического государства и подверг разрушительной критике нашу общую неспособность вообразить мир, отличный от того, в котором мы живем. Некоторые из его аргументов глубоко трогали, но тем не менее оставляли серьезные вопросы. Вполне вероятно, это объясняется тем, что социал– демократия была уже не столь романтичной, какой помнил ее Джадт, и общество, возникшее на руинах государства всеобщего благосостояния, не было столь морально ущербным, каким он его провозглашал. Слушатели, безусловно, были покорены речью Джадта, которая была исполнена величия и благородной страсти. Но более всего их изумило то, что он говорил о социал– демократии как о завершенном проекте. В то время когда многие левые ожидали появления благоприятного для социал– демократических идей момента, когда казалось, что выборы Барака Обамы станут вторым пришествием Франклина Рузвельта, Джадт говорил о государстве всеобщего благосостояния в той же манере, в какой Жозеф де Местр писал о старом режиме во Франции: нечто прекрасное и благородное безвозвратно уходит в прошлое. Почему же правительство никогда не сможет вернуть доверие своих граждан?
Многие кризисы были кризисами доверия, и в этом смысле Великая рецессия не является исключением. Но кризис 2008 года стал таким особенным потому, что не смог дать начало новым надеждам и альтернативам. В дни Великой депрессии люди утратили веру в рынок, но приобрели веру в способность правительства решать экономические проблемы. Очарованность способностью правительства управлять экономикой была свойственна таким разным режимам, как рузвельтовская Америка, сталинская Россия и гитлеровская Германия. Отнюдь не только политики, но также общественность доверяла правительству. Во время «стагфляции» 1970-х годов маятник качнулся в противоположную сторону. Люди утратили доверие к правительству, но вновь обрели веру в рынок. Привлекательность рынка стала очевидной даже на антикапиталистическом Востоке. Однако в результате современного кризиса рынок и правительство полностью утратили доверие. Возникает вопрос: почему? Почему получилось так, что, вопреки ожиданиям, кризис рынка не вернул доверие к правительству ни в Европе, ни в США?
На мой взгляд, немецкий социолог Вольфганг Штрек предложил убедительный нарратив, объясняющий, почему это произошло. Он считает, что рыночная революция, случившаяся как реакция на экономический кризис 1973 года, попросту разрушила рынок «правительственных благ» – тех благ, которые производились или распределялись публичной властью и были «задуманы с расчетом на единообразие». Штрек проводит различие между демократическим капитализмом до 1973 года, в котором господствовали так называемые правительственные блага, обеспечивавшие базовые потребности современной семьи – автомобиль, стиральная машина и т. д., – и гораздо более диверсифицированными благами, которыми мог обеспечить рынок, – скажем, автомобилем и стиральной машиной, соответствующим специфическим потребностям и вкусам. В трактовке Штрека послевоенный демократический капитализм работал на обеспечение стандартизованными товарами. Различие между частным сектором, который контролировался крупными компаниями, и государственным сектором было минимальным. Это была классическая конъюнктура рынка, когда правительство и рынок вместе работали на удовлетворение потребностей общества. Они были осведомлены о потребностях и были способны их обеспечить. Но знание потребностей и понимание желаний – не одно и то же. Чем богаче становилось западное общество, тем более разнообразными делались требования покупателей. Ключевым стал момент, когда люди начали определять себя через товары и услуги, которые они приобретают. Потребление перестало иметь отношение к удовлетворению потребностей; оно относится теперь к построению идентичности. На повестке дня коммерциализированная диверсификация – переход рынков от удовлетворения потребностей к обслуживанию желаний. Когда средний немецкий потребитель покупал свой первый автомобиль, он делал это, потому что нуждался в нем. Но причины, по которым он решил продать свою машину, отлично ему служившую, и купить новую, были другими. У него не было автомобиля, который возбуждал бы его воображение или соответствовал бы желаемому социальному статусу.
Потребитель начинает доминировать не только на рынке, но и в обществе. Стало очевидным, что правительство не смогло предоставлять дифференцированные услуги – именно этого ожидал от него новый гражданин-потребитель.
Для правительства самой главной целью было обеспечение равенства для всех людей. Когда оно вершит правосудие или предоставляет социальные услуги, правительство гордится своей расовой, гендерной и классовой слепотой. Но общества быстро утратили уважение к слепоте правительства; они хотели бы, чтобы правительство занималось тем же самым, с чем удачно справлялись рынки. Это одна из важнейших причин, почему правительство не смогло вернуть утраченное доверие и почему даже участники движения «Захвати Уолл-стрит» настаивают на том, что единственные налоги, которые нужно увеличить, – это налоги презренного одного процента. Они хотят, чтобы правительство наказало богатых, но сами также не доверяют правительству.
Почему меритократам так не доверяют?
Богатые и могущественные никогда не пользовались популярностью у бедных и бесправных. Однако в наши дни меритократические элиты вызывают более яростное негодование, чем их предшественники, и общественное недовольство «заслуженно богатыми» характеризует сегодняшнее отношение к демократии (опыт Центральной и Восточной Европы особенно поучителен, так как именно в этих странах неравенство выросло самым драматичным образом). До 1970-х годов демократизация сдерживала растущее неравенство. Обещание демократии было, в конце концов, также обещанием равенства. Сохранялась надежда, что при новых политических режимах, когда миллионы людей смогут принимать участие в выборах, верхи должны быть заинтересованы в сохранении легитимности, обеспечиваемой неимущими. С исторической точки зрения социал-демократический компромисс послевоенного периода был в большей степени основан на стремлении имущих обеспечить легитимность капитализма, чем на стремлении неимущих его преодолеть.
Однако в начале 1970-х годов распространение демократии совпало с распространением неравенства, поскольку свободные рынки приносили гораздо больше богатства, но распределяли его неравномерно. Так, в 2011 году 20 процентов населения США владело 84 процентами совокупного богатства страны. И такое неравенство существует не только в США. Во всем мире глобализация привела к снижению неравенства между государствами, но одновременно – к росту неравенства внутри страны. За последние десять лет рост неравенства в эгалитарной Германии был больше, чем в других развитых капиталистических странах. Рост неравенства доходов сопровождался снижением социальной мобильности. Но сегодня социальная мобильность в Европе выше, чем в мифологизированных на манер Хорейшо Элджера[2] Соединенных Штатах. По данным Хоми Хараса из Брукингского института, глобализация удвоила численность среднего класса во всем мире: с одного миллиарда в 1980 году до двух миллиардов в 2012 году. Но в то же время глобализация разрушила экономические, политические и интеллектуальные основы обществ среднего класса в Европе и США.
Растущее имущественное неравенство особенно заметно в посткоммунистических странах. Коммунистическое равенство нищеты сменилось социальным положением, в котором растущее неравенство между победителями и проигравшими во время переходного периода охладило демократический энтузиазм народа. Многие жители центрально-европейских стран верят, что именно бывшие элиты вырвались вперед и сорвали джек-пот в 1989 году. Они убеждены, что именно благодаря демократии бывшие коммунистические элиты освободились от страха (чисток), чувства вины (за богатство), идеологии, цепей сообщества, верности своей стране и даже от необходимости управлять.
Парадоксальным образом сегодняшние элиты стали более меритократичными, чем когда-либо в истории. Почему же им доверяют все меньше?
В случае политических элит причинами недоверия можно считать профессионализацию политики и растущий разрыв в уровне доходов и образования между выборными должностными лицами и народом. Эмпирическое исследование Николаса Карнеса из Университета Дьюка показывает, что, если бы миллионеры представляли собой политическую партию, эта партия состояла бы примерно из 3 процентов американских семей, но имела бы подавляющее большинство в сенате, большинство – в Верховном суде и своего человека в Белом доме, независимо от того, какая партия победила на выборах. В наши дни белоголовый орлан встречается чаще, чем необразованный рабочий, «синий воротничок», среди депутатов разного уровня.
В случае с бизнес-элитой дело обстоит иначе. Множество богатейших людей сегодня – это рисковые люди или инноваторы, как Билл Гейтс и Стив Джобс. В 1916 году только одна пятая от одного процента богатейших американцев сколотила состояние на доходы от оплачиваемой работы. В 2004 году эта группа достигла 60 процентов. Нисходящая мобильность тоже растет. Некоторое время назад было гораздо сложнее пробиться наверх, но, пробившись, можно было сохранять достигнутую позицию достаточно продолжительное время. Теперь это не так. В 2011 году 14,5 процента высших должностных лиц крупнейших компаний, котирующихся на фондовом рынке, покинули свою работу. Христя Фриланд, автор книги «Плутократы: подъем новых глобальных сверхбогатых и упадок всех остальных», объясняет это так: «На вершине иерархии доходов верхушка функционеров (“работающие богатые”) сменила верхушку владельцев капитала (“рантье”)».
Но почему работающие богатые вызывают большее возмущение, чем рантье? Разве не правда, что современная элита хорошо образованна, трудолюбива, готова жертвовать на благотворительность (в 1990-е годы размеры частной благотворительности в Америке увеличились в четыре раза)? Разве не правда, что эта элита добрее и мягче? Что делает нынешнюю элиту неприемлемой, так это ее убежденность в том, что она делает «правильные» деньги, поэтому никому ничего не должна (обратите внимание, как мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг оправдывает свою политику: его нельзя купить, поэтому его политика справедлива).
В 1920-е годы Джон Мейнард Кейнс утверждал, что общество терпимо к неравенству, потому что есть экономическая логика в том, чтобы растущие доходы находились в руках того класса, у которого они будут в большей сохранности. «Если бы богатые тратили свое новое богатство на собственное удовольствие, – писал Кейнс, – мир давно бы счел такой режим невыносимым». Сегодня не столько показное потребление, сколько утрата чувства общности делает элиты столь презираемыми. Элиты оторвались от своих сообществ. Традиционно к бегству были склонны низшие классы. Теперь этим занимаются элиты. Ранее помещик не мог прихватить землю с собой, а промышленник старого образца не мог совершить побег вместе со своей фабрикой. Однако финансист может относительно легко забрать с собой все свое богатство. Новые элиты стали самонадеянными, потому что они не только обладают мобильностью, но зачастую отказываются рассматривать себя как часть общества. Во времена кризисов они не возглавляют сообщество, а покидают его. Классическим примером такого рода стала Греция. За последние годы страна пережила экономическое падение такого уровня, которое считалось невозможным в мирное время. Политики требовали от граждан ежедневного самопожертвования во имя нации. Однако в то время как элиты призывали других к самопожертвованию, сами они были заняты вывозом своих денег за пределы страны. Фредерик Шнейдер, профессор экономики в Университете Иоганна Кеплера в Линце, подсчитал, что около 120 миллиардов евро греческих активов, представляющих 65 процентов от общего объема производства страны, находятся за ее пределами (в банковских депозитах, недвижимости, не облагаемом налогами бизнесе). В то самое время, когда от нации требуют покрепче затянуть пояса, представители ее экономической и политической элиты, спотыкаясь друг о друга, спешат покинуть страну и переместить куда-нибудь свои активы. В настоящее время около 15 тысяч представителей национальной элиты находятся под следствием за неуплату налогов и незаконные финансовые операции. Разве удивительно, что люди воспринимают независимость своей элиты как утрату гражданами своей власти?
Таким образом, меритократическая элита – это элита торгашей. Они ничем не связаны, но хотят, чтобы их уважали, ими восхищались, даже любили. Способ саморепрезентации глобальной элиты напоминает пролетариат, изображенный Карлом Марксом в «Коммунистическом манифесте», – это производительная сила общества. Их родина – весь мир, и будущее принадлежит им. Когда банкиры с Уолл-стрит объясняли, почему они отказались поддержать президента Обаму и встали на сторону его оппонента, ключевым аргументом стало не то, что он бросил вызов их интересам, а то, что он задел их гордость. Их сводило с ума не то, что он сделал с большим бизнесом, а то, как он говорил о нем. Этот парадокс власти иллюстрирует интенсивность отношений между правителями и управляемыми. Элита становится по-настоящему влиятельной не вследствие своей независимости от общества, но именно благодаря своей зависимости от него. Элиты «приватизировали» социальный аварийный выход. Это означает, что они могут легко позволить себе покинуть страну, когда наступают тяжелые времена, но в конечном счете это делает их как социальную страту не только менее легитимной, но и гораздо менее влиятельной.
Ружье и бюллетень
Хорошо известная французская гравюра 1848 года – того года, когда французские граждане получили всеобщее избирательное право, – символизирует дилемму зарождающейся европейской демократии. На гравюре изображен рабочий с ружьем в одной руке и избирательным бюллетенем – в другой. Смысл очевиден: пули нужны для борьбы с врагами нации, а бюллетени – для борьбы с классовыми врагами. Выборы понимались как инструмент инклюзии и национального строительства. Они объединяли рабочих в нацию путем включения их во власть. Американский политический философ Стивен Холмс делает очень важное замечание, напоминая, что во времена национальных демократий гражданин-избиратель был влиятельной фигурой, потому что одновременно был гражданином-солдатом, гражданином-рабочим и гражданином-потребителем. Имущество богатых зависело от готовности рабочих защищать капиталистический порядок. Гражданин-избиратель был очень важным человеком, потому что защита страны зависела от его мужества противостоять врагам. Он был важным человеком, потому что его работа делала страну богатой. Он был очень значимым, потому что потребление, которое он осуществлял, развивало экономику страны. Для того чтобы понять, почему сегодня граждане во всем западном мире не могут беспрепятственно контролировать политиков с помощью демократических методов, нужно обратить внимание на то, как именно были разрушены различные внеэлекторальные формы зависимости политиков от граждан. Когда беспилотники и профессиональные армии приходят на смену гражданам-солдатам, один из важнейших мотивов, определяющих заинтересованность элиты в общественном благосостоянии, существенно ослабевает. Наводнение рынка труда низко оплачиваемыми мигрантами и аутсорсинг производства также подорвали готовность элит к сотрудничеству. В ходе недавнего экономического кризиса стало очевидно, что функционирование американского фондового рынка более не зависит от покупательной способности американцев, и этот факт стал еще одним ответом на вопрос, почему граждане утрачивают свое влияние на правящие круги. (В октябре 2012 года только 18 процентов американских избирателей согласились с утверждением «средний класс всегда преуспевает, когда преуспевают крупные корпорации».) Именно падение влияния граждан-солдат, граждан-потребителей и граждан-рабочих объясняет падение влияния избирателей. И именно в этой потере избирателями своего влияния кроется секрет растущего недоверия к демократическим институтам.
Граждане утрачивают доверие к демократическим институтам не потому, что эти институты стали менее эффективными или более коррумпированными, но потому, что мы утратили способность влиять на них. Вопрос доверия к демократии – это вопрос влияния. Для того чтобы понять, какой силой обладает бюллетень в руке избирателя, нужно знать, что держит избиратель в другой руке. И это вызывает насущные вопросы, которые встают перед современными демократиями: реалистично ли надеяться, что избиратель, держащий в одной руке бюллетень, а в другой – смартфон, сможет возродить нашу демократию? Реалистично ли надеяться, что в условиях уменьшения лояльности к национальному государству и существования «освобожденных элит» прозрачность может спасти демократию?
Часть III
Иллюзия прозрачности
Где больше света, там гуще тень.
ГетеЧеловек с ружьем в одной руке и бюллетенем в другой символизировал приход демократии во Францию, потому что он был одновременно французом, рабочим, представителем нации и социального положения, предполагающего вовлеченность в классовую борьбу. Он понимал, что человек, который будет стоять рядом с ним на баррикадах, также должен быть рабочим и французом, с четким представлением, кто есть враг. Его ружье – это не только символ его конституционных прав, но также свидетельство того, что новые граждане демократической страны готовы защищать свое отечество и свои классовые интересы. Он знал, что весомость его голоса зависит от убойной силы его ружья. Его бюллетень находился на расстоянии световых лет от незаполненных бюллетеней, к помощи которых прибегли недовольные граждане в романе Сарамаго, что было концептуальным протестом в отсутствии видения перемен. Бюллетень был дополнительным оружием, потому что выборы представляли собой цивилизованную форму гражданской войны. Они не были просто механизмом, предназначенным для смены правительств. Они были инструментом для переделки мира.
Обычный смартфон в наше время не может превратиться в ружье, но он обладает способностью производить своего рода выстрелы. Он может зафиксировать злоупотребления властью и предать их огласке. Он может объединить людей и расширить их возможности. И он может распространять правду. Вряд ли случайно недавно прошедшая по всему миру волна народных протестов совпала с повсеместным распространением смартфонов. Невинные фотографии, размещенные в социальных сетях, стали причиной многих нынешних политических скандалов.
Среди самых недавних жертв граждан со смартфонами – китайские чиновники, получившие прозвища «Братец Часы» и «Дядюшка Дом». Обоим этим низкопоставленным чиновникам было предъявлено обвинение в коррупции в результате моббинга через интернет. «Братец Часы» был уличен в ношении очень дорогих часов, причем стоимость некоторых из них превышала его годовую зарплату. «Дядюшка Дом», который возглавлял Бюро по управлению городским районом в южном городе провинции Гуанчжоу, был обвинен в коллекционировании недвижимости – всего в его собственности находилось двадцать два объекта. Оснащенные смартфонами граждане добились отставки обоих чиновников. В России репутация Русской православной церкви была подорвана, когда один блогер разместил в «Фейс-буке» фотографию, на которой патриарх носит дорогие часы. Репутация РПЦ пострадала еще больше, когда обнаружилось, что команда патриарха по связям с общественностью отретушировала фотографию, чтобы скрыть этот факт от общественности. В Сирии граждане, вооруженные смартфонами, запечатлели отвратительные массовые преступления, совершенные правящим режимом. В США смартфон записал знаменитый «комментарий о 47 процентах» губернатора Митта Ромни, возмутивший остальных американцев (и, хотелось бы надеяться, также некоторых из упомянутых 47 процентов).
Смартфон также можно использовать как персональный гражданский детектор лжи.
Избиратель в режиме реального времени может установить подлинность различных заявлений и утверждений, сделанных политиками, – от самых важных политических вопросов до частных анекдотов. Когда кандидат в вице-президенты от республиканцев Пол Райан сказал, что «плохо помнит» свой первый марафон – он заявил, что пробежал его за три часа, тогда как в реальности это заняло у него более четырех часов, – его «ошибка» мгновенно подорвала доверие к нему как кандидату. Это не означает, что политики больше не могут дурачить людей, но теперь они это делают, рискуя выставить самих себя дураками. Беспримерное влияние доискивающихся до истины веб-сайтов во время последней президентской кампании в США стало классической иллюстрацией способности смартфонов раскапывать правду или, по крайней мере, их претензии на эту способность.
Смартфон также дает гражданам возможность говорить и выражать свои взгляды и мнения. Они могут звонить, отправлять имейлы и твиты со своими суждениями и таким образом способствовать более широкому обсуждению политических вопросов в режиме реального времени.
Во время последних президентских выборов в Америке каждые из трех дебатов между двумя кандидатами собрали за время трансляции более семи миллионов твитов. Может быть, наша жизнь не стала более просвещенной, но она стала гораздо более увлекательной в эпоху «Твиттера».
Но, возможно, более важно то, что новые граждане могу т использовать свои смартфоны для проведения общественных акций и для коллективной защиты своих интересов. «Арабская весна» стала высшим проявлением власти граждан, вооруженных смартфонами, – власти, способной сбросить тиранов и творить историю. Смартфоны не могут никого убить или ранить, но благодаря им насилие теперь дорого обходится правительствам. В то же время «арабская весна» показала, что у власти смартфонов есть свои пределы. Человек со смартфоном никогда не знает, кто откликнется на его призыв к политическому действию. Он может иметь друзей в «Фейсбуке», но у него нет подлинного политического сообщества и политических лидеров. С помощью «Твиттера» можно организовать революцию, но нельзя обеспечить переходный период. Конечно, дело повернулось так, что исламистские политические партии, которые опирались на традиционные партийные структуры и четкую идеологию, одержали победу на постреволюционных выборах на Ближнем Востоке.
Сегодня человек со смартфоном в одной руке и незаполненным бюллетенем в другой стал символом состояния нашей демократии. Однако он или она не являются узнаваемыми представителями какого-то конкретного класса или этнической группы, и бюллетень в их руках еще не превратился в оружие. Мы не мечтаем о баррикадах, и у нас есть только смутные представления о том, кто наши «товарищи», а кто – враги. И бюллетень, и смартфон представляют собой инструменты контроля, а не инструменты выбора. В реальности избиратель со смартфоном опасается, что человек, за которого он или она отдали свой голос, будет служить лишь собственным корыстным интересам. Граждане со смартфонами не сталкиваются с жестким идеологическим выбором, который вставал перед их предшественниками. И хотя за последние десятилетия возможностей выбирать стало значительно больше, в политике дело обстоит противоположным образом. В прошлом для политически активных граждан смена партии или политического лагеря была немыслимым делом, чем-то вроде обращения в другую религию. Сегодня, напротив, это сделать так же просто, как пересечь границу между Францией и Германией, – по высокоскоростному шоссе без всякого паспортного контроля.
Так что же символизирует гражданин со смартфоном – власть, которую мы приобрели, или власть, которую мы потеряли? Стоит ли сожалеть об упадке идеологической политики или надо радоваться освобождению от ее бремени? И, наконец, можем ли мы поверить, что смартфон станет новым эффективным орудием для защиты наших прав?
Прозрачность как новая религия
Станет ли гражданин со смартфоном тем, кто сможет восстановить нашу веру в демократию и демократические институты? Я отношусь к этому скептически. Смартфоны могут облегчить нам контроль за политиками, но доверие имеет отношение к работе институтов, за которыми люди не могут непосредственно следить. Мы доверяем нашим семьям и друзьям не потому, что мы можем их контролировать. Возросшая способность людей контролировать своих представителей сама по себе не перерастет в доверие к демократии. Ленин когда-то верил, что «доверие – хорошо, а контроль – лучше», но ведь большевистский титан не прославился как создатель модели демократического управления. Вероятно, современный кризис доверия не так драматичен, как сообщают социологические опросы (и внушают сегодняшние публичные дебаты), но социолог Никлас Луман при этом утверждает, что доверие является «базовым фактом социальной жизни», без которого невозможно даже встать утром с кровати. Также очевидно, что возросшая способность граждан контролировать свои правительства не заставила больше доверять демократии. К сожалению, большинство инициатив, призванных восстановить гражданское доверие, в реальности пробуждают лишь демократию недоверия. Эта тенденция нигде так не очевидна, как в популярной сегодня одержимости прозрачностью.
Прозрачность стала новой политической религией, разделяемой большинством гражданских активистов и растущим числом демократических правительств. В движении за прозрачность воплотилась надежда на то, что комбинация новых технологий, общедоступной информации и нового гражданского активизма сможет эффективнее помогать людям контролировать их представителей во власти. Прозрачность становится столь заманчивой для различных групп граждан благодаря увлекательному предположению, что, когда люди «знают», они будут действовать и требовать своих прав.
Надо признать, что развитие движения за прозрачность во многих сферах продемонстрировало впечатляющие результаты. Государственное законодательство, требующее, чтобы компании сообщали о рисках, связанных с их продукцией, усиливает влияние потребителей и делает их жизнь безопаснее (сегодня мы часто недобрым словом поминаем Ральфа Нейдера[3], которому мы должны быть за это благодарны). Требование открытости также изменило отношения между врачами и пациентами, преподавателями и учениками. Сейчас пациенты обладают гораздо большими возможностями для того, чтобы призвать врачей к ответственности, и родителям легче выбрать школу для своих детей. Новое движение за прозрачность сделало потребителей сильнее. В связи с этим было бы логично предположить, что, лишенные привилегии секретности, правительства уже не будут прежними. Они станут более честными. В тех случаях, когда правительства хранят слишком много секретов, демократия становится хрупкой и можно ожидать, что даже выборы на конкурентной основе приведут к непредсказуемым результатам. Только информированные граждане могут настаивать на подотчетности правительств. Короче говоря, неудивительно, что демократические активисты так сильно надеются, что прозрачность сама по себе способна восстановить доверие к демократическим институтам. Как заявлял американский профессор права и активист Лоуренс Лессиг в своем эссе «Против прозрачности»: «Как кто-то может быть против прозрачности? Ее достоинства и ее польза кажутся столь сокрушительно очевидными». Но хотя достоинства прозрачности очевидны, вполне резонно замечает Лессиг, нельзя игнорировать риски.
Представление о том, что прозрачность восстановит общественное доверие к демократии, основано на ряде проблематичных допущений, прежде всего на предположении, что, «если люди знают», это все меняет. Но все не так просто. Конец правительственной секретности не означает рождение информированных граждан, так же как усиление контроля не обязательно предполагает рост доверия к публичным институтам. Например, когда американские избиратели узнали, что США начали войну с Ираком, не доказав, что тот обладает оружием массового поражения, они все равно переизбрали президента, который развязал войну. Итальянцы также позволяли Сильвио Берлускони оставаться у власти более десятилетия, хотя были прекрасно осведомлены обо всех делишках, которых, как надеялись его противники, уже достаточно, чтобы избавиться от этого парня. Но в политике «знать обо всем» каждый понимает по-своему. Сам факт того, что правительства разных стран вынуждены раскрывать информацию, еще не означает, что люди будут знать больше или понимать лучше. Если вы не доверяете мне, спросите своего бухгалтера. Он вам объяснит, что лучший способ воспрепятствовать налоговому инспектору, изучающему работу вашей компании, – это предоставить ему всю возможную информацию вместо нескольких нужных и полезных пунктов. Когда речь идет об отношениях между доверием и контролем, все становится еще сложнее. Правда ли, что контроль рождает доверие, или он просто замещает его? Не увеличивают ли авторитарные правительства свой контроль над обществом для того, чтобы им больше доверяли?
Вопреки убеждениям сторонников прозрачности, утверждающих, что можно сочетать требование открытого правительства с защитой частной жизни граждан, я убежден, что полная прозрачность правительства означает полную прозрачность граждан. Мы не можем сделать правительство абсолютно прозрачным, не жертвуя нашей частной жизнью. Вопреки этим защитникам, которые верят, что политика полной открытости улучшит качество публичной дискуссии, я считаю, что огромные потоки информации сделают публичную дискуссию более сложной, сместив фокус с моральной правомочности граждан на их компетентность в той или иной сфере. Вопреки ожиданиям сторонников движения за прозрачность, будто полная открытость правительственной информации сделает публичную дискуссию более рациональной и менее параноидальной, я считаю, что зацикленность на прозрачности только подольет масла в огонь конспирологических теорий. Нет ничего более подозрительного, чем призыв к полной прозрачности. И никто искренне не может утверждать, что, когда наши правительства станут более прозрачными, наши дискуссии станут менее параноидальными.
Подъем движения за прозрачность потенциально может изменить демократическую политику, но мы должны быть уверены, что единодушны в понимании направления изменений. Может ли движение за прозрачность восстановить доверие к демократическим институтам или, напротив, «разуверить» граждан в официальной версии демократии?
Общество шпионов
Важно отметить, что наша зацикленность на прозрачности влияет на сам способ функционирования демократии. Она может даже способствовать процессу замещения представительной демократии политическими режимами, функция которых будет сведена к контролю граждан за работой исполнительных органов. Вопреки провозглашаемым устремлениям восстановить доверие к демократическим институтам, движение за прозрачность может ускорить процесс трансформации демократической политики в управление недоверием. Политика прозрачности не является альтернативой демократии, которая не оставляет выбора; она оправдывает ее и стирает различие между демократией и новым поколением ориентированных на рынок авторитарных режимов. Неудивительно, что китайские лидеры с энтузиазмом поддерживают идею прозрачности. Они выступают лишь против принципа состязательности партий, идей и поиска политических альтернатив коммунистическому правлению.
В конце XVIII века британский философ и социальный мыслитель Иеремия Бентам придумал учреждение, которое он окрестил «паноптиконом». Замысел его был в том, чтобы предоставить наблюдателю возможность видеть одновременно всех обитателей этого учреждения – оно могло быть тюрьмой, школой или больницей – так, чтобы сами они не могли догадаться, наблюдают за ними или нет. Вскоре паноптикон стал символом нашего современного понимания власти как контроля за опасными индивидами или группами. Знаменитые антиутопии XX века, созданные Олдосом Хаксли в «О дивном новом мире», Евгением Замятиным – в «Мы», Джорджем Оруэллом – в «1984», – это рассказы о прозрачных обществах, в которых правительство реализует возможность тотального контроля. Знание всего – это утопия правительства, приобретшего абсолютную власть.
Если идея «обнаженного» общества – это мечта правительства, то идея голого правительства и обнаженных корпораций отвечает чаяниям многих демократических активистов. Такие инициативы, как «опубликуй свои расходы», Открытое правительство или радикальные политические достижения, как WikiLeaks, – это лучшие образцы расследований, демонстрирующих, что люди, вооруженные «правильной» информацией, могут призвать правительства к ответу. Философию движения за прозрачность можно кратко суммировать часто цитируемыми словами Луиса Брандейса: «Говорят, что солнечный свет – это лучший дезинфектор». Это движение намеревается построить паноптикон наоборот, в котором не правительство следит за обществом, но общество следит за теми, кто находится у власти. Тоталитарная утопия, в которой народ шпионит для правительства, заменяется прогрессивной утопией, в которой народ шпионит за правительством.
Проблема, однако, заключается в том, что шпионаж есть шпионаж, независимо от того, кто за кем следит (так же как победитель в крысиных гонках, увы, всегда является крысой). Должны ли мы отказываться от нашего права на частную жизнь во имя лучшей работы общественных служб? Есть ли тут принципиальное отличие от тоталитарных режимов, требующих отказаться от индивидуального выбора ради достижения национального могущества и более равноправного общества? Дискуссия вокруг опубликованных архивов WikiLeaks в полной мере высветила моральную сторону борьбы с секретностью.
Обычно государства следят за населением. Когда вы делаете эту работу прозрачной, вы открываете миру тех граждан, которые взаимодействовали с правительством или контролировались им. Нельзя опубликовать подлинные документы, не подвергая риску правительственные источники. Также невозможно сделать открытыми государственные архивы, не прочитав хранящуюся в них информацию о гражданах страны. Раскрытие секретных полицейских архивов в посткоммунистических обществах стало классическим примером дилеммы, встающей перед любой разоблачающей политикой. Должны ли все знать о том, что делали другие в тот период, когда у власти были коммунисты? Должны ли быть открыты только досье на общественных деятелей? Насколько надежной является информация, собранная тайной полицией? Произведет ли эта информация в обществе моральный катарсис или будет использована лишь как «компромат» в грязных политических играх? Это очень непростые вопросы.
Современное общество основано на надежде, что однажды мы сможем доверять чужакам и учреждениям, как если бы они были членами наших семей. Но недавний опыт показывает, что мы движемся в прямо противоположную сторону. Мы начали испытывать к членам своих семей недоверие, ранее уместное только в отношении преступников. Мы стали свидетелями того, что сочетание недоверия и новых технологий изменило нашу частную жизнь. Недоверие по умолчанию распространилось даже на семейные отношения. В самом деле, адвокаты говорят, что технологии превратили развод в своего рода гонку вооружений. Сегодня кухни и спальни кишат подслушивающими устройствами, как американское посольство в Москве во время холодной войны. И хотя прозрачность обещает восстановить доверие к общественным институтам, в действительности она лишь распространяет недоверие на область частной жизни.
Век одержимости
Покойный американский сенатор и публичный интеллектуал Дэниэл Патрик Мойнихен был одним из первых, кто проанализировал, как влияет правительственная секретность на доверие общества к своим институтам. Он очень убедительно доказывал, что секретность должна пониматься как одна из форм управления. С его точки зрения, образ правительства США воспринимался негативно во время холодной войны, потому что находящиеся у власти прибегали к значительному уровню секретности. Он предполагал, что секретность несет ответственность за параноидальный поворот в американской политике в эпоху Маккарти и что она больно ударила по готовности граждан доверять своему правительству. Утверждение Мойнихена, что для того, чтобы доверять правительству, граждане должны иметь о нем полную информацию, трудно оспорить. Но хотя аргумент прозрачности является довольно сильным, идея полной открытости информации все же проблематична. Не является ли любое раскрытие в то же самое время сокрытием другого рода? Будет ли информация, которую собирает правительство, понимая, что она моментально станет достоянием публики, столь же достоверной, как информация, которую правительство собирает, зная, что она будет храниться в секрете?
Кроме того, доступность информации не гарантирует, что люди начнут испытывать больше доверия к процессу принятия решений, потому что не бывает информации без интерпретации. Читая одни и те же источники, республиканцы и демократы в США, секуляристы и «Братья-мусульмане» в Египте буду т трактовать прочитанное по– разному, ведь участие в политике неотделимо от интересов и ценностей тех, кто принимает решение. «Похоже, наше время – это век одержимости, – пишут антропологи Джейн и Джон Комарофф в послесловии к сборнику “Прозрачность и конспирация”. – Это век, когда люди почти повсеместно и одновременно захвачены идеей прозрачности и идеей заговора».
Двусмысленность политики доверия наиболее полно проявилась в ситуации недавних президентских выборов в России. В декабре 2011 года парламентские выборы в стране вызвали гражданский протест. Сотни тысяч людей вышли на улицы Москвы и других крупных городов, требуя честных выборов и самой возможности делать выбор. Нарастающий кризис легитимности заставил правительство искать оправдание своей политической власти. Была найдена гениальная идея. Кремль предложил установить на всех избирательных участках веб-камеры, призванные гарантировать честные выборы. С их помощью каждый гражданин может лично следить за процессом голосования. Как восторженно сообщало китайское новостное агентство «Синьхуа», «от Камчатки и до Калининграда, от Чечни и до Чукотки более два с половиной миллиона пользователей интернета зарегистрировались, чтобы смотреть потоковое видео со 188 тысяч веб-камер, установленных на более чем 94 тысячах избирательных участков на территории России». По словам финского корреспондента, произошедшее стало уроком прозрачности, «вехой в истории демократии и демократических выборов».
Однако совсем нетрудно доказать, что в условиях режима Владимира Путина, когда от правительства зависит, кто победит и кто проиграет на выборах, установка веб-камер была не более чем фарсом. Гораздо важнее двусмысленность присутствия веб-камер. С точки зрения Москвы и Запада они представляют собой инструмент контроля над властью: позволяют людям знать, чем занимается правительство. Но с точки зрения посткоммунистического российского избирателя из глубинки, веб-камера несет иное сообщение: правительство знает, как ты голосуешь. Поэтому Путин, в некотором смысле, победил дважды. Он сумел показать себя полностью прозрачным в глазах Запада и одновременно запугать большинство собственных граждан. Короче говоря, установка веб-камер на выборах в России стала одновременно актом прозрачности и заговора.
Летом 2009 года в Болгарии появилось новое правительство. Обещание открытости занимало первые строчки в его программе. Новый премьер– министр в первые же дни работы объявил, что все дискуссии в Совете министров должны быть доступны на правительственном веб-сайте в течение сорока восьми часов. Общественные организации пребывали в эйфории. Но последствия оказались абсолютно неожиданными.
Хорошо понимая, что правительственная информация практически немедленно появится онлайн, министры стали проявлять чрезвычайную осторожность в выборе слов и в том, как их слова могут быть истолкованы. Вскоре правительство начало использовать открытость политики как своего рода инструмент для связи с общественностью. Премьер-министр, проводя правительственные собрания, обличал оппонентов или произносил речи. Постепенно большинство решений стало приниматься практически без обсуждения. Извращенным следствием прозрачности стала практика принятия «реальных» решений в обход совета министров и «открытость», работающая на усиление персональной власти премьер-министра.
Взаимосвязь прозрачности и заговора, пожалуй, лучше всего проявила себя в характере и образе мышления современных великих борцов с государственными секретами. Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, назвал свою организацию «открытой демократической разведывательной службой». Во многих отношениях Ассанж напоминает героя конспирологических романов Джозефа Конрада. В десятках недавно опубликованных книг об Ассанже, не говоря о его автобиографии, радикальный борец за прозрачность превратился в параноидальную, авторитарную фигуру. Он стал тем, кем можно восхищаться, но кому нельзя доверять. Ассанж сделал обман своей страстью и своей профессией. Его излюбленной стратегией стало игнорирование различий между демократическими и авторитарными правительствами; в его представлении все правительства являются авторитарными. Возможно ли, чтобы мировоззрение Ассанжа стало отправной точкой для восстановления доверия к демократии?
В том случае, когда исходящая от правительства информация рассчитана на немедленную публикацию, ее ценность в качестве информации уменьшается, зато увеличивается ее значение как инструмента манипуляции общественным мнением. Вспомним, как разговаривают в фильмах гангстеры, когда им известно, что их прослушивают. Они говорят простейшие, банальные вещи и в то же время обмениваются записками под столом. Так же точно ведет себя и правительство в эпоху прозрачности. Ту т возникает очевидный вопрос: почему увеличение потока информации не ведет к улучшению качества демократии? В своем исследовании практики изречения истины в Древней Греции Мишель Фуко подчеркивает, что правдивая речь не сводится к сообщению чего-то, что граждане не знали прежде. Парадоксальным образом, истина в политике – это то, что известно всем, но что мало кто решается высказать или хотя бы обратить на это внимание. Люди вряд ли нуждаются в дополнительных источниках, чтобы осознать растущее неравенство или дискриминацию мигрантов. Архивы WikiLeaks не дадут нам качественно нового знания об американской политике. Выступление становится политически значимым, если оратор заявляет о готовности рисковать, идти на конфликт с властями или своим сообществом, а не благодаря обнародованию неких «неизвестных» фактов. Для того чтобы блюсти истину, не нужно обладать всей полнотой информации. К изменениям в политике приводит не истина как таковая, но человек, осмелившийся ее произнести.
Прозрачность и антиполитика
«Можно быть уверенными, что в ближайшее время будет изобретено программное обеспечение, благодаря которому обман в политике станет абсолютно невозможным», – сказал мне однажды полушутя мой старый друг Скотт Карпентер, заместитель директора Google Ideas. Недавно Google создала проект Google Ideas – мозговой центр, цель которого в том, чтобы поставить технологии на службу гражданам. В течение многих лет политика была искусством говорить людям то, что они хотят услышать. Карпентер предположил, что в эпоху прозрачности это станет невозможным. Мой друг имел в виду, что новое программное обеспечение будет сохранять все высказывания, сделанные политиком по конкретному вопросу, так что, если он изменит свою позицию или начнет колебаться, избиратель сможет наказать его за оппортунизм. Мы также будем знать, с кем этот политик встречается, кто участвовал в его избирательной кампании, не заседают ли его жена или дети в совете директоров проправительственных компаний.
Прозрачность в этом случае борется не столько с секретностью, сколько с обманом и ложью. Обещание прозрачного общества ничем не отличается от обещания Машины Правды из научно-фантастических романов. Это мечта об обществе без лжи. Невозможно уничтожить лжецов, но можно ликвидировать ложь и ее развращающее влияние на общество. В растущей надежде, что прозрачность облагородит наши общества, вызывает тревогу нечто, на что еще век назад обратил внимание Т. С. Элиот: адвокаты прозрачности «мечтают о системе столь совершенной, что больше не нужно будет стараться быть хорошим». В этих мечтах правда достигается не путем совместного опыта, или стремления к общей цели, или конкретной этики, но является результатом совершенства институционального устройства. Вместо того чтобы поверить в саморегулирующуюся природу демократического общества, нам предлагают поверить в общество, которое не совершает ошибок.
Если некогда философы Просвещения пытались понять человека – его сердце, его ум, его страхи, – то новое поколение демократических реформаторов полностью утратило интерес к людям. В их мире институтов и стимулов изменение точки зрения является лишь признаком политического оппортунизма. Но не представляет ли изменение точки зрения самую суть демократической политики? Разве для проведения демократической политики постоянство важнее, чем готовность изменить свое мнение в связи с появлением новой информации или новых обстоятельств? Представьте, каким был бы мир, если бы Вудро Вильсон или Франклин Рузвельт не пересмотрели свои ранние заявления, что Америка будет сохранять нейтралитет. Первородный грех движения за прозрачность состоит именно в этом пренебрежении психологической сложностью демократической политики.
Зацикленное на прозрачности, реформаторское движение попало в ловушку, допустив, что достаточно знать, кто дает деньги политикам или с кем они встречаются за обедом, чтобы ясно представлять процесс принятия решения. Тот факт, что конгрессмен получил 50 тысяч долларов от подрядчика министерства обороны, сам по себе не означает, что именно это подношение определило его согласие на увеличение оборонного бюджета. Но в наш Век Прозрачности люди склонны навешивать ярлыки. «Назовите мне его спонсоров, и я объясню вам его политику» – вот достойная сожаления краткая формула, характеризующая современную политическую среду. Но политику нельзя сводить только к таким вещам. Все новые информационные и передовые цифровые технологии не помогают лучше понять демократическую политику. Скорее, такой подход грозит тем, что общественность начнет считать своих собственных представителей опасными преступниками, за которыми необходимо следить круглые сутки. Убежденность в том, что доверие зависит лишь от нашей способности контролировать политиков, пагубно влияет на настроение большинства наших талантливых сознательных граждан, которые приходят в ужас от одной мысли выдвинуть свою кандидатуру на государственный пост. Можно ли восстановить демократию, если относиться к политикам не как к национальным героям, но как к людям, которым нельзя доверять по определению?
«Если вы действительно хотите знать, куда катится мир, – писал философ и мастер детективного жанра Г. Честертон, – можно взять какой-нибудь заголовок или фразу из сегодняшней прессы, перевернуть ее, придав совершенно противоположный смысл, и посмотреть, не станет ли она от этого более осмысленной». Где же больше смысла в нашем случае? Поможет ли прозрачность восстановить доверие к демократическим институтам, или она сведет политику к простому управлению недоверием? Реформа демократии, ориентированная на достижение прозрачности, вовсе не является альтернативой демократии недоверия. Она не позволяет избавиться от нее, но, напротив, служит ей в качестве наилучшего оправдания. Она является следствием неспособности обычного избирателя что-то изменить и иметь осмысленный выбор в век, когда «нет никакой альтернативы». Она молчаливо соглашается с тем, что демократическая политика больше не имеет отношения к столкновению различных представлений о том, каким должно быть «хорошее общество», к конфликту интересов и ценностей. Это просто способ контроля за власть имущими. Но прозрачное принятие решений – не то же самое, что хороший политический режим. Прозрачность – это не симулякр общественного интереса. Прозрачность может быть одним из инструментов социальной реформы, но она не может быть целью и содержанием демократической реформы. Вопрос о способе принятия решения не сможет вытеснить более фундаментальный вопрос: что для общества является благом?
Выход и голос
«Иногда более счастлив тот, кого обманули, чем тот, кто никому не доверяет», – заметил любитель афоризмов Сэмюэл Джонсон. И он был прав, потому что общество недоверия – это общество беспомощных граждан. В начале этой книги я заявил, что открытое общество – это саморегулирующееся общество. Сегодня нас больше всего должна волновать растущая неспособность общества исправлять свои ошибки. Выдающийся экономист и социальный мыслитель Альберт Хиршман в своем классическом труде «Выход, голос и верность» утверждает, что существует два вида реакции на ухудшение работы или эффективности институтов: выход и голос. Перефразируя Хиршмана, «выход» – это отказ, обусловленный тем, что лучший товар или услуга могут быть предоставлены другой фирмой или организацией. Косвенно и непреднамеренно «выходом» можно вызвать ухудшение работы организации, чтобы добиться улучшения ее эффективности. «Голос» – это жалобы, петиции и протесты, цель которых в том, чтобы восстановить утраченное качество. Доступность «выхода» вредит «голосу», ведь по сравнению с «выходом» «голос» обходится гораздо дороже с точки зрения усилий и времени. Более того, для того чтобы быть эффективным, «голосу» необходима групповая акция и, следовательно, он сталкивается с хорошо известными организационными проблемами, в частности представительством и свободным членством.
Таким образом, «голос» и «выход» позволяют увидеть различия между миром политики и миром рынка. Политика голоса – это то, что мы называем политической реформой. Для того чтобы политическая реформа была успешной, есть несколько важных условий. Люди должны хотеть участвовать в изменении своих обществ, ощущая себя их частью. Для того чтобы реализовалась возможность голоса, необходимо взаимодействовать с другими людьми и вместе содействовать переменам. Приверженность делу своей группы имеет критическое значение для того, чтобы трудная и кропотливая политика перемен успешно осуществлялась. В современной ситуации меня больше всего беспокоит то, что граждане реагируют на неудачи демократии тем же способом, каким они выражают свое разочарование рынком. Они просто уходят. Они осуществляют выход, покидая страну или переставая участвовать в выборах или, наконец, голосуя незаполненными бюллетенями. Гражданин со смартфоном действует в мире политики точно так же, как он действует в мире рынка. Он пытается изменить общество путем контроля и ухода. Но именно готовность остаться и изменить реальность лежит в основе демократической политики. Это та базовая истина, которая позволяет обществу двигаться вперед. Именно поэтому демократия не может существовать без доверия и именно поэтому политика как управление недоверием может стать горьким итогом демократической реформы.
Эта книга вдохновлена моими встречами в TED и представляет собой расширенную версию моей презентации, состоявшейся в Эдинбурге на конференции TED Global 2012. Я благодарю Бруно Гиссани, директора TED, и книжного редактора TED Джима Дэйли. Спасибо тебе, TED. Текст был написан в конце 2012 года, когда я был стипендиатом фонда Роберта Боша при Трансатлантической академии в Вашингтоне. Я многим обязан академии и ее директору Стивену Шабо за их поддержку.
Профессора Нью-Йоркского университета Стивен Холмс и сотрудника фонда «Открытое общество» Леонарда Бернардо можно считать тайными соавторами этой книги. Своими достоинствами она обязана им, а недостатками – только мне. Ленни также проделал невероятную работу в качестве первого редактора этого текста.
Крэйг Кеннеди, имеющий редкий талант въедливого, но всегда обнадеживающего критика, прочел не одну мою рукопись, оставив острые и ценные замечания. Я также благодарен Марку Платтеру, основателю и соредактору Journal of Democracy, и Адаму Гарфинклю, редактору American Interest, предоставивших мне возможность публиковаться у них, чтобы я мог проверять свои идеи. Брюс Джексон и Иван Вейвода были теми, кто настаивал на том, что «да, я могу написать эту книгу». Я горячо признателен также моему старому другу и коллеге Венелину Ганеву из Университета Майами, кто сделал все от него зависящее, чтобы удержать меня от безосновательных обобщений.
Мои замечательные коллеги по софийскому Центру либеральных стратегий очень помогали мне не только в создании этой книги, но и во всем, что я успел написать за последние два десятилетия. Яна Папазова в особенности. Я никогда не смог бы отблагодарить ее в полной мере. Я также признателен моим коллегам из Института гуманитарных наук в Вене (IWM), которые вдохновляли меня на то, чтобы я начал более широко размышлять о будущем демократии. Работать в этом институте – настоящая привилегия.
Больше всего я благодарен своей жене Десси. Она усердно прочитывала все мои наброски. Слушая ее бесценные советы, я лучше понимал, от чего в них мне следует отказаться.
Я был очень опечален тем, что мой дорогой друг и наставник Йехуда Элкана, умерший прошлой осенью, не может прочесть эту книгу. Я не сомневаюсь, что его замечания значительно улучшили бы качество текста. Мне будет его страшно не хватать.
Об авторе
Иван Крастев – председатель Центра либеральных стратегий в Софии, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене. Является одним из основателей Совета Европы по международным отношениям. В течение 20 лет преподавал в Оксфорде (Колледж Святого Антония), Институте специального исследования в Берлине и Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне. В 2008 году журнал Foreign Policy поместил его в списке ста ведущих публичных интеллектуалов мира. Последние книги на английском языке: T e Anti-American Century (в соавторстве с Alan McPherson (CEU Press, 2007) и Shif ing Obsessions: T ree Essays on the Politics of Anticorruption (CEU Press, 2004). В соавторстве со Стивеном Холмсом работает над книгой о российской политике.
Примечания
1
Крастев немного не точен. Футбольный клуб «Эббсфлит Юнайтед» не играет в третьем дивизионе. Он выступает в Национальной конфедерации, которая является пятой по значимости английской лигой. Прим. ред.
(обратно)2
Хорейшо Элджер Младший (1834–1899) – американский писатель, автор многочисленных романов, изображающих счастливые судьбы простых американцев, сумевших честным трудом победить нищету и выйти в люди. Прим. ред.
(обратно)3
Ральф Нейдер (род. 1934), американский адвокат и политический активист. В книге «Опасен на любой скорости» (1965) подверг беспощадной критике автомобили, выпускаемые корпорацией General Motors, и вошел в историю как первый борец за права потребителей. Прим. ред.
(обратно)




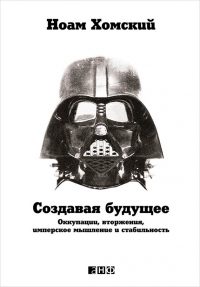
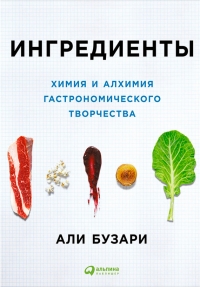






Комментарии к книге «Управление недоверием», Иван Крастев
Всего 0 комментариев