Е. В. Капинос Поэзия Приморских Альп. Рассказы И. А. Бунина 1920-х годов
© Капинос Е. В., 2014
© Издательство «Языки славянской культуры», 2014
* * *
Предисловие
Эта книга возникла из замысла подробно рассмотреть пять рассказов, которыми начинается необычайно плодотворный грасский период творчества И. А. Бунина. Рассказы «Неизвестный друг», «В ночном море», «В некотором царстве», «Огнь пожирающий», «Несрочная весна» были написаны летом и осенью 1923 г. в Приморских Альпах, на вилле Mont-Fleury[1]. По многим причинам их можно рассматривать в качестве отдельного цикла, и благодаря собиранию в цикл становится явной общность приемов, тем, мотивной структуры. Даже в их заглавиях усматривается некоторое сходство: все они образованы сочетанием существительного и его атрибута, что в минималистской форме отражает описательный дискурс. Нам хотелось ограничиться пятью перечисленными рассказами, но, как известно, «для прочтения Бунина чрезвычайно важен контекст всего творчества»[2], и в процессе анализа эти рассказы «притянули» к себе ряд других текстов, как дореволюционных, так и эмигрантских. Рассказ «В некотором царстве» фамилией главного героя – Ивлев – оказался связан с более ранними «Грамматикой любви» и «Зимним сном»; сюжет «писатель и читательница» объединил «Неизвестного друга» с «Речным трактиром» и «Визитными карточками»; рассказ «В ночном море» прочитывается нами на фоне целой группы «морских» текстов; тезаурус смерти, ярко заданный «Огнем пожирающим», потребовал рассмотрения «Аглаи», «Богини разума» и «Позднего часа»; анализ «Несрочной весны» показал, что она вырастает из ранних «дворянских элегий» и находит продолжение в элегических образах «Жизни Арсеньева» и «Темных аллей».
С 1918 г. и вплоть до Грасса проза Бунина, неся на себе отпечаток трагической эпохи, неустойчива как в жанровом, так и в стилистическом отношениях. Дневники, публицистика, рассказы пронизаны инвективой[3], художественной прозы пишется не много, и лишь в 1923 г. вновь начинается интенсивная работа над рассказами и повестью «Митина любовь». Эмигрантская биография и творчество Бунина еще ждет своей летописи, архивных разысканий, новых собраний, но наша книга посвящена главным образом поэтике, изучение которой хотя и предполагает учет биографических и текстологических факторов, но вполне возможно и при недостаточной их исследованности.
Опираясь на доступные на сегодняшний день и, конечно, далеко не полные издания, мы, тем не менее, можем представить, как менялся стиль Бунина на протяжении жизни. Всегда тяготея к малой форме, в 1910-х гг. Бунин написал «Деревню» и «Суходол», а также довольно много текстов, которые, хотя и называются рассказами, охватывают такую широкую панораму русской и мировой истории, что очень близки к повестям («Хорошая жизнь», «Ночной разговор», «Захар Воробьев», «Чаша жизни» и др.). Позже, в 1920-е гг., эпическое начало тускнеет, в «Митиной любви», «Деле корнета Елагина» историческое и социальное уходят в подтекст, а толчком к созданию больших произведений часто оказывается страница дневника, пейзаж, отдельный сюжетный момент, под который подстраивается дальнейшее повествование[4].
В первых рассказах Приморских Альп доминирует лирическое начало, элегические и балладные мотивы, характерная тема «отсутствия», целый спектр минус-приемов и других явлений, имеющих лирическую природу. Здесь нет пуантировки, ярких сюжетных схем. четких композиций, расширен и углублен именно лирический модус, так что проза Приморских Альп может восприниматься как поэзия. Позже, в «Темных аллеях», стиль Бунина снова меняется: новеллистические черты усиливаются, уравновешивая собою лирическую составляющую.
Широкий контекст, в который мы поместили пять рассказов Приморских Альп, позволяет острее почувствовать высокую инвариантную плотность бунинского художественного мира.
Стихотворная форма каждого по-настоящему нового и, следовательно, оригинального поэта может быть воспринята только в том случае, если его основная интонация проникает в сознание читателя и овладевает им. Эта интонация затем не раз развертывается и повторяется, и чем глубже укореняется поэт в сознании читателя, тем в большей степени поклонники и противники поэта привыкают к звучанию его стиха, и тем труднее им бывает отделить эти своеобразные элементы от произведений поэта. Они составляют существенную, неотъемлемую часть его поэзии, как интонация составляет основу нашей речи; интересно то, что именно такого рода элементы наиболее трудны для анализа[5].
– так начинается одна из классических работ Р. Якобсона. «Своеобразные элементы», «основная интонация» дальнейшими исследованиями стали сводиться к инвариантными мотивам поэтического мира, причем речь шла уже не только о поэзии, но и о художественной прозе.
Возможно, высокая инвариантная плотность объясняется сильно выдвинутой позицией того, кто стоит в центре лирического дискурса: это не рассказчик/повествователь, а «лирическое я»[6], то есть гораздо более обобщенное и масштабное авторское лицо, чем в прозе. Испытывая влияние лирики, проза XX в., в особенности лирическая, укрупняет фигуру автора, а внимание литературоведов, естественно, приковывает вся авторская сфера. Нас заинтересовал персонаж по фамилии Ивлев, в некотором смысле alter ego автора, и мы рассмотрели «ивлевский» триптих («Грамматика любви», «Зимний сон», «В некотором царстве») как единую конструкцию, которая проявляет одну из главных форм бунинского лиризма: каждый текст выходит за свои пределы, отражаясь в других текстах, варьируя их сюжеты, мотивы и приемы. «Ивлевская» конфигурация из трех текстов образует вертикальное сечение к последовательной «пятерке» Приморских Альп.
«Центральный инвариант» любого поэтического мира в той или иной мере всегда охватывается темой творчества[7], что лишь подтверждает факт вытеснения сюжета метасюжетом, преображения сюжета в метасюжет. Домининирование метасюжета характерно для прозы Бунина, как и для прозы Набокова, А. Белого и многих других их современников, и в этой книге мы, конечно, не могли не сделать акцента на метауровне бунинской прозы, поэтому отвели достаточно много места фигуре автора, различным формам автоописания, писательским образам, мотивам письма, библиотеки, чтения.
Не только в описательности и метасюжетности видели исследователи основу лирической природы прозы Бунина, пронизанность текстов памятью, воспоминанием определяет главные особенности бунинского стиля. Память – это та ментальная материя, погружение в которую и укрупняет позиции авторского «я» и вместе с тем нивелирует «я», поскольку обеспечивает доступ за пределы «я». Процесс мнемотического самоуглубления и одновременного самоотчуждения в прозе Бунина уже подробно описывался в монографических исследованиях Б. В. Аверина, И. С. Альберт, Ю. В. Мальцева, О. В. Сливицкой и других буниноведов, но мы не могли не вернуться еще раз к этому неисчерпаемому вопросу в связи с конкретными, выбранными нами из прозы Приморских Альп примерами. Чаще всего «материя памяти» в прозе XX в. изучается с опорой на философию Бергсона, изменившую представления о времени и позволившую художественный текст и его чтение воспринимать как игру проспективного и ретроспективного движения. Важно, что такая игра проспективного и ретроспективного исключает тождество уровней и элементов (по Бергсону, память не дает тождества пережитому в прошлом, а возвращает прошедшее в новом, образно и ассоциативно пересозданном виде), зато заменяет его неисчерпаемой комбинаторикой соположений. А это означает, что повторяющийся инвариант, лежащий в основе художественного мира каждого писателя, парадоксальным образом неповторим, хотя, казалось бы, бесконечно повторяется в различных вариациях и узнается читателем как уже знакомый.
«Неповторимая повторяемость» – так можно было бы определить поэтическую вариативность, обусловленную тем, что лирическому «захвату», способности лирических тем умножаться и «расплываться» соответствует другое, совершенно противоположное свойство лирической формы – концентрация. Показывая в этой книге параллелизм, «расплыв» по всем текстам Бунина похожих приемов и мотивов, мы вместе с тем старались с наибольшей подробностью остановиться на каждом примере в отдельности. Именно из-за лирической концентрации подробное аналитическое описание кажется нам аутентичной литературоведческой формой исследования лирической поэтики. Чтобы пройти на всю глубину текста, мы работаем даже не на уровне поэтики, а на уровне микропоэтики, стараясь достичь едва ли не асемантических его пластов. Лирическая концентрация коррелируется малой формой произведения, с лирикой роднит рассказы Бунина их небольшой объем, усугубленный лакунностью, семантическими провалами, сюжетной пунктирностью. Тенденция к минималистскому объему, вообще характерная для культуры нынешнего и прошлого веков, увеличивает смысловой потенциал каждого слова[8].
Несмотря на то, что словесный план лирической прозы, как и словесный план стихов, превосходит план сюжетный, лирический дискурс любого типа не превращается в отвлеченную абстракцию. Утрачивается референциальность, но не экзистенциальное чувство, поскольку смысловая концентрация дает такую силу словесному плану, то есть микроплану текста, что энергетическое воздействие «словесного» и становится реализацией, успешно конкурирующей с сюжетным правдоподобием, с сюжетной иллюзией реальности. Вдобавок к этому словесная абстракция вступает в отношения соположения с линейной конкретикой и событийной логикой текста, что меняет восприятие горизонтальных, последовательных, причинно-следственных отношений: привычное «правдоподобие», оказывается, скрывает в себе какую-то чужеродность, и от этого «знакомое», «обычное», «жизненное» становится поэтически зримым и выразительным. Другими словами, усиление парадигматических отношений в тексте лирического типа «остраняет» связи синтагматические. Осмысляя автобиографический наклон бунинского лиризма, мы обращаем внимание на то, что все пять рассматриваемых нами текстов имеют затекстовый топоним и дату «Приморские Альпы, 1923», и эта надпись полноправно входит в текст рассказов, оттеняя, как мы покажем в каждой из глав, их ведущие темы. Вместе с «Приморскими Альпами» открывается автобиографический, чрезвычайно важный для Бунина ракурс, дающий возможность восстановить и дореволюционную, и эмигрантскую судьбу автора, и картины любимых им мест: Елец, Озерки, Крым и Кавказ, Москва, Париж, Лазурный берег. Разумеется, лирическая проза позволяет реконструировать не внешнюю, а внутреннюю биографию писателя, внешние же события или картины даются условно, а точность бунинских затекстовых топонимов скорее контрастирует с обобщенностью его художественных локусов, часто даже не поименованных. Однако на фоне лирической суггестии те или иные конкретные «живые» детали биографии писателя начинают восприниматься еще ярче. Мы старались показать ту высокую амплитуду, которая характеризует лирический стиль Бунина, совмещающий поэтическую универсальность с точным знанием реальных ландшафтно-географических подробностей, с абсолютной памятью вещей, деталей, обликов. В ореоле лирической суггестии вещи и биографические подробности не затушевываются, а парадоксальным образом обнажаются и заостряются, поскольку оказываются «выбитыми» из горизонтальных отношений однородности.
Лирический текст (не важно, в стихах или прозе) не только удерживает авторскую эмоцию, погружает во внутренний мир «я», но и подходит к границам «я», открывая их проницаемость и подвижность. Функции лиризма имеют онтологический статус, позволяющий почувствовать взаимопроницаемость универсального и окказионального, сингулярного и множественного, моментального и вечного, обобщенного и конкретного, именно поэтому осмысление лирической природы художественного текста стало превращаться в самостоятельный теоретический раздел литературоведения. Способность выразить ощущение проницаемости границ между «я» и миром, по сути, может быть сочтена главным свойством художественной материи, поэтому четкое разделение сюжета и метасюжета неосуществимо. Событийный сюжет всегда выходит из собственной замкнутости в метаобласти: он непрерывно конструируется и саморефлексируется внутри текста. Без динамики и саморефлексии невозможно восприятие предмета или события, а тем более невозможно их художественное, лирическое созерцание. Метасюжет и сюжет сливаются воедино в процессе художественной рефлексии, но в то же время, совпадая, расходятся, как сознание и универсум, которые тоже не могут полностью отождествиться, оставаясь самостоятельными хотя бы потому, что «точечность» «я», его ограниченность, привязанность к «здесь и сейчас» приходит в противоречие с протяженностью и непостижимостью пространства[9]. Художественная, лирическая эмоция гармонизирует разнородность «я» и мира, отчего все неохватное пространство универсума приближается к «я», вмещается в него, одновременно повышаясь в своей ценности и недоступности.
Исходя из такого рода представлений о лирике, мы описывали прозаические миниатюры Бунина, нередко прибегая к метафорическим определениям лирического сюжета и лирического текста, – например, к формуле, приложенной Ю. Н. Чумаковым к поэзии Тютчева – «точка, распространяющаяся на все». Эта формула несет в себе мысль о центробежности и центростремительности лирического текста и презумпцию условности границ между внутренним и внешним[10]; исходя из нее, можно утверждать, что лирические формы характеризуются ускользающей границей между автором внутри и автором вне текста. К пространственным метафорам с акцентами на заполненности или пустоте прибегают многие теоретики. Вот, к примеру, одно из рассужений П. Де Мана о Рильке:
Рильке… называет… утрату референциальности амбивалентным термином «внутренний мир» (innen entstehen, Weltinnenraum и т. д.), который, в таком случае, обозначает не самоприсутствие сознания, но неизбежное отсутствие надежного референта. Он обозначает неспособность языка поэзии присвоить что-либо, будь то сознание, объект или синтез того и другого. С точки зрения образного языка, эта утрата субстанции оказывается освобождением. Она приводит в действие игру риторических обращений и предоставляет им свободу играть, не воздвигая референциальные препятствия значения[11].
Наш подход к лирической прозе Бунина состоит в попытке представить отношения «я» и мира не как устойчивое противопоставление внутреннего и внешнего, субъектного и объектного, а как процесс пространственных метаморфоз «я», соотнесенный с лирической подвижностью композиционных структур. Между внешним и внутренним всегда образуются зазоры, и в то же время они всегда стремятся к взаимозаполнению, и этот бесконечный процесс слияния и отчуждения позволяет ощутить не только объем поэтического «я», способного вместить в себя что угодно, но и объем пространства, тоже вбирающего в себя множественные проекции «я». Поэтическое «я» пространственно внутри себя, а между тем освоение пространства – это не легкий и осознанный, а сложный интуитивный процесс, который приоткрывает наиболее дальние, невидимые, скрытые, недостижимые и свободные от «я» области.
В приложении к нашей книге мы приводим теоретическую главу, которая затрагивает проблемы лирического сюжета и лирического «я», она посвящена представлениям современников Бунина, философов и литературоведов, о пространстве-времени и о его роли в восприятии художественной (прежде всего лирической) формы.
Под бесценным влиянием моих учителей – Элеоноры Илларионовны Худошиной и Юрия Николаевича Чумакова, при неизменном участии моих друзей – Елены Юрьевны Куликовой, Наталии Абрамовны Фет, Владимира Яковлевича Фета написана эта книга. Им я сердечно благодарна.
Глава I Феномен отсутствия: «Неизвестный друг», «Визитные карточки», «Речной трактир»
Внимание ко всему, отодвинутому на периферию, исчезающему и исчезнувшему, необыкновенно заострено в художественном мире Бунина. Целое поколение писателей-эмигрантов осознает себя «уходящей натурой» разрушенной страны, и на первый план выдвигаются мотивы отсутствия, непроявленности, невоплощенного. Богатая и бесконечно разнообразная палитра минус-приемов формирует образ исчезновения, что можно увидеть едва ли не в каждом тексте. Предметом нашего внимания станут три рассказа И. А. Бунина, в чем-то схожие по сюжету, но абсолютно различные по стилистике и характеру минусирования – «Неизвестный друг», написанный Буниным в 1923 г. в Приморских Альпах, а также «Визитные карточки» (1940) и «Речной трактир» (1943) из «Темных аллей».
Новелла в «письмах без ответа» как образ «мира без меня»: «Неизвестный друг»
Рассказ «Неизвестный друг» был опубликован впервые в альманахе «Златоцвет»[12], вышедшем в Берлине и включавшем в себя стихи и прозаические миниатюры, а также хронику литературно-художественной жизни Европы и России. Альманах был прекрасно иллюстрирован, заключен под обложку с рисунком И. Билибина, содержал все рубрики, традиционно присущие русскому модернистскому журналу, и даже шрифтами точно повторял «Аполлон». Все это позволяло увидеть в эмигрантском издании 1924 года живую реплику дореволюционного прошлого России. Конечно, «Неизвестный друг» занимал в альманахе главное место, поскольку принадлежал перу признанного писателя-академика, покинувшего родину в 1920 г.
И в контексте «Златоцвета», и в контексте творчества Бунина этот рассказ чрезвычайно репрезентативен, он задает тему «писатель и читательница», к которой Бунин впоследствии будет неоднократно возвращаться. «Неизвестный друг» может быть также рассмотрен как манифест поэтики Бунина, и опыт такого анализа предпринят в одной из работ О. В. Сливицкой[13]. Для нас в этом тексте важны некоторые, порой едва заметные детали и скрытые, частично или полностью, участки сюжета, теневые стороны композиции, семантические лакуны, – одним словом, все, что связано с микро– и минус– поэтикой.
«Неизвестный друг» – это рассказ в письмах, написанных, как свидетельствуют датировки, за месяц с небольшим – с 7 октября по 10 ноября неизвестно какого года: четырнадцать писем без подписей и обращений; отсутствие, минусирование этих обязательных моментов эпистолярного жанра делает разделенные лишь числами фрагменты похожими на отрывки из дневника, неведомо когда начатого и не имеющего конца.
О героине читатель узнает немногое: она принадлежит к высшему сословию, «не молода 〈…〉, но… была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась…»[14]. Особенность сюжета обусловлена тем, что героиня не знакома лично со своим адресатом и обращается к нему вопреки правилам этикета, вдохновляемая его творчеством, его художественным, а не реальным «я». Сам герой в качестве персонажа так и не появляется, и сюжет рассказа становится своего рода сюжетом без героя: сначала героиня не надеется на ответ, затем мягко просит ответить, потом настойчиво требует ответа, и, наконец, отчаявшись, прекращает писать. Автор этих писем, заметим, ни разу не называет имя своего адресата, хотя, разумеется, знает его («знала Вас лишь по имени» – 5; 91). В противоположность пишущей читательнице молчащий и тем самым отсутствующий писатель остается в неведении относительно имени своей нечаянной корреспондентки: вместо того, чтобы подписывать письма, она не без иронии называет себя «неизвестным другом», подчеркивая известность своего адресата[15]. Однако название рассказа полисемантично, не героиня, а писатель остается для читателя «неизвестным другом», а героиня, прячась за эпитет «неизвестная», является таковой лишь отчасти: открывая одно за другим ее письма, мы все больше узнаем о ее душевной жизни. При этом текст «покачивается» на волне приближения-отталкивания героини от адресата, и на пустующем месте героя создается некая скрытая под покровом неопределенности, но притягательная энигматическая сущность. Впрочем, таковой в значительной мере остается и героиня.
Рассказ «Неизвестный друг» может быть рассмотрен как своего рода лирический этюд, где из двух персонажей от одного остался лишь «знак героя»[16], а другой, подобно автору-лирику, записывает нюансы собственных чувств и настроений. Звенья сюжетной цепи отдаляются друг от друга, образуя событийные пробелы и пустоты. Здесь уместно вспомнить, что семантическую пунктирность Ю. Н. Тынянов считал основным импульсом лирической динамики, тыняновские «кажущиеся значения», «видимости значения» – это знаки слов, событий, героев, которые мерцают на месте обязательных для лирики и лирической прозы «семантических пробелов»[17]. В лиро-эпическом тексте семантический пунктир искажает, деформирует не только линейные грамматические связи между словами, причинно-следственные закономерности фабулы, разрывает сюжетную цепь, он меняет и самого героя: «Крупнейшей семантической единицей прозаического романа является герой – объединение под одним внешним знаком разнородных динамических элементов. Но в ходе стихового романа эти элементы деформированы; сам внешний знак приобретает в стихе иной оттенок по сравнению с прозой»[18]. Если отвлечься от жанрового аспекта, важного для Ю. Н. Тынянова, и размышлять об эпической и лирической природе вообще, то можно сказать, что в поэтическом тексте, по сравнению с эпическим, возрастает разнородность и динамичность всех элементов, собранных под «знаком героя», при этом сама условность этого знака может, в принципе, достичь некоторого абсолюта. Иными словами, все, что угодно, или даже ничто может оказаться сильнейшим смысловым сгустком, который, будучи обведен «кружком имени» или «знаком имени», как и в нашем случае, даст интенсивное ощущение присутствия героя, минусируя его конкретные черты. И с этой точки зрения образ незнакомца, а еще лучше – незнакомки представляет собой идеальную рамку, способную вместить в себя все национальное, эпохальное, авторское и т. д.
Композиция бунинского рассказа, выстроенного как череда писем без единого комментария, заставляет вспомнить исток жанра. Классический роман или новелла в письмах XVII–XIX вв. обычно воссоздают ту или иную сюжетную перипетию, разрешение которой наступает в кульминационный момент, а иногда, как, например, в «Опасных связях» Ш. де Лакло, сама интрига здесь же задумывается, планируется и направляется. Рассказ «Неизвестный друг» только начальным сюжетным импульсом напоминает классический роман в письмах. По мере того, как ответа все дольше и дольше нет, возрастает лирическая концентрация в поле героини. В рассказе напрямую явлено лишь одно – «перформативное» – действие: героиня пишет о том, что она пишет письма, не требуя или требуя ответа[19]. Упомянув первое, что приходит в голову в связи с «Неизвестным другом», – «Письма к незнакомке» П. Мериме и «Письмо незнакомки» С. Цвейга, назовем еще, вторгаясь в глубь времен, «Португальские письма» Гийерага 1669 г. (пять посланий монашенки Марианы, адресованных покинувшему ее возлюбленному), которые А. Д. Михайлов определил как «лирическую трагедию»[20]. У Бунина герои не только не знакомы, они никогда не видели и не увидят друг друга: сюжет отсутствия доведен до предела[21], который можно обозначить формулой «мир без тебя», причем формула эта чаще всего обнаруживает в подобных текстах еще и свой негатив: «мир без меня»[22]. Явные знаки отсутствия позволяют найти множество их скрытых аналогов по всему тексту. Кроме героя, минусируются его произведения: героиня «Неизвестного друга» то и дело ссылается на прочитанные ею книги этого известного писателя, но мы не получаем представления ни об одной из них: нет ни названий, ни намека на жанр, в котором эти «книги» написаны, ни одной более или менее точной цитаты. Героиня только «отталкивается» от прочитанного, иногда «дописывая», «дорисовывая» выраженные в нем мысли. При этом происходит подстановка: неизвестная читательница замещает собой известного писателя, ведь ее волнуют вовсе не сюжеты его книг (она вообще решительно отметает сюжетность, интригу, «рассказ»), а профессиональные писательские проблемы: третье, четвертое, одиннадцатое письмо превращены едва ли не в трактаты по эстетике:
Что побуждает писать Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хотя бы иносказательно) себя? Конечно, второе. Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души… (5; 96).
Здесь за «известным писателем» и его «читательницей нежной», разумеется, трудно не угадать самого автора этого рассказа.
Минус-прием имеет отношение не только к образу героя. Несмотря на то, что героиня многое рассказывает о себе, а тональность ее писем местами даже интимная, какие-то ключевые моменты ее биографии остаются не ясны, обойдены молчанием. В первом, самом коротком тексте, написанном на обороте открытки с изображением лунной ночи над Атлантикой, она сразу сообщает своему адресату, что живет в Ирландии. Из второго письма выясняется, что Ирландия – не родина, а чужая для нее страна, куда ее «навеки забросила судьба». Еще позже мы узнаем, что героиня замужем, что ее муж – француз, что она «познакомилась с ним однажды на французской Ривьере, венчались в Риме». Трижды героиня восторженно поминает Италию («О Италия, Италия и мои восемнадцать лет…» – 5; 93; «…и у меня была молодость, весна, Италия…» – 5; 96), но это тоже не ее родина. Рассказ вообще изобилует географическими ориентирами: героиня остро и точно чувствует ландшафт, его положение в мировом пространстве, окружающий Ирландию океан, путь по которому намечен далеко на запад – «до Америки» («я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки» – 5; 92). На фоне столь ярко намеченного западного направления обнажается зияние, фигура умолчания на востоке, который будто бы отсечен, навсегда «отрезан», убран из области восприятия героини, любующейся чужими берегами, но глубоко переживающей свое экзистенциальное одиночество. Не случайно публикация этого рассказа в «Златоцвете» предварялась изящной иллюстрацией с изображением женской фигуры, окутанной снежной дымкой. Снег на картинке усиливал «пустотную» семантику текста, добавляя к холодному молчанию героя «русские» ассоциации, связанные с далекой, зимней, уже будто и не существующей страной.
Если вспомнить к тому же об авторском указании на место и время написания этого рассказа: «Приморские Альпы, 1923», – и «втянуть» этот затекстовый топоним в рамки самого текста, то за умолчанием прочитывается еще один, более сильный, чем иллюстрация в «Златоцвете», намек на Россию как на возможную родину героини, которая пишет не только «в никуда», но и «ниоткуда». Очерчивающий героиню контур расширяется и начинает вмещать в себя и того писателя, от которого она так и не дождется ответа, и самого автора рассказа, который вроде бы ни разу не вмешивается в повествование, оставаясь «за кадром», – на другом, не западном, а южном берегу Европы.
В основу «Неизвестного друга», как показал Л. Н. Афонин, положена реальная переписка Бунина с Н. П. Эспозито[23], уехавшей в 1874 г. с отцом, петербургским профессором П. А. Хлебниковым, в Европу, а спустя несколько лет вышедшей замуж за итальянского композитора Микеле Эспозито и поселившейся с семьей в Дублине. Поводом для первого письма Эспозито Бунину в 1901 г. становится публикация нескольких рассказов писателя в «Русской мысли», отклик на которые и присылает Бунину эмигрантка из далекой Ирландии. Из опубликованных Л. Н. Афониным писем становится понятно, что, не имея рядом ни одного собеседника, говорящего по-русски[24], Эспозито хранит связь с родиной благодаря книгам, журналам и призрачной возможности написать кому-то, пусть даже незнакомому, в Россию. Через 20 лет, когда Бунин сам оказывается оторванным от родной страны, он создает рассказ по мотивам своей давней и недолгой переписки, причем тема ностальгии, эмиграции специально не эксплицирована в рассказе вопреки тому, что в письмах Эспозито мотив потерянной родины звучит очень внятно. Скрытая тема легко угадывается и без знания истории создания текста («Рассказывавший о происхождении многих своих произведений, Бунин промолчал о предыстории “Неизвестного друга”»[25], – отмечает Л. Н. Афонин), но, будучи спрятанным, прикровенным, подтекст реальной переписки «тайно» сближает автора и героиню, создает для них двоих какое-то особое интимное поле.
Динамическому расширению контура героини в «Неизвестном друге» вторит местоименная игра. Несколько раз героиня в своих письмах разделяет и тут же соединяет местоимения, указывающие на нее и героя-писателя. Оставить героев без собственных имен, обозначить их местоимениями, соскальзывать с местоимений третьего лица к первому лицу и наоборот – узнаваемая особенность повествовательной манеры Бунина. Обозначить героев лишь местоимениями – это значит одновременно и отдалить, и сблизить их, «столкнуть» лицом к лицу – мимо множества конкретных обстоятельств, нивелировать частное и определенное перед лицом универсума и совместить в конечном итоге «я» и «ты», говорящего (пишущего) и слушающего (читающего): «Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем…» (5; 91); «Ваши мысли становятся моими, нашими общими» (5; 91) (Курсив мой. – Е. К.)[26]. Местоименная игра позволяет придать героям черты «невыразимого», обобщает все, что мы узнаем о них, но и восполняет «пустотность», подводит к границе, которая не отдаляет от предмета, а вплотную придвигает к нему. Комментируя теорию внутренней формы слова А. А. Потебни, В. В. Бибихин описывает в чем-то сходное явление, но не из области поэтики, а из области лингвистики: «Обусловление мысли, переход ее в знак совершается через “обозначение” ее чем-то невыразимым, потому что слишком близким к человеку, не оставляющим места для еще большей близости»[27].
Чувства героини, о которых она говорит, тоже обобщены и отвлечены. Согласно привычному канону, роман в письмах, как правило, содержит, в себе любовную интригу. Оправдывая жанровые ожидания читателя, письма должны стать признанием в любви, тем более что в «читательнице нежной» «Неизвестного друга» легко угадывается далекое и расплывчатое отражение пушкинской Татьяны, совмещающее в себе уездную барышню, пишущую письмо загадочному герою, «тому, кто мил и страшен ей», и жену князя N., гордую «законодательницу зал» («В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах и обедах» – 5; 94). В отличие от пушкинской Татьяны, открытого признания в любви героиня не делает. Если слово «любовь» появляется, то оно завуалировано, не обращено прямо на писателя, уходит куда-то в сторону, как бы случайно отсылая к героям шекспировской трагедии (в седьмом письме: «Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне?» – 5; 93), чьи имена сопрягаются даже не по смыслу, а скорее по звуку, закольцованные ассонансом двойного «о» (Ромео, Отелло). Лишь в одиннадцатом письме героиня, наконец, говорит о своей любви, но на кого она направлена – по-прежнему остается недоговоренным («…есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь…» – 5; 96). В результате возникает образ недосотворенной любви[28], и «минус» невоплотившегося тоже возводит эту любовь в абсолют. Более того, недовоплощенность любви, отсутствие возможности сфокусировать ее на герое, помимо мотива утраты родины, усиливает связь героини с автором повествования, с Буниным. В одной из глав «Онегина» Пушкин удивленно восклицает: «Кто ей внушал и эту нежность, / И слов любезную небрежность», а читатель, вздыхая вслед за автором над письмом Татьяны, тут же усмехается, понимая, что «эту нежность» внушил Татьяне никто иной, как автор, теперь удивляющийся своему же мастерству[29].
Конечно же, и в письма «неизвестного друга» вложено неповторимое мастерство Бунина. Если сличать рассказ Бунина с реальными письмами Н. П. Эспозито, то нельзя не отметить верность писателя оригиналу, тем более удивительную, что письма, вероятно, воспроизведены Буниным по памяти, поскольку они остались в России и хранятся в русском архиве[30]. Оставляя нетронутыми целые отрывки и стилистку Эспозито (множество риторических вопросов, ясность, логичность фразы, само выражение «неизвестный друг», форму переписки-дневника), Бунин вводит игру в отсутствующего писателя и в авторский план: писатель в рассказе не отвечает читательнице, а автор тоже молчит и будто бы ничего не делает сам, лишь воспроизводя, сохраняя «подлинный голос» своей корреспондентки. И все-таки есть моменты, когда Бунин, умевший и в жизни давать уроки писательского ремесла ценителям своего таланта[31], вмешивается в письмо своей героини. Оставляя почти нетронутыми общий сюжет писем, размышления Н. П. Эспозито о книгах и литературе, Бунин полностью меняет все описательные фрагменты: пейзажи, портреты, интерьеры. Описания становятся подлинной интригой рассказа, и у героини «Неизвестного друга» появляются хорошие шансы в словесном состязании со своим адресатом (писателем!). В первой строке первого послания сообщается, что все оно – размером с carte-illustrée; картинка на обороте остается визуальной загадкой, хотя и комментируется, – как и некоторые другие. К каждому из городских видов или пейзажей есть пояснения: «Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега, – моя первая carte-postale к Вам, – дальше, севернее» (5; 92). Постепенно, шаг за шагом в сознании читателя вырастает образ приморского города (кстати, тоже неназванного) в Ирландии, с умытыми дождем осенними садами, дальними окраинами и с темной громадой собора в центре. Конкретность и ясность пейзажей (вот, например, искусно решенный и в цвете, и в освещении пейзаж второго письма: «От дождя, от туч было почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно ярки, пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки, а я читала, читала и, неизвестно[32] почему, чувствовала себя счастливой» – 5; 89) будто бы компенсирует неопределенность облика героя (героиня сетует, что не может представить себе ни его портрета, ни образа). Зато описанные ею пейзажи, как и автопортрет – четки и рельефны. Более того, иногда кажется, что Бунин «забывает» перевоплотиться, и его авторское «я» пересиливает женское «я» героини, в автопортрете которой чувствуется мужской взгляд, завороженный элегической женской красотой: «В сущности, все в мире прелестно 〈…〉, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве» (5; 92)[33].
Заданные самим жанром параллели с сентиментальными и романтическими типами повествования придают всему тексту, и особенно героине, черты архаики[34]. Она, как барышня прошлых времен, пишет незнакомцу, «стыдом и страхом замирая», а автор дает возможность различить сквозь «магический кристалл» ее эмоциональных и несколько старомодных писем полные жизни картины всевозможных судеб[35], в том числе и собственной эмигрантской судьбы. «Авторское», однако, отдано не только героине, но и отсутствующему писателю. Одним из ключевых текстов собранного А. К. Жолковским кластера на тему «Мир без меня» является стихотворение Бунина:
Настанет день – исчезну я, А в этой комнате пустой Все то же будет: стол, скамья Да образ, древний и простой 〈…〉,дающее представление о некоем идеальном бытии поэта / писателя, который, уходя из мира, продолжает в нем оставаться. Повторяющимся мотивом этого кластера является мотив книги, метонимически замещающей поэта (писателя, философа): «Зорю бьют… из рук моих / Ветхий Данте выпадает» (Пушкин), «Здесь лежала его треуголка / И растрепанный том Парни» (Ахматова, «Пушкин») и мн. др.[36] И в «Неизвестном друге» книги – единственное, что дано героине для ее «романа» с писателем.
Таким образом, минусированному писателю соответствует убранное, опосредованное авторское «я». Будучи скрытым, авторское «я» не избавляет читателя от своего присутствия, а, напротив, демонстрирует свою мощь и преизбыток, выступая не только из другого «я» (в данном случае – «я» героини), но еще в большей мере проявляясь в описаниях, в создании энигматического «ты» на пустующем месте. И это возможно лишь постольку, поскольку лирическое (и шире – художественное) «я» и мир взаимозаменяемы по принципу метонимии[37].
Писатель и Незнакомка: «Визитные карточки»
Следующий вариант сюжета о писателе и незнакомке мы рассмотрим на примере «Визитных карточек», он существенно отличается от предыдущего: если героиня «Неизвестного друга» может только мечтать о встрече с писателем, то в «Визитных карточках» эта встреча осуществилась, но закончилась не трагически, а, скорее, драматически. К «Визитным карточкам» Бунин оставил автобиографический комментарий:
В июне 1914 года мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И вот в первый же вечер, после ужина, когда брат гулял по палубе, а я сидел под окном нашей каюты, ко мне подошла какая-то милая, смущенная и невзрачная, небольшая, худенькая, еще довольно молодая, но уже увядшая женщина и сказала, что она узнала меня по портретам, кто я, что «так счастлива» видеть меня. Я попросил ее присесть, стал расспрашивать, кто она, откуда, – не помню, что она отвечала, – что-то очень незначительное, уездное, – стал невольно и, конечно, без всякой цели любезничать с ней, но тут подошел брат, молча и неприязненно посмотрел на нас, она смутилась еще больше, торопливо попрощалась со мной и ушла, а брат сказал мне: «Слышал, как ты распускал перья перед ней, – противно!»[38].
Наличие комментария создает иллюзию автобиографического повествования: кажется, что реальные воспоминания послужили отправной точкой для рассказа.
«Визитные карточки» начинаются с выразительного и крупного портрета главного героя, писателя. И его внешность, и характер в какой-то мере «предсказаны» ландшафтной картиной первого абзаца, определяющей, как и в «Неизвестном друге», «географическую» составляющую его семантики. Здесь тоже работает прием умолчания: если в живописных картинах «Неизвестного друга» отсутствует Россия и вообще восток Европы, то в «Визитных карточках» отсутствует европейская Россия, пространственные векторы рассказа «направлены» в противоположную сторону: западный, правый, «европейский» (крутой и холмистый) берег Волги представлен лишь упоминанием пристаней – знаков некоей освоенности этих мест, их некоторой цивилизованности, зато в высшей степени картинно нарисован левый берег: плоский, пустынный, степной, азиатский, с перспективой в бесконечную даль на восток, откуда дует сильный холодный ветер. «Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам азиатского простора, с ее восточных, уже порыжевших берегов студеный ветер, трепавший флаг на корме…» (7; 72). И эта бескрайняя равнина, и текущая по ней великая река, этот сильный ветер, пронизывающий легко и бедно одетую героиню, находится в явной гармонии, удивительно «идет» к облику ее спутника, в портрете которого подчеркнуты «азиатские» черты: «Он был 〈…〉 брюнет русско-восточного типа, что встречается в Москве среди ее старинного торгового люда: он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел» (7; 72–73). И далее эта как бы «первобытная» сила, проступающая в облике утонченного интеллектуала, в которой угадывается нечто азиатское и простонародное, определит и неожиданный характер, и сам ход сюжета: «пошел к ней навстречу широкими шагами» (7; 73), «уже с некоторой жадностью осматривая ее» (7; 74), «крепко взял ее ручку, под тонкой кожей которой чувствовались все косточки» (7; 76), «чуть не укусил ее в щеку» (7; 76).
Герой «Визитных карточек» обманывает ожидания: от «романа» с писателем можно было бы ожидать «книжного», а не «брутального» и «азиатского». Но именно «азиатским» маркируется его тема, в которую входит даже красота «русского» завтрака («…чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом» – 7; 74). Портрет героя в «Визитных карточках» одновременно и конкретно-живописен, и собирательно-отвлечен. Какие-то его черты, возможно, намекают на Куприна, последовательно поддерживавшего татарскую, кулунчаковскую линию своей биографии, что-то заставляет вспомнить о Чехове: писатель «Визитных карточек», подобно ему, вышел из «торгового люда», а некоторые его размышления выдержаны в духе хрестоматийных реплик Тригорина[39]. Более того, в мемуарной книге о Чехове тоже есть портрет писателя в «азиатских» тонах, складывается впечатление, что «азиатское» становится у Бунина константной приметой русского писателя[40]:
В нем, как мне всегда казалось, было довольно много какой-то восточной наследственности, – сужу по лицам его простонародных родных, по их несколько косым и узким глазам и выдающимся скулам. И сам он делался с годами похож на них все больше и состарился душевно и телесно очень рано, как и подобает восточным людям (9; 170).
В волжском пейзаже много внимания отдано ветру, ветер сопровождает тему героя, стихийного начала в нем. Если сравнивать автобиографический комментарий с рассказом, то окажется, что Бунин «развернул» пароход в обратную сторону: в воспоминаниях он идет вверх по Волге («от Саратова до Ярославля»), а в рассказе – вниз, что видно и по характеру движения («бежал по опустевшей Волге…»), и по тому, как дует восточный ветер («шел к носу, на ветер»). Пустив пароход вниз по реке, Бунин усиливает интенсивность движения, отчего стоящий на палубе герой еще больше сливается с русской, волжской, свободной и непредсказуемой «азиатской» стихией[41].
Экспозиция рассказа отличается обманчивой четкостью с очевидным противопоставлением героя и героини: «Он одиноко ходил твердой поступью, в дорогой и прочной обуви, в черном шевиотовом пальто и клетчатой английской каскетке…» (7; 73), о ней сказано:
…показалась поднимавшаяся из пролета лестницы, с нижней палубы, из третьего класса, черная дешевенькая шляпка и под ней испитое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером 〈…〉 Вся поднявшись на палубу, неловко пошла и она… (7; 73).
То, что в первой же сцене скромно одетая героиня поднимается навстречу герою с нижней палубы, умаляет ее, заставляя казаться невинной жертвой. Однако в герое одновременно с «азиатской» страстностью все более проявляется совсем другое чувство: истинная нежность и жалость к бледной красоте этой провинциалки, возвращающейся из Свияжска[42] («“Какая милая и несчастная”, – подумал он…» – 7; 75). Противоположные чувства – безжалостное вожделение и жалость индуцируют друг друга[43].
Начало диалога писателя и его попутчицы полно провокаций со стороны героя, он прекрасно понимает, как должно было взволновать бедную провинциалку знакомство с известным писателем, произошедшее накануне: «– Как изволили почивать? – громко и мужественно сказал он на ходу», и получает смешной и трогательный в своей простоте и неискусной лжи ответ: «– Отлично! – ответила она неумеренно весело. – Я всегда сплю как сурок» (7; 73), но уже в следующей реплике героиня признается, что не спала, а «все мечтала!» (7; 73). Позже становится понятно: не только героиня, но и герой не мог освободиться от впечатления встречи: «Он вспоминал о ней ночью…» (7; 74).
Текст устроен так, что сначала читатель погружен в мир писателя гораздо больше, чем в мир героини: реплики диалога перемежаются его мыслями и чувствами, его глазами мы видим его спутницу; взгляд писателя проницателен и остр, поэтому его точка зрения идеальна для повествования, он доминирует. А вот наивная простота героини как бы и не требует проникновения в ее внутренний мир, который кажется открытым. Сильная позиция героя в диалоге делает героиню еще более беззащитной. Но одной из главных пружин рассказа, на наш взгляд, является незаметная и постепенная инверсия: героиня все больше и больше высвобождается из подчиненного положения, приковывает к себе внимание, при том, что ее жертвенность, слабость, даже нелепость, не исчезают. Подобные инверсии встречаются и в других вещах Бунина, так, в «Жизни Арсеньева» главная героиня романа, Лика, появляется в конце предпоследней части (в четвертой из пяти книг романа), она целиком подчинена Арсеньеву, поскольку повествование ведется от его лица, и из-за этого мир Лики кажется проще, наивнее и ýже, чем сложный и объемный мир Арсеньева. Однако финал романа устроен так, что образ Лики отодвигает Арсеньева, заполняет всё его «я», становится символом всех произошедших в романе событий. Нечто подобное можно наблюдать и в «Визитных карточках».
Известный типаж «развратной невинности», многообразно представленный в литературе, к примеру, образом «порочной нимфетки» (как в «Лолите» и «Аде» Набокова), или еще более традиционным для русской классической прозы образом «невинной проститутки», каковые встречаются и у Бунина («Мадрид», «Три рубля», «Второй кофейник»), разыгрывается в «Визитных карточках». Но здесь «развратная невинность» осложнена сугубо бунинским мотивом уходящей, исчезающей, умирающей, «состаренной» красоты, который имеет элегические истоки, обращает к элегическому пафосу прекрасного и печального увядания. Элегические мотивы позволяют сблизить героиню «Визитных карточек» с героиней «Неизвестного друга», которая тоже переживает это чувство утекающей и неосуществленной жизни: «И всего бесконечно жаль: к чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь» (5; 92). Любовь, блистающая «прощальной улыбкой», встречается у Бунина во множестве вариантов: часто Бунин пишет о любви, а вместе с ней и юности, оставшейся в прошлом, отнятой горем разлуки и проступающей сквозь множество полустертых мнемотических пластов. В «Жизни Арсеньева» герой единственный раз после смерти Лики видит ее во сне: «Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты» (6; 288).
Композиция рассказа Бунина организована теми же приемами временных перестановок и обрывов, что были описаны Л. С. Выготским на примере «Легкого дыхания»[44]. Продолжая Л. С. Выготского, А. К. Жолковский говорит о «сдвинутом» «монтаже картин», о «временных “неправильностях”», о «перемешивании временных планов (сегодня и завтра)» и, в конечном итоге, о «преодолении времени», «освобождении от времени и фабульного интереса»[45], характерном для поэтики Бунина. В «Визитных карточках» «сегодня» и «завтра» тоже откровенно перетасовываются. Быстрой сменой и перепутыванием временны́х пластов отмечена сцена в столовой, именно там в памяти писателя проносится вчерашний разговор, который вклинивается в сегодняшний, превышая его по объему. Реплики об имени, муже, сестре всплывают в сознании писателя, когда он завтракает со своей спутницей в столовой, но на самом деле они были произнесены накануне вечером, когда герой и незнакомка были вдвоем на палубе. Именно поэтому фразы обрываются, воспроизводятся не полностью, но, даже будучи отрывочными, настолько сливаются с настоящим, что Бунин отграничивает прошлое от настоящего, вчерашнее от сегодняшнего при помощи временных маркеров «вчера», «теперь»:
Так расспрашивал он и вчера 〈…〉:
– Можно узнать, как зовут?
Она быстро сказала свое имя-отчество.
– Возвращаетесь откуда-нибудь домой?
– Была в Свияжске у сестры, у нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении…
Она сперва так смущалась, что все смотрела куда-то вдаль. Потом стала отвечать смелее.
– А вы тоже замужем?
〈…〉 Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки 〈…〉 Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте (7; 74–76)[46].
Лишь одна развернутая фраза звучит за завтраком, и она оказывается выделенной, единственной, отнесенной к настоящему моменту, она дает читателю возможность догадываться о чувствах героини, выдвигает ее на первый план. Более того, эта реплика оказывается сильно подчеркнутой самим названием бунинской новеллы:
Знаете, – сказала она вдруг, – вот мы говорили о мечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а я мечтала (7; 76).
Если в начале «мечты» героини, казалось, сосредоточены на писателе («Все мечтала!»), то теперь та же тема подается иначе. Постепенно оказывается, что в «Визитных карточках» оба героя являются в некотором роде «лирическими»: таковым, конечно, не может не быть прославленный и окруженный поклонницами писатель. Но и судьба его случайной попутчицы, принадлежавшей, судя по всему, к ушедшему в небытие старинному и богатому некогда роду, чем-то напоминает описанную самим Буниным его собственную судьбу, включая и разоренное родовое гнездо, и мечтания молодости, и вынужденный переезд в город. Стоит подумать, зачем героине так хотелось видеть свое имя напечатанным на карточках? В качестве последнего свидетельства о том, что было утрачено ее семьей? Способом «напомнить» о себе, заставить прозвучать свое имя, тем самым спасая его (и себя) от забвения? Визитные карточки – это та деталь, которая несет на себе нагрузку лирической темы: в имени на визитке скрыта наивная надежда на воплощение невоплотившегося в жизни, а сами визитные карточки слабо повторяют carte-postale, carte-illustrée, на которых написаны послания писателю в «Неизвестном друге»[47].
С другой стороны, в переживании героини угадывается что-то похожее на мечты о славе, которыми искушаем любой пишущий. «Видеть свое имя напечатанным» – писатели не раз, в том числе иронически, изображали эту мечту об известности! На обложке ли собственной книги, в газетной ли заметке (как в рассказе Чехова «Радость»), на визитных карточках или просто, как в «Ревизоре»: «…скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский…». У Бунина тема писательской известности нередко решается в разных ключах: иронично и серьезно в пределах одного текста. К примеру, alter ego Бунина – главный герой романа «Жизнь Арсеньева», вдохновленный и обрадованный своей первой публикацией, получает добродушно-пренебрежительный отклик на свои стихи от купца, к которому пришел сделать запродажу зерна. Купец пускается в воспоминания о своей юности и своих несостоятельных поэтических опытах:
– …Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт. Даже книжку когда-то выпустил 〈…〉 Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, малый я был не глупый… а что я писал? Вспомнить стыдно!
Родился я в глуши степной, В простой и душной хате, Где вместо мебели резной Качалися полати…– Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь, – ни в какой степной хате я не родился…, во-вторых, сравнивать полати с какой-то резной мебелью верх глупости… И разве я этого не знал? Прекрасно знал, но не говорить этого вздору не мог, потому что был неразвит, некультурен… (6; 139–140)
Цитируя свои юношеские стихи, купец вышучивает поэтический дебют Арсеньева, но если вспомнить, что роман Бунина начинается с простого и строгого – «Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе…» (6; 7), то у бесхитростных виршей, исключительно из-за одной далекой переклички с начальной фразой, точной в каждом слове, появляется серьезный смысл. Одна и та же тема «родился я в глуши степной» может звучать совершенно по-разному: высоко, отточенно, стилистически безупречно и «стыдно», «некультурно», однако, как бы она ни была выражена, главное, – она повторена в разных вариантах, то есть может возрождаться на путях от одного героя к другому: таким образом «я» Арсеньева умножается, ловит на себе рефлексы других персонажей и само распространяет свои рефлексы на всю персонажную структуру. А в «Визитных карточках» теме славы, теме чисто писательской, именно героиней (а не героем-писателем, что примечательно) задается лиричность, и одновременно тема эта слегка пародируется, будучи очередным нелепо-детским, «стыдным» жестом героини.
Вероятно, в «Визитных карточках» писатель узнает в бедной мечте попутчицы слабое отражение своих (уже вполне сбывшихся) мечтаний, что заставляет его чувствовать свою силу рядом с ее бедностью, отчаяньем, увяданием. Важно и то, что в рассказе остается не названным не только его – всем известное – имя, но и ее, и это подчеркнуто своего рода минус-приемом: «– Можно узнать, как зовут? – Она быстро сказала свое имя-отчество» (7; 75). Названное скороговоркой имя, вероятно, навсегда оставшееся в памяти героя, так и не напечатано на визитных карточках. «Точечное» титульное умолчание стóит пустого места героя в «Неизвестном друге». В заглавие рассказа выносится несуществующее, неосуществленное, и это придает иллюзорность сюжету.
Постепенное выдвижение героини вперед слегка спародировано тем, что она все время старается опередить героя. Впервые мы видим ее поднимающейся с нижней палубы по лестнице наверх, и в продолжении повествования она будет все возрастать, проявляться, узнаваться, герои едва ли не поменяются местами, подобно тому, как меняются местами «вчера» и «сегодня». Меняются местами и местоимения: «вы» уступает место «ты» («Пойдем ко мне…» – 7; 76), а к переходу на «ты» героя подталкивает гиперкомпенсаторная смелость героини. Эта смелость – следствие самых общих представлений читательниц о писателях, в коих природа их профессии предполагает «эпистемическую вседозволенность»[48]. Возможно, на образе писателя лежит след бунинской иронии: если уж реальный писатель должен уметь внутренне проживать любые сюжеты, то отчего не разрешить вымышленному писателю еще больше? Так или иначе, и герой, и героиня провокативны, хотя и совершенно по-разному: «Все снять? – шепотом спросила она, совсем, как девочка» (7; 76).
Именно «детскость» героини дает выход «другой», докультурной, «первобытной», стихийной стороне естества, которая связывает писателя с общим, природным и народным миром, откуда «он вышел» и куда уже никогда не вернется, оставаясь, однако, как всякий настоящий писатель, неразрывно связанным с ним. Вместе с одеждой незнакомки снимаются все культурные покровы и прикрытия, и, с одной стороны, сцена в каюте отвечает тем инстинктивным страстным желаниям, которыми были одержимы герои (особенно писатель) с самого начала, но с, другой стороны, эта сцена в определенной мере неожиданна.
За эротическую сцену, резкую и сильную вообще для русской прозы и для Бунина, критика осудила «Визитные карточки», находя в них «избыток рассматривания женских прельстительностей». Не называя рассказа, но имея в виду именно его, Ф. Степун пишет:
Читая «Темные аллеи», я вспомнил… потрясающий конец пятнадцатой главы второй части «Арсеньева»: «В нашем городе бушевал пьяный азовский ветер». «Я запер двери на ключ, ледяными руками опустил на окнах шторы, – ветер качал за ними черно-весенее дерево, на котором кричал и мотался грач». Замечательно. Вместо страсти Бунин описывает ветер, но, читая это описание, чувствуешь перебой в сердце. 〈…〉 Если бы наряду с пьяным азовским ветром и мотающимся грачом появились «спадающие чулки» и «маленькие грудки», то космическая музыка сейчас бы оборвалась[49].
«Одиночество» 1915 г. – другой бунинский текст о писателе и безвестной героине:
Худая компаньонка, иностранка, Купалась в море вечером холодным И все ждала, что кто-нибудь увидит, Как выбежит она, полунагая, В трико, прилипшем к телу, из прибоя. (…) Там постоял с раскрытой головою Писатель, пообедавший в гостях, Сигару покурил и, усмехнувшись, Подумал: «Полосатое трико Ее на зебру делало похожей».Картина «Одиночества» едва ли не повторена в экспозиции «Визитных карточек»[50], но в рассказе писатель, столь же пристально и отстраненно наблюдающий за героиней в начале, одновременно сам – чем дальше, тем больше – захвачен, вовлечен в развитие сюжета.
Вообще перипетии с писателями и влюбленными в них читательницами широко распространены как в массовой, так и в элитарной культуре XIX-го, и тем более XX в. Мы ограничимся лишь упоминанием двух ближайших подтекстов Бунина. Во-первых, это рассказ Мопассана «Une aventure parisienne»[51], «Визитные карточки» написаны по канве «Парижского приключения», но при этом резкая новеллистичность Мопассана заменена тонкой бунинской колористикой, что до неузнаваемости меняет мопассановский сюжет, а финальные ожидания оказываются и вовсе обманутыми: бунинский финал антитетичен мопассановскому. Во-вторых, в «Визитных карточках» сильно отсвечивает линия Тригорина – Нины Заречной из «Чайки», уже упомянутой выше[52].
Отдаваясь «крайнему бесстыдству» в каюте, оба героя устремляются прочь от себя, от всего личного в себе, от всего условного, они погружаются в ту область, где мгновенно обесцениваются мечты об известности и славе, где, как и любые знаки отличий, «обнуляются» визитные карточки. Неосознанные устремления героини в чем-то противоположны, а в чем-то подобны переживаниям героя, ей необходимо отъединиться от хаоса «простой» жизни, которого она боится и в который погружает ее история, ей надо хотя бы ненадолго освободиться от власти безличной судьбы, уничтожившей, вероятно, и славу, и былое богатство того имени, которое ей хотелось напечатать на визитных карточках. Два разнонаправленных потока встречаются: один идет вниз, вглубь, в бездну, туда, где обитают смерть и насилие, а другой, напротив, пытается выбиться наверх. Встреча, игра противоположных направлений моделирует не только отношения писателей и их читателей, но и образ всей русской жизни, для которой характерна громадная амплитуда взлетов и падений, их взаимообусловленность и сообщаемость. В кульминационной сцене «сообщаемость» передается скольжением одного и того же экстатического состояния от героя к героине: «Он сжал зубы…» (7; 76), «Сжав зубы, она…» (7; 77), и изначальный контраст персонажей преодолевается глубоким и драматическим чувством слитности.
Рассказ обрамляют две перекликающиеся между собой фразы: «… он и вышел из этого люда» – узнаем мы о писателе во втором абзаце рассказа; «она, не оглядываясь, побежала вниз, в грубую толпу на пристани» (7; 77) – это последнее предложение, между двумя этими фразами заключены все события. Дополнительные трагические коннотации добавляются тем, что в «грубую толпу» бежит, вероятнее всего, потомственная дворянка, а наблюдает за этим писатель, вышедший из купечества. Не только писателю из «Визитных карточек», но и некоторым другим героям Бунина ведома смешанная с любовью ненависть по отношению к женщинам, которых судьба отрывает от их благородных корней, как в «Последнем свидании», где разорившаяся дворянка, по-чеховски бежавшая в актрисы[53], получает презрение и суровый отказ человека, который когда-то любил и до сих пор любит ее.
Финал «Визитных карточек», его катарсис состоит в быстром, двухступенчатом возвращении героев к «культурному», «человеческому»:
Потом он ее, как мертвую, положил на койку 〈…〉 Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужно было сходить, она стояла возле него тихая, с опущенными ресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь… (7; 77).
Два последних абзаца по стилю и настроению полностью противоположны предыдущей сцене. Полное расхождение в тональности между кульминацией и финалом дает почувствовать, что все, происходившее в каюте, было «солнечным ударом» для двоих случайно встретившихся людей, каждый из которых по-своему отстранен от непосредственности, ужаса и хаоса внеличностной, всеобщей жизни, но в то же время не может избежать искушения или участи ее хотя бы мгновенного постижения. Финал нивелирует, абсолютно снимает откровенность сцены в каюте, возвращая героине ту наивность и чистоту, которую сразу разглядел в ней писатель. Именно финал позволяет понять, что детское доверие незнакомки к писателю не только совлекает с героев все покровы условностей, но и, напротив, неизмеримо поднимает ценностную планку «культурного», «литературного» и «артистического» в герое. А для героини открывается то, чего она никогда не знала и с чем боялась столкнуться. Любое сближение с кумиром чревато разочарованием и даже катастрофой: творчество предполагает мощные импульсы свободы на грани своеволия. Но в сюжете «Визитных карточек» погружение в безличный хаос страсти навеки сблизило героев, как бывает в те редкие мгновения, когда катастрофически смыкаются несводимые друг с другом противоположности.
Благодаря множеству лирических смыслов, символичности образов, умолчанию имен и несуществующим «визитным карточкам», вынесенным в заглавие, история героев превращается из почти «пошлого» дорожного приключения, «l’aventure» в неповторимое событие, позволяющее писателю и незнакомке выйти за границы своего «я» и быть захваченными стихией, сравнимой разве что с ветром, с пространственной бесконечностью или с ходом истории.
Барышня и символист («Речной трактир»)
Словесно-образная палитра Бунина устойчива: отдельные сцены, мотивы, фразы могут многократно повторяться в разных текстах; рассказы как будто бы нарочно составляются из одних и тех же портретов, ситуаций, словесных формул, а между тем всякий раз это производит новое впечатление. Каждая «история» получает у Бунина множество откликов, множество отражений в разных текстах, и то, что в одном случае образует ядро, в другом почти незаметно скользит по периферии.
Нам бы хотелось прокомментировать один из периферийных моментов «Речного трактира», рассказа, который, как и «Визитные карточки», входит в «Темные аллеи». Этот текст тесно связан с «Визитными карточками» не только одним «случайным», боковым сюжетом, но и пространственными образами. География «Темных аллей» чрезвычайно разнообразна, они собирают в себе множество картин русской и европейской, столичной и провинциальной жизни: тульские и тамбовские земли, Кавказ и Крым, Париж и Ницца, Петербург и Москва… Одни места подробно описываются, другие лишь упоминаются. В «Визитных карточках» и «Речном трактире» Бунин обращается к волжскому локусу, и это не случайно: сама Волга – очень важный для Бунина знак русской истории и русского характера[54]. По-видимому, волжская тема на протяжении всей жизни была неразрывно связана в сознании Бунина с Азией. В стихотворении 1916 г. «В Орде» лирический герой недаром выступает двойником «Атиллы, Тимура, Мамая»:
За степью, в приволжских песках, Широкое алое солнце тонуло. Ребенок уснул у тебя на руках 〈…〉 Ты, девочка, тихая сердцем и взором, Ты знала ль в тот вечер, садясь на песок, Что сонный ребенок, державший твой темный сосок, Тот самый Могол, о котором Во веки веков не забудет земля? Ты знала ли, Мать, что и я Восславлю его, – что не надо мне рая, Христа, Галилеи и лилий ее полевых, Что я не смиреннее их, – Атиллы, Тимура, Мамая, Что я их достоин, когда, Наскучив таиться за ложью, Рву древнюю хартию Божью, Насилую, режу, и граблю, и жгу города? (1; 405).В «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецовой нашли отражение следующие мысли уже «позднего» Бунина:
В русском человеке все еще живет Азия, китайщина… Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом, и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой радостной религии… ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги… А стояние по восемь часов, а ночные службы… Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной нашей религии… Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же наш Карташев, будь он иереем, – жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным…
А Бердяев? Так бы лют был… Нет, уж какая тут милостивость. Самая лютая Азия…[55]
Мотивы «лютой» волжской Азии звучат и в «Речном трактире», и в «Визитных карточках».
Композиция «Речного трактира», как и характерно для позднего Бунина, четко прорисована и контрастна: основной сюжет – две мимолетных встречи доктора с незнакомкой в старинном волжском городе – обрамлен московскими сценами, которые происходят в известном ресторане «Прага» на Арбате. Раскрасневшийся от выпитого доктор вспоминает то, что когда-то случилось с ним на Волге, и последовательное чередование «московского» и «волжского» дает образ России и «русского».
Как известно, после «Окаянных дней» важнейшей сферой приложения писательского дара для Бунина становится публицистика. В сороковые-пятидесятые Бунин то и дело обращается к мемуарным жанрам, публикует в периодике множество заметок, издает «Воспоминания» (1950)[56], до последних дней обдумывает книгу о Чехове и состав сборника «Под серпом и молотом». Другие «документальные кадры» входят в автобиографический роман «Жизнь Арсеньева»: так, в XIX главе 4-ой книги описывается, как Арсеньев встречает на орловском вокзале траурный поезд с телом «грузного хозяина необъятной России» – Александра III, а в XXI–XXII главах той же книги – провожает в последний путь на Антибе Великого Князя Николая Николаевича. В «Темные аллеи» тоже вложено множество живых впечатлений и воспоминаний о конкретных эпизодах из истории дореволюционной России. Беглые портреты реальных людей примешиваются к портретам вымышленных героев: в финале «Чистого понедельника», события которого относятся к началу 1914 г., появляется Великая Княгиня Елизавета Федоровна и ее племянник Великий Князь Дмитрий Павлович[57], между тем к 1944 г. (времени создания рассказа) прошло уже четверть века с того момента, как Елизавета Федоровна приняла мученическую кончину. В этом же рассказе герои проводят масленицу 1913 г. на капустнике Художественного театра со Станиславским, Москвиным, Качаловым, Сулержицким (как известно, в эмиграции Бунину довелось лишь дважды встретиться с актерами МХАТа, приезжавшими в Париж на гастроли в 1922 и 1937 гг.)[58].
В «Речном трактире» тоже есть невыдуманный герой – Валерий Брюсов:
Тут еще вот что – некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, – место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, – потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречались в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, – я ими тоже интересуюсь, и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами (7; 177).
Таким образом, в «Речном трактире» появляется пара, очень похожая на писателя и его попутчицу из «Визитных карточек»: известный поэт, во всем облике которого сказывается уверенность (и даже звериная хищность – «выкрикивал картавым… лающим голосом») и подчиненная поэту трогательная спутница[59].
Рассказчик (доктор), как нередко бывает у Бунина, наделен автобиографическими чертами, и это напоминает о том, что реальные отношения Бунина и Брюсова отличались напряженным вниманием друг к другу и взаимным неприятием. Напечатав стихотворный сборник «Листопад» (1901) в «Скорпионе» у Брюсова[60], Бунин резко разошелся с символистами, «не возымев никакой охоты играть с… новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор» (9; 263–264). Но в 1910 г., как указывает С. Н. Морозов, отношения возобновились в связи с редактированием Брюсовым литературного отдела «Русской мысли», а затем вновь угасли[61]. В незавершенной статье о Брюсове (неопубликованная рукопись хранится в Орловском архиве) Бунин
…пытается дать совершенно развенчивающую характеристику творчества поэта… Цитируя более семидесяти стихотворений В. Я. Брюсова, Бунин сопровождает их отдельными подчеркиваниями и своими острыми критическими комментариями, тем самым давая понять читателю, что творчество поэта насыщено претенциозностью… «И причем тут маг, волхв, как не раз называл себя Брюсов, – писал Бунин, – и как повторяют за ним поклонники. У Брюсова была дурная молодость, дурные вкусы, он делал себе карьеру, бравируя бессмыслицами, вроде фиолетовых рук на эмалевой стене, и просто пошлостями, но это было бы еще полбеды, беда в том, что он мало менялся с годами»[62].
Уже в эмиграции будут много, с отчаяньем и сожалением говорить об отношении символистов (прежде всего, Блока и Брюсова) к революции. В. Н. Бунина в дневниковой записи от 1/14 августа 1921 г. так передает одну из характерных реплик З. Н. Гиппиус:
Пришло известие о смерти Блока… Вчера мы с Яном расспрашивали З. Н. о Блоке, об его личной жизни. Она была хорошо с ним знакома. Сойтись с Блоком было очень трудно. Говорить с ним надо было намеками. 〈…〉 З. Н. стихи Блока любит, но не все… Я спросила о последней встрече с ним. Она была в трамвае. Блок поклонился ей и спросил: «Вы подадите мне руку?» – «Лично, да, но общественно между нами все кончено». Он спросил: «Вы собираетесь уезжать?»
Она: «Да, ведь выбора нет: или нужно идти туда, где вы бываете, или умирать». Блок: «Ну, умереть везде можно»[63].
Отзывы об оставшемся в Москве Брюсове были еще острее, скорее всего, многие эмигранты спрашивали себя: «Как и почему он сделался коммунистом?» С этого вопроса: «Как и почему он сделался коммунистом?»[64] – начинается финальная часть очерка Ходасевича «Брюсов», речь об этом очерке и пойдет далее. Но в Одессе, в 1918 г., давая интервью сотруднику «Одесского листка», Бунин выскажется довольно мягко:
Зря пустили слух о том, будто Валерий Брюсов пошел к большевикам. Он работает еще с дней Вр〈еменного〉 правительства в комиссии по регистрации печати, остается в ней и поныне. Ему приходится, правда, работать с комиссаром Подбельским, к которому крайне резко относится вся печать, и даже иногда заменяет его, но все же говорить о большевизме Брюсова не приходится[65].
Если от большой истории перейти к обзору частных событий, то нельзя не указать на то, что ноябрь 1913 г. отмечен финалом трагической любви к Брюсову поэтессы Н. Г. Львовой. Информация о смерти Надежды Львовой просочилась на страницы московской газеты «Русское слово»[66] и, весьма вероятно, не укрылась от внимания Бунина. Однако еще ярче, под знаком русского символистского ретро, сюжет любви Львовой и Брюсова описывается в очерке Ходасевича, опубликованном в XXIII книге «Современных записок» за 1925 г., и, несомненно, читанном Буниным.
О том, что Бунин хорошо помнил очерк Ходасевича, свидетельствует небольшой этюд Бунина о Брюсове, включенный в «Заметки», появившиеся в «Последних новостях» 19 сентября 1929 г. В некоторых мотивах этот текст повторяет очерк Ходасевича: и Бунин, и Ходасевич обращают внимание на купеческие корни Брюсова, подробно описывают дом на Цветном бульваре, полученный Брюсовым в наследство от купца-деда. Бунин, как всегда, отмечает «азиатское» в облике поэта («я увидел и впрямь еще очень молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и довольно азиатской) физиономией»[67]), что, кстати, добавляет беглую ассоциацию к облику писателя «Визитных карточек». Манера речи Брюсова в публицистическом тексте Бунина охарактеризована еще выразительнее, чем в рассказе: «говорил этот гостинодворец очень изысканно, с отрывистой гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос»[68]. Возможно, замечание Ходасевича о Надежде Львовой как о курсистке («она училась в Москве на курсах») превратится у Бунина в «Речном трактире» в «бедную курсисточку». Более того, в другом рассказе из «Темных аллей», в «Генрихе», среди периферийных персонажей обнаруживается юная поэтесса Наденька, которую обманывает искушенный в любви Глебов, тоже, конечно, поэт (к слову сказать, фамилия «Глебов» имеет такое же окончание и количество слогов, как и Брюсов):
…она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.
– Едешь?
– Еду, Надюша…
Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку 〈…〉 Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.
– Надюша, что же это?
Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:
– Нет, нет, я не буду… Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты же поэт, тебе необходима свобода.
– Ты у меня умница, – сказал он 〈…〉 – Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса (7; 130–131).
Можно только гадать, как поведет себя Наденька, узнав о двойной, по крайней мере, измене Глебова – судьба этой героини остается неизвестной, как и судьба брюсовской спутницы в «Речном трактире».
Возвращаясь к очерку Ходасевича, заметим, что его кульминацией является биография Надежды Львовой (тогда как в воспоминаниях Бунина, посвященных Брюсову, о Львовой речи не идет). Сама история и предыстория самоубийства дается у Ходасевича очень кратко, однотипными предложениями, напоминающими безоценочный хроникальный стиль «Русского слова» («Львова позвонила по телефону Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу 〈…〉 Шершеневич не мог пойти – у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне – меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась»[69]). Сцена похорон, напротив, детальна и эмфатична:
Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их[70].
Спасти, вырвать девушку из гибельного для нее окружения – этот традиционный сюжет, хорошо известный русской литературе по Достоевскому, Некрасову, и становится основой для периферийного (московского) и главного (волжского) сюжетов «Речного трактира». В символистской подсветке (а именно законам символистской культуры посвящен очерк Ходасевича «Брюсов» и парный ему в «Некрополе» «Конец Ренаты»[71]) сюжет о спасении героини получает новое звучание у Бунина. Во-первых, как и Ходасевич, Бунин в 30–40-е годы видит и оценивает русский символизм в ретроспекции и интересуется им не только как высокой поэтической культурой, но и как (если прибегать к современным терминам) «субкультурой», соединяющей высокое и низкое, прославленное и безвестное, глобальный ход истории и частную биографию.
Для Брюсова история взаимоотношений с Надеждой Львовой, начавшаяся с редактирования ее стихов, принесенных юной поэтессой в редакцию «Русской мысли»[72], была не только жизненным, но и литературным экспериментом. Результатом эксперимента стали «Стихи Нелли», написанные Брюсовым по следам сразу двух романов – с Надеждой Львовой и Еленой Сырейщиковой[73]: обе возлюбленные становятся прообразом Нелли[74], их «женским» голосом говорит поэт. «Нелли» – так называлась литературная маска Брюсова, подобная придуманной Волошиным маске «Черубины де Габриак». А. В. Лавров предполагает, что «Португальские письма» Гийерага могли послужить далеким типологическим прообразом «Стихов Нелли»[75]. Как было показано выше, и Гийераг (типологически), и искушение говорить устами героини не были чужды Бунину, однако Бунин и Ходасевич в своих ретроспекциях о Брюсове как бы «очищают» сюжет обольщения опытным искусителем чистой девушки от его литературной ауры. Биография, а не литературная история Нади Львовой, подробно выписанная у Ходасевича, и, как мы пытаемся показать, подразумеваемая у Бунина, становится одной из выразительных картин русского декаданса, охватившего страну накануне ее гибели[76].
Эпизод с Брюсовым позволяет заметить некоторые «наведения» на символизм и в основной части «Речного трактира», где героиня, тоже оставленная без имени[77], предстает незнакомкой, чья судьба, как и судьба «курсисточки», взывает к спасению. Через церковь и кабак, через два антитетических топоса спасения и греха проводит Бунин свою незнакомку. Старая церковь в волжском городе подробно описывается; в безлюдной сводчатой полутемной церкви, в светлом облике героини, в том, как рассказчик преследует ее, пытается отгадать ее тайну, мучается чувством причастности к ее существованию – отдаленно опознаются черты блоковской Прекрасной Дамы. Появление в речном трактире таинственной незнакомки, совсем не вписывающейся в контекст кабацкой жизни, тоже отдаленно намекает на блоковскую «Незнакомку» («По вечерам над ресторанами…»).
Церковное пространство в рассказе Бунина отделено от мирской жизни тяжелой дверью («С трудом отворяет тяжелую дверь» – 7; 178), тогда как кабацкое, ресторанное, напротив, распахнуто навстречу широкому простору («…пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь…» (7; 176) – это сцена в «Праге»; «Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух…» (7; 179) – это речной трактир). Волжский простор в «Речном трактире» сосредотачивает в себе ужас русской жизни и истории, подкрашенной азиатскими красками:
…видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, перекличку мужицких голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароходных гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова – Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынск – и страшные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей – и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь! (7; 180).
Обратим внимание на то, как «похож» на эту характеристику России еще один писатель, А. И. Куприн, чей образ именно в пред– и послереволюционной России воспринимался почти как ее символ. Сам Куприн в разговорах о себе и своем необыкновенном обличии и поступках объяснял их своим «неуемным татарским нравом»[78]. Вот характерный отрывок из воспоминаний о Куприне:
…как тесно сплелись в этом интересном и живом человеке и как ясно видны были в его лице и походке самые противоположные свойства и качества человеческой души. И мягкая кошачья вкрадчивость хищника, и острый, пристальный взгляд охотника, и такой же пристальный, только в другие миры направленный, не видящий собеседника, взгляд мечтателя, “лунатика томного, пленника наваждения”, и добродушие и жестокость, и деликатность и грубость, и лукавство и беспечность, и веселый задорный смех, и пронзительная грусть, и что-то изящное, благородное и смелое, и что-то детское, застенчиво-беспомощное, и удаль, и широта, и озорные огоньки в глазах, и во всем что-то неуловимо родное, ласковое, русское, любимое[79].
Во всякой русской «широкой» натуре любящий взгляд может видеть неуловимо родное и ласковое, как и видит героиня «Речного трактира» своего возлюбленного: «Нет, неправда, неправда, он хороший… он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный» (7; 182).
В волжской церкви рассказчик, следящий за незнакомкой, обращает внимание на ризы икон, лики святых укрыты ими от прямого взгляда, а молитва незнакомки делает Божественное присутствие несомненным и притягательным для героя – собирателя икон, это чувство антитетично обманчивому виденью: «а впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, уже сумрачно, только мерцает золото кованных с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стены» (7; 178), что-то мешает рассказчику разглядеть и лики святых, и незнакомку. В трактире, напротив, все картины необычайно ярки, но искажены и миражны: за портретами людей проглядывает весьма разнообразный бестиарий («хозяин… с медвежьими глазками», «Иван Грачев 〈…〉 зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей… потом вскинул морду» – 7; 181[80], «какой-то “знаменитый Иван Грачев”… залился женским голосом: “Я вечор в лужках гуляла, грусть хотела разогнать”» – 7; 181[81]), песня «нарумяненных и набеленных блядчонок» «про какого-то несчастного “воина”, будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена» напрямую говорит о неузнанности, потерянности, забвении: «Ивво рад-ныи-и ни узнали-и, спроси-и-ли воин-а, кто ты-ы» (7; 181). В последнем примере миражность усилена смесью косвенной и прямой речи, по законам косвенной речи вместо «ты» должно было стоять «он» (грамматически правильно: «спросили воина, кто он»), но это фольклорное, мерцающее ты/он прямой/косвенной речи еще более усиливает трагедию забвенной и потерянной страны, которая никогда не может освободиться от уз своего восточного плена, осознать себя и увидеть со стороны со всем тем ужасом, который видит в ней вернувшийся из Европы молодой доктор[82] («безо всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая швейцарские озера, на которых был летом в прошлом году и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места…» – 7; 179).
Сцена с Брюсовым и курсисточкой в «Праге» предваряет сюжет волжской незнакомки, служит увертюрой к основной части рассказа, а курсисточка и незнакомка, таким образом, воспринимаются как двойники, причем похожими их делает не только их положение рядом с «опас ным» человеком (Брюсовым в первом случае и бывшим гусарским поручиком во втором), но и неопределенность судьбы: истории обеих героинь оставлены у Бунина без завершения, и если первую, совсем короткую, линию Брюсова и его поклонницы мы можем условно восстановить, то о финале второй, главной, линии повествования сказать ничего нельзя. Правда, читатель может строить какие-то предположения, для которых в тексте даже есть предпосылки. Мы видим, что врач не смог спасти героиню, она не вняла его словам, но что было бы, если бы врач ее спас? История тогда, конечно, имела бы продолжение в виде любовного романа жертвы и спасителя. Однако кто знает, чем бы завершился этот роман. Весьма вероятно, что и он бы не имел счастливого конца, и тогда доктор умножил бы ряд «коварных искусителей»[83]. Во всяком случае, героиня как бы предчувствует что-то и дважды отстраняется от доктора: в первый раз, когда пугается, видя его в дверях церкви и инстинктивно чувствуя преследование («бежит к выходу, внезапно видит мое лицо – и меня просто поражает своей красотой ужасный испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах…» – 7; 178) и во второй раз, когда просит доктора: «Теперь пустите меня, я дойду пешком, я не хочу, чтобы вы знали, где я живу» (7; 182), – отсекая всякую возможность дальнейшего знакомства.
Сюжетная неразрешенность обращает читателя к острейшему переживанию русской предреволюционной истории, актуализирует тот исторический момент, когда страна тоже будто бы замерла перед лицом будущих потрясений. Чистые, жертвенные и жалкие в своей жертвенности героини, которым грозит погибель, становятся у Бунина олицетворенным воплощением гибели страны, переживающей одновременно расцвет и падение.
* * *
Три рассмотренных нами рассказа варьируют один и тот же сюжет (писатель и читательница), и в каждом из текстов так или иначе выявляет себя феномен отсутствия, причем в столь разнообразных формах, что сюжет ограняется множеством смысловых плоскостей, становится средоточием пучка смысловых рефлексов. Точки отсутствия, минусы, коммуникативные провалы, оборванные сюжеты, не нашедшие разрешения, конечно, являются не случайными и однократными «нарушениями» художественной структуры, а ее обязательным свойством, благодаря которому текст обретает гибкий, сложный и подвижный рельеф, не поддающийся прямолинейному прочтению. Чем выше концентрация минус-приемов, сосредоточенных в тесных пределах малой формы (как в «Неизвестном друге», где такая концентрация очень высока), или чем большую смысловую нагрузку несут на себе мотивы и знаки отсутствия (как в «Визитных карточках»), тем очевидней выявляется лирическая природа текста, поскольку по сравнению с прозой, лирика обладает большей потенциальностью и абстрактностью детали и сюжета[84], что парадоксальным образом не снижает, а повышает статус авторского присутствия. Эти общие правила «работают» в бунинском тексте особенно активно, поскольку за каждым рассказом скрыт мощный автобиографический план, в котором со времен Приморских Альп и вплоть до смерти писателя феномен отсутствия играет важнейшую роль.
Глава II Человеческое и морское: от рассказов «в ночном море» и «Бернар» к новеллам «Темных аллей»
Бунина можно по праву назвать писателем-маринистом: самые разные моря и океаны есть в его прозе[85], со стихией воды связаны рассказы и роман «Жизнь Арсеньева». Особенно любил писатель путешествия на Восток («Я тринадцать раз был в Константинополе», – напишет он в конце жизни, сосчитав свои поездки[86]), три зимы 1912–1915 гг. провел на Капри, часто гостил у Чехова в Ялте, уже во Франции подолгу снимал виллы «Жаннет» и «Бельведер» в Грассе, в молодости работал в Одессе, где прожил также последние восемнадцать месяцев перед отъездом из России в 1920-м г. Воде, переменам погоды, восходам и закатам на Лазурном берегу посвящены целые страницы бунинского дневника, эти записи похожи на наброски к рассказам и роману, там то и дело мелькают Вильфранш, Антиб, Канн, Ницца[87]. «Итоговый» текст Бунина «Бернар», по традиции завершающий собрания сочинений писателя, напоминает страницу из дневника, запечатлевшую «случай из жизни» автора: в средиземноморском порту до пожилого русского писателя доходит молва о моряке Бернаре, который когда-то служил на яхте Мопассана, провел «на воде» всю свою жизнь и умер в родном Антибе, оставив за собой провинциальную славу причастности к жизни «модного» французского новеллиста.
Из морских сюжетов Бунина исключительно выразительны те, что содержат в себе Библейские аллюзии. Парижский рассказ 1921 г. «Конец» обобщает судьбу русской эмиграции: старый, перегруженный «Патрас», везущий из России в Константинополь людей, спасающихся от разрухи, войны и революции, уподоблен Ноеву Ковчегу: корабль балансирует под ударами бушующих волн, но исход рискованного пути оставлен под вопросом, и, судя по заглавию, финал ожидается трагический[88]. «Конец» откровенно символичен, а в других текстах, коих большинство, тема моря соединяется с темой персонажей не на прямую, а косвенно, и благодатная для описаний морская стихия может быть воспринята как фон, на котором развертываются истории героев, однако, подобно всякому бунинскому фону, природная, стихийная тема уравнивается в правах с сюжетом персонажей или даже превосходит его.
«В ночном море»: между элегией и притчей, «за» и «против» отчуждения
В эмигрантском творчестве, особенно в «Темных аллеях», описания Лазурного берега чередуются с картинами Крыма, Кавказа. Чередование «своего» и «чужого» усложняет морской локус прозы Бунина, позволяет ему возрастать в объеме. Второй из рассказов, написанных в Грассе, в тех краях, где у Бунина была возможность воочию любоваться Средиземным морем, посвящен небольшому путешествию по морю Черному: на пароходе, следующем из Одессы в Феодосию с остановкой в Евпатории[89], два немолодых героя, один из которых неизлечимо болен, вспоминают пору своей молодости. Поскольку за текстом обозначены время и место написания рассказа – «Приморские Альпы. 1923», то становится понятно, что эпизод, положенный в основу повествования, остался в далеком русском прошлом. Таким образом, текст строится в дважды прошедшем времени: в невозвратном прошлом героев и автора.
Каждый из персонажей по-своему примечателен, «очень прямой, с прямыми плечами» врач сдержан, скептичен, ироничен, писатель созерцателен и алеаторичен[90], главенствует писатель: именно он уже сидит в кресле на палубе и наблюдает за происходящим, когда там только появляется «человек с прямыми плечами», именно писатель первым начинает разговор и превращает «жизненный случай», связывающий его с собеседником, в поэтическую историю о сверхвременной и сверхчеловеческой страсти, и, конечно же, на писателе лежит авторская тень.
«Господин с прямыми плечами» – счастливый соперник писателя, ради него писатель когда-то был оставлен возлюбленной, но теперь, через двадцать три года («Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это легко подсчитать. Почти четверть века» – 5; 101), ее уже нет в живых, так что повод для соперничества исчез, а давние события пропущены сквозь средостение времени[91]. Герои говорят о любви в отсутствие ее объекта, разговор носит почти «теоретический», отвлеченный характер, образ мертвой возлюбленной придает тексту элегическую тональность. В середине разговора писатель цитирует Пушкина, причем не вполне точно: «Из равнодушных уст я слышал смерти весть, / И равнодушно я внимал ей…» (5; 105) – вместо пушкинского «И равнодушно ей внимал я». Микроискажения поэтических цитат характерны для Бунина: в чужих цитатах, обильно приводимых в рассказах, Бунин часто меняет не ключевые, а периферийные слова или их местоположение в стихе, и от этого, во-первых, появляется ощущение целого пласта элегической лирики, которая проходит за текстом не в точном, а в несколько «подплывающием» виде, извлеченная из глубин поэтической культуры будто бы по памяти; во-вторых, известная цитата ближе «притягивается» к героям или автору, становится их словом, их сюжетом. В данном случае вместе с поэтической цитатой выступает не только элегический сюжет смерти возлюбленной, воспоминания, ставшего отдельным и самостоятельным, но еще и оппозиция своей/чужой страны:
Под небом голубым страны своей родной Она томилась, увядала… Увяла наконец, и верно надо мной Младая тень уже летала; Но недоступная черта меж нами есть. Напрасно чувство возбуждал я: Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я. ……………………………………….. Где муки, где любовь? Увы, в душе моей Для бедной легковерной тени, Для сладкой памяти невозвратимых дней Не нахожу ни слез, ни пени.Как известно, элегия «Под небом голубым страны своей родной…» была написана Пушкиным под впечатлением смерти Амалии Ризнич; «голубое небо» Флоренции, родное для героини, было чужим для лирического героя, что углубляло идею отдаленности героини и идею самостоятельности страсти, ее независимости от пространства и времени.
Ни о каких чужих странах в рассказе Бунина речи не идет, два собеседника путешествуют по родной стране, но голубое флорентийское небо пушкинской элегии обостряет авторский план: не герои, а автор, находясь в Приморских Альпах, разлучен с тем миром, к которому он то и дело возвращается в своем творчестве, и авторский план проецируется на героев: мы не знаем, что предстоит им в будущем, но точно знаем, что в «жизни» ни одного из них невозможно больше такое путешествие по Крыму в первом классе, поскольку в то время, когда создается рассказ, в России уже не осталось больше тех людей, которые могли бы, сидя на палубе, спокойно беседовать о былом: о личных, а не об исторических потрясениях. В. Н. Бунина считала, что в основу «Ночного моря» была положена беседа Бунина с А. Н. Бибиковым, состоявшаяся еще в России сразу после смерти В. В. Пащенко в 1918 г.[92] Как известно, В. В. Пащенко послужила одним из главных прототипов Лики в еще не написанном, но задуманном Буниным в 1920 г. романе «Жизнь Арсеньева», следовательно, рассказ «В ночном море» может рассматриваться как один из первых подходов к роману[93], как первая бунинская «репетиция» смерти Лики. Впоследствии «Лика» будет умирать не единожды: в «Арсеньеве», в «Позднем часе» и некоторых других текстах это превратится в постоянный мотив любовной утраты, трагической любви, случившейся в давние времена, на берегах далекой и уже погибшей отчизны. А в 1923 г., в Приморских Альпах, мотив «Лики» еще только зарождается.
Выделяясь стихотворной вставкой на фоне нестихотворного текста, несколько строк Пушкина подчеркивают «отдельностность» другого поэтического отрывка – о Гаутаме, который в тексте «Ночного моря» предшествует цитате из пушкинской элегии:
Царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидав Ясодхару, у которой «был стан богини и глаза лани весной», натворил, возбужденный ею, черт знает чего в состязании с прочими юношами, – выстрелил, например, из лука так, что было слышно на семь тысяч миль, – а потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвил им Ясодхару и сказал: «Потому я избрал ее, что играли мы с ней в лесах в давнопрошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов: вспомнила ее душа моя!» На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой: вспомнила ее душа моя!» (5; 104).
Несмотря на нестихотворную форму вставной отрывок о Гаутаме «врезан» в текст рассказа наподобие стихотворной цитаты: он резко отделяется от основного текста, он ритмичен, сжат, семантически оплотнен и содержит в себе множество параллельных, точно или приблизительно повторяющихся единиц. Отрывок о Гаутаме напоминает стихотворение в прозе и кажется сердцевиной бунинского рассказа, поскольку по колориту он гораздо ярче истории героев и излагается как притча, насыщая притчевыми смыслами основной сюжет.
Притча о Гаутаме имеет тройной рефрен «Вспомнила тебя душа моя». Та же фраза (правда, в негативе: «“Вспомнила тебя душа моя” – этих слов не сказал Готами юноша, сближаясь с ней» – 5; 24) встречается в одесском рассказе 1919 г. «Готами»: в обоих случаях притча в восточном духе варьирует темы вечной души, меняющей земные обличия, но сохраняющей узнаваемость. Рефрен в рассказе 1923 г. наподобие притчевого выклада компрессирует тему и дает возможность различных толкований. Самые поверхностные, легко считываемые смыслы уже были названы: самостоятельность страсти, ее независимость от предмета любви, подчеркнутая «многоярусностью» воспоминания. Несколько внешних черт возлюбленной – «стан богини и глаза лани весной» (5; 104) вводятся цитатой, то есть переносятся на Ясодхару с какого-то другого объекта, умножая и возвеличивая его. Далее сравнения с богиней и ланью уводят в далекие времена и пространства: повествование совершает «спуск» в неведомую историю, причем спуск ступенчатый, опять-таки испещренный цитатами из буддистских книг о Гаутаме. Вставная притча рассказывает историю о Гаутаме и Ясодхаре, но в нее вставлены еще две истории: о сыне охотника и об охотнике, между тем понятно, что встречу переживает один и тот же герой. Узнавание-воспоминание возлюбленной происходит в разные времена («в давнопрошедшие времена» и «мириады лет тому назад»[94]) и передает два разных состояния любви: во-первых, невинную юношескую зачарованность («сын охотника») таинственной недоступной красотой девы лесов (вариант балладного Лесного царя), во-вторых, страстный порыв взрослого мужа («охотника») поймать, захватить, овладеть прекрасным и хищным («пантера»[95]) женским началом. Тем не менее разные варианты (юноши и мужа) не исключают друг друга, поскольку легендарное время не последовательно, а одновременно. Одновременны и три разных образа возлюбленной в притче: Ясодхара, дева лесов, пантера в лесах. К синкретичному времени и придвигает писатель случившуюся с ним любовную историю.
Сюжет о Гаутаме переводит жизненные, земные, мимолетные события в совершенно иной, вневременной план, где «человеческое» измерение меняется на нечеловеческое, стихийное. Легендой о Гаутаме страсть утверждается как глубинная природная сила, которая зарождается за пределами рационального человеческого сознания и самосознания, и лишь «узнается», «вспоминается» как сладкий миг собственного, но в то же время не своего опыта, как что-то достигающее «я» из довременной глубины. Пример, конечно, высвечивает механизмы памяти, освобожденной от субъекта воспоминаний, относительно независимой, раздвигающей пределы «я»: «Избирательная работа памяти, – пишет Б. В. Аверин о “Жизни Арсеньева”, – движима своей собственной логикой 〈…〉 Значимым оказывается для памяти не содержательность эпизода, но интенсивность связанного с ним чувственного переживания мира»[96]. Еще более обобщена и укрупнена с акцентом на восточной философии та же мысль у О. В. Сливицкой: «Бунин создает ощущение, что вся сотворенная им реальность лишь малая освещенная зона, и все, что в ней происходит, не имеет причин внутри нее. Она как бы находится под действием работы гигантских мехов, движение которых задано мировой пульсацией»[97].
Временная многослойность притчи о Гаутаме, ее многоступенчатость, конечно, существенно осложнена переходом от человеческого мира к природному и поэтическому, к символическим образам старинной легенды. Ткань рассказа делается сквозной, и настоящий момент «на корабле» теряется во временных наслоениях прошлого. Проницаемая граница между человеческим и внечеловеческим повышает значимость морского, пейзажного рисунка; стихийное, морское, вечное заостряет переживание природно-космического начала любви. Заметим, что конкретных, «жизненных» подробностей любовного треугольника не сообщается в тексте. Кроме самого высшего смысла, смысла любви вообще, читатель не узнает ничего о героине: как и почему она покинула писателя, была ли счастлива с врачом, и был ли счастлив он с ней и т. п. «Love story» охватывает не человеческий, а иной масштаб, поэтому заглавие рассказа морское, пейзажное – «В ночном море»[98]. Все человеческое сливается воедино в этом пейзаже, входит в морской ритм, теряет индивидуальные очертания.
В тексте есть одна особенность, отмеченная О. В. Сливицкой: в определенные моменты разговора героев читатель с большим трудом различает, кому принадлежит та или иная реплика диалога, поскольку герои согласны между собой, понимают друг друга, неразличимы в своей погруженности в жизненную стихию и в то же время в отстраненности от нее. «Читателю даже стоит некоторых усилий держать в сознании, кто из них “господин с прямыми плечами”, а кто – “пассажир под пледом”, кто врач, а кто писатель, кто победитель, а кто побежденный», – пишет О. В. Сливицкая[99]. В черновике реплики героев разнились еще меньше, и Бунин поверх основного теста вставлял пояснения для читателя: «сказал первый», «ответил второй»[100].
Отстраненность от жизненной и природной стихии и в то же время погруженность в нее представляют у Бунина две полярные возможности переживания бытия. Рассказ начинается с описания толпы, осаждающей пароход на рейде:
На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи; с криком, с дракой осаждала пассажирский трап и, как на приступ, с непонятной, бешеной поспешностью, лезла вверх со своими пожитками восточная чернь; электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытаращенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки; стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной; там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись, там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа, – они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом (5; 99).
Люди нарисованы Буниным метонимично (тюрбаны, башлыки, глаза, плечи, руки) – так, что целостный образ человеческого разбивается на части, и человеческое замещается неуправляемым, хаотическим. Картине неуправляемого волнения противопоставлены тихие пейзажи с застывшими звездами и спокойными водами, этим пейзажам по тональности и настроению вторит беседа героев, хотя один из них говорит о страсти, чуть не сгубившей его («Из-за чего же я чуть не спился, из-за чего надорвал здоровье, волю» – 5; 104), а другой – о скорой собственной смерти:
Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнущий морем. Ночь, по-летнему простая и мирная, с чистым небом в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок, послышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь… Потом корма задрожала, зашумела винтами и водой. Низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало…
Можно было подумать, что оба пассажира спят, так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали, они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил… (5; 100);
И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел; мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, проносившейся вдоль борта; быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бечева лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном: дзиннь… Потом пассажир с прямыми плечами спросил… (5; 105).
Однако, если сначала героев можно перепутать, как и их взгляд на давно прошедшие события, то чем дальше продвигается повествование, тем острее становится их различие, и даже намечается их противостояние. Беседа походит на движение моря, спокойствие которого легко переходит в волнение, бурю и вновь затихает, воплощая музыкальную модель с всплесками противоречивых тем и их примирением, гармонией. Сперва врач молча слушает рассказ писателя, лишь изредка недоумевая по поводу силы тех чувств, которые тот пережил, а писатель извиняется за метафоричность и эмоциональность своих речей, всячески подчеркивая, что пережитое осталось в прошлом. Выслушав историю с собственным участием из уст антагониста, врач утверждает, что все рассказанное писателем – порождение эмоциональных состояний, следствие яркой психической жизни: «Та, другая, как вы выражаетесь, есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько» (5; 106). Но для писателя любовь выходит далеко за пределы его собственного психического «я», он рассказывает притчу о Гаутаме потому, что и сам переживает неподвижную и бесконечную историю мира, которая гораздо шире его биографии и даже роднит его с соперником, как и с прочими людьми, сейчас или «мириады лет тому назад» познавшими мистическое любовное узнавание.
Смертельно больной врач не проникается пафосом своего оппонета, сохраняя скептический взгляд на вещи. Причин тому может быть несколько, в том числе та, что «господин с прямыми плечами» не испытывал по отношению к героине тех же чувств, что писатель, это легко предположить, слегка додумывая текст Бунина. Так или иначе, врач настроен атеистически и утверждает конкретику бытия в противовес идеям одушевленности и протяженности мира. При всей похожести и внешнем согласии, даже слиянии персонажей, текст позволяет увидеть, какая пропасть лежит между атеистической имперсональностью, описанной от лица врача, и пантеистической всеобъемлемостью писательского взгляда. По сути, только писатель взывает к жизни ушедшую любовь, тогда как его счастливый соперник рассказать о ней ничего не может, зато врач вносит в диалог ноту сомнения в сопричастности друг другу разных душ, в сопричастности времен, а также вводит тему богатства и неисчерпаемости психического «я».
Интересно то, что и во втором герое, казалось бы, лишь «прозаизирующем» высокие поэтические и любовные темы, можно тоже разглядеть авторскую, писательскую ипостась. На «господина с прямыми плечами» брошены беглые «чеховские» блики: «Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости» (5; 102), – произносит он, и это напоминает о кладбище в Новодевичьем монастыре, о реальной могиле Чехова (писателя и врача), а также о кладбищенском эпизоде в «Чистом понедельнике»:
– Хотите поехать в Новодевичий монастырь? 〈…〉
Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:
– Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра! (7; 244).
В мемуарной книге, посвященной Чехову, Бунин подробно зафиксировал последние годы жизни измученного чахоткой писателя, знавшего о своей скорой смерти, обсуждавшего ее с коллегами-врачами и не устававшего шутить на этот счет[101]. Сдержанность, вплоть до скептицизма, верность «правде жизни», недоверие к пышным эпитетам специально подчеркивает в Чехове Бунин[102], в его мемуарах зафиксирован знаменитый диалог о море:
– Любите вы море? – сказал я.
– Да, – ответил он. – Только уж очень оно пустынно.
– Это-то и хорошо, – сказал я.
– Не знаю, – ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенсне и, очевидно, думая о чем-то своем. – По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать музыку…
И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:
– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно (9; 179–180).
Можно предположить, что «писательское» в рассказе «В ночном море» конструируется как синтез разнящихся точек зрения, одна из них (точка зрения писателя) близка самому Бунину с его постоянной привязанностью к буддистским мотивам, к орнаментальной, испещренной сложными эпитетами прозе («черно-золотое» покрывало Ясодхары), а другая, условно говоря, «чеховская», представлена в лице ироничного и мужественного врача. Несмотря на то, что элегию Пушкина цитирует писатель, именно врач проводит в рассказе тему равнодушия и отчуждения, и это тоже поэтическая, «писательская» тема. В элегии Пушкина «Под небом голубым…», кроме чужих берегов, смерти возлюбленной, равнодушия к ушедшему есть еще один сильный мотив – недоступности и отчужденности: «Но недоступная черта меж нами есть». Его и развивает врач, тогда как писатель, напротив, утверждает преодолимость временных границ и возможность «расширения» «я»[103].
Оба героя отделены от массы тех людей, которые могут непосредственно сливаться со стихией, не случайно в первой сцене они отрезаны от толпы, и свысока взирают на нее: «Мы умствуем, а жизнь, может быть, очень проста. Просто похожа на ту свалку, которая была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давя друг друга?» (5; 101) – уверенно и спокойно вопрошает врач в начале разговора. Вознесенная надо всем окружающим позиция наблюдения – позиция поэта – провоцирует отпадение от универсума постольку, поскольку мощная поэтическая индивидуальность не совместима с имперсональностью. Без смертельной тоски о непреодолимости границ, без отчужденности нельзя представить поэтическое сознание, и в то же время именно поэт/писатель/автор в другой своей ипостаси способен раствориться в стихии, совпасть с ней, и такое растворение возможно в переживании любви, поэзии. Тематически рассказ «В ночном море» «покачивается» между отменой всех границ и «недоступной» чертой, между замкнутостью и открытостью, вовлеченностью в бытие и отчужденностью, которые имеют равные права как антитетические позиции в диалоге между писателем и врачом.
«Бернар» и «Воды многие»: мопассановские герои и пейзажи у Бунина
Постоянный сюжет растворенности в мире можно считать бунинским метасюжетом, поскольку он вторгается в тему творчества, преобразует ее. Морские мотивы, имея выход в автобиографическое поле и гармонируя с метасюжетом, не оставляют Бунина на протяжении 20–50-х гг. Два рассказа, в центре которых писательское «я» самого Бунина («Воды многие» и «Бернар») по настроению и теме сближаются с «Ночным морем». Рассказ «Воды многие», опираясь на личные воспоминания Бунина о его путешествии на Цейлон в 1911 г., стилизован под дневник путешественника. «Бернар» производит впечатление зарисовки из жизни Бунина в Приморских Альпах. При этом оба текста связаны с образом другого писателя – Мопассана: заглавие, а также сама форма рассказа «Воды многие» в слегка измененном виде взяты Буниным из мопассановского дневника «Sur Геаи», а в «Бернаре» речь идет об одном из героев этого дневника – матросе Бернаре, который вместе с братом Раулем служил у Мопассана на яхте «Bel-Ami»[104].
Зачином последнего рассказа служит серия реплик о Бернаре, извлеченных из Мопассана, переведенных с французского и кратко прокомментированных, а также несколько фраз, якобы услышанных Буниным от жителей Антиба, когда-то знавших старого моряка. Завершается миниатюра лирическими раздумьями о смерти. Именно поэтому, вероятно, «Бернар», написанный и опубликованный в 1929 г., нередко завершает различные собрания новеллистики Бунина[105]. Он, действительно, является средоточием ключевых и даже итоговых моментов прозы Бунина – с точки зрения тематической, но не только: этот текст с документальной откровенностью наталкивает читателей на важнейшие контексты бунинского творчества и дает повод к размышлениям о поэтике финалов, о персонажной структуре в его произведениях, а также о том, какое важное место отводится в них морским или приморским пейзажам.
Дней моих на земле осталось уже мало.
И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.
– Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно…
Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Амии» из Антибского порта 6 апреля 1888 года (7; 345).
Это начало «Бернара». Кроме книги-дневника «Sur l’eau», повлиявшей на Бунина (если не считать небольшого предисловия, она именно так и начинается: «Je dormais profondément quand mon patron Bernard jeta du sable dans ma fenêtre»[106]), следует назвать рассказ под таким же заглавием[107] и известный роман «Bel-Ami» (о нем не позволяет забыть имя мопассановской яхты), где водными мотивами насыщены самые напряженные главы[108]. В обширном мопассановском поле «Бернара» при этом выстраиваются многочисленные проекции на другие произведения самого Бунина: роман «Жизнь Арсеньева», рассказы «Генрих», «Галя Ганская», «Господин из Сан-Франциско» и др.
Средиземноморское побережье Франции – место действия «Бернара» – вводит читателя в особый локус. Именно здесь, начиная с древних времен, с мореплаваний Энея, воплощалась судьба европейского героя, в морских путешествиях, через победы или поражения реализовывался героический потенциал европейца[109]. В XIX в. взгляды обращены уже не только к морю, но и к прибрежной полосе, к курортам (Канн, Антиб, Ницца, Ментона), где прожигают дни любимцы фортуны, где пытаются сберечь их остаток смертельно больные, где протекает богемная жизнь, притягательная как для писателей, так и читателей всех разрядов. В судьбе бунинского Бернара нет опасных поворотов, ни слова не говорится о рискованных приключениях, наверняка выпадавших на его долю; старый моряк умирает легкой смертью, счастливо избежав и гибели в море, и мучительной болезни, и пустой суеты.
Типологически это тот же образ, что капитан корабля в рассказе «Воды многие», он так же спокоен, невозмутим, отдан своему делу и совсем не причастен к литературе:
Подошел капитан и, так как на коленях у меня лежало «На воде» Мопассана, я спросил его, знает ли он эту книгу и нравится ли она ему.
– О да, – ответил он, – это очень мило.
Вероятно, в другое время такой ответ показался бы мне возмутительно глупым. Но тут я подумал, что, пожалуй, он совершенно прав в своей снисходительной небрежности. Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие к крохотному литературному мирку, его значение для той обыденной жизни, которой живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды! (5; 327).
Бернар и капитан, в отличие от писателей, не наблюдают за жизнью, не любуются природой, не наслаждаются ее отражением в искусстве – они сами являются частью того, что изображает литература: частью своего дела, корабля, пейзажа, мира, а писателю лишь в редкие мгновения удается почувствовать свою растворенность в мире, стать небом и морем, услышать в своем сердце биение стихии. Собственно, ради этого и предпринимает писатель морские путешествия. «Воды многие» поддерживают ту же философию растворения, что притча писателя в рассказе «В ночном море»:
Мир был безгранично пуст – ни единого живого существа вокруг, ни единого жилья, кроме редких сторожевых мазанок, таких одиноких в этом серо-желтом море и со всех сторон теснимых желтыми сугробами. Но, казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне (5; 316).
В ночных описаниях океана из «Вод многих» автор сливается с морем: слушая свое сердце, он слышит сердце океана, сквозняк в каюте почти погружает писателя в свежесть и прохладу воды, что напоминает поэтические пейзажи XX в. в духе Пастернака, где невозможно разъять око человека и стихии:
Восторженно волнуясь, лежал в темноте и думал, а ветер веял и веял в каюту, в открытое окно, в растворенную дверь, глухо билось где-то внизу как бы некое огромное сердце, и мерно возникал, падал и снова рос шум волн, неустанно летевших вдоль бортов (5; 322).
Если в «Водах многих», «Бернаре», в «Ночном море» водная стихия главенствует в описательном, вненарративном плане текста, то в других, более поздних рассказах, морские и приморские пейзажи совпадают с сюжетными пуантами, в чем, возможно, тоже угадывается влияние Мопассана.
В дневнике «Sur l’eau» яхта Мопассана, выйдя из Антиба, направляется в соседний порт, Канн. В последней, VIII, главе первой части романа «Bel-Ami» главный герой – Дюруа приезжает в Канн, и оттуда начинается его восхождение по социальной лестнице. Из окон комнаты, где умирает от чахотки друг Дюруа – Форестье, видно море и вершина Эстереля. На резких контрастах строится глава: тесная комната и открытая перспектива моря за окном; слабое тело, в котором Форестье заточен, как пленник, и бескрайний морской простор; следы смерти, разложения и свежий бриз. Еще больше контраст усиливается, когда Форестье едет в последний раз на прогулку, и совершенно неожиданно открывается, что он любит и знает поименно все стоящие на рейде корабли:
Mais, tout à coup, la route ayant tourné, on découvrit le golfe Juan tout entier avec son village blanc dans le fond et la pointe d’Antibes à l’autre bout.
Et Forestier, saisi soudain d’une joie enfantine, balbutia: – Ah! L’escadre, tu vas voir l’escadre!
〈…〉
Forestier s’efforçait de les reconnaître. Il nommait: le «Colbert», le «Suffren», l’«Amiral-Duperré», le «Redoutable», la «Dévastation», puis il reprenait: – Non, je me trompe, c’est celui-là la «Dévastation»[110].
В названиях кораблей – имена знаменитых адмиралов и маршалов. Трепетно повторенные безвестным умирающим репортером, они обнажают пропасть между великими судьбами исторических героев и ничем не отмеченной жизнью несчастного Форестье.
Морской пейзаж с тяжелыми крейсерами на рейде и с Антибским мысом в перспективе настолько важен для Мопассана, что он возвращается к нему постоянно, в том числе и в книге «Sur l’eau»[111]. Но имена кораблей: «Кольбер», «Сюффрен», «Дюперре», вызывающие предсмертный эйфорический восторг Форестье, совсем не умиляют автора, он видит в огромных и дорогих крейсерах лишь орудие войны и смерти[112], а попутно еще и рассказывает анекдотическую историю бегства с острова Св. Маргариты маршала Базена, напрочь дискредитируя романтику военного поприща с ее пафосом покорения новых морей и земель.
Для Мопассана важен частный характер творчества, противопоставляющий профессию писателя и моряка, независимость творчества акцентируется в «Sur l’eau» беспрестанно, выбранный Мопассаном жанр – дневниковая проза – поддерживает установку на личное, «неотделанное» высказывание:
J’avais écrit pour moi seul ce journal de rêvasseris 〈…〉 On me demande de publier ces pages sans suite, sans composition, sans art, qui vont l’une derrière l’autre sans raison et fnissent brusquement, sans motif, parce qu’un coup de vent a terminé mon voyage. Je cède à ce désir. J’ai peut-être tort[113].
Пейзаж в дневнике аккомпанирует жанру: маленькая яхта «Bel-Ami» свободно скользит по воде, тогда как большие военные корабли неподвижно застыли на рейде.
Антитеза легендарного и частного, великого и простого всегда притягивала и Бунина. Две соседние могилы на кладбище Монмартра – помпезное надгробие Золя и заброшенный памятник давно забытой актрисы Терезы Анжелики Обри служат отправной точкой повествования в рассказе «Богиня Разума», в «Водах многих» старому, отлученному от пассажирских перевозок «Юнану» герой отдает предпочтение перед новыми комфортабельными кораблями – вестниками катастрофы и конца мира:
Вышло как раз то, о чем мы мечтали зимой в Египте: попасть на один из тех пароходов, которые, будучи пассажирскими, ходят теперь в качестве грузовых по своей отсталости от современных удобств, по слишком ограниченному числу кают, по долгим стоянкам в портах. «Юнан» довольно велик, прост и стар, но чист, крепок, сидит глубоко, его кают-компания и двенадцать пассажирских помещений расположены не на корме, а на спардеке (5; 313);
У меня просторно и все прочно, на старинный лад. Есть даже настоящий письменный стол, тяжелый, прикрепленный к стене, и на нем электрическая лампа под зеленым колпаком. Как хорош этот мирный свет, как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню, и как я счастлив этим чистым, скромным счастьем! (5; 314).
Сторониться больших кораблей – так же естественно для Бунина, чье поколение стало свидетелем гибели Титаника, как и для Мопассана, озабоченного агрессивной политикой родной страны. В записи, помеченной «14 февраля. Красное море» из «Воды многие», Бунин изображает грозный корабль рядом с маленьким уютным «Юнаном», корабль-великан сразу напоминает и «Титаник», и литературный бунинский корабль, увозящий мертвое тело господина из Сан-Франциско:
И раз «Юнан» даже совсем притих, неуклюже привалился к берегу, чтобы пропустить чуть не целый плавучий город: встречный великан надвигался на нас, резко и фиолетово, подобно горящему магнию, сияя широкими и нестерпимо блестящими лучами своего солнца, потом совершенно затопил нас как бы дневным светом – и с шумом прошел мимо всеми своими этажами, высокими мачтами и черными трубами, золотом освещенных иллюминаторов и раскрытых дверей, за которыми играла послеобеденная музыка в переполненных народом залах… Странное для синайских песков зрелище! (5; 319).
Игра масштабов затрагивает и героев. В «Бернаре» Бунина контрастную пару силы/слабости составляют великий Мопассан и «простой шкипер» Бернар, но контраст не однозначен. Дело в том, что писатель у Бунина похож и не похож на легендарных героев, завоевавших свою славу: писатель – это отъединенная, недосягаемая, «героическая» величина, но он же растворяется в мире, «обнимаясь» со стихиями. В прозе Бунина такое растворение коррелирует с моментами равноправия автора и герев, со способностью нарратора распространяться на героев, захватывать их области, умножаться в них, эта способность является одной из реализаций лирического принципа прозы писателя. Именно поэтому Бунина привлекает Бернар, который, как поэт, шлифующий черновик, стирает случайные брызги воды «с медных частей» яхты, относится к яхте так, как автор к тексту. Нельзя забывать, что яхта носит имя романа – «Bel-Ami». В романе прозвание Дюруа «Bel-Ami» звучит небрежно-иронично, что-то типа «приятель»[114], однако в реальности название мопассановской яхты, заимствованное из заглавия романа, переводит ироничное прозвание в лирический план: герой превращается в имя, в слово, в часть жизни своего создателя. Более того, Дюруа в романе удачлив, и это служит шутливым залогом того, что и с яхтой не случится никаких бед. В «Sur l’eau» Мопассан часто описывает, как с удовольствием передает штурвал из своих рук в надежные руки Бернара («Я передал руль Бернару», – цитирует Бунин), отказываясь от высоких притязаний («Pourquoi cette imitation vaine?» – «К чему это суетное подражание?»).
Один точно переведенный Буниным отрывок из дневника «Sur l’eau»:
– В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе… Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части… (7; 346)
в контексте рассказа приобретает новый смысл. Если в дневнике «Sur l’eau» шкипер Бернар – просто помощник Мопассана, даже не нарушающий его творческого одиночества, то в «Бернаре» моряку доверено гораздо больше – он диктует писателю, во-первых, финальную фразу рассказа, во-вторых, предсмертные слова:
– Je crois bien que j’étais un bon marin.
〈…〉
Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар (7; 346–347).
«Свободная стихия» персонажей: «Жизнь Арсеньева», «Генрих», «Галя Ганская»
Явными отсылками к «Bel-Ami» насыщен и роман Бунина «Жизнь Арсеньева». На первый взгляд кажется, что переклички поверхностные, поскольку свою любовь к Лике, свой дар и свободу Алексей Арсеньев переживает совсем не так, как Дюруа, обративший профессию репортера и любовные романы в счастливый случай на пути к жизненному успеху. И все-таки параллелей множество, вот лишь некоторые: как Дюруа – в «La Vie Francaise», Алексей Арсеньев работает в редакции «Голоса», где редактор Авилова неотступно напоминает мадам де Марель. Именно Авилова впервые награждает Арсеньева эпитетом «милый», как госпожа де Марель Дюруа:
– Лика, милая, но что же дальше? Ты же знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась… Но дальше-то что?
Я точно в пропасть полетел. Как, я «очень мил», не более! Она всего-навсего только увлеклась! (6; 219).
Позже, когда Алексей уже навеки связан с Ликой, красавица Черкасова обращается к нему так, как всегда обращались к Дюруа:
Навсегда покидаю вас, милый друг (…) Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода… (6; 281).
Даже во внешности Арсеньева Лика с раздражением замечает «французские черты»:
– Ты опять делаешься какой-то другой (…) Совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку носить (6; 279).
Чем объяснить настойчиво устанавливаемую Буниным связь между столь непохожими друг на друга героями? Возможно, дело вообще не в характере персонажа, а в том, что любой из них, будь то Эмма Бовари, Жорж Дюруа или Алексей Арсеньев, в какой-то мере являются авторским «я». Ю. Мальцев приводит типичные для прозы Бунина примеры смещения границы между «я» рассказчика и «я» героя: «Был ли когда-нибудь у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог» («Таня» – «Темные аллеи»). В «Жизни Арсеньева» автор как будто пропадает совсем, поскольку повествование ведется исключительно от лица героя, но «мы постоянно ощущаем, что автор думает и чувствует 〈…〉 Авторское поэтическое “я” не идентифицируется ни с кем в отдельности, но в то же время со всем и со всеми»[115].
Причину сложного процесса идентификации / неидентификации авторского «я» с персонажами Ю. Мальцев находит в том, что Бунин выражает представление о многослойности нашего «я», а главное, о его некой постороннести и неподвластности нам. Мы, собственно, никогда не являемся субъектами нашей душевной жизни, а, скорее, чем-то (кем-то?) претерпевающим ее. Субъект, таким образом, вне нас, единственный и подлинный субъект лишь частично проявляется в нас. На разных уровнях нашего «я» и по-разному – постоянно проявляется некая универсальная и высшая, нам непонятная сила[116].
Сюжет бунинского «Бернара» может рассматриваться в качестве примера на ту же тему: Мопассан, автор Бернара, уже умер в лечебнице доктора Бланша, а неподвластный ему персонаж, его верный шкипер Бернар продолжает жить в Антибе.
Главные события «Жизни Арсеньева» происходят в дореволюционной России, однако хроника жизни главного героя и хронология романа резко перебиты тремя приморскими – антибскими главами (XX–XXII) в конце четвертой книги. По времени события XX–XXII глав сильно удалены от всего, о чем рассказано ранее. Как раз в тот момент, когда читатель ждет развития любовного романа Арсеньева и Лики, рассказчик неожиданно уходит далеко вперед, к своему совсем недавнему эмигрантскому прошлому, к смерти Великого Князя Николая Николаевича-младшего:
Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его: конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец[117] (6; 186).
Великий князь умер в Антибе («тот дальний горбатый мыс» – это и есть Антиб), и не стоит сомневаться, что для Бунина, как и для многих эмигрантов, его смерть символически означала и смерть России, и предвестие личной смерти[118]. Исследователями творчества Бунина подчеркивалось, что в романе отвлеченный от основной линии антибский эпизод не только несет символический смысл, но еще и имеет непосредственное отношение к Лике. Связь между смертью Великого Князя и смертью Лики открывается ретроспективно, в финале.
С самого начала знакомства Лики с Арсеньевым и до конца (чем дальше, тем сильнее) выясняется, что влюбленные герои имеют разные литературные пристрастия, вернее, Лика не может разделять утонченных писательских взглядов Арсеньева, она скучает, когда он перебирает в памяти мельчайшие детали пережитого, оттачивает фразу, любуется стихотворной строкой:
Я часто читал ей стихи.
– Послушай, это изумительно! – восклицал я. – «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц, над рощей, печаль!» Но она изумления не испытывала.
– Да, это очень хорошо 〈…〉 но почему «как месяц над рощей»? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.
Я негодовал: описаний (6; 213–214)[119].
Не смысловые нюансы, не детали и фраза, а эффектное драматическое действие притягивает Лику, поэтому она невольно усугубляет трагический финал, когда просит отца и брата, «чтобы скрывали» от Арсеньева «ее смерть возможно дольше». Подобного рода «интриги» характерны для героев массовой литературы. Самый простой, бесконечно повторяемый сценарий выглядит так: герой получает письма от возлюбленной, но позже выясняется, что она умерла, а письма отправлял кто-то другой, выполняя ее предсмертную волю[120]. В «Жизни Арсеньева» финал в чем-то похож на подобные беллетристические развязки, но только он лишь отчасти срежиссирован героиней, а вообще-то не является ее «грубым» драматическим замыслом (каковым было бы распространенное в беллетристике самоубийство). Скорее, смерть Лики сложно синтезирует поэтическую игру обстоятельств и отчаянные драматические замыслы героини.
Узнав, в конце концов, о смерти Лики, Арсеньев получает одновременно и литературное поражение: для него открывается прежде неоцененный, укорененный в чуждой ему стихии яркого, площадного, драматического искусства, талант Лики. Но это еще не все: последние страницы «Жизни Арсеньева» устроены так, что один финал наслаивается на другой. Тихая Лика свободным жестом – разрывом с Арсеньевым, так неожиданно довершенным смертью (прототип Лики, Варвара Пащенко, благополучно пережила разрыв с Буниным), дает реверсивный импульс повествованию: смерть героини заставляет по-новому оценить весь ее образ, но автор ее образа, ее живых портретов не она, а Арсеньев. Все, написанное прежде о Лике, исполнено изящества и тех подробностей, которые доступны только взгляду писателя. Равновеликость и героя, и героини, и в то же время их взаимоподчиненность друг другу (Лика зависит от Арсеньева – как модель зависит от творца, а Арсеньев прикован к Лике узами любви, которые оказываются сильнее смерти) не позволяют роману превратиться в эффектную беллетристическую драму. Фабульный конец романа о любви – смерть Лики не является окончанием романа, смерть Лики обрамляется памятью Арсеньева, только в его памяти и в контексте всего романа проявляется подлинный смысл этого события. Антибский эпизод помогает разглядеть настоящую перспективу любовной истории: смерть Великого Князя Николая Николаевича означает, что уже исчезла та страна, где похоронена Лика, уже близится конец жизни Арсеньева, но вопреки всему героиня не покидает возлюбленно-го[121]. Роман как будто бы все время раскачивается от утонченной стилистики Арсеньева к резкому, театральному стилю Лики, от поэзии к прозе, от обобщающего символизма к мельчайшим, живым подробностям и деталям.
В миниатюрном рассказе «Бернар», как и в «Жизни Арсеньева», события излагаются непоследовательно, резкое несовпадение фабулы и сюжета (традиционно отмечаемая особенность поэтики Бунина) проявляется здесь в полной мере. Когда автор, чувствуя приближение смерти, вспоминает антибские легенды о моряке Бернаре, то, скорее всего, он оглядывается не только на давние события жизни, но и на свои прежние тексты. И если в «Жизни Арсеньева» смерть великого князя возвращает назад, к смерти Лики, то в контексте всего творчества Бунина «Бернар» отсылает ко всем антибским эпизодам более ранних произведений: к Антибу в «Жизни Арсеньева», к Антибу, Ницце и Каннам в «Темных аллеях». Лика воплощает собой излюбленный тип бунинской героини – неискушенной в литературе и жизни наивной особы, в которой проступают грубоватые, «народные», простодушные черты[122]. Герой (часто писатель или просто рассказчик) специально поставлен в сюжетах Бунина в противоречивое положение: он отстранен от простодушного мира, резко не совпадает с ним, выделен из него и вознесен над ним, но в то же время именно живая наивность и простота притягивает его и навсегда остается с ним[123].
В «Генрихе» (1940, «Темные аллеи») развязка тоже наложена на приморский пейзаж. В зимней Ницце Глебов изнурительно ждет приезда своей возлюбленной, и вдруг, прогуливаясь по побережью в один из вечеров, вглядываясь в морскую даль с Антибским мысом на горизонте, он неожиданно и случайно узнает о ее смерти:
«Journaux étrаngers»! – крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния:
«Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане “Franzensring” известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом “Генрих”» (7; 142).
Название венского отеля «Franzensring» пробуждает французские ассоциации, к тому же в «Генрихе» в новом виде повторяются те же инвариантные мотивы, что и в «Жизни Арсеньева», и не менее очевидно, чем роман, рассказ «Генрих» ориентирован на «Bel-Ami» Мопассана. Как и в «Жизни Арсеньева», кульминацию рассказа готовит отсроченный финал: героиня уже умерла, но герой еще не знает об этом, зато, когда узнает, повествование набирает такую реверсивную силу, что все, случившееся прежде, читатель видит абсолютно по-новому.
Одну встречу Арсеньева и Лики в поезде:
Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, воя… Я вскочил в сенцы вагона, распахнул дверь в него – она, в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке, под задернутым вишневой занавеской фонарем, совсем одна во всем вагоне, глядя прямо на меня (6; 210–211) –
напоминает первое появление Генрих:
Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыжелимонных волос (7; 132).
Для этой, продуманной и театральной сцены взяты вечерние краски; героиня «театрально» появляется из тьмы соседнего купе. В «Генрихе» вообще все погружено во тьму, рассказ начинается сумерками в Москве («уже темнело, и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей» – 7; 129) и заканчивается антибским пейзажем с гаснущим солнцем, похожим на апельсин-королек. Неожиданной вспышкой в ночном небе звучит для Глебова выстрел, который на самом деле уже прозвучал в Вене два дня назад[124]. Героиня спрятана за образами ночной тьмы, вереницей воспоминаний о прочих возлюбленных Глебова (нежная москвичка Наденька, восточная ревнивица Ли, страстная цыганка Маша и сицилианка), и лишь в редкие мгновения Генрих появляется и снова исчезает, в последний раз уже навсегда.
Серия мгновенных появлений и исчезновений героини соответствует прерывистой природе текста[125], «собранного» из разрозненных кадров; между ними пустота, провалы, боковые ответвления главной сюжетной линии, случайные портреты… Самый глубокий провал – это смерть Генрих. Вечная разлука Глебова с ней подчеркивает прерывистость всего текста, а прерывистость, в свою очередь, увеличивает силу финального пуанта. В тексте воплощен парадокс: чем больше Глебов думает о своих многочисленных, бесподобных возлюбленных, тем, кажется, больше он должен забывать Генрих, но все происходит наоборот: смерть Генрих окончательно исключает ее из ряда других героинь, она навсегда остается самой прекрасной и самой недоступной. А праздничная, роскошная жизнь Глебова («заезжали к Елисееву за фруктами и вином 〈…〉 Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин» – 7; 129), жизнь нового Дюруа, обрывается вместе с финальным выстрелом.
Не только под покровом ночной тьмы и за портретами красавиц всевозможных типов упрятана Генрих, но еще и скрыта под псевдонимом. На самом деле ее зовут Елена, и она тенью стоит за спиной «известного австрийского писателя» Артура Шпиглера. Вопреки обыденным представлениям, когда переводчик остается только «тенью» автора, в рассказе Бунина на первом плане оказывается переводчица, а переводимый ею автор, Шпиглер, оставлен в тени. Аффектированный портрет Шпиглера («Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое» – 7; 137) входит в сознание Глебова со слов Елены (сам он никогда Шпиглера не видел), в портрете причудливо соединяется мертвенное и живое: холодная бледность и горячая злоба. «Журналистка и переводчица» Елена Генриховна сначала создает «этого австрияка» для читающей русской публики («кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы?» – 7; 133), затем пытается «оживить» его в нескольких репликах для Глебова, разжигая его ревность. В конечном счете, переводчица Генрих и становится жертвой ревности, но только не ревности Глебова, а ревности Шпиглера. Все герои оказываются как бы стянутыми в один круг, все они отражаются друг в друге, связаны друг с другом и образуют единый персонажный синкрет (что подчеркнуто ассонансным созвучием их имен: Шпиглер, Елена, Генрих, Глебов). Напряженность повествования обеспечивается противостоянием неверного Глебова и ревнивицы Ли, неверной Генрих и ревнивого Шпиглера[126]. Кажется, лишь Глебов и Генрих устремлены друг к другу, но весь рассказ – это их непримиримый писательский поединок. Перебивая друг друга, они добавляют новые и новые, все более и более яркие штрихи к портретам своих любовниц и любовников. Если начинает Глебов, то Елена подхватывает тему и не в силах уже остановиться; в творческом порыве герои будто бы специально игнорируют опасную возможность «оживить» соперников, напротив, чем острее опасность, тем сильнее разжигается ревность и любовь, причем уже не на «жизненной», а на «словесной», «художественной» основе. И непонятно, какая из основ: жизненная или словесная, – сильнее. Не просто составленные со слов Генрих портреты видит читатель в зеркале памяти Глебова: Глебов выступает в роли соавтора Елены, даже тогда, когда Генрих уже мертва.
Завуалированное, скрытое авторство роднит Генрих с Мадленой из «Bel-Ami». Именно ради встречи с Мадленой, вечной помощницей начинающих авторов, Дюруа едет в Антиб. Однако в «Генрихе» Бунина сюжет «Bel-Ami»[127] перевернут. Не встреча, а вечная разлука настигает героев в Антибе, и череда любовниц Дюруа, разомкнутая в счастливую и богатую бесконечность, в обратной перспективе отражает череду возлюбленных Глебова, сведенную в итоге к одной только Генрих и оборванную в финале.
Из романа «Милый друг» берет Бунин идею игры с именем и псевдонимом, но доводит ее до трагического конца. У Мопассана впервые Дюруа лишается собственной фамилии, когда госпожа де Марель шутя награждает его прозвищем «bel-ami». Да и сам герой не слишком церемонно обращается с собственным именем: сначала с удовольствием подписывает его под статьей, принадлежащей перу Мадлены Форестье, потом открывает инкогнито в ответ на требования Луи Лангремона из «La Plume» (и чуть не умирает вследствие этого на дуэли) и, наконец, завершаются эксперименты с «Дюруа» серией метаморфоз: Du Roy, du Roy de Cantel. Имя, по сути, – единственное, что выдумал Дюруа как автор. Мопассан подхватывает выдумку своего героя и в продолжении романа со скрытой усмешкой называет Дюруа «Дю Руа». Несколько раз Дюруа подходит к той черте, которая позволяет узнать, чем опасны игры с именем и псевдонимом, но каждый раз Мопассан дарует своему герою счастливое спасение от трагической развязки.
«Мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи» (7; 133), – говорит Генрих Глебову, а через некоторое время отрицает сказанное: «Не хочу больше быть товарищем тебе», обнажая конкуренцию между дружбой (товариществом) и любовью. Что, как не финал «Генриха», может подтвердить несовместимость любви и дружбы: австриец не соглашается стать «милым другом» Генрих, ему вовсе не нужен «дружеский» или «творческий» союз с ней. Выстрелом он отвергает дружбу и утверждает любовь. Приведенные выше отсылки к Мопассану позволяют думать, что когда Глебов и Генрих в своих разговорах по кругу обмениваются словами «друг» / «не друг», «товарищ» / «не товарищ», один из скрытых подтекстов Бунина – это роман «Bel-Ami». Разница между словами «друг» и «любовник», однажды осознанная Дюруа, предрешает его разлуку с Мадленой. Дюруа требует от жены признания, она должна назвать графа де Водрека «любовником», но Мадлена настаивает на «дружбе»: «parce que je suis son amie depuis trés longtemps»[128]. Правда, в начале романа подмена любви дружбой, собственного имени «Дюруа» нарицательным «bel-ami» совершенно не заботили Дюруа, но однажды он все-таки с негодованием обнаружил трагический смысл такого замещения. Обычное нарицательное «forestier» – «лесник» с такой силой напомнило ему о Форестье, уже давно почившем в Антибе, что «дружба» и брак с Мадленой мгновенно разрушились. Форестье как будто восстал из мертвых в памяти Дюруа, самим присутствием открыл на мгновение окно в мертвый мир.
Когда «forestier» становится «Форестье», то снимается очевидное противопоставление между друзьями, так остро обозначенное антибской сценой. Счастливый Дюруа, перед которым в Антибе открываются отличные перспективы, позже осознает, что занял место несчастного Форестье, а Форестье, подобно легендарному герою, обретает бессмертие в памяти Дюруа (разумеется, в несколько пародийной форме). Оказывается, товарищ Дюруа по гусарскому полку умер не только «за себя», но и ради него, освобождая для него место рядом с Мадленой. Из героев-антиподов, счастливого и несчастного, герои превращаются в двойников, что, разумеется, неприятно для счастливца: ворчун Форестье дарует Дюруа удачу, но одновременно по тексту романа разливается мысль о тщетности любого успеха. На миг любимая мечта Дюруа о притягательном слиянии с другими становится для него отвратительной, и невыносимая мысль овладевает сознанием героя: в письме, в любви и в смерти обязательно узнавание.
Несмотря ни на что, Дюруа удается избежать смерти, неудач и разоблачений, и название романа «Милый друг» становится шуткой автора над героем: бессмертие сам текст романа дарит не Дюруа, а его нарицательному прозвищу. Дюруа легко скользит по страницам романа, подстерегаемый опасностями, но снова и снова обходит их стороной. В отличие от Дюруа, герои Бунина открывают свое инкогнито[129], они не бегут смерти, а сами устремляются ей навстречу. Глебов предлагает уладить дела с австрийцем письменно. «Нет, мой друг», – отвергает его предложение Генрих.
Было бы странно полагать, будто роман «Bel-Ami» – единственный подтекст словосочетания «милый друг» в рассказах Бунина. Обращение «милый друг» не менее очевидно, чем к Мопассану, восходит и к поэтической фразеологии XIX в., где оно довольно часто выступает в роли твердой формулы и подает повод для стилистической игры, например, такой:
Скользя по утреннему снегу, Друг милый, предадимся бегу Нетерпеливого коня, И навестим поля пустые, Леса, недавно столь густые, И берег, милый для меня[130].Пушкинский повтор – двукратное «милый» в пределах одной строфы – с трудом улавливается на слух, потому что «друг милый» и «берег, милый для меня», звучат абсолютно по-разному. В составе обращения «милый» десемантизируется; во втором случае, напротив, конденсирует значительный смысловой объем, скрывает тайну автора, еще не известную ни героине, ни читателю. Тайна так и не открывается, «берег, милый для меня», не наполняется ничем конкретным, но заманчивое обещание автора приподнять завесу над прошлым само по себе столь емко, что любое конкретное содержание меркнет в сравнении с ним. Бунин варьирует семантику словосочетания «милый друг» от нежного, поэтического, с оттенком французского изыска, обращения к возлюбленной до ироничного мопассановского «bel-ami».
Последний текст, о котором стоит упомянуть, анализируя «Бернара», – это «Галя Ганская» (1940). Герои – художник и моряк, рассказчик и его молчаливый слушатель, выглядят так, будто Мопассан и Бернар сошли в текст Бунина со страниц книги «Sur l’eau». «Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном» (7; 123), – начинает художник. «Плохой же ты был Мопассан», – с иронией замечает через несколько страниц моряк. Рассказ «Галя Ганская» посвящен той же дореволюционной жизни, что и «Ночное море», прошлое, о котором вспоминает художник, далеко от моряка настолько, что он даже не может вспомнить Галю, которую видел когда-то в Одессе. Теперь, в Париже, Галя Ганская – только персонаж на картине, создаваемой художником[131]: «Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно» (7; 122). Мотивы забвения и памяти тоже сближают «Галю Ганскую» и рассказ «В ночном море». Между тем, для художника Галя не просто модель, не просто объект описания, а еще и автор неожиданного финала их любовного романа. Резкий и трагический финал, придуманный и исполненный Галей, аккумулирует в себе всю силу истории. Не будь самоубийства, художнику нечего было бы рассказать, и незачем пробовать себя в роли «второго Мопассана».
Вообще-то, среди действующих лиц «Гали Ганской» не один, а два художника, причем старший и более опытный, отец Гали Ганской, художник неумелый: «С гордостью стал показывать мне свои новые работы – летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди – старается, бедняк, не отстать от века», – иронизирует рассказчик. Вместо него необычайной силы финал не на полотне, а в жизни дорисовывает его дочь, с помощью «яда Леонардо да Винчи» из коллекции отца:
Но часов в пять приходит ко мне с дикими глазами художник Синани:
– Ты знаешь – у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, черт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца – помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи (7; 128).
Своей смертью Галя мстит молодому герою за пренебрежение к ней, и отчасти за пренебрежение к ее отцу, за самоуверенность по отношению к искусству. В любви, в жизни не отец Гали Ганской, а сам рассказчик оказался неудавшимся художником, «плохим Мопассаном», раз позволил «неопытной девочке» распоряжаться сюжетом, поставить такую точку, после которой уже ничего невозможно добавить. Единственным равным по силе жестом могло бы стать ответное самоубийство: «– Я хотел застрелиться, – тихо сказал художник…» (7; 128), но уж это-то превратило бы рассказ в безыскусную кровавую мелодраму. Заметим, кстати, что двойное самоубийство, любимый сюжет Бунина, специально ни разу им не реализован: везде, где двойное самоубийство планируется (в «Сыне», «Святых», «Деле корнета Елагина»), погибает только один герой. В «Гале Ганской» моряк еще не знает финала истории и шутит, называя художника «плохим Мопассаном» «по части любовных дел». Однако в том смысле, который он вкладывает в свою грубоватую шутку, его приятель оказывается не «плохим», а хорошим «Мопассаном»: он всецело овладевает сердцем Гали, и, более того, нечаянно, по самонадеянности и непроницательности, сокрушает ее жизнь. Зато, умирая, Галя Ганская, получившая в наследство от отца страстность и кипение польской крови, наносит удар по представлениям молодого художника о творчестве и о любви[132]. Она похожа на ожившую модель, бунт которой непредсказуем.
Противопоставленными и в какой-то мере равносильными оказываются человеческая, творческая свобода художника («Нет, поеду» (7; 128), – упорно настаивает на своем главный герой) и страстная, природная, неконтролируемая и, возможно, неосознаваемая свобода героини.
Финал «Гали Ганской» возвращает (так обычно бывает у Бунина) к одному разговору Гали и художника на «литературные» темы:
Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления; а вам, говорю, вот эти фиалки нравятся? – Я не понимаю. – Что ж тут понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. – Опустив глаза, смеется: – У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими (7; 124).
По-видимому, уловив холодность художника, Галя впервые упрекает его, но свой упрек «по части любовных дел» переносит в словесную, творческую сферу. Однако упреки: «плохой Мопассан», плохой художник, получивший возмездие за свое легкомыслие и самонадеянность и т. п., – это тоже не те определения, которые могли бы исчерпать образ рассказчика в тексте. Природа любви и творчества неустойчива, она всегда колеблется, всегда получает неожиданные импульсы от тех объектов, на которые направлена. В растяжке между оценками «плохой» и «хороший», между равнодушием и узнаванием «проживают» свою жизнь герои Бунина, поэтому, зная финал, художник все-таки не спешит опровергнуть моряка (а читатель, таким образом, догадывается, что рассказчик принял творческий вызов Гали):
– Плохой же ты был Мопассан.
– Может быть… (7; 124).
В «Темных аллеях» Бунин, как и Мопассан, нередко строит рассказы на новеллистических пуантах, но главное содержание новелл не сводится к изысканной сюжетной канве (хотя она у Бунина сложно организована и всегда неожиданно обыгрывает беллетристические каноны), а непременно включает в себя «лирический субстрат»: недоговоренности, паузы, чужие цитаты, что обновляет знакомые «литературные» приемы. «Писарские сравнения», например, фиалок с глазами или голубых глаз с морской волной (у Гали Ганской «аквамариновые глаза»), очень любит и сам Бунин. Писатель наполняет новым смыслом обобщенные портреты или картины из чужих книг[133], из чужих стихотворных строк, даже из чужих заглавий:
Сквозь редкий сад шумит в тумане море – И тянет влажным холодом в окно. Сирена на туманном косогоре Мычит и мрачно, и темно. Лишь гимназистка с толстыми косами Одна не спит, – она живет иным, Хватая жадно синими глазами Страницу за страницей «Дым» (1; 365).Последним словом стихотворения несколько даже декларативно подчеркнуто, что дым, движение воздуха, дымка (создаваемые словами и фразами «туманно», «тянет влажным холодом», «мрачно», «хватая жадно» и пр.) как бы исходит со страницы книги, от заглавия романа Тургенева.
Единственная деталь, которую Бунин добавляет к портрету мопассановского Бернара, – это голубые глаза (о цвете глаз моряка в «Sur l’eau» ничего не сказано). Голубой и аквамарин – краски моря, внесенные в портреты Гали Ганской и Бернара, роднят их с природной, никому не подвластной стихией. В то же время персонажи – всего лишь часть текста, они оживают и умирают только по воле художника. Этот парадокс и заставляет думать о том, что в прозе Бунина моделируется образ единой природно-текстовой стихии, то размыкающей, то смыкающей свои границы. Здесь уместно будет процитировать один отрывок из рассказа «Воды многие» – автор дневника бросает книги в воду, смешивая стихийное и словесное, величественно-равнодушное природное с человечески-пережитым, словесно-запечатленным:
Все читаю, читаю, бросая прочитанное за борт. – Жить бы так без конца! (5; 331);
Дочитал «На воде». «– J’ai vu de l’eau du soleil, des nuages, je ne puis raconter autre chosе…» Дочитав, бросил книгу за борт (5; 333).
* * *
Итак, в прозе Бунина конструируется сложный, многоипостасный образ писательского «я», нарратора, который может то входить в круг персонажей, то исключаться из него, моменты «независимости» персонажей от воли нарратора заставляют обратить внимание и на эпико-драматический элемент прозы Бунина, который спорит с лирическим. Лирическое начало как бы «привязывает» героя к рассказчику, эпическое – отпускает. Рассказ «В ночном море» обрисовывает одновременно оба состояния: включенности в стихийный поток времени и пространства и отчужденности от него же; «Бернар» воодушевлен идеей о том, что автору когда-то приходится расстаться со своими героями, и тогда «милые друзья» художников – персонажи, двойники своих создателей, их спасители и губители, уже самостоятельно продолжают рискованные путешествия, как Бернар, переходя с одной яхты на другую, то исчезая, то появляясь вновь dans l’écume de pages. Сложной структуре авторского «я» в лирической прозе соответствует переживание проницаемости границ между условным и космическим, а вместе с тем для творца художественного мира столь же явственна непреодолимость и прочность этих, установленных им же, границ.
Глава III «Некто Ивлев»: возвращающийся персонаж Бунина
В прозе И. А. Бунина нередко встречаются персонажи, названные одними и теми же именами: так, Натали из одноименного рассказа («Темные аллеи», 1941), выйдя замуж, получает литературное имя своего мужа Алексея Мещерского и становится однофамилицей одной из самых символичных бунинских героинь – Оли Мещерской («Легкое дыхание», 1916): оба образа заключают в себе тему трагической, неисполнившейся судьбы, ранней смерти. Герой рассказа «Снежный бык», помещик Хрущев, носит ту же фамилию, что и владельцы Суходола («Суходол»), оба текста относятся к 1911 г., но Хрущева из «Снежного быка» трудно точно соотнести с кем-то конкретным из суходольцев, зато и «Суходол», и «Снежный бык» прочитываются в автобиографическом ключе с акцентами семейной хроники – в одном случае, и с чертами зарисовки усадебной жизни – в другом. Фамилия «Ганский» принадлежит одновременно художнику Ганскому из «Гали Ганской» («Темные аллеи», 1940) и музыканту Ганскому, в обществе которого проводит время Алексей Арсеньев в «Жизни Арсеньева», а поскольку Алексей Арсеньев – alter ego автора (пусть с оговорками, но все же), то и рассказчик из «Гали Ганской» по инерции начинает соотноситься с Буниным, тем более, что всех троих: автора, Арсеньева, рассказчика из «Гали Ганской» – роднит тема эмиграции. Или еще пример: помещик Писарев, соседствующий с Хвощинским в «Грамматике любви», живет совсем недалеко от Батурина и состоит в близком родстве с Арсеньевыми («Жизнь Арсеньева»). Иногда кажется, что все персонажи, а заодно и автор, собраны в одном, довольно тесном пространстве.
В данном случае нас будут интересовать три, написанных в разное время рассказа – «Грамматика любви» (1915), «Зимний сон» (1918), «В некотором царстве» (1923), объединенные героем по фамилии «Ивлев», о котором Бунин писал, комментируя первый из «ивлевских» текстов:
Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно, приятель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную книжечку под заглавием «Грамматика любви». Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помешавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и написал рассказ с заглавием этой книжечки (от лица какого-то Ивлева, фамилию которого я произвел от начальных букв своего имени и моей обычной подписи) (9; 369)[134].
«Возвращающийся» персонаж подталкивает к размышлениям о бунинской вариативности, которая во многом определяет лирическую природу повествования и лицо рассказчика, выступающего в роли автоперсонажа. Нам бы хотелось, подробно проанализировав три текста, поразмышлять о том, кто такой Ивлев и почему он не уходит из бунинского творчества на протяжении восьми лет, в то время как с 1915 г. по 1923 г. заметно меняется не только поэтика, но резко переламывается судьба писателя.
Темпоральная пластика «Грамматики любви»
Первый из «ивлевских» текстов появляется в 1915 г., это «Грамматика любви»: «некто Ивлев» выступает в рассказе в качестве наблюдателя, почти не связанного с главными героями. В повествовательном фокусе – необыкновенная любовь помещика Хвощинского к горничной Лушке:
…он (Хвощинский. – Е. К.) когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, – и все пошло прахом, он затворился в доме и больше 20 лет просидел на ее кровати» (4; 300).
Основных действующих лиц, Лушку и Хвощинского, читатель увидеть не может: они уже умерли, но история их любви должна быть изложена наперекор времени, вернуться из прошлого в настоящее[135]. Любовь тех, кого уже нет на свете; любовь, которая могла бы быть, но не случилась; любовь, которая случилась, но неожиданно оборвалась, – подобные сюжеты, как известно, всегда владели вниманием Бунина. Ивлева здесь можно сравнить с оптическим прибором, позволяющим разглядеть ушедших из земного бытия Лушку и Хвощинского.
В первой фразе «Грамматики любви» мы застаем Ивлева на дороге. Неизвестно откуда взявшийся герой едет неизвестно куда и неизвестно зачем[136], фамилию героя предваряет неопределенное местоимение:
«Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда» (4; 298). Эта фраза отделена от дальнейшего текста (следующее предложение начинает новый абзац), и поэтому возникает ощущение, что Ивлев просто бродит по родным местам, бродит по свету и, как мы увидим потом, по творчеству Бунина.
Через Ивлева в повествование вводятся описательные фрагменты, в них важна каждая подробность. О. В. Сливицкая осторожно, с оговорками о типологическом родстве, возводит «Грамматику любви» к «Бригадиру» Тургенева, отмечая сходство сюжетов и композиций, похожие источники (семейные предания), близость «мировоззренческих начал» двух писателей[137]. В стилистике Бунина, особенно в ранний и средний периоды, заметны «тургеневские» черты, несмотря на то, что сам Бунин выступал против сравнений, проводимых между ним и родоначальником русской лирической прозы[138]. Ярко отличающиеся друг от друга, как всякие большие писатели, по манере письма Бунин и Тургенев сходны в пристрастии к длинным, тяготеющим к самостоятельности, описаниям, которые полны «мистических» оттенков. В 1915 г. Ивлев – это не только alter ego Бунина, его «лирический герой»[139], но и повествовательная маска, отсылающая к прозе XIX в.
Русские ландшафты у Бунина, как и у Тургенева, окрашены в «Грамматике любви» сгущенными мистическими красками. В самом начале Ивлев вспоминает как бы случайную реплику о Хвощинском, брошенную кем-то из старых помещиков: «Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грозу, объявлена война – так Лушка решила, неурожай случился – не угодили мужики Лушке» (4; 300). В репликах, запечатлевших усмешки уездной молвы над Хвощинским, Лушка, казалось бы, совершенно неоправданно поставлена на высоту божества, однако чем ближе дорога подходит к имению Хвощинского, тем больше развеиваются иронические призвуки этих слов: в переменах погоды все отчетливее начинают проступать знаки лушкиного присутствия и свидетельства ее «магической» силы. Лушка как бы и вправду «насылает грозу»: пока Ивлев еще далеко от имения Хвощинского, собираются тучи, идет дождь и гремит гром («неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома» – 4; 31), но как только Ивлев входит в дом, гроза необъяснимо прекращается. По житейской логике, со смертью Хвощинского должен исчезнуть болезненный «морок» его сознания, но есть Ивлев – сторонний наблюдатель, который может воочию убедиться в том, что «безумные» мысли Хвощинского о могуществе Лушки могут иметь под собой какие-то таинственные основания[140].
Мистический пейзаж, в который «вписана» Лушка, замечали многие исследователи, обращавшиеся к «Грамматике любви», но для нас важно еще раз подчеркнуть, что пейзаж связывает между собой разделенных во времени героев[141]. Часто впечатления переходят в лирической прозе Бунина от автора к героям, от одного героя к другому, что создает образ тонкого мира, где души одержимы общими (но при этом не внушенными друг другу) мыслями, воспоминаниями. «Композиционный фокус структуры смещен с фабульных взаимоотношений между отдельными персонажами на образующую единый континуум фактуру их внешности и окружающей среды», – пишет о новеллах И. А. Бунина А. К. Жолковский[142], «единый континуум» внешнего и внутреннего определяет свойства лирической структуры, лирические композиции с их множественными параллелями и совпадениями в сферах героев, героев и автора, героев, автора и всего, внеположенного им. В «Грамматике любви» через пейзаж, через перемену погоды устанавливается мистическая связь, оживляющая силу другой любви, – Лушки и Хвощинского. Ивлев становится тем персонажем, вместе с которым читатель приближается к главным событиям рассказа. Есть и еще одна сторона, где сходятся Лушка и Ивлев: если помнить об анаграммированном «Иване Алексеевиче» в «Ивлеве», то возникает соблазн и в «Лушке» прочесть простонародный, вариант имени «Гликерия»[143], а значит – и Лики из написанного гораздо позже романа «Жизнь Арсеньева», может статься, что Лика и Лушка – это два уменьшительных имени авторской музы, появляющейся в разных обличиях.
Итак, на фоне печального элегического пейзажа, в сиянии закатных лучей («В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза» – 4; 303), Ивлев, а заодно и читатель, может рассмотреть вещи, бывшие «свидетелями» любви главных героев. Не только от героя к герою, но и от пейзажа к интерьеру направлена повествовательная нить, к «плакучей березе» возвращают «два книжных шкапчика» «из карельской березы» (4; 304)[144], подобные переходы от внешнего к внутреннему (от пейзажей к интерьерам, от портретов к эмоциональным состояниям) способствуют раскрытию богатого потенциала всего неодушевленного. Безмолвные вещи могут рассказать о Хвощинском и Лушке гораздо больше, чем слова, зато нехватка слов, вернее, событийных звеньев в истории любви Хвощинского и Лушки Буниным намеренно не восполняется: мы не знаем, почему умерла Лушка, как это произошло[145], ее не столь уж давняя смерть уже успела обрасти легендами, и одну из них, явственно намекающую, как считает К. В. Анисимов, на «Бедную Лизу», пытается рассказать Ивлеву кучер («малый»):
– Говорят, она тут утопилась-то, – неожиданно сказал малый.
– Ты про любовницу Хвощинского, что ли? – спросил Ивлев. – Это неправда, она и не думала топиться.
– Нет, утопилась, – сказал малый (4; 301).
Отвергая эту версию самоубийства Лушки, Ивлев не предлагает своей. Бедная Лиза, мерцающая за Лушкой[146], действительно, означает важный для Бунина карамзинско-пушкинский («Станционный смотритель») подтекст, который есть и в других рассказах Бунина о любви барина и крестьянки: в рассказе «Темные аллеи»[147], в «Тане» и пр., но «Бедная Лиза» – верный, но и неверный прообраз лушкиной истории: Хвощинский не покинул свою возлюбленную, подобно Эрасту, и сам погиб от любви. Неточное наведение на чужой текст придает и сюжету загадочную расплывчатость.
Возвращаясь к описанию интерьера, надо отметить его «музейные» черты: все вещи Лушки и Хвощинского оставлены нетронутыми («Тут холодно, мы ведь не живем в этой половине» (4; 303), – говорит Ивлеву Хвощинский-младший), что обостряет трагический ореол мотива оставленного дома – одного из любимых мотивов Бунина («Последнее свидание», «Последний день», «Несрочная весна»). Но, конечно же, самой значимой деталью являются венчальные свечи у божницы:
Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтым воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.
– Простите, пожалуйста, – начал было Ивлев, превозмогая стыд, – разве Ваш батюшка…
– Нет, это так, – пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. – Они уже после ее смерти купили эти свечи… и даже обручальное кольцо всегда носили (4; 303–304).
Из слов сына, из прикосновения к таким убедительным вещам, как «свечи в бледно-зеленых бантах», возникает не только образ болезненных грез покойного помещика, но и картина венчания с мертвой, с призраком, со смертью. «Мертвая невеста», «девушка и смерть», гибель и гибельность женского начала – это константный набор бунинских тем. У Бунина венчальные свечи мертвой Лушки наводят на мысли о бледной элегической живописи в стиле Батюшкова:
Когда в страдании девица отойдет И труп синеющий остынет, – Напрасно на него любовь и амвру льет, И облаком цветов окинет. Бледна, как лилия в лазури васильков, Как восковое изваянье; Нет радости в цветах для вянущих перстов, И суетно благоуханье[148].Элегический образ мертвой невесты поддержан «шуршащими под ногами» мертвыми пчелами, которые по законам лирической ассоциативности продлевают тему воска, тему мертвого тела. В другом рассказе Бунина, по времени близком к «Грамматике любви», – в «Казимире Станиславовиче» 1916 г. тоже описываются венчальные свечи, они фигурируют, как и положено, в торжественной сцене венчания:
И за все время венчания только одно было перед его глазами: склоненная в цветах и фате, голова и маленькая до боли в сердце милая, прелестная рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом… (4; 347).
Венчание идет по периферийной линии «Казимира Станиславовича», а главная тема рассказа – мучительное раскаяние, едва не приведшее героя к самоубийству. Красота венчального таинства лишь усугубляет трагические смыслы, их величественное торжество и в «Казимире Станиславовиче», и в «Грамматике любви».
Еще не попав в дом Хвощинского, Ивлев вспоминает, что когда-то давно он мучился мыслями о Лушке, мысли эти были похожи на любопытство, которое в итоге рождает «любовь любви»: он никогда не видел Лушку, но на какой-то момент влюбился в нее по слухам о любви Хвощинского: «Ах, эта легендарная Лушка! – заметил Ивлев шутливо, слегка конфузясь своего признания. – Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, Бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой» (4; 299). Вторичный характер чувства Ивлева превращает историю Лушки и Хвощинского в таинственную «формулу любви».
Продолжая анализ разных редакций рассказа, начатый В. В. Краснянским[149], К. В. Анисимов заключает, что в первоначальных вариантах (рассказ редактировался Буниным многократно) сюжет любви барина и крестьянки дублировался сюжетом графини, у которой Ивлев останавливается по дороге в Хвощинское. В окончательной редакции биография графини, «дочери станового, женившей на себе мальчишку-графа», исчезла[150]. Сокращению была подвергнута и биография сына Хвощинского: в начальной редакции у Хвощинского-младшего были дети, что укрепляло тему незаконной любовной связи[151]. Два боковых сюжета были усечены Буниным, и это выделило и возвысило главных героев, ослабив связь с ними периферийных персонажей. Подчеркнутой оказалась лишь связь Лушки и Хвощинского с Ивлевым – лицом, оживляющим уже полузабытый сюжет.
Сила опосредованного восприятия видна во многих фрагментах рассказа. К. В. Анисимов подчеркивает, что портреты отсутствующих героев – Хвощинского и Лушки легко восстанавливаются по портрету их сына («молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанный широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо» – 4; 302): «романтическая чернота, очевидно, унаследована от аристократа-отца, а странные на лице брюнета “простонародные” веснушки, по всей вероятности, – от матери»[152]. Добавим от себя, что «рябое» лицо сына и его матери еще раз всплывает при взгляде Ивлева на бусы Лушки, а потом внешние черты претворяются во внутреннее чувство, интериоризуются, переходя к наблюдателю-Ивлеву:
И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизку дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения (4; 305) (курсив наш. – Е. К.).
Рябь («зарябило в глазах», «от веснушек пестро») как бы мешает лицу Лушки совершенно открыться, ее живой облик манит за собой и одновременно ускользает от наблюдения. Именно такими деталями достигается эффект присутствия главных героев, оставленных в прошлом, за кадром повествования, а интериоризация в описаниях преобразует время, делает его гибким, возвращая в итоге утраченное, умершее, забытое как нечеткий, но живой образ. Главное звено в процессе возвращения утраченного – Ивлев, он хочет овладеть чужой памятью и любовью, забрать ее с собой из гибнущего поместья, но он не в силах сделать этого, поскольку память неуловима, несловесна и в то же время осязаема, ощутимо-неотступна.
Наиболее интересной для большинства исследователей «Грамматики любви» была последняя часть рассказа, описывающая библиотеку Хвощинского и самую дорогую в ней книгу, давшую окончательное название рассказу. Описание библиотеки чаще всего рассматривается как набор концептов, ключ к характеру героев или к ведущей авторской интенции. Но нам бы хотелось подойти к этой теме иначе, увидев в заглавиях особый стилистический прием, «форму перечислительного присоединения», организованную по лирическим законам[153]. Все вместе заглавия образуют поэтически окрашенный словесный ряд, порождающий обширное поле литературных ассоциаций («“Заклятое урочище”… “Утренняя звезда и ночные демоны”… “Размышления о таинствах мироздания”… “Чудесное путешествие в волшебный край”… “Новейший сонник”» – 4; 304), а каждое из них по отдельности могло бы быть примерено, пусть даже и пародийно, в качестве альтернативного заглавия для «Грамматики любви».
Перечень книг, составляющих библиотеку, дает выход иной стилистике, украшающей основной план текста. В данном случае книжный ряд «состаривает» и героя, и историю его любви, придавая ей колорит древности, поскольку все заглавия отличаются устаревшим аллегоризмом или архаикой. Кажется, что не только Лушка, но и почивший «нынешней зимой» (4; 299) Хвощинский «жили чуть ли не во времена незапамятные» (4; 302). Наряду с другими приемами, книжный перечень обеспечивает темпоральную пластику рассказа, углубляя его в далекое прошлое, которое парадоксальным образом позволяет в нарративном настоящем почувствовать присутствие возлюбленных, не так давно покинувших этот мир.
Именно старинная библиотека с сонниками, гадательными книгами, готическими романами, сборниками сентенций и т. п. вполне традиционна[154], в том же «Бригадире» Тургенева описания библиотеки нет, но оно будто бы намечено и напоминает чем-то библиотеку Хвощинского:
– …от старого барина остались книжки; я их, буде угодно, принесу; только вы их читать не станете, так полагать надо.
– Почему?
– Книжки-то пустые; не для теперяшних господ писаны.
– Ты их читал?
– Не читал, не стал бы говорить. Сонник, например… это что ж за книга? Ну, есть другие… только вы их тоже не станете читать[155].
Бунин подхватывает классическую тему, развивая и укрупняя ее. Перечню книжных заглавий аккомпанирует «язык цветов» из «Грамматики любви», библиотека Хвощинского и другие библиотеки Бунина – это перечни перечней, почти стихотворные ряды номинаций, то пересекающихся, то разбегающихся в разные стороны:
Дикий мак – печаль. Вересклед – твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница – сладостные воспоминания. Печальный гераний – меланхолия. Полынь – горестная вечность (4; 306).
Среди растений преобладают траурные, элегические, они и в фамилии Хвощинского пробуждают ассоциацию с ядовитым растением, способным одурманивать[156].
Проходя в сознании Ивлева стройным рядом, перечень книг Хвощинского завершается цитатой из «Последней смерти» Боратынского:
А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой каморке и еще так недавно ушла из нее 〈…〉 Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, – вспомнил Ивлев стихи Боратынского, – есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, – меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье» (4; 304).
Книжный список кажется стихами, а стихи Боратынского прозой, «отрезвляющим» выходом из мира библиотечных грез, их завершающей точкой. «Поэтизации» книжного списка способствует его мерное ритмическое следование от заглавию к заглавию, каждое из которых отделено от предыдущего многоточием. Стихи Боратынского, напротив, цитируются с игнорированием разбивки на строки – как проза, более того, цитата из «Последней смерти» в середине прерывается напоминанием о прямой речи Ивлева, как бы запинкой, повтором («Есть бытие… есть бытие…»). Ведущая тема «Последней смерти» Боратынского – Апокалипсис[157], и в тексте Бунина этой апокалиптической точкой завершается томная поэзия прошлого, поскольку за Боратынским стоит совершенно иная, чем заглавия книг Хвощинского, стилистика, иной способ выражения, не чуждый аллегоризму, но аллегоризму сложному и живописному. Инверсия стиха и прозы вторит сюжету рассказа, меняющего местами высокое и низкое, утонченное и простое, народное и дворянское. Промежуточное состояние, о котором говорится в стихотворении Боратынского – «ни сон оно, ни бденье; / Меж них оно», заставляет думать не только о характере Хвощинского (как это делает Ивлев), но и о множестве промежуточных состояний, которые должен переживать визионер (а с ним и читатель), приближаясь вплотную к некогда случившейся истории. Сюжет дается в колебании разных впечатлений: от преизбытка жизни и чувства до смертельного опустошения.
А. Блюмом было установлено, что книжечка «Грамматика любви», описанная в рассказе, имела реальный прототип – изданную в Москве в 1931 г. «Грамматику любви» «господина Мольера», перевод французской книги «Code de l’amour» Ипполита Жюля Демольера[158]. Она-то и была подарена Бунину Н. Пушешниковым. Несмотря на убедительный прототип, книга Хвощинского кажется условно-вымышленной, поскольку принадлежит массовой литературе, растиражировавшей к XVIII–XIX вв. правила «Науки любви» Овидия, сентенции из трактата «О любви» Андрея Капеллана[159] и пр. книжные «лекарства» от любви и для любви. Среди русских подтекстов книги Хвощинского, несомненно, подразумевается Буниным и «Езда в остров любви» К. Тредиаковского. Таким образом, «одна очень маленькая книжечка» – «Грамматика любви» – оборачивается целой библиотекой, стоящей всего, что хранится в книжных шкафах Хвощинского, и превосходящих все это. Неслучайно А. К. Жолковский с иронией предполагает, что и в «Легком дыхании» Оля Мещерская читала ту же самую книгу с тем же самым длинным перечнем на тему женской красоты[160]:
– Я в одной папиной книге, – у него много странных, смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины… Там понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенного, маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть? (4; 360).
Вполне реальная книга представляется условной еще и потому, что Бунин вставил в нее стихотворение Хвощинского, стилизовав его под XVIII в. Очевидно, писатель придавал большое значение этому тексту, поскольку он претерпел самую существенную правку по сравнению с первым изданием рассказа в альманахе «Клич» 1915 г., где стихотворение выглядело так:
Обречены с тобой мы оба На грусть в сем мире лжи и зла! Моя любовь была до гроба, Она со мною умерла. Но ей сердца любивших скажут: «В преданьях сладостных живи!» И правнукам своим покажут Сию Грамматику Любви (4; 483).Стихотворение, как и заглавия книг из библиотеки Хвощинского, перенасыщено поэтическими аллегориями и штампами, вплоть до самых избитых: «обречены мы оба», «в мире лжи и зла», «любовь до гроба», «любовь со мною умерла», «сердца скажут». Бунин стилизует несовершенное, «любительское» письмо в архаическом ключе с избыточными повторами («в сем мире» – «сию грамматику») и бедными или избитыми рифмами: «скажут» – «покажут», «оба» – «до гроба». Однако можно заметить, что под видом примитивности в тексте сделан сложный логический ход. Если попробовать в порядке пересказа сформулировать смысл этих поэтических строф, то получится: любовь умерла (как и «мы», «любившие»), но наши сердца (сердца «любивших») скажут любви: «Живи!», тем самым оживляя ее. В этом, первоначальном, виде стихотворение может быть понято как поэтическая квинтэссенция фабульной линии рассказа, как лирический выклад, приложенный к рассказу о Лушке и Хвощинском: герои умерли, но их любовь вдохновляет живущих.
В процессе отделки Бунин чрезвычайно усложняет логико-аллегорическое плетение стиха[161]. Главная пружина этого, первоначального, текста – мена лиц, и за ней стоит не XVIII в., а хорошее владение местоименной палитрой Жуковского. В первой строфе сосредоточены три местоимения, соотносимые с первым лицом («мы», «моя», «мною»), во второй строфе местоимения пропадают, вместо «мы» и «я» появляются «любившие», потому что между первой и второй строфой проходит граница жизни и смерти. «Мы» – это и есть «любившие», но в же время «мы» не равно́ «любившим», как не равны душа и тело, поскольку эти «мы» умерли, исчезли, преобразились, перешли из первого в абстрактное и обобщенное третье лицо. Примеров подобных местоименных коллизий в прозе Бунина множество, а самые ранние лирические образчики подобной игры можно видеть в «Сельском кладбище», где, напротив, «они» – безмолвно лежащие в могиле мертвецы вдруг преображаются в «мы», в «нас», обретают дар речи[162]. Одним словом, стихотворение двойственно, его сочиняют как бы два человека – неловко обращающийся с поэтическим языком Хвощинский и автор, придающий простодушным и эпигонским стихам подспудные поэтические изыски. Добавим к этому, что вторая строфа превосходит по качеству первую: забыв о героях, она подводит итог, риторически завершает текст.
Позже Бунин убрал первую строфу (а вместе с ней исчез переход от живых голосов к потусторонним в духе Жуковского), кроме того, было изменено несколько слов в последней строфе:
Тебе сердца любивших скажут: «В преданьях сладостных живи!» И внукам, правнукам покажут Сию Грамматику Любви.Без первой части стихотворение стало выше по уровню поэтической техники, потеряло жесткую связь с конкретной историей его «автора» – Хвощинского и приобрело неопределенность, сохранив свою финитную, итоговую силу, тем более, что финал стихотворения Хвощинского – это и есть финал рассказа Бунина, который становится эпитафией повествованию и героям, чистым голосом с того света, «afterthought», по выражению А. К. Жолковского[163]. С переменами в третьей строке, как кажется, все понятно: вместо «правнукам своим» Бунин ставит полиптотон «внукам, правнукам», довольно беспомощно (здесь надо помнить, что текст написан от лица Хвощинского) имитирующий смену поколений. А вот в первом стихе потребовалось сделать небольшие, но очень серьезные перемены. Слово «ей» (в первом варианте имелась в виду любовь, названная в первой строфе) надо было заменить, поскольку вместе с первой строфой исчезла и тема любви. Бунин убирает союз «но» и местоимение женского рода, после чего в начале стихотворения появляется «тебе», риторическое обобщенное и обращенное к собеседнику (как у Тютчева: «Ты скажешь: ветреная Геба…»). Адресат этого обращения не определен, он напоминает «прохожего» из классических эпитафий, этот «ты» и есть кто-то типа Ивлева, своего рода «прохожего», «дорожного персонажа», он и находит взывающий к нему текст, завладевая им[164]. И нет уже никакой конкретной истории, которая могла бы занимать близких родственников и соседей (история любви героев выпущена вместе с первым четверостишием), а есть притча, вернее, «экстатическое житие» (4; 304), по словам Бунина, растворенное, как дыхание Оли Мещерской, в мире, внятное не непосредственным свидетелям, а какому-то далекому «ты», какому-то любому «некто».
В первом варианте стихотворение выглядело ровной архаизированной стилизацией, в окончательном виде оно теряет стилистическую целостность. Более того, практически каждый стих может быть прочитан как отдельный, в своем ключе. «Тебе сердца любивших скажут» отсылает к стилистике XVIII в.: риторическое обращение, адъективированное причастие, под маской которого неловко спрятан лирический герой, «сердца скажут», – все это позволяет думать о сентиментализме или пародии на него. Следующая строка словом «сладостный» («сладостные преданья») отсылает к романтической лирике XIX в., к Жуковскому и Батюшкову, разработавшим периферийные поля лексических значений «сладостных» слов[165]. И, наконец, «грамматика любви» в последнем стихе несет на себе неотразимую печать модерна, несмотря на реальный прообраз «Грамматики любви» Демольера. Дело в том, что в переводном названии книги Демольера чувствуется некоторая неорганичность, окказиональность для русского XVIII – начала XIX вв., переводчик не точно, а вольно перевел «Code de l’amour»: точнее было бы перевести «правила любви», поскольку буквально «грамматика любви» – это «La grammaire de l’amour»[166]. Зато в бунинское время метафора «грамматика любви» звучит вполне в духе других модернистских метафор на темы грамматики таких «неграмматических» явлений, как любовь и поэзия[167].
Таким образом, все четверостишие, как и входящее в него словосочетание «внукам, правнукам», будто бы «перебирает» временны́е пласты, за которыми стоят разные века, стили, поэтики, небольшой стихотворный текст аккумулирует в себе поэтическую грамматику всего рассказа с его временной множественностью. Фигура Ивлева позволяет усилить эффект временно́го дробления: будучи сторонним наблюдателем, который узнает и описывает историю, он все-таки вовлечен в круг вымышленных персонажей (как, к примеру, автор в «Онегине») и служит медиатором между автором и персонажами, «расслаивая» авторское и персонажное поля во времени. Даже по возрасту Ивлев служит медиирующим звеном между ушедшим в небытие поколением Хвощинского и поколением его сына: Хвощинский-младший кажется Ивлеву совсем юным («молодой человек в серой гимназической блузе 〈…〉 густо покраснев» – 4; 302); а любовь Лушки и Хвощинского отнесена по времени к ранней юности самого Ивлева. Ивлевское «путешествие в волшебный край» воспринимается как путешествие в искривленном времени, представляющем собой то возвращающееся назад, то бегущее вперед пространство. Да и сам текст похож на дорогу, по которой едет Ивлев:
…дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах 〈…〉 Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд – глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста (4; 301).
Кажется, что такая дорога никуда не ведет, но именно она приводит к истории, уже почти позабытой (или вообще никогда не случавшейся[168]), которая благодаря Ивлеву – медиатору между автором и героями – извлекается из имперсональных глубин.
Автоперсонаж и онейрическое пространство! «Зимний сон»
Теперь рассмотрим второй «ивлевский текст» – «Зимний сон», уже почти исчерпывающе проанализированный М. С. Штерн[169]. Попытаемся еще раз внимательно вглядеться в героя этого рассказа, про которого мы узнаём лишь то, что он возвращается домой по зимней улице, проходит мимо школы, видит учительницу («На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него» – 5; 19), а дома ложится на тахту в кабинете, недолго любуется пейзажем за окном и незаметно для себя и для читателя засыпает. Все остальное содержание рассказа – запись сбивчивого сна героя. Это не слишком похоже на «Грамматику любви»: там действие укладывалось в один летний день, здесь тоже один день – но зимний, там Ивлев старается проникнуть в чужую судьбу, в чужие грезы, а здесь ему снится свой собственный сон.
Интересно, что в самом начале несколько парадоксально Буниным выбрана точка включения в текст пейзажа. Когда Ивлев идет по улице, кроме учительницы, читатель ничего не видит, хотя именно здесь, пока Ивлев вне дома, можно было бы ожидать подробного описания зимних картин. Однако светлое, зимнее переживание героя улавливаются лишь в яркой одежде учительницы: «На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха» (5; 19), и только когда Ивлев уже вошел в дом и прилег, то наступает, наконец, тот момент, когда открывается вся зимняя панорама:
Потом он лежал у себя в кабинете на тахте.
На дворе, при ярком солнце и высоких сияющих облаках, играла поземка.
В окнах зала солнце горячо грело блестящие стекла.
Холодно и скучно синело только в кабинете – окна его выходили на север.
Зато за окнами был сад, освещенный солнцем в упор.
И он лежал, облокотившись на истертую сафьяновую подушку, и смотрел на дымящиеся сугробы и на редкие перепутанные сучья, красновато черневшие против солнца на чистом небе сильного василькового цвета.
По сугробам и зеленым елкам, торчавшим из сугробов, густо несло золотистой пылью (5; 19).
Этот пейзаж за окнами северной комнаты поражает своими солнечными красками («при ярком солнце», «солнце горячо грело», «на чистом небе сильного василькового цвета»), созвучными синеве, белизне в одежде учительницы, стоявшей на улице. Для пейзажа выбран расширенный фокус, из густой полутени северной комнаты распахивающийся навстречу залитому солнцем снежному простору. Такой фокус заставляет немного «оторваться» от героя, с которым неразрывно связано повествование, и представить картину гораздо более объемную, чем это допускают «блестящие стекла» кабинета. Кажется, что Ивлев только прилег на тахту и еще не спит, но пространство вокруг него уже онейрически раздвигается, захватывая области, превышающие в масштабе и красках правдоподобные картины. Сон, овладевающий Ивлевым, расширяет границы вокруг его чувствующего и воспринимающего «я», как бы ослабляя «субъектную» сосредоточенность героя в самом себе, позволяя Ивлеву приблизиться к обширности мира, преодолеть отчужденность мира от «я». Ссылаясь на А. В. Разину[170], М. С. Штерн обращает внимание на связь между окном и экраном, сон «видится» Ивлеву как кинофильм, а Ивлев становится лишь «глазком» в открывающийся мир, неощутимым, но обязательным «передаточным звеном» на пути к светящемся картинам. М. С. Штерн отмечает, что повествование ведется одновременно «изнутри я», но грамматически от третьего лица:
«Некто» повествует о приключениях Ивлева; этот некто не совпадает с героем и не отделяется от него. Этот субъект вместе с героем находится в рамках фантасмагорической реальности сновидения. В результате художественный мир 〈…〉 дан в непосредственном представлении, в движении, в единстве зрительных, звуковых, ритмических образов[171].
Трудно сказать, когда Ивлев полностью отрывается от яви и погружается в область сновидений. Четкой границы сна в рассказе не проведено, весь текст смонтирован из различных кусочков, в которых, как в калейдоскопе, мелькают герои (сам Ивлев, Вукол, сын Вукола, учительница), пространства (дом Ивлева, зимняя дорога, Вуколова изба, Гренландия), звучат реплики, сопровождающиеся сбивчивыми размышлениями сновидца-Ивлева. Почти каждое предложение начинает новый абзац, отчего рассказ обретает графическую стройность, чем-то напоминающую стихи:
Каждый его (текста. – Е. К.) компонент обособлен, графически отграничен от остальных, замкнут и закончен. Смена компонентов дает смену ракурсов, точек зрения – этим и обусловлена динамика «повествования» (изображения) при дискретности, бессвязности, незаконченности событийного развития. Следует отметить и постоянное чередование «панорамных кадров» и «крупных планов»[172].
Несмотря на почти стихотворные паузы между синтагмами, ритмичность и звукопись отдельных предложений, рассказ не становится стихотворением в прозе. Для стихотворного текста характерна некоторая нивелировка пространства, его условность. У Бунина внешняя обстановка не нивелируется, а, напротив, располагает к тому, чтобы вникнуть в нее, задержаться в каждом из описанных уголков. Все бунинские дома, усадьбы, аллеи уютны, тенисты, детальность интерьеров и пейзажей мешает тому, чтобы воспринимать текст как отточенную стихотворную структуру. Говорить здесь приходится о лиризме прозаического текста, проявляющемся в том, как прихотливо, по законам поэтической вязи пространства сменяют друг друга, соприкасаются и стыкуются между собой, будучи «пропущены» через сознание героя.
На смену сверкающему в предсонье пейзажу приходит история Вукола, которую, вероятнее всего, Ивлев видит во сне от начала до конца. Еле заметная граница сна в рассказе все-таки намечена деепричастием «глядя»:
И он, глядя, напряженно думал:
– Где же, однако, с учительницей встретиться. Разве поехать к Вуколовой избе.
И тотчас же в саду, в снежной пыли показался большой человек, шедший по аллее, утопая в снегу по пояс: седая борода развевается по ветру, на голове, на длинных прямых волосах, истертая шапка, на ногах валенки, на теле одна ветхая розовая рубаха (5; 20).
Это все тот же взгляд в окна кабинета на зимний сад, но на пейзаж наложены краски раздумий, мечтаний, так что неясно: в саду ли за окном, в мечтах ли «тотчас же» является человек, исполинской внешностью и старинным именем своим, Вукол, подсказывающий балладно-сказочную тему[173]. Чуть позже в тексте скользнет сравнение Вукола с медведем («по-медвежьи держал палку в посиневших руках»), а атмосфера «страха» будет сопутствовать балладно-сказочному герою еще до того, как наступит разрешение сюжета: гибель Вукола от руки собственного сына («Ах, – подумал Ивлев с радостью, – непременно случилось что-нибудь ужасное!», «он был страшен и жалок», и только позже: «И сын так крепко стукнул его костылем в темя, что он мгновенно отдал Богу душу» – 5; 20). По законам сна в душе Ивлева «ужасное» переживается раньше, чем оно свершилось, более того, ужас смешивается с радостью. Само же убийство как будто расплывается по всему отрывку о Вуколе: сначала старик по сугробам, с палкой в руках приходит к Ивлеву за щепоточкой «чайку», а вернувшись домой, получает от сына удар костылем в темя. Палка в посиневших руках Вукола и разящий костыль в руках сына, разделенные в тексте всего несколькими предложениями, причудливо перекликаются между собой, заставляют убийцу и его жертву зеркально отражаться друг в друге. Вукол и его сын теряют четкость контуров, сюжет отцеубийства тонет в какой-то дымке («Изба была вся голубая от дыму»), дрожащей в сонном сознании Ивлева.
В «подплывающем» событийном рисунке «Зимнего сна» угадывается, однако, один из характерных для Бунина сюжетов на тему русской жизни, который в других, более ранних рассказах, прописан многократно и четко – сюжет разорения и пропада, гибели родного дома:
Это был Вукол, разорившийся богач, живший в одинокой полевой избе с пьяницей-сыном.
И Вукол стоял в прихожей, плакал и жаловался, что сын бьет его, с размаху кланялся горничным и просил чайку – хоть щепоточку.
〈…〉
И видно было, что его самого трогает… то, что он когда-то каждый день пил чай и привык к нему.
〈…〉
Воротясь в поле, в свою ледяную избу, Вукол, пользуясь отсутствием сына, вытащил из-под лавки позеленевший самовар, набил его ледяшками, намерзшими в кадке, наколол щепок, жарко запалил их, окунув сначала в конопляное масло. И скоро, под дырявой, проржавевшей трубой, самовар буйно загудел, заполыхал, и старик, все подогревая его, уселся пить (5; 20).
«Зимний сон» – это одна из «дворянских элегий», написанных в том же ключе, что и рассказы «В поле», «Антоновские яблоки», «Золотое дно», «Грамматика любви», «Несрочная весна», «Последнее свидание» и мн. др. На периферии элегий нередко оказываются сюжеты разорения, гибели имения, нищеты и смерти хозяев дома. Эти сюжеты у Бунина имеют не только «дворянский», но и «крестьянский» изводы: зачастую бунинский герой, выйдя из народа, неся в своем родовом прошлом опыт крепостной неволи, неимоверными усилиями сколачивает небольшое состояние, обретает независимость, но затем оказывается, что он не хочет и не может удерживать в своих руках обретенное. Сберечь и приумножить достигнутое не в силах и наследники: их либо нет вообще (как у Тихона Ильича в «Деревне»), либо они со страстью проматывают родительское состояние, при этом ненавидя родителей («Я все молчу»), либо родителям приходится платить за свое благополучие детьми («Хорошая жизнь»). В «Зимнем сне» сильнейшее напряжение между разорившимся отцом и его обездоленным сыном находит крайнее разрешение: сын убивает отца, и отцеубийство символизирует как общее разорение России, так и кровавый переворот, совершающийся в стране[174]. «Зимний сон» – это последний рассказ Бунина, напечатанный в 1918 г. в Москве накануне отъезда писателя в Одессу. Что предвещает предстоящий отъезд Бунина – еще никому, в том числе и самому писателю, не известно (окончательное решение об эмиграции было принято И. А. Буниным и В. Н. Буниной позже), но рассказ как бы аккумулирует в себе страшные предчувствия собственной, еще только решающейся, судьбы, и, конечно, решающейся судьбы России. В том же году в одном из своих писем к А. Б. Дерману, написанном уже из Одессы, Бунин, одержимый волнением за родных, в особенности за брата Юлия Алексеевича Бунина, рассказывает о своих снах этого времени: «Тяжкие сны и нас с Верой одолевают. Все родные, близкие снятся – измучена душа донельзя!»[175].
Однако трагическая тема не развернута в «Зимнем сне» последовательно, а лишь фрагментарно намечена и восстанавливается в общих чертах на фоне других текстов Бунина, а также из исторического и биографического контекста его творчества, и составляет только один из многих семантических сегментов рассказа. Этот сегмент, описывающий судьбу разорившегося богача Вукола, подобно сну Ивлева, не имеет четких границ, он не заканчивается на фразе «мгновенно отдал Богу душу», а вмещается и в пейзажный пласт рассказа, и в его эротическую линию со свиданием Ивлева и учительницы. Не покидая своего теплого кабинета, Ивлев как будто проникает в ледяную избу, видит аккуратные и радостные приготовления Вукола к последнему чаепитию и обретает необъяснимую с точки зрения логики связь с этим человеком и его смертью. С другой стороны, смерть Вукола описана так, что лицо, чувства Ивлева, его возможное присутствие полностью скрыто, субъектность преодолена настолько, что заставляет вообще забыть о сновидце, который, будучи «всевидящим оком», совершенно не способен вмешаться в трагический ход событий, свершающихся не по его воле и без его участия.
Остается неуловимой семантика наречия «тогда», которое, тоже вопреки всем законам логики, следует сразу за убийством, происходящим где-то в отдалении от сновидца-рассказчика и имеющего совершенно независимые от него причины. Смерть Вукола почему-то освобождает не убийцу, а Ивлева, которому дается возможность исполнить мечту о встрече с учительницей:
…он мгновенно отдал Богу душу.
Тогда Ивлев велел запрячь в бегунки молодую, горячую лошадь.
Был розовый морозный вечер, и он оделся особенно тепло и ладно, вышел, сел, и санки понесли его по выгону к школе.
На крыльцо тотчас вышла весь день поджидавшая его учительница (5; 20).
В следующей части «Зимнего сна» Ивлев вместе с учительницей мчится в санях ко гробу мертвеца, а затем герои вдвоем продолжают свой путь… в Гренландию. Здесь еще больше усиливаются и уплотняются балладные мотивы[176]. Как известно, не только кровное, но и поэтическое родство с В. А. Жуковским переживал Бунин[177], и балладные сюжеты и акценты свойственны многим его прозаическим фрагментам. Поездка Ивлева и учительницы в избу мертвеца-Вукола и дальнейший путь в Гренландию вбирает в себя балладный страх пути в неведомый мир. Классическая литературная баллада, следы которой повсюду обнаруживаются в прозе Бунина, обладает целой гаммой эмоций, свойственных только этому жанру, и каждая балладная эмоция столь сильна, что как бы отделяется, существует независимо от сюжета. Таков, к примеру, «балладный страх». Сильнейшим потенциалом в балладе обладает также мотив соединения возлюбленных, традиционно разлученных войной, родовой враждой, смертью одного из героев, но в прозу Бунина балладные мотивы включены не прямо, они всегда сильно растушеваны. Так, по сюжету «Зимнего сна» учительница и Ивлев просто отдалены друг от друга, между ними нет любви, может быть, они даже не знакомы, но балладный антураж сна сам по себе способен индуцировать любовь между героями, которая сильнее, чем страхом разлуки, обогащена упоением несбывшегося (не сбывшаяся, а только возможная любовь, не успевшая еще «расцвести», воплотиться, входит в число самых плодотворных бунинских тем). Таким образом, над любовью Ивлева и учительницы смерть витает ничуть не меньше, чем над Вуколом: не сами герои, а их любовь поставлена перед лицом небытия.
Балладные страх разлуки и жажда воссоединения героев возвышаются над событийной канвой, захватившая героев эмоция сильнее события, она нивелирует, делает совершенно неважным реальное знакомство/незнакомство героев. Жажда воссоединения, магическое притяжение героев существует самостоятельно и отдельно, обгоняет реальные события, точно так же, как «ужас» обгоняет в повествовании смерть Вукола. Сон будто бы «ощупывает границы реальности» и переступает за их пределы, изображенный в рассказе сон – это сон, от которого Ивлев не может отделаться и которым не может управлять. И хотя все нити повествования проходят через онейрическое восприятие героя, он не может «дергать» за эти нити, управляемые другими и куда более мощными силам, чем пассивное «я» героя.
Семантическим центром путешествия влюбленных героев является посещение избы с гробом Вукола, изба названа «мрачной и страшной берлогой», и это сравнение возвращает уже однажды появившийся в тексте образ Вукола-медведя. В медвежье обличие вмещена семантика животного, внерационального, страшного и страстного, одинаково присущая любви и смерти. Чтобы продолжить этот ряд, можно вспомнить гораздо более поздний рассказ Бунина, «Железная шерсть», где, как и в «Зимнем сне», медведь служит воплощением бессознательного инстинкта, обнимающего все живое, гибельное и чистое. В другом тексте, «Балладе» из «Темных аллей», те же силы персонифицированы в образе «Господнего волка». Все три истории обладают сказочно-балладной аурой и заставляют учитывать при их анализе особенности балладного жанра. Баллада претендует на роль «последнего жанра средневековья» и одного из самых первых жанров нового времени; она хранит в себе следы преодоления синкретизма: «С лиричностью связывается в балладе и мифическая и страшная атмосфера… Это наводит на мысль, что мы имеем дело со страхом человека нового времени перед собственной субъективностью»[178].
Синкретизм и его преодоление отзывается в тексте Бунина тем, что, читая «Зимний сон», хочется мысленно положить границу между сном и явью, сознанием и бессознательным, субъектом и миром, даже между героями и идущими от них интенциями, но это невозможно. К примеру, когда Ивлев видит учительницу на крыльце, то не только он переживает ее присутствие, но и она живо заинтересована им: «На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него» (5; 19). От пристального взгляда учительницы у читателя возникает такое чувство, будто бы сон Ивлева исполняет не только его, Ивлева, тайные желания («Где же, однако, с учительницей встретиться»), но и желания учительницы. Во сне не он, а именно она подталкивает все события, организует их ход («– Не бойся! – с бесовской радостью шепнула учительница» – 5; 21), манит за собой, то отстраняя, то приближая Ивлева, чтобы в финале они вместе, крепко прижавшись друг к другу, мчались в Гренландию. Появление обоих героев ивлевского сна, Вукола и учительницы, сопровождается словом «тотчас»: «И тотчас же в саду, в снежной пыли показался большой человек»; «На крыльцо тотчас вышла весь день прождавшая его учительница». Создается впечатление, что и Вукол, и учительница появляются будто бы сами по себе, независимо от Ивлева, как меняющиеся картины его сознания; но, явившись, они оживают, становятся близки и сопричастны Ивлеву, неотторжимы от него.
Итак, сон может переживаться только изнутри «я» сновидца, но в рассказе он записан не в первом, а в третьем лице. Более того – сновидец называется только по фамилии: «сказал Ивлев», «Ивлев велел», «Ивлев оглянулся». Отсутствие имени «Ивлева» и хоть каких-то подробностей его жизни, казалось бы, должно способствовать отдалению героя от читателя, между тем это, напротив, позволяет сосредоточить внимание на внутреннем «я» героя и его положении в мире. «Ивлев» перестает быть просто фамилией, а становится какой-то магической точкой, через которую читатель погружается в глубины невидимого, «невысказываемого» наяву. И фамилия «Ивлев» перестает быть обозначением некоего отчужденного третьего лица, она приближается к авторскому «я», почти сливается с ним, все больше и больше заставляет чувствовать в «Ивлеве» анаграммированное имя автора. Погружение героя в сон настолько глубоко, что кажется фиксацией какого-то особого состояния авторского «я», неповторимого, быстропроходящего, такого, которое, как сон, нельзя даже сохранить, а можно лишь попытаться вспомнить и записать с определенной уже долей отчужденности. «Я» героя сконструировано в прозе Бунина по лирической модели: оно собирает в себе разные состояния (сон, мечта, безумие)[179], имеет разные ипостаси, вплоть до отчужденных (захваченность прошлым, бессознательным, родовым, инстинктивным).
Чувствующее, вспоминающее «я» персонажа у Бунина едино, но неоднородно, «расщеплено», расслаивается в своих различных форматах. Знаком расщепленности может служить описание учительницы, которое повторяется в трехстраничном тексте дважды, почти не меняясь (второй раз на ней та же самая «синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха» (5; 20–21)). Удвоенный портрет учительницы соответствует двум состояниям ивлевского «я»: во сне и вне его. «Расщепленность» поэтического «я», дистанция между внутренним, интимным и поэтическим «я» уже становилась предметом исследования, когда речь шла, к примеру, о Пушкине. Так, М. Н. Виролайнен пишет о пушкинской «способности к отчуждению собственного “Я”, к превращению его в “не-Я”»[180], при этом излюбленные пушкинские образы – Муза, чернильница, лира трактуются как знаки пушкинского «Я», его «собственной творческой активности, но активности гипостазированной, отчужденной, дистанциированной»[181]. Пушкин у М. Н. Виролайнен выступает наследником классической традиции, сформировавшей строгие культурные эталоны и заставляющей следовать некоему эталонному «я». Несовпадение собственного внутреннего образа с эталонным, и в то же время их нераздельность, теснейшая соотнесенность между собой характерна, по мнению М. Н. Виролайнен, для классических образцов культуры золотого века, но с течением времени это несовпадение все труднее и болезненней переносится личностью, стремящейся к самотождественности[182].
Вероятно, не только те или иные культурные установки и смена художественных парадигм влияют на процессы самопереживания, самопредставления и самоописания. Неоднородное состояние субъекта универсально, и там, где прослеживаются моменты лирической концентрации, начинают проявляться фактурность и динамичность «я». При этом моменты лирической концентрации будто бы оставляют в стороне, попросту игнорируют «ты», поскольку «я» преображается внутри самого себя, превращается не в другое «ты»[183], а в «не-я», в «он», в «некто». На пути преображения «я» важнейшую роль играют все переходные стадии этого процесса, который слишком упрощенно было бы назвать объективацией или, напротив, интериоризацией. Ценна не только метаморфоза «я» – «он», а процессуальное переживание волновой динамики переходов от «я» к «не-я», к «некто» и «он», которое высвечивает разные грани «я» в его отношении к миру. Ю. Н. Чумаков сравнивает лирику с солитоном – «уединенной волной, сохраняющей устойчивую форму среди хаоса морской беспредельности»[184]. Солитон, по мысли ученого, является подходящей метафорой для обозначения лирического сюжета, та же метафорика может быть перенесена и на лирического героя, и на героя лирической прозы, и на автоперсонажа: сохраняя устойчивость «я», такой герой, между тем, образует внутри своего «я» динамический рельеф, согласующийся с миром в его постоянной ритмичной переходности.
Нет ничего удивительного в том, что одни исследователи ставят акценты на субъектной расщепленности, другие, напротив, утверждают единство лирического субъекта. Субъектная фактурность становится явной в континуальных, протяженных состояниях субъекта, там, где невычленимо событие, сбивается нарративная логика. При этом измененные, периферийные состояния субъекта, будучи отдаленными от его волевого, рационального ядра, дают самые яркие соприкосновения «я» и внешнего мира. Сон является одним из главных периферийных, «отдаленных» состояний «я». Для В. В. Бибихина лирическая эмоция и сновидение практически тождественны, что заставляет философа отказаться от термина «лирический герой» и утверждать, что любые «не-я» героя неотторжимы от его «я»: «В лирике поэт на сцене как бы даже не на первом плане. Он страдает. “Гляжу как безумный на черную шаль…”, я гляжу. И немного слишком учено говорить, что сам лирик не убивал армянина. Из-за того, что мы не знаем, в каком слое сна работает лирик, мы не знаем, что он не убивал. Различение поэта и лирического героя мне кажется и ненужным, и вводит интеллигентское расщепление, которого у хорошего поэта нет. – Если лирик и не называет себя, на первом плане все равно: точка его зрения 〈…〉 В лирике я просыпается, становится другим, оно с удивлением видит себя, и это состояние амехании, оно исключает совершенно поступок»[185]. В этой цитате примечателен парадокс: по В. В. Бибихину, в лирике «я» «просыпается» во сне, «в каком-то слое сна».
Вернемся, однако, к финалу рассказа. Несмотря на «балладный ужас» и страшный биографический подтекст, рассказ Бунина не прочитывается однозначно трагически, его общий тон совсем другой. Подобно тому, как в «Светлане» Жуковского ужасный сон только усиливает радостный апофеоз пробуждения, в «Зимнем сне» пейзажи с утренним и вечерним солнцем, зимний путь вдвоем с учительницей затмевает и побеждает страх смерти, страх неизведанного, древнего, инстинктивного. Вернее, этот страх не побеждается, а преображается в упоение, сохраняющее в глубине своей темную тайну и неизвестность, упрятанную в один только топоним «Гренландия». «Гренландия» во сне Ивлева становится чудесным осуществлением едва только мелькнувшей наяву мечты героя встретиться с учительницей, названием не реальной, а вымышленной, сновидческой, поэтической страны, хранящей память о поэзии XIX в., о северных элегиях Пушкина, Вяземского, Боратынского с мотивами снега, солнечного блеска, катаний на лошадях с возлюбленными. Но в то же самое время путь в окованную льдами Гренландию символизирует смерть, неосуществленное, забвенное, небывшее, мертвое.
Светлые и темные фрагменты текста (сверкающий пейзаж/сумрачный кабинет; зимняя дорога/Вуколова изба; смерть, гроб/свидание) не столько меняются в определенном ритме, как это происходит в балладе, но и накладываются, наплывают друг на друга: чем ближе к финалу, тем сильнее. Постепенно сон растворяет в себе все реальные пространственные приметы: дом Ивлева, «берлога» Вукола, деревья оставлены далеко позади, описывается лишь дорога, направление которой отмечено конкретным топонимом, но несовместимость этого топонима с русским контекстом образует загадку, над которой витает неопределенность судьбы автора рассказа, вынужденного как раз в это время навсегда покидать Россию: «И полозья санок, как коньки, засвистали под изволок по мерзлому снегу. Еще тлела далеко впереди сумрачно-алая заря, а сзади уже освещал поле только что поднявшийся светлый стеклянный месяц» (5; 21).
Прозаическая баллада Бунина: «в некотором царстве»
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
О. МандельштамБалладные рефлексы нередко обнаруживаются как в дореволюционном творчестве Бунина, так и в более поздние годы: их можно распознать в сюжете «Суходола»[186], в ранних зимних крестьянских этюдах, в двух текстах «ивлевского» триптиха, а венчается весь этот ряд «Балладой» и «Железной шерстью» из «Темных аллей». Выше мы уже пытались размышлять о «балладности» «Зимнего сна», но в данном случае наше внимание будет сосредоточено на миниатюре «В некотором царстве» (1923), последнем «ивлевском» тексте, представляющем богатую палитру бунинской повествовательной техники 20-х гг.
С романтической балладой, прежде всего, с балладой Жуковского, ассоциативно связана композиция «Некоторого царства». Классические образцы балладного жанра немыслимы без драматизации: сюжетное развитие дается посредством смены отдельных сцен, которые перемежаются рефренами, посылкой в финале, включают в себя диалоги и риторические вопросы. Как череда картин, на которых мелькают северные леса, уединенные дома, лошади и погони, где таинственное смерти соседствует с таинством любви, проходят перед читателем «Зимний сон», «В некотором царстве», «Баллада». Причем в «Зимнем сне» и «В некотором царстве» фабульная связь между картинами минимализируется, сюжетные звенья сочленяются в подвижной комбинаторике, столь интенсивной, что невозможно установить даже приблизительное деление составляющих текста на фронтальные и периферийные. Каждая микродеталь укрупняется, получает множество соотнесенностей с другими, и едва ли не единственным продуктивным ракурсом рассмотрения тогда оказывается микропоэтика, к опыту описания которой мы и прибегнем, а для удобства полностью приведем здесь небольшой текст Бунина, предваряющий серию миниатюр 1930 г.[187]
В некотором царстве
Бумажная лента медленно течет с аппарата возле мерзлого окна станционной комнаты – и буква за буквой читает Ивлев полные чудесного смысла слова:
– Иван Сергеевич женится на Святках на племяннице лошади высланы…
Телеграфист, через плечо которого он читает, странно кричит, что это служебная тайна, что это псковская повесть Пушкина, но Ивлев видит себя уже в дороге в глухой России, глубокой зимой.
Он видит, что вечереет, что к вечеру морозит, говорит себе, что такой снежной зимы никто не запомнит со времен Бориса Годунова. И Годунов дает этому зимнему русскому вечеру, снежным полям и лесам что-то дикое и сумрачное, угрожающее. Но в санях, среди прочих московских покупок к свадьбе и к празднику, лежат удивительные шведские лыжи, купленные племянницей в Москве. И это радует, обещает что-то такое, от чего замирает сердце. И тройка идет уверено и шибко.
Сани ковровые, богатые. Кучер, в шапке под бобер, в свите, подпоясанной ремнем с серебряным набором, сидит в козлах. В задке же сидят две неподвижные и толстые от шуб и шалей женщины: крепкая старуха и ее черноглазая, румяная племянница. Обе, как и всё в санях, засыпаны снежной пылью. Обе пристально смотрят вперед, на спину кучера, на скачущие крупы пристяжных, на мелькающие в комьях снега подковы.
Вот выбрались на шоссе, пристяжные бегут легче, не натягивая постромок. И вдали уже видно жилье, деревня, стоят сосновые угрюмые леса, густые, обмороженные.
Неожиданно старуха говорит громким и твердым голосом:
– Ну, вот, слава богу, и дома. Не чаяла из вашей Москвы выбраться. А тут сразу двадцать лет с плеч долой, не нагляжусь, не нарадуюсь. Завтра же дам знать Ивану Сергеевичу, не хочется больше тянуть с вашей свадьбой. Слышишь?
– Воля ваша, тетя, я на все согласна, – звонко отвечает племянница с притворным веселым простодушием.
А тройка шибко идет уже через деревню, над избами и срубами которой темнеют сосны, посеревшие с морозу. А за деревней, совсем в лесу, видна усадьба: большой снежный двор, большой и низкий деревянный дом. Сумерки, глухо, огней еще не зажигали. И кучер, сдерживая лошадей, широким полукругом подкатывает к крыльцу.
С трудом, белые от снежной пыли, вылезают из саней, поднимаются на ступеньки, входят в просторную и теплую прихожую, уютно устланную попонами, почти совсем темную. Выбегает из задних горниц суетливая старушонка в шерстяных чулках, кланяется, радуется, помогает раздеваться. Раскутывают шали, освобождаются от пахучих снежных шуб. Племянница раздевается чем дальше, тем все живей и веселей, неожиданно оказывается тонкой, гибкой, ловко присаживается на старинный ларь возле окна и быстро снимает городские серые ботинки, показывая ногу до колена, до кружева панталон, и выжидательно глядя черными глазами на тетку, раздевающуюся сильными движениями, но медленно, с тяжелым дыханием.
И вдруг происходит то самое, страшное приближение чего уже давно предчувствовалось: тетка роняет поднятые руки, слабо и сладко вскрикивает – и опускается, опускается на пол. Старушонка подхватывает ее под мышки, но не осиливает тяжести и дико кричит:
– Барышня!
А в окне виден снежный двор, за ним, среди леса, блестящее снежное поле: из-за поля глядит, светит низкий лысый месяц. И нет уже ни старушонки, ни тетки, есть только эта картина в окне и темная прихожая, есть только радостный ужас этой темноты и отсутствия уже всяких преград между Ивлевым и той, что будто бы должна была стать невестой какого-то Ивана Сергеевича, – есть один дивный блеск черных глаз, вдруг вплотную приблизившихся к нему, есть быстрая жуткая мысль, как снимала она на ларе ботинок, и тотчас же вслед за этим то самое блаженство, от которого слабо и сладко вскрикнула тетка, опускаясь в предсмертной истоме на пол…
Весь следующий день Ивлев полон неотступным чувством влюбленности. Тайна того, что произошло в какой-то старинной деревенской усадьбе, стоит за всем, что он делает, думает, говорит, читает. И влюбленность эта во сто крат острее даже всего того, что он когда-либо испытывал в пору самой ранней молодости. И в глубине души он твердо знает, что никакой разум никогда не убедит его, будто нет и не было в мире этой черноглазой племянницы и будто так и не узнает она, каким мучительным и счастливым воспоминанием, их общим воспоминанием, – одержим он весь день.
Приморские Альпы, 12 июля 1923«В некотором царстве» – это многомерная композиция снов. От традиционного сказочного зачина («В некотором царстве, в некотором государстве…») заглавие отсекает вторую, чуть более конкретную часть; вычеркнутое «государство» повышает неопределенность, абстрактность «маленького царства», созданного текстом[188]. Несмотря на то, что мотив сна далеко не всегда сопутствует классическим образцам балладного жанра, в них, как правило, ощущается необычность, «нереальность», «сновидность» происходящего. В известной статье «Два “Лесных царя”» M. Цветаева, сравнивая балладу Гете с переводом Жуковского, подчеркивала, что текст Жуковского передает силу внутреннего чувства, а не события: «Русский Лесной царь – из 〈…〉 страшных детских снов 〈…〉 Вся вещь Жуковского на пороге жизни и сна»[189]. Мотив сна и таинственность описаний каким-то образом сходятся с другим свойством баллады: «баллада, в связи с иллюзией одновременности происходящего и повествования о нем, кажется выдержанной в настоящем времени»[190], а сон становится тем «окном» в другой мир, который позволяет рассказчику баллады открыть в настоящем времени все и сразу. Даже в тех балладах, где мотива сна нет, описания, пейзажи представляют «некоторое» потустороннее «царство», неожиданно выросшее «здесь и сейчас», роскошную мертвенную изнанку живого мира. Читательское наслаждение балладой состоит более в предчувствии развязки, нежели в самой развязке, и предчувствие это навевается загадочными балладными картинами наподобие тех, что есть в «Людмиле» Жуковского: «Хладен, тих, уединенный, / Свежим дерном покровенный…»[191]. Нередко, особенно в 20-е гг., когда переживание гибели России, думается, было особенно острым, Бунин использует для русских пейзажей тревожные краски романтических баллад, романтической и околоромантической литературы XIX в., как в «Несрочной весне», где лес наполнен «бальзамическим теплом нагретой за день хвои» (5; 122), а здесь: «Годунов дает этому зимнему русскому вечеру, снежным полям и лесам что-то дикое и сумрачное, угрожающее». Упоминание драмы Пушкина служит довольно явственным намеком на смутное время, а затекстовый топоним «Приморские Альпы» уже не позволяет ошибиться в том, что герой видит сон о своей уже навсегда безмолвной, погибшей в революционной смуте 1917 г. родине[192]. В 1926 г. для газеты «Возрождение», приуроченной к очередной годовщине со дня рождения Пушкина, Бунин пишет очерк «Думая о Пушкине», куда вмещает свою дореволюционную биографию, а заодно и живописные картины усадебной жизни (не случайно в переработанном виде очерк войдет в «Жизнь Арсеньева»): детство в сказочно красивом имении, поездки в Крым и на Кавказ, чтение классики, старинные библиотеки, первые стихотворные опыты под влиянием Пушкина, неразличение собственного и пушкинского поэтического «я» («Вот зимний вечер, вьюга – и разве “буря мглою небо кроет” звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве?» (9; 457)).
Однако романтический, литературный ореол рассказа «В некотором царстве» очень расплывчат, он тоже подчинен законам сна: трагедия Пушкина неточно названа «повестью», а пара героинь – властная старуха и покорная племянница напоминают не то чтобы «Пиковую даму», но вечный литературный стереотип, переадресовывающий сдерживающую силу традиционного, устойчивого, бесплотного от родителей дальним родственникам: недобрым колдуньям-старухам и мучительницам-теткам; эскиз на ту же тему есть, к примеру, во «Второй балладе» 1930 г. Пастернака:
…Я вижу сон: я взят Обратно в ад, где все в комплоте, И женщин в детстве мучат тети, А в браке дети теребят[193].«Тети», «тетки» служат своего рода ретардацией любви, тем моментом, который отодвигает, но не отменяет ее, даже напротив, обещает ее победу, позволяет «недозволенному чувству» прорываться через все преграды (вспомним, кстати, строгую старуху-горничную в «Тане», не играющую никакой роли в развитии событий, но усиливающую переживания влюбленной героини)[194].
Другой «ретардирующий» герой «Некоторого царства» – «какой-то» «Иван Сергеевич» из телеграммы, где слова, лишенные знаков препинания, сливаются вплоть до абсурдного «племяннице лошади». Текст телеграммы в миниатюре моделирует текст рассказа в целом с его наплывающими друг на друга фрагментами. Телеграмма является «отправной точкой» для героя-сновидца. Анахронизм, сводящий в едином времени Пушкина и телеграф, дает понять, что главный герой, Ивлев, погружен в сон изначально, а не засыпает по ходу повествования. Весь рассказ, с первой фразы – это уже «некоторое царство» сна, беспрестанно открывающего все новые свои качества, меняющего свою глубину. Прочитав телеграмму, сновидец-Ивлев отправляется в путь («Ивлев видит себя уже в дороге»), и, с одной стороны, путь Ивлева – это русская зимняя дорога (в «Грамматике любви» Ивлев тоже путник, на лошади преодолевающий просторы русской провинции), а с другой стороны, – это воображаемая дорога, расстилающаяся в мыслях, мечтах героя, едущего на лошади и везущего с собой свои сны. Надо сказать, что «запоздалый ездок», «некто», направляющийся никуда и ниоткуда, – один из любимых образов автоперсонажа в прозе Бунина (кроме «Грамматики любви» можно назвать здесь «Полуночную зарницу», «Соседа» и мн. др. рассказы).
Нежеланный жених Иван Сергеевич упоминается трижды и кажется досадным препятствием, стоящим на пути Ивлева к племяннице. С самого начала становится ясно, что племянница, «притворно» радующаяся предстоящей свадьбе с Иваном Сергеевичем, будто бы влечет к себе кого-то другого, кем потом, при дальнейшем погружении в рассказ, окажется Ивлев. Смерть тетки убирает или отодвигает нежеланного жениха, теперь свадьба должна быть отложена или не состояться вовсе – судьба племянницы, лишившейся властной тетки, может повернуться как угодно. Но поворачивается не судьба племянницы, не ход событий – поворот делается в повествовании. Крик «Барышня!» обрывает одну картину, и она меняется на совершенно другую, где остается, однако, тот же антураж (темная прихожая) и та же племянница, но из второй сцены изымается тетка, а отстраненный рассказчик, бывший ранее только визионером, становится героем. Между репликой «Барышня» и началом следующего абзаца проходит разлом текста. По кинематографическим законам читатель видит один и тот же эпизод «в прихожей», одну и ту же героиню – племянницу, присевшую на ларь и снимающую ботинок, – дважды, только в первый раз проигрывается сцена смерти, во второй раз – любви, кинолента будто бы перематывается назад (а с мотива перематывающейся бумажной «ленты» рассказ начинается), освобождая место для нового, по-другому развернутого сюжета.
Ход повествования во многом определяется постоянной игрой в реалистические описания. Множество анахронизмов, сбивающих читателя с толку (взять хотя бы то, что вместе с Ивлевым в первых фразах рассказа мы читаем телеграмму, посланную едва ли не с того света, вероятно, ту самую телеграмму, которую только хотела, но не успела отправить тетка[195]), примиряют с алогичностью сна, но в то же время большую часть текста занимает ясное, переполненное осязаемыми деталями описание возвращения тетки и племянницы домой. На фоне моментов сновидческой неопределенности оно лишь обостряет свои «живые», «правдоподобные» черты: усадьбу за деревней, спину кучера, его праздничный наряд и щегольской, в старинных традициях жест, – полукруг перед крыльцом усадьбы. Возвращение тетки и племянницы домой столь зримо, что когда на реплике «Барышня!» картина обрывается, то инерция линейного действия оказывается резко сломленной, заставляя со всей остротой почувствовать, что сюжет, как сон, развивается не последовательно, а в параллельных зонах, причем совершенно разные зоны могут быть вложены в один и тот же пространственный континуум: в данном случае темная прихожая представляет собой место, где одновременно развертывается несколько сюжетов. Это напоминает классические примеры «двоения» пространств, как в «Лесном царе», где приникшие друг к другу отец и сын проживают разные сюжеты, находясь в разных, параллельных сегментах одного и того же пространства. Более того, сновидец-Ивлев, чьи лошади незаметно исчезли, растворились за санями, в которых едут тетка и племянница[196], не просто превращается из наблюдателя в героя, а, будучи рассказчиком, точкой, от которой начинается повествование, выводит в герои сам себя.
Имя «Ивана Сергеевича» примечательно тем, что копирует имя одного из любимых писателей Бунина – Тургенева, а, кроме того, повторяет имя автора рассказа. Собственное имя Бунина «Иван» обыгрывается в его прозе на разные лады, становясь «маркером» русского героя (Иоанн-Рыдалец из одноименного рассказа). Несостоявшаяся свадьба позволяет увидеть в Иване Сергеевиче и его невесте героев несбывшейся судьбы, каковых у Бунина великое множество, даже преобладающее большинство, и среди причин несбывшихся сюжетов не только смерть, но и революция, изгнание, как в «Тане», где последнее свидание героев оборвано финальной отбивкой:
Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни (7; 109).
К сказанному стоит прибавить и то, что сновидец Ивлев тоже в некотором смысле «Иван», поскольку фамилия «Ивлев», как уже несколько раз подчеркивалось, анаграммирует имя и отчество автора рассказа. Таким образом, нежеланный персонаж-препятствие Иван Сергеевич как бы вопреки сюжету ловит на себе отсветы главного героя, придает ему зеркальный объем. Вообще, обычный литературный прием – удвоение персонажей может скрывать за собой разные типы соотношений: от контраста до сложнейших типов соотнесенности. Иван Сергеевич и Ивлев – не «лед и пламень», а какое-то мерцающее двойничество, позволяющее теме сбывшегося/несбывшегося развернуться во всевозможных ее вариантах. Герой-рассказчик в лирической прозе зачастую копирует свойства лирического героя, его мир как бы «наслаивается» на другие миры, захватывает их в свою область, преодолевая тем самым тесные границы своего «я». Ивлев предстает, таким образом, путником, направляющимся к выходу из своего «я», к выходу за собственные пределы.
Смерть тетки, конечно, должна помешать «празднику» и «свадьбе» с Иваном Сергеевичем, но логические причины и следствия отменяются сновидческим текстом. Веселье племянницы по поводу свадьбы с Иваном Сергеевичем – это не только притворное чувство, разыгрываемое для тетки, но и настоящее счастье, повод для которого – не Иван Сергеевич, а «что-то» другое, более абстрактное и неопределенное: «Но в санях, среди прочих московских покупок к свадьбе и празднику, лежат удивительные шведские лыжи, купленные племянницей в Москве. И это радует, обещает что-то такое, от чего замирает сердце». «Свадьба» умножена праздником, рождественские и святочные мотивы обогащают свадебный сюжет, предполагая в нем неожиданную, «чудесную» развязку событий в духе святочных рассказов. «Лыжные», «шведские» коннотаты тоже прибавляют к русской теме какие-то дополнительные оттенки: северная страна, Россия, в поэтическом мире Бунина нередко метонимически подменяется другими холодными краями: в «Неизвестном друге» с Россией имплицитно связывается Ирландия, в «Пингвинах»[197] из Гурзуфа, Бахчисарая и Ялты сон уводит героя в Антарктику, в финале «Зимнего сна» влюбленные мчатся в Гренландию, а здесь «шведские лыжи» продлевают перспективу русской зимней дороги вплоть до чужих берегов Балтийского моря. Стоит вспомнить, что в «Людмиле» Жуковского жених-мертвец увлекает возлюбленную в псевдоготическую «Литву», обернувшуюся кладбищем.
В миниатюрном тексте «Некоторого царства» едва намеченный сюжет имеет сразу несколько развязок, а само повествование, стремясь к финалу, будто бы не достигает его: итоговую точку можно представить, к примеру, там, где умирает тетка и старушонка вскрикивает «Барышня!», а в другом варианте повествование могло бы завершиться многоточием предпоследнего абзаца, и тогда обе кульминации (смерть тетки и свидание) оказались бы равноправными и самостоятельными фрагментами сна. Но в рассказе есть еще один, последний, абзац. «Ступенчатое» завершение имитирует пробуждение героя, наступление дня: «Весь следующий день Ивлев…». Казалось бы, на «следующий день» ночь и мрак должны быть вытеснены светом, однако ни одного слова об изменившемся освещении в последнем абзаце нет, наступивший день не контрастен по отношению к ночи, он проходит в сумраке ночи, так что сон Ивлева будто бы продолжается. Рассказ «В некотором царстве» принадлежит к многочисленным ноктюрнам Бунина, среди которых и «Несрочная весна», и «В ночном море», написанные в том же 1923 г. в Приморских Альпах. «Ноктюрность» повествования напоминает о романтической балладе – жанре, призванном живописать все богатство красок романтической ночи и сна.
Переливающиеся краски ночи, отсутствие в сюжете пробуждения героя (вернее, пробуждение, похожее на продолжение сна) придает тексту «текучесть», иллюзию отсутствия конца. Внутри себя пространство рассказа предельно насыщено недосотворенными сюжетами с множеством героев: телеграфист, Иван Сергеевич, тетка и ее племянница, кучер, выбежавшая из задних горниц суетливая старушонка, Ивлев (7 персонажей на страницу текста!) Все герои имеют разную степень «проявленности»: кого-то можно разглядеть лучше, кого-то хуже. Ивлева мы не видим, поскольку он появляется «изнутри» собственного сознания, мы слышим то «живые» и внятные реплики, то сбивчиво переданную косвенную речь; все герои неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают, а Иван Сергеевич не появляется вообще. В результате создается ощущение, что в рассказе есть еще «кто-то» невидимый, чье присутствие придает лесу, окружающему усадьбу, сценам смерти/свидания необыкновенные черты. Кто «царит» в этом «царстве», кому оно принадлежит? Чье-то таинственное присутствие имеет почти безличный или обобщенно-личный статус, явно проскальзывающий в местоименно-соотносительной конструкции безличной фразы «И вдруг происходит то самое, страшное приближение чего уже давно предчувствовалось», не позволяющей различить субъекта предчувствия. Это «то самое, что предчувствовалось», объединяет всех героев какой-то надличной силой, скрывающей за собой не только смерть тетки, но и ожидаемое свидание, любовь, свадьбу, судьбу[198]. Некоторого уравнивания всех предчувствий Бунин достигает повтором эпитетов «слабый и сладкий», объединяющих предсмертный вскрик тетки и любовную истому племянницы. Отметим кстати, что тетка и племянница тоже в некотором смысле удваивают друг друга, воплощая одну из любимых тем Бунина – тему взаимообратимости смерти и любви. Один на двоих вскрик создает видимость, будто племянница снимает его буквально с уст умирающей тетки. «Оптика» рассказа подобна его звуковому строю: взгляд Ивлева («Он видит…») как бы «перенимают» племянница и тетка («Обе пристально смотрят…»), затем «ви́денье» возвращается то ли Ивлеву, то ли еще большей, «всеведущей» инстанции («А в окне виден…»), а кульминационный момент повествования отмечен фиксацией на «дивном блеске черных глаз» племянницы.
Ступенчатый финал и неуклонно проведенная на всем протяжении текста тема сна превращают «Некоторое царство» в одно «мгновение лирической концентрации»[199]: бесконечный текст начинается в той же точке, где и заканчивается. Эта мысль подсказывается Ю. Н. Чумаковым, описавшим финальный стих «Онегина» – «Итак я жил тогда в Одессе» как «смысловое сгущение», которое приводит в действие «внутренние силы сцепления» романа, заставляя «перекликнуться конец с началом “Онегина”»[200]. Подобный подход возможен не только в отношении «Онегина», но и в отношении любого текста лирической природы, и дело здесь, как нам кажется, не в перекличке мотивов начала и конца, а в том, что правила стихового членения проецируются на область композиции. Финал лирического текста становится, в интерпретации Ю. Н. Чумакова, своего рода композиционным анжамбманом. Бегло поясним эту мысль, вообще-то требующую отдельной разработки.
Как известно, универсальное деление стихотворного текста на равные отрезки актуализирует не одно, а сразу два деления – стиховое и синтаксическое/грамматическое («речевое» – в терминологии Ю. Н. Тынянова), одно деление входит в конфликт с другим: только что установленные границы стиха тут же снимаются границами интонационными, спорят с ними[201], как ритм спорит с метром. Конфликт такого же типа открывает Ю. Н. Чумаков в композиции лирического произведения, говоря о финальном реверсе и о «композиционной множественности»: «Множественность композиционного членения как явление нестабильности текста свидетельствует о “раскачивании” лирическим сюжетом объема и соотносимости компонентов, и это лишний раз указывает на существование композиционного ритма»[202]. Разделенный на части лирический текст уже готов сомкнуться, обнаруживая тесное сцепление всех своих частей и в то же время возможность все новых и новых расхождений между всеми своими звеньями.
Возможно, аналогия между законами стихового и композиционного членения покажется неожиданной, и все же в какой-то мере можно проследить сходство синтаксического и сюжетного движений. Синтаксис влечет фразу вперед, тогда как ограниченная длительность стиха заставляет ее разбиваться на части. Точно так же разбивается сюжет, который стремится линейно развернуться, но композиционное членение прерывает сюжетное, вступает с ним в конфликт, в результате сюжет возвращается в точку своего начала, «скручиваясь», концентрируясь, одним словом, сюжет превращается в лирический сюжет в том понимании, которое предложил для этого термина Ю. Н. Чумаков[203].
Попробуем на нашем примере показать подвижность композиционных границ, проявляющуюся не только в начальной и финальной точках, но и по всему тексту. Мы уже обратили внимание на очевидный разлом текста, пролегающий там, где начинается второй возможный финал сюжета о племяннице: «А в окно виден снежный двор…»[204]. Описание вида из окна, использование мотива окна с целью совмещения, взаимоналожения внешнего и внутреннего пространств – один из любимых приемов Бунина (и среди художников Бунин, конечно, далеко не одинок в любви к этому приему). Мотив окна можно отыскать едва ли не в каждом прозаическом и во многих стихотворных произведениях Бунина, с вольно переведенной цитаты из Мопассана «Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи» (7; 345) начинается «итоговый» рассказ Бунина «Бернар». Иногда кажется, что писатель осознавал едва ли не избыточность этого мотива, во всяком случае, порой он вычеркивал «заоконные» пейзажи и цитаты из черновиков[205]. Сохранилось любопытное свидетельство того, как однажды Бунин сочинил шуточное стихотворение от лица некоего «мы», составленного из лирического «я» и «Бунина»:
Позабывши снег и вьюгу, Я помчался прямо к югу. Здесь ужасно холодно, Целый день мы топим печки, Глядим с Буниным в окно И гуляем как овечки[206].Лирический герой Бунина, глядящий с «Буниным» в окно, – это пародийный прообраз Ивлева, рассказчика, который как бы «в окне» видит себя в своих снах, развернутых на просторах «некоторого царства». Мотив окна создает рамку, выделяет картины воображения и памяти в отдельный мир, который столь убедителен, что, кажется, почти теряет связь с внутренним миром Ивлева, овнешняет его, воплощает до самостоятельного сюжета. И в то же время сюжет оказывается неовнешненным, не открывается полностью. Зачин «А в окно виден…» отделяет все рассказанное о тетке и ее племяннице от дальнейшего продолжения, но в то же время все части рассказа остаются неразрывно слитыми. Резкий обрыв одного сюжета на словах «А в окне виден…» заставляет вспомнить, что и начинается рассказ «возле мерзлого окна», именно там Ивлев начинает «видеть» («Бумажная лента медленно течет с аппарата возле мерзлого окна 〈…〉 но Ивлев видит себя 〈…〉 Он видит»). Как видение появляется племянница, которая присаживается «на старинный ларь возле окна» (уж не то же ли это окно, у которого грезит Ивлев?), и оказывается, что долгая зимняя дорога из Москвы в имение буквально совмещена с теплым и темным домом, а внешнее и внутреннее пространства не чередуются, а просто выступают друг из-под друга, обыгрывают друг друга. Кстати, есть одна деталь, подчеркивающая тесную спаянность внешнего, заоконного, и внутреннего, домашнего, пространства: прихожая «уютно устлана попонами»[207], и попоны в прихожей возвращают к предыдущим абзацам с дорогой и бегущими по ней лошадьми, отсылают к богатым «ковровым саням», в которых только что сидели тетка и ее племянница. Таким образом, повествование неумолимо приближается к кульминации и в то же время с силой отбрасывается назад, ретардирует, а установленные между картинами и эпизодами границы тут же нарушаются, открывая возможность для других, новых членений.
Взаимовключенность внешних и внутренних пространств, описанных в тексте, взаимное притяжение всех эпизодов текста и в то же время их «отдельностность» аккомпанирует теме рассказчика, Ивлева, сознание которого бесконечно меняет свои контуры. Не случайно слово «общим» в последнем абзаце выделено курсивом, курсив призван сделать еще более убедительным свидание героев, вырвать его из области сна (сны не бывают общими), «овнешнить» его, но не до «реальности», а до чего-то еще большего. Свидание героев связывает между собой разделенное навеки, оно происходит вне реальности, поверх нее, но по силе превосходит реальное событие. Дело в том, что лирическое событие не вписывается в направленный «вперед» ход времени, не соблюдает линейных законов[208], поэтому лирику (и лирический отрывок Бунина «В некотором царстве», в том числе) можно назвать ментальным экспериментом, из тех, о которых Й. ван Баак пишет: «Направленный ход времени 〈…〉 образует основу для проявления и узнавания „события“ как такового. С этим связан неминуемый факт необратимости времени. Однако, как каждый из нас по личному опыту может утвердить, этот факт вызывает ментальные эксперименты именно в обратимость времени 〈…〉 Развертывание „всего происходящего“ (то есть совокупность всех происшествий, процессов и событий) тогда подразумевало бы завертывание того же, т. е. обратный ход, как во временно-пространственном, так и в каузальных сцеплениях его»[209]. В бунинском повествовании совершается «обратный ход» времени – вопреки революционной катастрофе повествование устремляется назад, происходит «завертывание» сюжета, дающее возможность почувствовать силу личного авторского противостояния навязчивой событийности реальной русской истории.
Несмотря на то, что рассказ «В некотором царстве» написан прозой, он представляет собой лирическую конструкцию, подобную стихотворению со множеством композиционных членений и поливалентными связями между сегментами, кроме того, в бунинском повествовании улавливаются некоторые оттенки романтической баллады.
Именно здесь еще раз уместно будет вернуться к мысли о том, что баллада – реликтовый жанр, выходящий из синкрета донововременной ментальности, содержащий в себе эпическое происшествие, окрашенное лирическими эмоциями и скрывающее острый драматический конфликт. Жанр прозаической миниатюры, как и баллады, наделен большим потенциалом, позволяющим в прозе пробудить лирические и драматические возможности, сделать их не менее сильными, чем в стихе. Прозаическая миниатюра Бунина тоже воспринимается как синкрет всех трех родов, актуализированных лирической природой текста.
Малые художественные формы можно бесконечно разглядывать в их микропоэтике, и в этом тексте найдется множество деталей, способных заставить еще и еще раз пережить описанное. И чем подробнее становится анализ, чем больше он ветвится и разрастается, тем ближе аналитический дискурс в своих качествах подходит к неуловимому и недосягаемому предмету анализа, прикосновение к которому заманчиво и иллюзорно.
* * *
Три рассмотренных рассказа можно было бы назвать несобранным «ивлевским» циклом в творчестве Бунина: одна и та же фамилия главного героя притягивает тексты друг к другу, – но Бунин не ставит их вместе, видимо, разводя в своем сознании. Перед нами один автоперсонаж, но в то же время он каждый раз возникает в новом своем облике, в новой ипостаси, и по степени включенности Ивлева в сюжет тексты сильно разнятся между собой. В первый раз, в «Грамматике любви», Ивлев выступает в качестве визионера, сквозь него проходит чужой сюжет. Причем, в самом начале рассказа, когда на пути к поместью Хвощинского Ивлев заезжает в соседнее имение, кажется, что между Ивлевым и графиней вот-вот завяжется любовная интрига. Но Ивлева ждет не свой, а чужой роман, в память о котором он покупает старинную книгу вместе с трогательными стихами об этой любви до гроба и за гробом.
В «Зимнем сне» все события происходят с самим Ивлевым, но не наяву, а во сне, что дает возможность увидеть впечатляющие картины расщепленного «я» героя, которые одновременно являются изображением творческого сознания и сложной, многослойной природы бунинского повествования. Такова она и в последнем рассказе, уносящем читателя, вместе с погруженным в сонные грезы героем, в некоторое волшебное «царство», где не засыпающий (как в «Зимнем сне»), а уже спящий к началу повествования Ивлев сам производит себя в герои собственного сюжета.
В конечном итоге, остается впечатление, что Ивлев в этих рассказах все ближе подходит к автору, так что «Некоторое царство» оказывается чем-то вроде маленького тайника авторского сознания. Как бы то ни было, в течении нескольких лет Ивлев свободно гуляет в творчестве Бунина по своим уездам, имениям и остается в России, когда Бунин уезжает во Францию… Одним словом, Ивлев – это странник и домосед, воплощающий противоположные качества авторского «я», как и вообще человеческой жизни[210].
Глава IV Бунинский тезаурус смерти
В этой главе будут подвергнуты рассмотрению три рассказа, объединенных мотивами всесокрушающего огня, тления, угасания и кладбищ. Первый текст, «Аглая», написан за год до революции, второй, «Огнь пожирающий», относится к периоду Приморских Альп (1923), третий, «Поздний час» (1938), входит в первую часть «Темных аллей». Созвучные мотивы по-разному преломляются в каждом произведении, выявляя то историософские, то автобиографические аспекты малой прозы Бунина. Обобщает мотивы огня, тления, кладбищ тема смерти, в ней для Бунина сходятся неразрешимые противоречия между вечной красотой мира и ее неизбежным исчезновением, тленностью: «Проблема чувственно-духовной связи человека с миром и Богом не могла быть завершена в творчестве Бунина без решения проклятого вопроса: что такое смерть, какова ее роль в жизни человека и какое отношение она имеет к Богу? (…) Его значимость обуславливается еще и тем, что в структуре отношений „человек – природа – Бог“ самое уязвимое положение занимал человек: как раз смерть мешала ему выдержать достойное сравнение с природой и Богом. Она подрывала прочность и долговечность бытия, полагала видимый предел его жизни. Смерть обнажала вторую, слабую сторону человеческой природы: если через сопричастность человека духовному Всецелому выявлялась „божественная прелесть души“, то смерть разрушала в нем полноту ощущений бытийного счастья, напоминала о временности его бывания в мире (…) Смерть подвергала суровой проверке основания бытия, она ставила под сомнение все: не только наличие божественного в человеке, но и саму извечность божественного, грозя превратить все сущее в иллюзию, в Ничто»[211], – так видит тему смерти у Бунина Г. Ю. Карпенко. Напряженное чувство смерти у Бунина совпало с переживанием гибели его родины, что дало множество сложных художественных картин, в которых смерть является ключевым образом.
Тлен, пепел и весна: «Аглая», «Огнь пожирающий», «Богиня Разума»
Бунинское творчество – это довольно обширный и разнообразный тезаурус смерти: едва ли не каждый текст прячет в себе тему гибели, руин, запустения, описание процесса умирания, исчезновения. Особенно богата кладбищенская тема, она, уходя корнями в элегическую культуру XIX в., и дается чаще всего в поэтическом ореоле. Однако есть и такие тексты, где она получает весьма необычный, но тоже характерный для Бунина вид. К ним относится «Огнь пожирающий», трагический рассказ, сюжет которого вырастает из анекдота на тему смерти и воскресения с резкими нотами богохульства:
И вот как-то за чаем… кто-то почему-то вспомнил старика В., известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, «быть тотчас же после смерти ввергнутым в пещь огненную, в огнь пожирающий, без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса»
(…)
И вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла с неожиданной отчетливостью:
– А я как нельзя более понимаю В., хотя тоже не одобряю острот в его завещании, и пользуюсь случаем заявить при всех здесь присутствующих свою непреклонную посмертную волю, которая, как известно, священна и неоспорима: после моей смерти я тоже должна быть сожжена. Да, сожжена.
〈…〉
А ровно через неделю после того именно это и случилось – она умерла перед самым выездом в театр (5; 111–112).
Мотивы смерти и воскресения проводятся в рассказе от начала и до конца, перебивая друг друга и контрастно противопоставляясь. Тема смерти представлена неожиданной кончиной героини, ее кремированием на Пер-Лашезе, описанием самого процесса похорон, с явственно акцентированной ритуальной фальшью кремационного погребения, и символически подсвечена апокалипсическими образами «огня пожирающего», «геенны огненной». Воскресение же символизируется весной, оживающей природой, музыкой, детством, «мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа»:
У нас в Пасси цвели и зеленели сады. По потолку надо мной топали, бегали дети, кто-то все начинал играть на пианино что-то шутливое, милое. В открытое окно входила весенняя свежесть… (5; 113).
Судя по рукописи, Бунин много работал над начальными страницами «Огня…». Завещание старика В. не сразу, а постепенно обрастало светскими шутками, превращаясь в анекдот. Сначала в завещании не было фразы о птице Феникс[212], как не было в беседе гостей реплики о трех отроках, по вере своей избежавших участи быть сожженными царем Навуходоносором (ВЗ, Кн. пр. Даниила)[213]. Три отрока появились лишь в беловике:
– Да, это очень чисто и скоро, эта пещь огненная, но все-таки не желал бы я попасть в нее. Уж очень жарко. Мне даже участь Феникса не кажется завидной.
Все засмеялись, кто-то прибавил
– Так же, как мне участь тех трех отроков, что в пещи огненной пели хвалы Господу!
А еще кто-то подхватил:
– Тем более, что вы уже далеко не в отроческом возрасте… (5; 112).
Небрежная шутка пародийно звучит в устах случайного персонажа, но добавляет серьезные штрихи к картине сгорающего и нетленного. Библейский «огнь» сливается с архаическим, дохристианским осмыслением смерти и воскресения. Очевидно, что внесенные писателем добавления были направлены на то, чтобы еще больше заострить шутливо снятый светской болтовней контраст между Новозаветной идеей Воскресения и дохристианским мифом возрождения через смерть.
Древнее представление о лежащих в основе мироздания стихиях огня и воды чрезвычайно сильно у Бунина: в одних текстах эти стихии доминируют, в других остаются на периферии, но всегда играют важную роль в конструировании художественного пространства. Два «библейских» заглавия широко известных рассказов – «Огнь пожирающий» и «Воды многия» – могут обозначить амплитуду бунинского мира в целом. Далекая от морей и жарких краев средняя полоса России нарисована Буниным в красках огня и воды: даже если бунинские сюжеты развертываются не впрямую на море, то в воспоминаниях или мечтах о нем, проходящих иногда по самой кромке сюжета. Так, в «Митиной любви» Дмитрий Павлович, находясь у себя в среднерусском поместье, перед самоубийством вспоминает «сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря» (5; 215), а в «Жизни Арсеньева» автобиографический герой, выросший в Орловской губернии, вступив в самостоятельную жизнь, первым делом отправляется на юг, по следам отца, принимавшего участие в Крымской кампании. Иногда стихии огня и воды сходятся в одном тексте, и для Бунина вполне закономерно, что русская великая река – Волга, воплощающая стихию воды, окрашена в солнечные, порой преизбыточно яркие, огненные азиатские краски (см., например, «Солнечный удар»).
В дореволюционных деревенских рассказах Бунина огонь стирает с лица земли целые семьи и деревни («Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу… ну, думаю, слава тебе, Господи… Ан нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись… Двое ребятишек сгорело» – «Сила», 3; 216), в «Суходоле» уничтожает даже память: «Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне» (3; 184), а в дневниках и мемуарной прозе Бунин рисует предреволюционный и революционный русский мир сгорающим заживо. Символически связанный с революцией, «огнь» исходит из глубин русской истории, где чистое и сильное христианское устремление к вере и возрождению слито с разрушительным, языческим, «монголо-татарским» «огнем». Если верить «Окаянным дням» и дневникам Бунина, то причины русских войн и смут коренятся в глубинах русской ментальности, с присущим ей азиатским неистовством:
Жара, страда… Куда летит Через усадьбу шалый пес?Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.
Летом прошлого года это осуществилось полностью:
Вот рожь горит, зерно течет, А кто же будет жать, вязать? Вот дым валит, набат гудит, Да кто ж решится заливать? Вот встанет бесноватых рать И как Мамай всю Русь пройдет…[214]Революционно-исторические аспекты представляют для Бунина важнейшую сторону общей апокалипсической темы, которая, конечно, не всегда, но часто мотивирована именно исторически.
«Бессердечие к плоти»: Аглая, старец РодионВ том же, 1916 г., о котором Бунин вспоминает в своем революционном дневнике, создан рассказ «Аглая». Наряду с «Господином из Сан-Франциско», «Огнем пожирающим» и «Железной шерстью» из «Темных аллей», «Аглая» входит в ряд самых трагических бунинских аллегорий истории, и «огненная» семантика играет немаловажную роль и в этом тексте.
«Аглая» представляет собой стилистический эксперимент по соединению житийной, библейской топики с фольклорными формами, рассказ можно было бы назвать псевдожитием с языческой подосновой. Житийное начало весьма сильно, оно вводится в текст посредством описания агиографической «библиотеки»: кратко, эскизно, ритмично, со свободными поэтическими вкраплениями в «Аглае» «цитируется» почти два десятка рассказов о святых, которые читает Анне ее сестра Катерина. Библиотека – это постоянная тема прозы Бунина, часто возрастающая до самостоятельного сюжета: чтение Катерины рассекает и замедляет основной сюжет рассказа, касающийся Анны, но при этом историю героини заменяет сгущенная, концентрированная история ее страны. Страна сначала не названа («В миру, в той лесной деревне (4; 361) – так начинается рассказ), но постепенно затерянное сказочное «царство» преображается в обширную Россию с ее дремучими лесами, озерами и реками (Сухною, Мстой), снегами и безлюдностью[215]. На страницах рассказа мы встречаем много святых, отшельников, молящихся, паломников и юродов, он обильно населен также лесными зверями и нечистью; никого другого в этих неведомых местах нет[216]. Создавая «Аглаю», писатель пользуется подлинными сведениями русской агиографии, более того, Катерина читает жития в соответствии с церковным календарем (в рассказе подряд упомянуты Киево-Печерские святые Ближних пещер – Матфей Прозорливый, Марк Гробокопатель, Исаакий Затворник: их память свершается 28 сентября)[217]. Между тем мы прослеживаем, разумеется, не подлинную русскую историю святости (куда по логике текста должна быть вписана вымышленная героиня – Аглая), а ее бунинский, художественный извод[218].
Выборка сведений из разных агиографических источников произведена Буниным так, что текст перенасыщается эпизодами «бессердечия к плоти», «близости со Смертью» (заглавная буква передает стилизованную в житийном ключе орфографию Бунина), «свирепости», «скверны», «низкого», бесовского и звериного. Между тем светлых эпизодов, знаков любви к ближнему, обязательных для христианского сознания, герои как будто не являют. Характерно, что о темном прошлом русской церкви и русской земли Катерина говорит: «Было тогда… столь много множество божьих людей, что по церквам от писку и крику их не слыхать было Божественного пения» (курсив наш. – Е. К., 4; 369)[219]. Да и фамилия сестер – Скуратовы – не созвучна теме святости, поскольку дает беглую историческую ассоциацию с омраченным казнями временем Ивана Грозного[220] и его жесткосердного слуги Малюты[221]. Обеих сестер отличает твердость, строгость, несострадательность, безжалостность к себе и другим. Об Анне сказано: «Сразу два гроба стояло и в избе Скуратовых. Девочка не испытала ни страха, ни жалости, только навсегда запомнила тот ни на что не похожий, для живых чужой и тяжкий дух, что исходил от них» (4; 361), о Катерине – «Она правила домом, сперва вместе с мужем, взятым во двор» (4; 361), «Катерина о муже горевала, плакала; плакала и о своей бездетности. А выплакав слезы, дала обет не знать мужа. Когда муж приходил, она встречала его радостно, ладно говорила с ним о домашних делах, заботливо пересматривала его рубахи, чинила, что надо, хлопотала возле печки и была довольна, когда ему что нравилось, но спали они розно, как чужие» (4; 362).
Загадочна в своем значении и смерть героини, именем которой назван рассказ. Как и смерть Оли Мещерской в «Легком дыхании», смерть Анны-Аглаи объявляется и описывается в тексте многократно, о ней предупреждают многоступенчатые предзнаменования[222], и тем не менее первое ее упоминание довольно неожиданно, оно идет вслед за «житийными чтениями» и зимним сном Анны, а подробности открываются гораздо позже, они всплывают в истории о кончине легендарной Аглаи, а не Анны, которой она была прежде, причем, как часто это бывает у Бунина, история запечатлена молвой (рассказом скитальца). Сюжетная монтажность, возвращение прошлого в образах молвы обобщает биографию героини, а ее биография, в свою очередь, накладывается на более широкий, исторический план рассказа: Аглая и страна святых и юродивых, в которой она живет, сливаются воедино.
Оба плана, биографический и исторический, отмечены мотивами пожара, огня, сгорания. Не только в «Окаянных днях», в дневнике Бунина, но и здесь, в рассказе, хроника русской жизни предстает как идущая из древности монгольского ига летопись смут и пожарищ:
…скорбную повесть о том, как ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в лубяные городки свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междуусобий, от свирепых татарских орд и от прочих Господних кар, – от мора и глада, от пожарищ… (4; 364).
И саму героиню символизирует горящая и сгорающая свеча и какой-то внутренний огонь: «И вышла она от него, низко склонив голову, пол-лица закрыв платком, сдвинув его на огнь своих жарких ланит и в смятении чувств не видя земли под собой: избранным сосудом, жертвой Господу назвал он ее, зажег две восковые свечки и одну взял себе, другую дал ей» (4; 366). Те же метафоры огня окружают смерть Аглаи в рассказе скитальца:
Ну вот и сгорела она, как свеча, в самый краткий срок 〈…〉 За великое ее смирение, за неглядение на мир земной, за молчание и непосильное трудничество он совершил неслыханное: на исходе третьего года ее подвига он посхимил ее, а потом по молитве и святому размышлению, призвал ее к себе в единый страшный час – и повелел кончину принять 〈…〉 Слегла, запылала огнем – и кончилась. Он, правда, утешил ее – поведал ей перед кончиной, что, поелику лишь малое из тайных его бесед не сумела она скрыть в первые дни послушания, истлеют у нее одни лишь уста[223] (4; 368).
Схимничество и подвиг умерщвления плоти увенчан смертью, при этом сила отречения от земного фанатична, бесцельна и беспричинна. Подчеркнем, что презревшая все земное, не глядевшая на земную красоту Аглая, именно у земли, умирая, просит прощения: «И тебе, мати-земля, согрешила есмь душой и телом – простишь ли меня?» (4; 369). В тексте заметно, что, будучи живой, Аглая не входит в земной мир, ее отличают, как и многих других бунинских героинь, мертвенные черты: пугающая отъединенность («со сверстницами она в детстве не водилась 〈…〉 всегда непонятная была она»), тонкость («отменно тонка, высока»), «скелетная» «косность» («Если Катерина окликала ее, спрашивала, что с нею, она отзывалась, просто говоря, что у ней шея скрипит и она слушает это» – 4; 362). Сложность заключается в том, что теми же чертами отрешенности отмечены и образы святых в канонических житиях, да и тонкость черт Аглаи иконописна[224].
Аглая умирает, ибо так повелел старец Родион, ее смерть окружена языческими знаками: церковным Петровым днем (на него приходится окончание купальских праздников, и именно в это время Анна идет впервые ко Всенощной в обитель) и Троицей, названной в тексте «языческим русальным днем», тема смертельно опасного погружения в древнюю языческую тьму, кажется, доминирует. Но, с другой стороны, древнее язычество ярко, природно, красочно и заставляет думать о жизни, возрождении, самообновлении. Нежелание Аглаи умирать, земной расцвет ее красоты и юности, безропотная покорность смягчают образ «старообрядчески» отреченной героини, вызывают жалость к ней, сожаление о ее ранней смерти.
Исследователи поэтики этого рассказа и его интерпретаторы резко расходятся в понимании «Аглаи», и особенно это касается фигуры Родиона. Одни литературоведы отмечают в нем черты сходства с Серафимом Саровским[225], настаивая на том, что старец Родион – это воплощение провидческого дара и подвига преодоления смерти, образ христианского ее попрания или хотя бы избавления от страха губительной силы времени. Процитируем, к примеру, Т. И. Скрипникову: «Вымышленный образ святого – отца Родиона в рассказе “Аглая” – также наделяется Буниным “духовным зрением”. Он удостоился этого великого дара за свои святые подвиги… Руководствуясь “духовным зрением”, он, выбрав Аглаю изо всей толпы… повелел ей: “Будь невестой не земной, а небесной!” 〈…〉 А потом, руководствуясь опять-таки “духовным зрением” 〈…〉 призвал ее к себе “в единый страшный час – и повелел кончину принять”»[226]. Другая точка зрения позволяет увидеть совсем другие его черты, и финал рассказа прочитывается не в свете «угаданной» Буниным «глубинной» идеи русской святости, а совсем иначе. Так, Н. В. Пращерук, отмечая соответствие «Аглаи» некоторым канонам житийного жанра, подчеркивает: «рассказ завершается очень своеобразно. Приводится жутковатое 〈…〉, жестокое и страшное утешение отца Родиона, что истлеют только уста у Аглаи. Эта деталь – “истлевшие уста” – черта, безусловно, новой эстетики, “модерности” бунинского стиля, важна для художника как знак побеждающей красоту смерти. При этом писатель совершенно “забывает” о традиционном для житий моменте “чуда”. Более того, схимонахиня уходит из земной жизни со словами языческого заклинания»[227].
Действительно, текст Бунина устроен так, что, с одной стороны, он провоцирует христианское, агиографическое прочтение главных его образов – Аглаи, Родиона, скитальца. С другой, на всех героях, и на Родионе в особенности, лежит густая тень древнего языческого неистовства. Бунин считал, что этот его рассказ, которому он придавал особое значение, в сущности, не был понят его читателями, и впоследствии сетовал: «Оттого, что “Деревня” – роман, все завопили! А в “Аглае” прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, выполняла, – никем не понято, не оценено по-настоящему!»[228]. В записанном Г. Кузнецовой устном монологе писателя, где он говорил об этом дорогом для него рассказе, были упомянуты те моменты, которые, вероятно, должны были бы задать верное понимание «Аглаи». Своего рода «двойника» Родиона – странника Бунин в разговоре с Г. Кузнецовой называет «бесом»: «А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, как выдуман! В котелке и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел! “Утешил, что истлеют у нее только уста!” – ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял!»[229].
Родион написан в духе толстовского отца Сергия, но, как кажется, с еще большим нажимом: фанатическая бессердечность к плоти у бунинского героя принимает совершенно гибельные, садо-мазохистские формы. Обращенное к Аглае повеление старца Родиона принять кончину выглядит едва ли не поруганием избранной им и им же истребленной красоты, убийством, свершенным под предлогом спасения. Особенно выразительно обещание об устах, которым должно будет истлеть после смерти Аглаи. «Истлевшие уста» ощутимо диссонируют и с живыми портретами юной красавицы, и с ее «длинной могилкой, прекрасной» (IV, 368), зато тление это идеально сочетается с памятью о необузданных пожарищах, исходящих из древних глубин русской истории. «Бестелесность», иконописность лика героини острейше контрастирует здесь с ненаписанной, но подразумеваемой картиной ее мертвого тела и лица. Тление уст позволяет даже догадаться, что вовсе не за то, что «малое из тайных его бесед не сумела она скрыть», наказана героиня: Анна чрезвычайно молчалива[230], и трудно представать, чтобы она может открыть кому-то тайны своего духовного наставника.
Так о чем же рассказ «Аглая»? «На наш взгляд, все о той же любви-страсти, пронизывающей все творчество И. А. Бунина»,[231] – пишет Т. Ю. Яровая. Развивая эту идею, можно предположить в «истлевших устах» метафору подавленной страсти и ревности, извращенного чувства, которым изуродован образ умершей[232]. Родион как бы целует ее поцелуем тления и Смерти, ревниво отнимая Аглаю не только у мира, но и у Христа, чей невестой она, будучи монахиней, является. Но насилию Смерти подчиняется и Аглая, и, несомненно, за этим стоит ужас полуязыческой России, как ее видит Бунин.
В качестве параллели и претекста «Аглаи» приведем стихотворение «Аленушка», написанное Буниным в 1915 г. В нем странно преобразован сказочный (и васнецовский) образ русской красавицы-девицы, так и не нашедшей «дружка». От тоски («скуки») и страсти она спалила все вокруг «на тыщу верст», а вместе с лесом, похоже, и самое себя:
Аленушка в лесу жила, Аленушка смугла была, Глаза у ней горячие, Блескучие, стоячие… 〈…〉 Пошла она в леса гулять, Дружка искать, в кустах вилять, Да кто ж в лесу встречается? Одна сосна качается! Аленушка соскучилась, Безделием измучилась, Зажгла она большой костер, А в сушь огонь куда востер! Сожгла леса Аленушка На тыщу верст, до пенушка, И где сама девалася – Доселе не узналося!Так виделась Бунину русская страстность в 1915 и 1916 предреволюционных годах.
Другая тема, тема возрождения, связана в «Аглае» с природой, с весной. Завязка рассказа – жизнь героини, ее взросление, постижение ею мира и святости аранжирована зимними русскими пейзажами. Зимой в деревню приходит оспа, унесшая жизни родителей Анны, долгими зимними вечерами Катерина читает Анне жития святых, Анна видит зимний сон, который удваивает пейзаж с двойным солнцем за окном:
Зима в тот год была особливо суровая. Завалило снегом леса, озера, толсто оковало льдом проруби, жгло морозным ветром да играло по утренним зорям двумя зеркальными, в радужных кольцах, солнцами… Под Новый год вновь приснилось ей: видела она раннее морозное утро, только что выкатилось из-за снегов слепящее ледяное солнце, острым ветром перехватывало дух; и на ветер, на солнце, по белому полю, летела она на лыжах, гналась за каким-то дивным горностаем, да сорвалась вдруг куда-то в пропасть – и ослепла, задохнулась в туче снежной пыли, взвившейся из-под лыж на срыве… (4; 363–364).
Сияющий зимний пейзаж и зимний сон контрастно сменяют череду смертей и темных мученических житий, дошедших из глубины веков. Как и другие вещие сны и предзнаменования, этот сон грозит Анне гибелью («сорвалась в пропасть»), но он исполнен света и красок («утренними зорями», «зеркальными, в радужных кольцах, солнцами», «слепящее ледяное солнце», «на солнце», «по белому полю», «золотисто-белый цвет лица», «тонкий румянец», «глаза синие»), которые под знаком смерти разгораются еще ярче. Контрастно вводятся в текст и весенние картины, поскольку весна наступает сразу после объявления о смерти Анны:
Пятнадцати лет отроду, в ту самую пору, когда надлежит девушке стать невестою, Анна покинула мир.
Весна в тот год пришла ранняя и жаркая (4; 364).
И хотя говорится о той весне, когда Анна была жива, когда от солнца «пылало» ее лицо, румянились щеки, уже невозможно отвлечься от мысли о смерти, весна изначально обозначена как последняя, вечная, «несрочная». Оживающая весенняя природа и земная благодать парадоксально аккомпанирует у Бунина истории о гибнущей красоте, об умирающей стране, но трудно сказать, однако, что пересиливает в историософии Бунина: жизнь или смерть, христианские жертвенность и Воскресение или языческий всесокрушающий огонь и смрадное тление, уничтожение всего живого или возрождение. Гораздо важнее, что бунинский текст обозначает тесную сплетенность этих противоположных начал, их трагическую и чарующую слитность, неотделяемость друг от друга, замкнутый круг, где невозможно провести границу между жертвенностью и надругательством, внутренним и внешним, природно-естественно-животным и человеческим.
Исторические аллюзии («Огнь пожирающий», «Богиня Разума»)
Вернемся к рассказу «Огнь пожирающий», который несколько напоминает «Аглаю» и сюжетным решением (смерть, застигающая героиню в самом расцвете ее красоты и молодости), и трагическим сплавом христианского и нехристианского. Правда, сюжет до неузнаваемости преображается из-за смены старинного русского антуража на современный парижский. В «Аглае», несмотря на то, что рассказ несет в себе довольно ощутимый заряд сложной бунинской историософии, повествование строится так, что совсем не чувствуются лирический, «авторский» план и голос. Авторское лишь немного приоткрывает житийная библиотека Катерины, отдельные мотивы и детали рассказа, но в целом текст создает иллюзию саморазвития без помощи авторского «я», событий вне рассказчика, в историческом времени, для чего Бунину и понадобился монтаж нескольких временных планов, разбитых многократными сообщениями о смерти главной героини. Кроме того, обобщению и «объективации» способствовал, конечно, всегдашний бунинский мотив молвы. В «Огне пожирающем» повествование ведется от первого лица, непосредственно в сюжете рассказчик не участвует, он, как Ивлев в «Грамматике любви», лишь описывает увиденное, пропуская его сквозь призму своего сознания. Исходя из текста, нельзя понять, какие отношения связывают повествователя с хозяйкой дома в Сен-Жерменском предместье; во французской или русской среде происходит описанный эпизод; что послужило причиной неожиданного завещания героини, и была ли вообще такая причина. В центре рассказа оказываются не отношения героев, а кладбище Пер-Лашез и процесс кремирования.
Исторические коннотации «Огня…» менее очевидны, чем исторические коннотации «Аглаи», но они есть. Кремация, похоронный обряд, лишенный сакрального смысла – это своего рода набросок «геенны огненной», лицезреть которую можно уже на земле: «Бога здесь не было, и существование и символы его здесь отрицались. Совы пучили слепые глаза только с бессмысленным удивлением, траур занавеса говорил только о смерти» (5; 116). Церемониальность, заменившая сакральное значение похоронного обряда, наводящая на мысль о «дьявольской» природе революции и цивилизации, стала для Бунина отдельной темой еще раньше, в «Окаянных днях», где писатель, конечно, не мог пройти мимо большевистских похорон:
По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармонях, пляшущих и вскрикивающих:
Эй, яблочко, Куда котишься![233];Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых![234].
Позже, в 1938 г., в рассказе «Поздний час» (о нем речь пойдет ниже), писатель еще раз возвращается к описанию похоронного обряда, выстроенного по правилам рационалистического, атеистического мышления:
В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме – на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черными султанами – перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова! «Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis» (7; 41–42).
Таким образом, «французский» отрывок в середине «Позднего часа» как бы продолжает похоронный сюжет «Огня пожирающего», а «Огнь…», в свою очередь, наследует тему смерти и похорон из «Аглаи» и «Окаянных дней».
Прямых размышлений на темы истории или революции в «Огне пожирающем» нет, однако их провоцирует название кладбища, которое отчетливо ассоциируется и с Великой Французской революцией, и с Парижской Коммуной. Как известно, именно на Пер-Лашезе были расстреляны коммунары. Параллели между русской и французской революцией – излюбленный прием Бунина, и таких параллелей предостаточно в «Окаянных днях», где Париж представлен городом смерти и смуты, по улицам которого летит в Конвент «человеческий обломок», живой мертвец Кутон.
* * *
«Огнь пожирающий» – не единственный парижский кладбищенский текст Бунина, в «Богине Разума» 1924 г. речь идет о другом кладбище, Монмартрском, и рассказывается история одной из его безвестных могил. Тереза Анжелика Обри, забытая актриса Парижской Grand Opera, становится главной героиней «Богини Разума». При этом фабула рассказа заимствована Буниным из любимой многими русскими эмигрантами и переведенной Тэффи на русский язык книги Ж. Ленотра, автора «petite histoire» Французской революции. Вслед за Ленотром[235] Бунин воссоздает биографию актрисы, представлявшей Богиню Разума в дни Французской революции во время уличных шествий, а через несколько лет после революции кончившей жизнь в болезни, нищете и трагической безвестности:
…какой неописуемый ужас должен был туманом стоять весь день над полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувств замученной заместительницей Божьей Матери[236].
Книги Ленотра, историка, пытавшегося запечатлеть опыт «домашней жизни» исторических персон, включают в себя множество вариаций на тему судьбы, погубленной огнем революции. По аналогии с биографией Терезы Анжелики Обри прочитывается и другая биография, бегло изложенная у Ж. Ленотра в «Повседневной жизни Парижа во времена Великой революции», – биография невесты Робеспьера Элеоноры Дюпле, тоже покоящейся на кладбище Пер-Лашез. Невеста Робеспьера «усердно занималась все время террора» в студии художника Реньё, где однажды за советом к ней обратилась девица Вальтер, получившая, как и Тереза Анжелика Обри, от революционного комитета приказание ехать, изображая богиню, на колеснице во время «Праздника юности». Девица Вальтер не желала «предстать пред нескромными взорами безнравственных мифологов-республиканцев», но боялась ослушаться революционного комитета. Элеонора Дюпле придумала план обманного отравления, который и спас Вальтер[237]. История дома Дюпле у Ленотра заканчивается так:
В наши дни в темном уголке кладбища Пер-Лашез, по дороге к Стене коммунаров, расстрелянных в мае 1871 года, у самой ограды лежит скромная плита, вся серая от дождей. Имя Дюпле, несколько раз повторяющееся на ней, совершенно не привлекает внимания посетителей. А между тем здесь покоится семья, тесно связанная с революционной драмой… Вот имя Мориса Дюпле…, умершего в Париже 30 июня 1820 года. Вот его дочь Элеонора, возлюбленная невеста Робеспьера, умершая 64 лет от роду 26 июля 1832 года[238].
Скорее всего, заброшенная могила Элеоноры Дюпле на Пер-Лашез из истории Ленотра и стала прообразом могилы Терезы Анжелики Обри в рассказе Бунина «Богиня Разума», поскольку о могиле актрисы Гранд Опера у Ленотра ничего не говорится. Кладбищенский сюжет «Богини Разума» – результат бунинских разысканий на кладбище Монмартра[239] и их художественное претворение. Революционные подтексты из «Богини Разума», несомненно, просвечивают и в «Огне…», но они становятся более косвенными, едва заметными, извлекаемыми лишь из глубин бунинского художественного мира.
Поэтика «Огня пожирающего»: пейзаж, контрарные мотивы[240], композиционная модель
Перейдем от имплицитных подтекстов и автоконтекста к поэтике «Огня…». Как уже отмечалось, в «Огне» сильно не столько сюжетное, сколько описательное начало. Весенние городские пейзажи в начале, в середине и конце текста как бы «прикрывают» крематорий и «огнь пожирающий». Мертвый Пер-Лашез возвышается над живым суетливым Парижем: «Передо мной были ворота и стены другого города, поднятого на возвышенность, как бы некая крепость, ярко и мертво глядящая из-за стен целыми полчищами мраморных и железных крестов» (5; 113–114), а в глубине кладбища зияет крематорий. Как в «Аглае», весть о смерти героини перекрывается весенним пейзажем, сначала увиденным рассказчиком из окна квартиры, потом кладбищенским. Весенний пейзаж испещрен едва заметными цитатами из русской поэтической классики (например, пушкинским «веселым треском» и тютчевским «дальним гулом»):
Там, за окном, сыпали веселым треском ворьбьи, поминутно заливалась сладкими трелями какая-то птичка, а наверху топали и играли, и все это сливалось с непрерывным смутным шумом города, с дальним гулом трамваев, с рожками автомобилей, со всем тем, чем так беззаботно при всей своей озабоченности жил весенний Париж (5; 113).
Красота жизни и мира, с которыми разлучает смерть, – это тема героини, но от нее, молодой, красивой и богатой, она распространяется на рассказчика, созерцающего весенние пейзажи, а затем пересиливает и его, становится независимой, самостоятельной. Два пейзажа внутри рассказа слегка повторяют и дублируют друг друга:
В открытое окно входила весенняя свежесть и глядела верхушка старого черного дерева, широко раскинувшего узор своей мелкой изумрудно-яркой зелени, особенно прелестной в силу противоположности с черной сетью сучьев (5; 113);
…сквозной чернотой деревьев, осыпанных изумрудными мушками (5; 114).
Зимняя чернота и нагота деревьев играет роль какого-то невнятного темного предзнаменования, «затушеванного» весенними красками, это предзнаменование геенны огненнной, уже бушующей где-то рядом, но все еще проявленной не вполне, прикрытой мерным ходом жизни, обновляющимся каждою весной.
Рассказ начинается с яркого портрета героини, царственная «гранатовая» бархатная накидка, отороченная соболем, довершает ее живой, «божественный», величественный и сильный облик. Разумеется, этот портрет антитетичен финальной картине, рисующей прах, вытащенный из огненной пещи:
…тащили железными крюками как бы крышку стола, прямоугольник из асбеста, насквозь розовый, насквозь светящийся, раскаленный до прозрачности. И те прозрачно-розовые, инде горящие ярко-синим огоньком известковые бугры и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, это и были скудные останки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера жившего всей полнотой и силой жизни (5; 116).
При сопоставлении отрывков видно, что царственный, несокрушимый «гранатовый» как бы меркнет и истлевает в «прозрачно-розовом» и «ярко-синем». Между этими двумя изображениями есть и другие образы-метаморфозы героини. Рассказчик опаздывает на кремацию, и художественные причины такого опоздания ясны: в отличие от тех, кто находится внутри крематория, он один воочию застигает процесс сожжения, лишь перед ним героиня является в виде «страшного, молчаливого дыма».
Дым этот рассказчик видит дважды: по дороге в крематорий, и уже в крематории, «мысленно» возвращаясь к увиденному только что. Двойные, тройные, множественные впечатления от одного события выдают «мнемотическую» природу бунинского стиля, где любой факт отшлифован в воспоминаниях, проведен сквозь череду времен, отражен то в молве, легенде, то в беглом упоминании или случайной шутке. Второй раз, в крематории, дым превращается в абстрактное видéние, связанное не только с героиней, но и с самим крематорием, языческим характером нового обряда, формально намекающего на сакральность, но лишенного сакрального смысла. В новом обряде покойник выглядит жертвой, приносимой языческому божеству:
А я сидел и мысленно видел этот густой черный дым, медленно валивший из трубы в небо над нами, и в небе мне все-таки грезился Некто безмерный, широко простерший свои длани и молчаливо обоняющий жертву, приносимую ему (5; 115–116).
Это одна из самых минорных реализаций обычного бунинского инварианта, хорошо известного по рассказу «Легкое дыхание», только в «Огне…» героиня рассеивается не «легким дыханием» «в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» (4; 360), а валом «черных клубов дыма», обнажающих скрываемый, стыдный (не случайно, участники действа не должны этого видеть) ужас смерти, обжигающий тлением все живое. Сравнение крематория с храмом и высокий ландшафт кладбища усиливает и заостряет ощущение подмены, замещения высокого низким, божественного дьявольским:
И вдруг я поднял глаза: на широкой площади, внезапно открывшейся передо мной, высилось нечто вроде храма или, вернее, капища с круглым куполом, две высоких заводских трубы, – именно заводских, голых, кирпичных, – поднимались в небо по сторонам этого купола – и из одной черными клубами валил дым (5; 114).
Черный дым устремляется в небо, но сжигание происходит где-то в укрытом от глаз месте, «адской подземной печи», дым вырывается из преисподних глубин. Дьявольский крематорий «Огня пожирающего» довольно отчетливо повторяет образ цивилизации без Бога, символизированный в более раннем «Господине из Сан-Франциско» кораблем «Атлантида». Приведем здесь известный отрывок из этого текста, позволяющий видеть сходство «Дьявола» с «Некто» из «Огня»:
…там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами и мрамором залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.
Был он и на другую и на третью ночь – опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но еще громаднее его был корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола (4; 327).
Как и в «Господине из Сан-Франциско», в «Огне пожирающем», несомненно, угадываются интенции посмертного наказания за грехи цивилизации (не случайно трубы крематория названы «заводскими»), революции, богохульства, но есть и другое, более обобщенное значение: движение времени и человеческой судьбы неотвратимо устремлено к смерти, и это тем трагичнее, чем более прекрасный, свежий и благополучный мир ввергается в геенну огненную.
Смерть и воскресение составляют смысловой центр «Огня пожирающего», но мастерство Бунина сказывается в том, что противостояние смерти и жизни проводится и через другие мотивы: через мотивы быстроты, внезапности и торможения. Вот выбранный из сравнительно небольшого текста рассказа длинный ряд мотивов скорости и внезапности:
«быть тотчас же после смерти ввергнутым в пещь огненную»[241] (5; 111), «…это очень чисто и скоро» (5; 112), «и вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла…» (5; 112), «автомобиль мчал меня» (5; 113), «точно сам злой дух внезапно шепнул ей» (5; 113), «минуты ее сочтены» (5; 113), «я с какой-то кощунственно-веселой быстротой мчусь» (5; 113), «вдруг вспоминал» (5; 113), «поспешно закуривал» (5; 113), «с быстрым бегом автомобиля» (5; 113), «мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа» (5; 113), «быстро, но тихо вошел щеголеватый молодой человек» (5; 116), «легонько вбежал по ступенькам» (5; 11б), «огнь пожирающий должен действовать с быстротой всесокрушающей» (5; 116), «я быстро и мужественно встал» (5; 116), «затем все было кончено в пять минут» (5; 117), «быстро соскребли железными лопаточками эти неровности» (5; 117), «быстро и молча исполнив этот обычай» (5; 117), «мы тотчас же почти разбежались в разные стороны, разлетелись по разным направлениям» (5; 117), «теперь он мчался уже совсем бешено, и его автомобиль поминутно ревел на бегу» (5; 117).
Особенно перенасыщен такого рода семантикой отрывок, описывающий смерть героини. Смерть настигает ее внезапно[242], как ответ на ее дерзкое и поспешное желание быть сожженной, как мистическое исполнение торопливой шутки старика В.:
…Она умерла перед самым выездом в театр: уже шла по вестибюлю к выходу и вдруг со странной улыбкой схватилась за руку сопровождавшего ее лакея – и тот едва успел поддержать ее. Я узнал эту совершенно дикую по неожиданности новость от знакомого на улице и почему-то с необыкновенной поспешностью пошел домой, простясь с ним. Мне показалось, что тотчас же надо сделать что-то решительное, чем-то резко проявить себя. Но дома моей изобретательности хватило только на то, чтобы торопливо набить трубку, торопливо закурить, сесть в кресло (5; 112–113).
Значение этого мотива открыто и прозрачно: суетливая скорость выступает как знак греха, в бездну которого поспешает человек и человечество («точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены» – 5; 113, «эта геенна, этот огнь пожирающий должен действовать с быстротой всесокрушающий» – 5; 116). Ближайший аналог «Огня пожирающего» по чувству трагизма бытия – уже упомянутый «Господин из Сан-Франциско», где такого же безымянного героя смерть неожиданно настигает в преддверии роскошного ужина, в самом начале долгожданного кругосветного путешествия, не давая исполниться блистательному финалу его богатой и счастливой жизни.
При всей прозрачности семантики скорости темпоральная структура рассказа не так проста, как может показаться. Сюжет дается в двух временных проекциях: с одной стороны, он спешит, неожиданно обрывая всевозможные чаяния и надежды, он неуклонно направлен к точке конца, к Апокалипсису, пламень которого уже разгорается, но, с другой стороны, перед нами сюжет напряженного ожидания этого, еще не наступившего, но наступающего события. Ряд торможения, замирания в «Огне» тоже выразителен, к значениям торможения примыкают семы тишины, молчания, окаменения, замирания:
«все как-то забываю, откладываю»[243] (5; 112), «молчаливость, спокойная беспощадность» (5; 114), «как окаменелые, сидели мы в большой полукруглой зале» (5; 115), «спины всех сидящих перед нами были согнуты, как бы подавлены той невыразимой тишиной, в которой лилось наше ожидание ужасных итогов этой ужаснейшей в мире церемонии» (5; 115), «мертвая тишина, в которой мы сидели и ждали, казалась от этого света еще более гнетущей» (5; 115), «час, которому, казалось, конца не будет» (5; 115), «так прошло двадцать, тридцать, сорок минут» (5; 116), «почему же всё это длится так нестерпимо долго» (5; 116).
Как видно, мгновенной смерти соответствуют долгие мучительно тянущиеся похороны, при этом мотивы ожидания не проигрывают мотивам внезапности по силе, и они вообще характерны для растянутых бунинских описаний кладбищ и похорон, всегда контрастных по отношению к мгновенной, ранней, внезапной, нечаянной смерти.
Нечто подобное можно наблюдать в четырех главках (XIX, I, II, III) на стыке второй и третьей книг «Жизни Арсеньева»: внезапная смерть родственника и соседа Арсеньевых Писарева занимает значительное место в небольшом романе, тормозит сюжетное движение и по принципу анжамбмана переносится из одной части в другую. Погребение Писарева выпадает на весенние пасхальные праздники (и гробовой теме, как и в «Аглае», «Огне», аккомпанирует весна), проходит в соответствии с православным каноном, что совсем не похоже на светские парижские похороны, однако и в «Жизни Арсеньева» мы видим тот же мотив быстроты/торможения и тот же, что и в «Аглае», и в «Огне…», сильнейший контраст «священного» и «непристойно-земного»:
Мне опять казалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно-земное, непотребное. Это нечто, с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающее мертвой головою, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом, среди тесноты, праздничных риз, ладана и нестройного пения, ногами к настежь раскрытым дверям (6; 110).
Смерть Писарева «расплывается» по всему роману, длится в нем[244], но при этом она поспешно-тороплива:
«…все поспешно – и, что всего ужаснее, как будто под молчаливым руководством самого покойника – ходили по всем комнатам, что-то друг другу торопливо советовали» (6; 105), «дом все еще делился на два совершенно разных мира: в одном была смерть…, в другом же… как попало шла наша жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки» (6; 108), «в глубокую и узкую яму… поспешно сыпалась сырая, первобытная земля» (6; 111–112).
В сцене похорон Писарева Бунин пользуется приемами Л. Толстого: так же, как на похоронах матери, Николенька Иртеньев одновременно с погружением в собственное горе, отстраняется от него (XXVII гл. «Детства»)[245], юный Арсеньев Бунина одновременно с глубочайшим переживанием церковного таинства, с надеждой на Воскресение («Я с великим изумлением подумал, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев» (6; 110)), представляет себе кощунственные картины тления и смрада:
Мне хотелось кощунственно ожесточить себя, я вспоминал холодное Всевидящее Око в каменно-облачном небе церковного купола, думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю, даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий недельный срок и со мной то же самое… Но веры в это не было ни малейшей 〈…〉 Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него (6; 112).
Нераздельность священного и кощунственного, человеческая малость, бессилие жизни перед необходимостью проведения строгих границ между земным и небесным и составляет «страдальчески-счастливую» (Бунин пользуется этим оксюморонным эпитетом для описания дороги с кладбища (6; 113)) тайну смерти, жизни и любви. Таким образом, соединение контрарных мотивов не создает ситуации взаимоисключения, напротив, одно усиливается через другое, становится более напряженным. Горящий, всесокрущающий пламень неумолимо и быстро приближающий конец и в то же время томительно длящееся ожидание этого конца – типичная для Бунина связка мотивов, есть она и в «Позднем часе», где завязка любовного сюжета отмечена пожаром, но пожар не мешает осуществиться любовному сюжету и делает, как мы увидим далее, его ярче и напряженнее. Темпоральный оксюморон является не периферийным, а ключевым звеном как «Огня…», так и отрывка о смерти Писарева в «Жизни Арсеньева», поскольку он скрывает тему Апокалипсиса, заявленную в заглавии «Огня пожирающего» и в финале I главы третьей книги романа:
«Через трое суток по кончине христианина следует его вынос во храм… пение тропарей о его упокоении до Страшного суда Господня и восстания всех мертвых от гроба…» Я 〈…〉 ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков… (6; 110).
По сути, темы быстроты и торможения, разыгранные в рассказе, передают нелинейность времени, его одновременную устремленность вперед и возвратность. При желании можно соотнести подобный эффект со сложными богословскими представлениями об Апокалипсисе, предполагающем кристаллизацию временной модели в преддверии точки конца. Так, Дж. Агамбен полагает, что время не делится на хронологическое и эсхатологическое, между ними есть особая зона: мессианическое время, именно оно предшествует эсхатону. И если обычное хронологическое («профанное») время устремлено к концу и превращает человека в «бессильного зрителя самого себя», то мессианическое время длится, позволяет осознать временной поток, приподняться над ним, оно как бы закручивается, искривляется в преддверии конца. Таким образом, хронологическое время уходит от человека, а мессианическое остается, это «внутреннее время», «время, которое требуется времени, чтобы кончиться»[246].
Временная нелинейность выражена в «Огне» и мотивно, на композиционном уровне: сюжет стремительно развернут на полутора первых страницах, а весь последующий текст – это неспешный, эмоциональный и описательный рисунок, нанесенный вокруг события. «Внутреннюю», эмоциональную сущность всего, что следует за смертью героини, подчеркивает полное отсутствие каких бы то ни было слов по этому поводу. Серия нечаянных, быстрых, многочисленных, серьезных и шутливых, пророческих и необдуманных реплик в начале:
«оживленного и беспредметного разговора» (5; 111), «хозяин сказал» (5; 111), «кто-то подхватил» (5; 112), «хозяйка, возвысив голос, произнесла» (5; 112)
меняется на всеобщее молчание в конце:
«невыразимой тишиной» (5; 115), «мертвая тишина» (5;115), «молча сделал нам широкий пригласительный жест» (5; 116), «молча исполнив свой обычай» (5; 117).
Четкая линия раздела проходит между парижским фрагментом и кладбищенским пейзажем, весенняя панорама за окном очень похожа на оживающие деревья кладбища, но в доме и за окном все звучит и шумит («сыпали веселым треском воробьи» (5; 113), «заливалась сладкими трелями какая-то птичка» (5; 113), «с непрерывным смутным шумом города, с дальним гулом трамваев» (5; 113)), а на кладбище и в крематории сгущается гнетущая тишина. Дважды «молчаливым» назван дым («страшный, молчаливый дым» (5; 114), «грубая, молчаливость, спокойная беспощадность, с которой валил этот дым» (5; 114–115)). «Молчанием» отмечена беспощадная и злая тайна смерти, более того, она даже олицетворена в ней: «Некто безмерный, широко простерший длани и молчаливо приемлющий и обоняющий жертву» (5; 116). Вторая часть рассказа, погруженная в тишину, длится гораздо дольше «шумной» событийной первой части, и такая композиционная схема, включающая в себя быстро свершившееся событие и его протяженное переживание, характерна для многих рассказов Бунина, в частности, для «Солнечного удара», «Генриха» и мн. др.
Кажется порой, что все творчество Бунина – это продленная во времени картина воспоминаний о России, мгновенно вспыхнувшей, просиявшей и исчезнувшей в огне, но еще продолжающей существовать в качестве временного «сгустка» в преддверии Апокалипсиса.
Из Парижа – в город мечты и воображения: «Поздний ЧАС»
В «Темных аллеях» тоже есть текст, поэтически синтезирующий мотивы огня, смерти, кладбища, – «Поздний час» (1938), где чрезвычайно важен пространственный контекст, в который помещены кладбищенские мотивы. Без движения в поэтическом пространстве невозможен процесс формирования лирического «я» ни в стихах, ни в лирической прозе, и у Бунина пространственные аспекты повествовательной структуры и самого повествователя проявлены весьма ощутимо. Если сравнивать «Поздний час» с «Огнем пожирающим», то можно увидеть отличающиеся русский и французский варианты смерти и похорон, однако можно заметить и какие-то общие моменты, общую нить, связывающую «Огнь…», «Аглаю» и «Поздний час».
Сюжет «Позднего часа» характерен для эмигрантской литературы: в Париже герой-повествователь представляет себе Россию, во сне или в мечтах возвращаясь к покинутым местам. В контексте бунинского творчества этот сюжет тоже далеко не уникален, в том или ином смысле почти каждая новелла «Темных аллей» – это воображаемое возвращение на родину. Между тем впервые сюжет-возвращение появился у Бунина за несколько десятилетий до эмиграции – в 1899 г. Бунин написал лирическую миниатюру «Поздней ночью»: в парижском гостиничном номере герой и его спутница переживают какую-то размолвку или момент отчуждения; «избегая глядеть» на героиню, герой отворачивается к окну, видит узкую улицу внизу и вдруг ясно вспоминает родные места:
Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот – хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот – редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину (2; 177).
Воспоминание о родине оживляет прошлое в душе героя, и вместе с прошлым возвращается любовь к той, кого он, казалось бы, уже разлюбил. В этом тексте трудно угадать стиль позднего Бунина: внесюжетные моменты еще не развернуты и не имеют глубоких скрытых планов, однако они уже преобладают над сюжетными перипетиями.
Исследуя историю создания и публикации рассказа «Поздней ночью», Т. В. Марченко отметила, что критики усмотрели в нем «беллетризацию “семейной жизни”» автора (Бунин только что расстался с А. Н. Цакни, соответственно, рассказ прочитывался как описание ссоры с женой), и что Бунин, разумеется, отвергал этот подход, настаивая на условности изображаемого эпизода[247]. В 1899 г. Бунин рисует Париж, еще ни разу не побывав в этом городе: первая его парижская поездка (1900) выпадает как раз на период между написанием и публикацией рассказа. Но и побывав в Париже, Бунин, утверждает Т. В. Марченко, не привносит в рассказ парижской конкретики[248]. Зато, по мнению исследовательницы, можно предположить подспудную связь этого текста с Анной Цакни, чьи ранние годы прошли во Франции[249]. В свою очередь, добавим: вполне может быть, что «Поздней ночью» – это поэтическая вариация на темы рассказов А. Н. Цакни (если таковые были) о Париже или поэтическая фантазия о городе, неразрывно связанном с ее жизнью. Образ Парижа создается Буниным в Москве, из чужих воспоминаний и впечатлений, и в этом воображаемом европейском городе его герой грустит о России, откуда автор рассказа вовсе и не уезжал.
Не только сюжет мысленного возвращения на родину, придуманный и опробованный за двадцать лет до эмиграции, повторит Бунин в «Позднем часе», он обставит его теми же образами, что и в «Поздней ночи»: связью локуса и героини (своего рода женским олицетворением города, страны), мотивами ночи, месяца, печали, утраты. Только лирическая динамика и смысловая концентрация текста 1938 г. окажется гораздо выше, чем 1899-го. Через четыре десятилетия, уже во Франции, давно найденный сюжет получит «жизненные подтверждения» и значительно усложнится в поэтике.
Безымянный город
«Поздний час» начинается, как нередко бывает у Бунина, «с середины» каких-то размышлений и воспоминаний. Две-три первых фразы позволяют понять, что герой живет не в России, но читатель еще не успевает установить местоположение героя, как Бунин перемещает его в русский уездный город, будто лишь мост через реку отделяет заграницу от России:
Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.
И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.
Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – гимназистом я думал, что он был еще при Батые (7; 37).
Столь быстрое переключение из одного пространства в другое отмечает начало парижского сна о родине.
Затем повествование вновь возвращается через «Ярославль», «Суэцкий канал», «Нил» в Париж, с русского моста на один из мостов Сены. Любопытно, что парижский набросок с отражениями-триколорами можно найти в дневнике Бунина за 1922 г. Сравним:
«Поздней ночью»
…В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее, красное – русские национальные флаги (7; 38).
Дневник, запись от 10 апреля
…Возвращался – пустые улицы и переулки после дождя блестят, текут как реки, отражая длинные полосы (золотистые) от огней, среди которых иногда зеленые. Вдали что-то церковное – густо насыпанные белого блеска огни Place Concorde. Огни на Сене – русские национальные флаги[250].
В контекст дневника мимолетная зарисовка площади Конкорд входит беглым воспоминанием о родной стране с ее исчезнувшими флагами, так похожими на французские. В «Позднем часе» пейзаж становится резче в красках, теряет связь с конкретным парижским местом – Place de la Concorde, в рассказе говорится сразу о нескольких мостах через Сену, о Париже и Сене вообще, город расплывается в отражениях, будто бы готовясь к преображению.
Описав обширный круг, соединяющий восток и запад, две страны и два континента, рассказ опять устремляется в тот же далекий провинциальный город:
Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча… (7; 38).
Кажется, что сон, мечта не сразу, а постепенно овладевают сознанием героя. Текст строится по законам поэзии, он скреплен серией повторов и весь «прошит» пунктиром заглавия: словосочетание «поздний час» повторяется от начала к концу в прямом или несколько редуцированном виде четырежды[251], а между повторами размещены следующие друг за другом картины, и их равномерное чередование задает ритм, соотносит между собой разные времена и пространства, позволяя им наслаиваться, «выплывать» друг из-за друга.
В конце третьего абзаца (когда заграница уже во второй раз уступает место России) перед нами появляются зарево огня и как будто тот же, но и немного другой русский город:
Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья – и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку… (7; 38).
Повествование «Позднего часа» дается в двойной оптике – точные и четкие воспоминания перебиваются неясными и обобщенными образами, кажется, что рассказчик без усилия помнит все до мелочей, и в то же время будто с трудом представляет что-то далекое и неопределенное. Переживание города «здесь и сейчас» то сливается с городом в памяти и в прошлом, то, напротив, отделяется от него. Неглубокая река превращается в судоходную, июльское возвращение на родину[252] на месяц «отстает» от августовских воспоминаний о счастливом давнем лете, случившемся на заре жизни («И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа» (7; 39)).
Казалось бы, разница между мечтой и воспоминанием незначительна, однако она серьезно усложняет и углубляет описание города. Бунина часто сравнивают с Прустом[253] и наделяют характеристиками, почерпнутыми из постпрустовской критики, что справедливо, прежде всего, потому, что сложная текстура времен и модальность бунинского повествования может быть косвенно связана с бергсонианской идеей «воспоминания-образа», существующего в тесной связке с «чистым воспоминанием» и восприятием[254]. Память в философии Бергсона – это не прямая трансляция из прошлого, она подключает к себе творческое воображение, создающее целый спектр различных смысловых оттенков. Напряженность бунинского текста также обеспечивается заполненными или незаполненными лакунами, моментами обманчивого тождества. Бунин намеренно разнообразит и умножает целый ряд несходств между тем городом, что всплывает в памяти героя, и тем, который здесь и теперь предстает перед глазами рассказчика. Одни и те же локусы читатель видит совершенно различными, мечта превращается в реальность, но мнимую. Если от философских параллелей прибегнуть к параллелям литературным, то можно почувствовать влияние, оказанное на «Поздний час» элегией-Heimkehr («Вновь я посетил…» А. С. Пушкина, «Запустение» Е. А. Боратынского и мн. др.) Элегия такого типа предполагает сопоставление картин прошлого и настоящего: до отъезда и после возвращения. Лирическая эмоция развивается на основе сходства, волнующего узнавания прошлого в настоящем, и в то же время на основе установления отличий между «тогда» и «теперь», вызывающих печаль, горечь утраты.
Русский город, где оказался герой «Позднего часа», – мифопоэтическое пространство, несущее в себе прозрачную символику. В город ведет мост через реку, и это, конечно же, мост, перекинутый между двумя мирами. Город начинается у собора и заканчивается кладбищем, и дорога между этими двумя точками сакрализованного пространства может символически обозначать и жизнь самого героя, и историю города, как и всей страны в целом. Река с каменным мостом через нее, собор, церковь Михаила Архангела, пожарная каланча, гимназия и рынок, кладбище на окраине есть едва ли не в каждом старом русском городе. В тексте ни город, ни река не названы, это особенно ощутимо на фоне поименованных Парижа и Сены, и придает нереальность и обобщенность русскому пространству. Как для Бунина, так и для многих других писателей подобный способ художественного обобщения не заключает в себе ничего необычного (к примеру, Город в «Белой гвардии» Булгакова, списанный с Киева, но не названный), однако у Бунина этот прием имеет свою специфику.
Ландшафтное, топографическое чувство Бунина настолько точно, что каким бы обобщенным ни было описание, в нем все равно опознается город его юности, Елец. Это вовсе не обязательно для понимания рассказа, как не обязательна вообще любая связь с реалиями в художественном тексте, однако здесь узнавание добавляет в рассказ пронзительную лирическую ноту. Елец опознается по прямой главной улице, начинающейся за рекой и ведущей от собора (в реальности – Вознесенский собор, построенный в конце XIX в.) к старому кладбищу (во времена Бунина улица называлась Орловской, сейчас – Коммунаров); узнаваема пожарная каланча на ней; чуть в стороне, на Успенской (ныне Советская) – старое каменное здание мужской гимназии, где учился Бунин[255], – все это сохранилось по сей день. На той же Успенской и на ее пересечении с Архангельской располагались торговые ряды, о которых говорится в рассказе: Скобяной, Мучной, Обжорный. Легко представить «реальный» маршрут героя «Позднего часа»: придерживаясь Орловской, он сворачивает на Успенскую, потом возвращается назад, к мужскому Троицкому монастырю на той же Орловской («На выезде, слева от шоссе, монастырь времен царя Алексея Михайловича» (7; 42))[256]. Совпадают не только реалии, аналоги которых, конечно, могли быть в любом русском уездном городе, важна их последовательность, которая выдержана в соответствии именно с елецкой топографией, поэтому маршрут героя-рассказчика можно почти в каждой детали сверить по карте[257].
Из ранних произведений Бунина в связи с «Поздним часом» вспоминается еще один елецкий текст – рассказ «Над городом» (1900)[258], где неназванная церковь (в реальности – храм Покрова Пресвятой Богородицы) синекдохически замещает город:
…Теперь даже огромный купол церкви был наравне с нами, а под ним – разноцветные крыши города, сбегающего к реке, улицы и переулки между ними, грязные дворы, сады и пустоши (2; 201).
В «Позднем часе» Бунин прибегает к похожему замещению, но только картина дана в перспективе не сверху, а снизу – купол Архангельской церкви отражает пламя пожара. Горит «далеко, за рекой» (7; 38), но символически «сгорает» весь город: «Поздний час» посвящен исчезнувшим местам, оставшимся только в памяти и воображении. «Огнь пожирающий» составляет неотторжимую часть поэтического сознания Бунина, где всесокрушающая стихия вторгается в течение времени, в историю как знак Апокалипсиса:
Читаю Соловьева 〈…〉 походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, «опустошение дотла» – вечные слова русской истории! – и пожары, пожары…[259] –
записывает Бунин в дневнике 4 апреля 1921 г. Учитывая бунинскую символику огня, нетрудно заключить, что пространственный и временной фон свидания героев на пожаре – это вся история России и человечества, вплоть до гибели страны и конца времен.
Сличение реалий с художественными образами – не главный и не единственный способ, позволяющий опознать Елец в «Позднем часе». Та же церковь Михаила Архангела, мужской монастырь, каменная гимназия, Вознесенский собор на Орловской, ведущей «вон из города», многократно описываются в «Жизни Арсеньева»:
…Гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Святого Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса (6; 11);
А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор… (6; 65);
А прямая, как стрела, Долгая улица, ведущая вон из города, к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета 〈…〉 А в соборе звонят ко всенощной
〈…〉 Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола… (6; 67–68).
Я мысленно вижу, осматриваю город. На выезде, слева от шоссе, древний мужской монастырь… (6; 69)
Через повторы одних и тех же или очень схожих мотивов, через узнавание в одном тексте деталей другого проявляется природа бунинского лиризма. Как известно, репертуар лирических тем гораздо более ограничен, чем репертуар тем прозаических, повторяемостью мотивов бунинская проза напоминает стихи. Содержание стихотворных текстов устойчиво, стихи описывают одно и то же, но по-разному, так же устроена и бунинская проза: рассказы отражаются в романе, в автобиографических заметках, а между собой легко группируются в семантические гнезда, в несобранные автором циклы и т. д. «Поздний час» в цикле «Темные аллеи» звучит миниатюрной вариацией на темы «Жизни Арсеньева», рассказ повторяет сюжет романа в его вершинных точках: детство и юность героя в старинном уездном городе, ранняя смерть возлюбленной, эмиграция… Кстати, Бунин и в «Жизни Арсеньева» оставляет город своего детства без названия. Постоянно упоминая реальные и вымышленные Каменку, Батурино (в реальности Озёрки), Васильевское, Писарево (в реальности Измайловка), Орел, Ефремов, писатель как бы специально обходит Елец, а всё та же Орловская улица Ельца в «Арсеньеве» превращается в Долгую. В «Позднем часе» названия улиц – Старая, Монастырская[260] – тоже стилизованы, приближены к эпитетам. Абстракция топонимики поэтически возвышает образ конкретного места, а читатель получает возможность пройтись по вымышленному городу с настоящим, но скрытым именем.
Почему же связь с реалиями, «документальные» кадры повышают лиризм текста, а не прозаизируют, не конкретизируют его, как могло бы случиться? Во-первых, потому что связь эта неявная. Бунинские тексты моделируют очень зримые пространства, которые буквально «втягивают» читателя, заставляя его внимательно всматриваться в детали, мысленно представлять подробнейшие картины[261]. Сочетание конкретности, «документальности» с обобщенностью и неопределенностью заключает в себе выразительный художественный эффект. Во-вторых, похожие мотивы (в нашем случае «елецкие») в разных текстах подталкивают читателя к установлению, пусть зыбких, но все-таки параллелей, связей между текстами. В «Позднем часе» повествование ведется от лица вымышленного героя, но в «Жизни Арсеньева», с которой перекликается рассказ, те же мотивы автобиографичны, следовательно, и на героя «Позднего часа» ложится тень автобиографизма. Пространственные векторы настолько сильны, что они как бы устремляются за пределы текста, к реалиям, будто бы личность автора, его родные места, – это своеобразный «тайник», на который наводит художественный рассказ. Думается, не случайно, называя в художественных текстах имена разных городов, Бунин скрыл название того города, который был ближе всего к его имению, к его дому. Скрытое имя делает образ города еще более притягательным, биографический подтекст творчества Бунина еще более актуальным. Столь же пристальное внимание к личности автора характерно и для лирики, которая не повествует о конкретных событиях, концентрируясь на отвлеченных эмоциях, но при этом направляет интерес читателя к личности и биографии поэта.
В «Позднем часе» Елец не равен самому себе; похожие, но не одинаковые рельефы одних и тех же мест не являются, как мы уже говорили, результатом случайного неразличения образов памяти и воображения. Писатель разделяет два города, город памяти и город воображения, и читатель имеет возможность заметить разность между ними. Елец юности – шумный и живой; свидания героя и героини проходят в окружении толпы или в чьем-то присутствии хотя бы на дальнем плане: в первый раз герой целует руку возлюбленной на пожаре, «среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья» (7; 38); во время свидания в саду город, казалось бы, спит, но слышно, как «бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой» (7; 40). Тот город, в котором, переместившись из Парижа, очутился рассказчик, напротив – тих и безлюден, причем эта тишина и безлюдье замечаются не сразу, а настораживают постепенно. В первом абзаце город уже пуст: «…и никто не встретит меня» (7; 37), но поскольку речь идет о «позднем часе», то кажется, что фраза мотивирована ночным временем, однако и позже рассказчик не услышит ни одного звука, не встретит ни единой души, устремляясь от моста к кладбищу. Тогда-то и становится понятно, что герой идет по мертвой земле, по городу-Некрополю, а описание Некрополя наложено на описание живого, радостного и шумного Ельца, оставшегося в далеком прошлом.
Подобные моменты разделения пространств в одном континууме иногда удается зафиксировать в текстах лирической природы. Так, по мнению Ю. Н. Чумакова, XXXV, XXXVI–XXXVII строфы 4-й главы «Евгения Онегина» позволяют заметить идентичность дома автора и дома Онегина в деревне: «автор (и это хорошо видно в тексте романа) фактически вселяет Онегина в собственное поместье, а затем одновременно оказывается живущим там же. Конечно, в поэтическом тексте они живут каждый в своем доме, но автор, поставив строфы рядом, обыграл множественность своих обликов, намекнул, что реально-жизненной основой эпизода является сельцо Михайловское, узнаваемое по разрозненным чертам и деталям»[262]. В «Позднем часе» более чем достаточно намеков на реальный Елец, но это не отменяет художественного обобщения, а лишь укрупняет его смысл. Разные планы города едины, но и несводимы один с другим, причем они восприняты только одним героем (а не двумя, как в романе Пушкина), и «я» этого героя-рассказчика получает множество ипостасей: Я-в мечтах, Я-в воспоминаниях, Я-в прошлом, Я-в молодости, Я-сейчас, на пороге смерти. Не случайно нетождественность внутри «я», расслоенность «я» – одна из ведущих тем этого рассказа: «худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?» (7; 39)[263].
Осторожное (а у Бунина даже тщательно замаскированное) наведение на реалии не только не превращает художественный текст в документальный, напротив, оно усиливает абстракцию поэтического мира. «Сколки» реальности, ее образы словно вторгаются в уже сформированный и самоценный художественный континуум, украшая и укрепляя его, подчеркивая его границы.
Звезда и камень
Черта, отделяющая Некрополь от живого Ельца, парижский сон – от воспоминаний, связанных с этим городом, не проводится резко, она нечеткая, мягкая. Подобно городу, образ героини тоже удваивается, расщепляется: она символизирует и олицетворяет этот город. Там, где героиня вспоминается, где она близка герою, она отмечена светом – на пожаре («холстинковое платье»), во время свидания в саду («слабо белело вдали твое платье»). В пустом городе-Некрополе ее образ сплетается из теней листвы на мостовой, и этот призрачный, «сквозистый», траурно-«кружевной», «затемненный» образ из плана воображения незаметно переходит в план воспоминаний:
…только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, – он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого? (7; 39).
Гости, кажется, почти готовы ожить вместе с героиней, но не хватает какого-то последнего усилия памяти. Воображаемая неопределенность обстановки – «где?», «у кого?» – и недоступность героини («оскорбительно не обращала внимания») сохраняется, контрастируя с ее светлым, родным и близким образом в других эпизодах.
Два появления героини: «тогда», на пожаре, и «сейчас», в ночном городе, графически создают ее портрет, в котором сходится живое и мертвое, родное и недосягаемое. Это переживание усиливается тем, что в рассказе она называется то во втором лице («я слышал запах твоих девичьих волос» (7; 38)), то в отдаленном третьем («Она в нем была таинственна» (7; 39)). Во втором лице – когда вспоминается тот, живой Елец; и еще раз – у ее дома в мертвом городе: «Твой отец, твоя мать, твой брат – все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли» (7; 39), одно притяжательное местоимение оживляет целую вереницу умерших, непоследовательность в употреблении местоимений уравнивает два различных мира («тогда» и «теперь»), в результате разделенные между собою память и сон сливаются в одно, подменяют друг друга, создавая множественную модальность текста, особенно резко явленную в сцене похорон.
Если считать сюжет «Позднего часа» сжатой вариацией на темы «Жизни Арсеньева» (а именно так, по-видимому, и считал Бунин, во всяком случае, в дневнике от 7 мая 1940 г. сохранилась запись: «“Поздний час” написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал “Ликой”»[264]), то, по аналогии с романом, герой не должен был бы присутствовать на похоронах героини: в романе между Ликой и Арсеньевым происходит размолвка, и Арсеньев только спустя полгода узнает о смерти Лики. В рассказе нет развития отношений, подробностей судеб героев – отмечены лишь вершинные моменты. Сюжетная его часть – это пожар и ночные свидания: любовь в параллели к смерти заполняет весь текст. Похороны героини как будто бы вставлены в сюжетную цепь отдельным звеном, в то же время этой сцены как будто и нет:
Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее (7; 42).
Траурная процессия сначала – это некое обобщение, картина того, как это всегда происходило в этом городе, на этом кладбище, но смещенная, приближенная точка зрения, выразительное описание лица некоего покойника превращает чьи-то похороны в похороны героини, к живым портретам которой добавляется еще один – с «рисовым лицом» и «выпуклыми веками». Ни разу Буниным не употреблены здесь слова «покойник», «мертвец», «мертвый»: «чей-то» гроб оказывается гробом героини, но неопределенность сохраняется, обеспечивая символический план повествованию.
Понять, был ли герой на ее похоронах, был ли он с ней в момент ее смерти, нельзя, тем более что в самом начале «Позднего часа» есть указание на то, что рассказчик покинул родной город очень рано, в «девятнадцать лет». Похороны могут быть сном во сне, грезой рассказчика, вмещенной в его парижскую мечту о родине. Обычная условность бунинских развязок подталкивает к тому, чтобы считать (как не без иронии делает это Д. Быков) идеальным завершением почти любого рассказа Бунина смерть героини, а еще лучше – двойное самоубийство возлюбленных[265]. Но наряду с развязкой не менее важна сюжетная потенциальность, «перебор» разных возможностей развития сюжета, переходы из воспоминаний к образам воспоминаний, от конкретики фактов к потенциальному впечатлению от них.
«Разноликость» героини определяет характер повествования: «Поздний час», не содержа в себе ничего, кроме смутных упоминаний о свиданиях героев, тем не менее пунктиром намечает всю жизнь героини: от девичества к женственности и смерти. Отсутствие героини в пустом городе, мечта и воспоминания о ней, ее черное кружевное платье несут в себе семантику смерти, и в то же время текст обнаруживает и противоположное смысловое движение – по мере углубления в сон и воспоминания не только усиливается осознание смерти и утраты, но и, напротив, героиня все больше оживает, а ее любовь к герою (и его к ней) набирает силу. Оживание героини происходит в сознании героя, рассказ идет о нем и от его лица, а между тем возникает иллюзия, что не герой, а героиня и ее таинственный тихий город скрывают причину происходящего с ним[266]. Ушедшие из земного бытия героини Бунина никогда не исчезают, их биография продолжается, они будто бы существуют после смерти, меняются, продолжая возбуждать жалость и любовь. Таковы Лушка («Грамматика любви»), Лика («Жизнь Арсеньева»), героиня «Позднего часа». Последние фразы «Жизни Арсеньева» могут считаться увертюрой «Позднего часа»:
Недавно я видел ее во сне – единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда (6; 288).
Сильной позицией героини обусловлено то, что материя памяти как бы освобождается от своего носителя, становится «независимой»: у Бунина не только герой-повествователь владеет памятью, воображением и героиней, но и они владеют героем, значит, рождаясь в сознании героя, героиня захватывает это сознание целиком.
Ряд лирических приемов «Позднего часа» обеспечивает «самостоятельность» и силу героини. Главный из них – ее связь с пространством. Свидание в саду Бунин вписывает в пейзаж, в «пестрый сумрак сада», похожий на тот «пятнистый тротуар», «сквозисто устланный черными шелковыми кружевами», по которым он идет теперь в этом воображаемом городе. Главная тема здесь, как и во всем рассказе, – взгляд, зрение, и на этом фоне другие мотивы возвышаются в своей значимости:
…И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя 〈…〉
А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал: – Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле (7; 40–41).
Можно сказать, что нынешнее воображаемое посещение рассказчиком города, в котором живет это воспоминание, – прообраз той «будущей» встречи, которая им с героиней еще предстоит. Благоговением, преклонением перед бесценным даром любви и продиктован этот рассказ.
Сцена свидания в саду «прикрыта» ночной тенью, оставлена в полутьме, между тем визуальные мотивы выступают в ней на первый план, они-то и связывают героев с пространством, которое немо, но не слепо, даже напротив – оно как бы перенимает от автора/рассказчика способность остро видеть[267]. Обратим внимание на глаза героини: «быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз» (7; 40) – момент встречи; «Легкий сумрак и мерцание твоих глаз в сумраке» (7; 42) – прощание. Все, что происходит между встречей и прощанием, описано в двух планах, и второй план открывается во взгляде героя: вверху справа «безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома» (7; 40); слева он видит «заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую» (7; 40–41). Герой как бы глядит на мир вместе с этой звездой, любовный восторг замкнул небесное и земное в один круг. Затем тот же взгляд зеленой звезды от героя передается героине: настолько близко сходятся в тексте «выглядывающая» звезда и «мерцание твоих глаз» (примерно так же, но гораздо более схематично построена кульминация рассказа «Поздней ночью», когда герой смотрит на парижское небо и через этот взгляд, блуждающий по далеким пространствам и видящий там Россию, воссоединяется с героиней, получает возможность возвращения к ней).
Тема взгляда не только организует сцену свидания в саду, она значима для всего рассказа. Позволим себе еще раз вернуться к началу текста, ибо тема берет свое начало именно там. В «непроглядном небе» Парижа герой смотрит на свою родину и думает о ее истории и своей жизни: «все началось, протекло и завершилось на моих глазах, – так быстро и на моих глазах!» (7; 40). Финитный смысл этой фразы намекает на то, что и страна, о которой идет речь, и все ее обитатели в некотором смысле уже окончили свой земной путь, как тот покойник, «рисовое лицо» которого с «закрытыми выпуклыми веками» покачивается в гробу. Между тем повествователю дана возможность откуда-то издалека увидеть свой город, «взглянуть на гимназию» (7; 39), на «все вокруг, насколько хватало глаз» (7; 42), «взглянуть и уйти уже навсегда» (7; 41). Что касается героини, то в проекции на нее тема взгляда «подпитывается» традиционной семантикой элегической поэзии. Рассказчик помнит «черные молодые глаза» (7; 39) возлюбленной, ее «ясный взгляд» (7; 40), о его любви и о ней самой говорит «одинокая зеленая звезда» (7; 41). «Большеглазый Спас в ржавом окладе» (7; 41), невидимо глядящий на рассказчика с иконы в Скобяном ряду, и звезда замыкают цепь визуальных мотивов, благодаря которым герой и героиня соотносятся с городом, небом, Творцом, расширяя границы своего «я».
Восход звезды играет роль завершающего аккорда кульминации и финала, звездою уравниваются сад и кладбище – локусы разделенных во времени и пространстве свиданий. Предутренняя одинокая звезда, как и город, не названа ни в первом, ни во втором случае, однако, как и город, и ее можно безошибочно опознать – это Сириус, чье появление на ночном небосклоне отмечает самый поздний, предутренний час ночи. Одна и та же звезда соединяет героя и героиню через предел земной жизни. Именно с этой, дважды восходящей в рассказе звездой, связаны и другие лейтмотивы текста: ночь «Позднего часа» освещена месяцем, он светит и в самом начале, где месячный свет ловят глазницы-иллюминаторы парохода, стоящего на знакомой и вместе с тем неузнаваемой реке (это «вообще река» – «так было и на Ниле»), тот же месяц «сияет над двором» в саду. В свете месяца кружево мостовой в вечернем городе рисует образ героини в ее черном вечернем платье («Я шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени» (7; 38)), и та же кружевная тень от листьев лежит под деревьями на кладбище:
Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватало глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени (7; 38).
Месяц, как и Сириус, уравновешивает разрозненные картины, события, времена и пространства рассказа. Бунин был чрезвычайно внимательным наблюдателем небесных светил, их образы исследованы буниноведами довольно подробно[268]. Не повторяясь, укажем лишь на ту же самую звезду в «Жизни Арсеньева»:
…где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери (6; 100–101)[269].
Этот отрывок намечает еще на одну линию схождения «Позднего часа» с романом, добавляя к коннотатам «женского» еще и компоненты материнского, семейного, родственного («Да и у меня все умерли, и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь» (7; 39–40)). Весь рассказ целиком, а не только его последняя, кладбищенская сцена, – уплотненный концентрат элегических тем, самым непосредственным образом соотнесенных с рассказчиком, с его судьбой, семьей, близящейся к концу жизнью.
В описании кладбища можно обнаружить несколько сильных приемов, которые воспринимаются совместно и организуют такой финал, перед которым нивелируется и под который «подстраивается» все предыдущее содержание рассказа. Кроме Сириуса, внимание останавливает надгробный камень: «передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене» (7; 43). Слова «удлиненный», «узкий» синонимичны эпитетам траурного портрета героини, ее «длинному, стройному» платью, «тонкому стану»[270]. Благодаря сходству эпитетов, здесь, на кладбище, воспоминание становится еще более живым, и лежащая в могиле героиня вновь почти оживает. Отметим, что неявное, «призрачное» присутствие «возлюбленной тени» – одна из обычных элегических тем, как, например, в пушкинском «Заклинании»:
Приди, как дальная звезда, Как легкой звук иль дуновенье, Иль как ужасное виденье, Мне всё равно, сюда! сюда![271]Холодный «месячный свет»[272] (еще более яркий от того, что Бунин использует редчайший эпитет, а не привычный «лунный свет» или генетивную конструкцию «свет месяца») гармонирует в рассказе с мотивами камня, немоты, скованности, тяжести, застывания. К последней фразе текста:
Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная (7; 43), –
незаметно подводит целая серия словосочетаний с разнообразнейшей «ригидной» семантикой: «мост… даже не каменный, а какой-то окаменевший» (7; 37), «золотыми столбами: пароход точно на них стоял» (7; 38), (7; 38), «улицы лежали в тени» (7; 38), «все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе» (7; 39). Тень немоты и неподвижности лежит как на городе с его каменной мостовой, так и на герое, который, бродя по ночным улицам, то и дело останавливается, встречаясь с видениями собственной памяти: «я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами» (7; 40). На кладбище едва не останавливается его сердце: «вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло… Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять» (7; 42–43), с «остановившимся сердцем, неся его в себе как большую чашу» (7; 43), герой оказывается возле могильного камня.
Камень лежит возглавием к звезде так, словно и лежащая под ним тоже повернута к звезде. И в кладбищенской сцене, и во время свидания в саду широкая пейзажная горизонталь уравновешивается низкой вертикалью: герой и его возлюбленная тогда и теперь смотрели и смотрят на ту же звезду, но в то же время как бы оттуда, вместе с ней глядят на мир, заполняя собой все лирическое пространство.
Для поэтики Бунина характерно, что точные описания, соотносимые с узнаваемыми елецкими реалиями, обобщаются не только в силу символичности и условности локусов и топонимов, но и благодаря поэтическим подтекстам формульно-романтического содержания. Эта обобщенность может быть воспринята как черта «лирической неопределенности», о которой пишет в связи с данным текстом В. П. Скобелев[273]. Выше уже отмечалось, что за «Поздним часом» стоит обширный пласт элегики, в нем можно уловить отголоски мотивов «возвращения на родину», встречи с возлюбленной за гробом; даже общий меланхолический тон рассказа и его центральный образ звезды, – все это продиктовано элегическими законами. Мы не станем представлять здесь весь кластер поэтических подтекстов «Позднего часа», остановимся лишь на тех, что идут от Жуковского – поэта, о котором И. А. Бунин написал в своем дневнике в 1885 г.: «Но может быть именно более всего святое свойство души Любовь тесно связано с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки)»[274].
Самый очевидный подтекст из Жуковского – это стихотворение «Лалла Рук», в котором из-за вполне явленного герою облика молодой женщины встает ангелоподобный «призрак» – «гений чистой красоты», «обитающий» не с нами, не в нашем мире, но вдохновением «животворящий» земной мир.
А когда нас покидает, В дар любви, у нас в виду В нашем небе зажигает Он прощальную звезду[275].Все это очень похоже на сюжет «Позднего часа», а «восточные», экзотические мотивы «Лалла Рук» слегка подсвечивают восточные темы Бунина, которые становятся у него все настойчивее от раннего к позднему периоду. Находясь во Франции, Бунин еще острее, чем на родине, ощущает Россию азиатской страной, история которой исходит из древности монгольского ига («Мост… окаменевший от времени… гимназистом я думал, что он был еще при Батые» (7; 37)) и заканчивается в огне «азиатчины» («глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы Азия, какие монголы!»[276]).
Второй довольно явственный подтекст – «Сказка о царе Берендее», где Иван-царевич и Марья-царевна, убегая от Кощея, обращаются то речкой с мостиком, то дремучим лесом, то церковью с монахом. Топографические метаморфозы «Сказки…» напоминают ландшафт «Позднего часа» с его мостами, садами, кладбищенской рощей и церквями, а также повороты излюбленных бунинских сюжетов, среди которых есть и погони («Баллада», «Волки»), и сказочный автоперсонаж «Иван» с реальным именем Бунина («Иоанн Рыдалец»). Заключительная часть сказки Жуковского повторена во всем сюжете «Позднего часа»: Иван-царевич из «Сказки…» видит перед собой неизвестно откуда взявшийся чудесный город:
…уж склонялось Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось В этот город заехать…[277]Рискуя не вернуться обратно из этого волшебного места («Заехать нетрудно, да трудно / Выехать будет…») и предать забвению все, что лежит за его пределами, Иван-царевич все-таки входит в «город прекрасный», а Марья-царевна, обернувшись «белым камнем», ждет его возвращения («ступай, а я здесь останусь / Белым камнем лежать у дороги»). Так и героя «Позднего часа» белым камнем у дороги ждет его возлюбленная: ей обещана встреча «в будущей жизни» (7; 41).
Многослойный подтекст из Жуковского проявляет некоторые новые черты и в географии «Позднего часа», ведь с этими, родными для Бунина, местами пусть и не напрямую, но связана биография Жуковского: его отец, помещик А. И. Бунин, владел имением Мишенское (где и родился Жуковский) в Тульской[278] и землями в Орловской губернии, к которой в XIX в. относился Елец. В «Позднем часе» с удивительной точностью изображен реальный, доныне сохраняющий свой прежний облик город, но одновременно это сказочно-литературное и будто бы заколдованное место, в котором хранится часть души и героя рассказа, и его автора.
Кажется, что для характеристики поэтики важно разглядеть два тематических центра в рассказе «Поздний час»: один сопряжен с городом, другой – с героиней. И героиня, и город – создание мечты рассказчика, картина его памяти и воображения. Эта картина образует отдельный мир, с удвоениями, умножениями пространств и мотивов, со сложной временной и модальной структурой; окутанный смертью и уже погибший в огне мир, куда вписана история России первой половины XX в.
* * *
Целая череда текстов или отдельных их фрагментов, связанных между собой одними и теми же мотивами, формулами наподобие поэтических, была подвергнута рассмотрению в данной главе, но кратко сформулировать какой-то единый и магистральный танатологический сюжет, характерный для Бунина, конечно, не удастся. Это слишком обширная тема, компрессирующая в себе большой смысловой масштаб в минимальном словесном объеме, обусловленном краткостью формы бунинских рассказов и высокой мотивной повторяемостью в них. Пожалуй, не трудно будет указать на контрасты: в рассказе «Огнь пожирающий» представлен французский вариант смерти и похорон – «геенна огненная», а в противоположном «Огню…» по интонации и эмоциональному облику «Позднем часе» – элегическое свидание на небесах. В «Аглае» приоткрыта трагическая историософия Бунина, предчувствовавшего накануне революции погружение своей родины в чарующие бездны довременной, языческой расхристанности, уничтожающей красоту, повелевающей ей истлеть, в «Позднем часе» красота возвращается, но это замершая элегическая красота уже испепеленного, исчезнувшего мира, сохранившаяся в призрачном, неустойчивом, но нетленном облике.
Глава V Элегия в прозе: «Несрочная весна»
«Несрочная весна» (1923) – последний из пяти рассказов, написанных Буниным в Приморских Альпах. Текст имитирует длинный отрывок из письма, которое приводится (или сохранилось) не целиком, а как будто бы с середины, начинаясь следующим образом: «А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие…» (5; 118). Автор письма, живущий в послереволюционной Москве, посылает своему покинувшему Россию другу зарисовки на русские послереволюционные темы.
Форма письма всегда притягивала Бунина, эпистолярные отрывки часто становились предметом изображения в его рассказах. Первая глава этой книги посвящена «Неизвестному другу» – тексту в форме писем, в других случаях письма не являются основной формой повествования, но нередко целые страницы рассказов и романа Бунина отведены томительному ожиданию вести, которое ничем не завершается («Апрель») или завершается самым неожиданным образом («Генрих», «Жизнь Арсеньева»). Несколько коротких писем от Кати получает герой «Митиной любви», и последнее ее письмо служит поводом для самоубийства.
В рассказе «Антигона» из «Темных аллей» вынужденная покинуть генеральский дом сестра милосердия придумывает письмо от отца, сообщающего, якобы, что «ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе» (7; 65). Выдуманное письмо – лишь этикетный повод для отъезда, однако вместе с ним в рассказе возникает исторический фон, на котором юношеское увлечение героя, как и жизнь в усадьбе богатой тетки, казавшаяся ему беспредельно скучной, выглядят совершенно иначе перед лицом наступающих грозных событий, положивших конец всему, что еще существовало в те дни, к которым относится время рассказа. Русско-японская, Первая мировая войны и революция редко попадают в центр изображения у Бунина, но исторический фон присутствует, реализуясь в косвенных упоминаниях, брошенных вскользь фразах и случайных поводах для тех или иных перипетий сюжета.
Через семь лет после «Несрочной весны», в 1930 г., среди бунинских коротких рассказов появится миниатюра «Письмо» – отрывок из письма новобранца, взятого из деревни на фронт во время Первой мировой войны. Как и «Несрочная весна», письмо начинается с середины:
– Еще, пишу вам[279], обо мне не скучайте, в вагонах было тепло даже раздетому. От самого Минска снега совсем не было, места все ржавые, кругом болота, вода. Теперь ожидает меня что-то небывалое. Прощайте, все мои родные и знакомые, наверное, больше не увидимся… (5; 462).
Последняя фраза немудреного послания-жалобы родным от человека, который чувствует, что вот-вот погибнет в бою, завершается клишированной и неожиданно патетичной фразой: «он погиб во славу и честь русского оружия» (5; 462), сказанной автором письма о каком-то Ване, убитом рядом. Фраза звучит по отношению к «я» в отстраненном, третьем лице, но сказана одновременно и о себе – как бы уже из-за предела земной жизни. Похожий оборот встречается в «Несрочной весне»: «„Во славу и честь Державы Российская“» (5; 124).
На первый взгляд, ничего, кроме формы письма и нескольких приблизительно совпадающих фраз, не объединяет эти два текста. Если же поставить их рядом, то они начинают притягиваться друг к другу. «Письмо» – краткий, вершинный текст, резко устремленный к знаменательному финалу – гибели героя, поэтому и вся энергетика повествования определяется неотвратимостью трагической развязки, хотя в тот момент, когда это письмо пишется, ничего событийно значимого не происходит. Но пуля, как кажется, сразит молодого новобранца в тот момент, когда он поставит в письме финальную точку. Отрывочность, оборванность, торопливость письма вторит мимолетности жизни героя. «Несрочная весна», напротив, представляет собой длинный, мерно продвигающийся текст со множеством отступлений, в котором подробно обрисована старинная усадьба, будто бы чудом уцелевшая во время революции и превращенная в музей. Все перипетии рассказа никак не касаются внешней жизни повествователя, обозревая руины старинной усадьбы и претворяя увиденное в эмоциональное описание, он, подобно Ивлеву, напоминает лирического героя стихотворного текста. Он обозревает руины старинной усадьбы и претворяет все увиденное в эмоциональное описание.
Лирическая медлительность «Несрочной весны» определяет оставленное за пределами текста будущее героя. Оно имеет долгую и неопределенную перспективу, тем более долгую, что рассказчик, как выясняется из дальнейшего повествования, принадлежит к тем людям, которые погублены революцией отнюдь не физически, но лишены духовных основ жизни и поэтому обречены на медленное и мучительное умирание. Его потерянность и неприкаянность оттеняется и подтверждается беглым портретом случайного попутчика, бывшего московского профессора. От голода и разрухи профессор уехал в деревню, где он кормится «трудами рук своих», не оставляя ученых занятий. Он пишет, по его словам, «большой исторический труд, который… может создать эпоху в науке» (5; 120): он осмысляет прошлое в тот момент, когда в настоящем времени совершаются роковые и, безусловно, исторические события. Старик-профессор всего на мгновение появляется в рассказе, а затем этот своего рода «музейный» персонаж картинно исчезает из поля зрения рассказчика:
Солнце серебряным диском неслось уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке – и заковылял, заковылял со своими мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари (5; 120).
И вместе ним навсегда уходит и растворяется в призрачном небытии целая эпоха. Мотив ухода в небытие усилен страшными рассказами об исчезнувших по весне в лесу людях[280], которые слышит на станции рассказчик, – все это создает вокруг заброшенной усадьбы элегическую атмосферу, скрывающую в глубине едва ли не готические ужасы. Однако страшные смерти от пуль и разбоя остаются, как и ужасы войны и революции, на дальнем плане, они «затушеваны» в «Несрочной весне» более тонкими и мягкими вариантами темы смерти: смерть наступает не вдруг, а постепенно, она больше похожа на долгий уход и растворение в пространстве. Как и «Письмо», «Несрочная весна» прощается с навсегда ушедшей жизнью, от которой случайно уцелел лишь небольшой фрагмент.
О самом герое рассказа можно сказать, что и в нем осуществляется процесс умирания, он просто не способен более существовать, чувствуя, как обрываются его связи с живым миром, и письмо, им написанное, оказывается знаком оборванной связи: начало послания как будто утрачено, зато финал сохранен, и он очень длительный, он украшен поэтическими цитатами и пафосными обобщениями, к нему подводит несколько риторических ступеней. Застывание, остановка на финальных картинах, фразах, на финальных частях композиции как нельзя лучше характеризуют поэтику «Несрочной весны». Отрывок из письма, отправленного в никуда, за пределы России, другу-эмигранту, тоже, видимо, принадлежащему исчезающему миру, укрепляет в правах тему смерти многократными повторами и вариациями.
Часто бунинисты высказывают мысль о том, что сюжеты «Темных аллей»[281] – это множественные вариации на тему любви. «Несрочная весна», рассказы Приморских Альп, вообще творчество Бунина 20–30-х гг. проигрывает вариации на тему смерти и исчезновения: от безвременно оборванной жизни юноши на войне или в революцию до неприкаянной одинокой старости и смерти русского аристократа на родине или в эмиграции. Из финальных моментов всех рассказов или отдельных их отрывков складывается разнообразная картина гибели целой страны, которая архаически-возвышенно названа в «Несрочной весне» «Державой Российской».
Исследователи русского искусства XX в. иногда представляют его развитие как борьбу нарративности с чистой пластикой, последняя неразрывными узами связана с вариативностью, поскольку пластический образ формируется динамически – в соотнесенности вариантов[282]. Советский постреволюционный культурный канон предписывает фабульной материи захватывать все художественное пространство, вытесняя пластические, внефабульные элементы, при этом вариативно-лирические формы, которые зародились в начале XX в. в русской культуре и очень характерны для нее, в конце концов, эмигрируют на запад. Если проецировать эту мысль на литературу, то Бунин предстает адептом чистой пластической формы слова, которая тоже проявляет себя не в фабуле: она разыгрывается по лирическим правилам, в виртуозных вариациях на одну и ту же тему, и художественный эффект оказывается связан с набором важнейших тем, где каждая новая вариация усиливает лирический эффект[283].
Элегические подтексты «Несрочной весны»: Державин, Батюшков, Боратынский
«Несрочная весна» имеет несколько ярких подтекстов, которые не надо разгадывать – они названы автором. Прежде всего, это элегия Боратынского «Запустение», цитата из которой дала рассказу название. Любопытно, что более чем за 20 лет до «Несрочной весны», в 1900 г., Бунин посвящает небольшую статью 100-летию Боратынского (9; 507–524), где говорит о «скорбной внутренней жизни» поэта, не цитируя, однако, его самых скорбных элегий («Осень» 1836 г. и «Запустение» 1832 г.), зато обращает внимание на два других текста. Это – «Есть милая страна, есть угол на земле…» (1832) и написанная десятилетием раньше «Родина» (1821):
Я возвращуся к вам, поля моих отцов, Дубравы мирные, священный сердцу кров! Я возвращуся к вам, домашние иконы![284]«Есть милая страна…», «Родина», «Запустение» написаны в жанре «Heimkehr» – «возвращение на родину». Примерно к тому же времени, что и статья о Боратынском, относится бунинский поэтический вариант на тему Heimkehr, для которого Бунин выбирает то же заглавие, что и у Боратынского, – «Запустение» (1903).
Еще один очевидный подтекст этого рассказа связан с центральным, «екатерининским» фрагментом «Несрочной весны». Он восходит к «Развалинам» Державина и целому ансамблю русских царскосельских элегий-руин. Среди них – пушкинские «Воспоминания в Царском Селе», написанные, как известно, по мотивам Державина и под влиянием элегий Батюшкова. В столь плотном элегическом субстрате наметим магистральные, на наш взгляд, линии.
«Несрочная весна» и «Путешествие в замок Сирей» Батюшкова: пасторальная гармония и руины революции
Оставив на время в стороне Боратынского и Державина, нам хочется начать обзор литературных подтекстов «Несрочной весны» с не менее значимого, но менее явного источника – это «Путешествие в замок Сирей» Батюшкова. Как известно, Бунин глубоко переживал свое родство с поэтами предпушкинской поры, о чем не раз писал в дневниках и рассказах:
И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины… А вот Журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина (2; 190).
Это отрывок из «Антоновских яблок» (1890), он интересен тем, что в нем раньше имен Батюшкова и Жуковского появляются их поэтические формулы: фразы мастерски стилизуют аллитерационную и лексическую палитру романтической поэзии с ее устойчивой фразеологией и звукописью, опирающейся на гласные и сонорные звуки – «скалы», «дубравы», «луна», «лилии», «младых», «лилейная», «Людмилы», «Алины»; «розы», «проказы», «резвости».
Однако в связи с «Несрочной весной» стоит вспомнить не только поэзию Батюшкова, но и его прозаическую миниатюру, включенную в состав «Опытов в стихах и прозе». В реминисцентном слое бунинского рассказа подтекст из Батюшкова соединяет далеко отстоящие друг от друга во времени «Развалины» Державина (1797) и «Запустение» Боратынского. Из опыта литературы XVIII в. («Прогулок» и «Дщиц для записывания» М. Н. Муравьева, «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина) складывается форма батюшковских прозаических прогулок и путешествий. «Путешествие в замок Сирей» изображает замок мадам дю Шатле, «божественной Эмилии», где великий Вольтер провел годы своего жизненного и творческого расцвета («Здесь долгое время был счастлив Вольтер в объятиях муз и попечительной дружбы»[285]). Конечно, батюшковское «Путешествие…» имеет автобиографическую основу: находясь в составе русских войск во Франции после победы над Наполеоном, в феврале 1814 г. поэт посетил замок Сире, расположенный на востоке страны, у границы Лотарингии. Именно эту дату, февраль 1814 г., он и ставит под текстом в «Опытах…», хотя фактически заканчивает работу над отрывком в 1815 г.[286] Миниатюра имеет подзаголовок «Письмо из Франции к г. Д.» (за инициалом скрыт один из основателей «Арзамаса», страстный поклонник французской культуры Д. В. Дашков). Бунин заимствует у Батюшкова форму «письма-путешествия» вместе со всем литературным шлейфом этой формы, причем, если «Путешествие в замок Сирей» – это «письмо» русского офицера из Франции в Россию, то у Бунина, волею судеб заброшенного на южный берег Франции, рассказ имитирует письмо из России в Европу (и скорее всего – во Францию)[287]. Ближе к концу миниатюры Батюшкова среди адресатов Вольтера упоминается Екатерина, и тема переписки из Франции в Россию и обратно упрочивается и высоко поднимается в своем значении.
История любви Эмилии дю Шатле и Вольтера, вдохновлявшая поэтов XIX в., в том числе и русских[288], изображена у Батюшкова всего несколькими яркими штрихами, лишенными конкретных подробностей. Ореол величественной значимости вокруг этой любви Батюшков создает тем, что вводит в текст идеально-прекрасный портрет г-жи дю Шатле, который незаметно проступает из впечатлений от интерьера, от картин, развешанных на стенах, от книг в библиотеке замка. «Путешествие в замок Сирей» в творчестве Батюшкова образует единый пласт не только со стихотворными элегиями-руинами (такими, как «На развалинах замка в Швеции»), но и с любовными элегиями, включенными в состав «Опытов в стихах и прозе», оно прочитывается как прозаическая квинтэссенция батюшковских поэтических текстов на темы любви на исходе жизни, на темы предсмертной любви[289]. Именно поэтому много внимания в «Путешествии в замок Сирей» отдано сценам похорон маркизы («Все жители плакали о ней как о нежной, попечительной матери»[290]) и неутешному горю Вольтера. Эскизность портрета главной героини, отдаленность, недостижимость и возвышенность живого прототипа этого портрета, акцентирование темы смерти, длинный финал батюшковской миниатюры – все это немаловажно для восприятия «Несрочной весны» Бунина.
В «Несрочной весне» трудно не усмотреть стилизацию под прозаическую миниатюру начала века XIX в. в духе Батюшкова. И речь идет не только о словесных формулах элегического репертуара, без которых невозможно представить прозу Бунина (в «Путешествии…» есть и «темная аллея», «тенистые аллеи», «слава меча русского», которая у Бунина превращается во «славу и честь Державы Российская» и т. д.). Еще в более общем плане важно то, что проза Батюшкова, столь же изящная и поэтичная, как и его стихи, содержит в себе множество стихотворных вкраплений: в «Путешествии в замок Сирей» Батюшков обильно цитирует Вольтера, Данта, Державина и др. («В тех покоях, где Вольтер написал лучшие свои стихи, мы читали с восхищением…»[291]).
Стилизаторские усилия, направленные на оживление памяти о преромантической прозе, в «Несрочной весне» органично сливаются с привычной для Бунина манерой расцвечивать прозу стихотворными фрагментами, причем сюжетный импульс для введения в прозаическую ткань поэтических фрагментов у Батюшкова и Бунина один и тот же: в разрушенном замке / имении есть библиотека, которая будит литературное воображение путешественников, заставляет их вспоминать тексты своих поэтических предшественников («Но мы еще воспользовались сумерками: обошли нижнее жилье замка, где живет г-жа Семиан; осмотрели ее библиотеку, – прекрасный и строгий выбор лучших писателей»[292] – у Батюшкова, «Часто бывал я в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище 〈…〉 Там… мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за последние два века» (5; 124) – у Бунина). Не менее красочное описание библиотеки в том же, романтическом духе есть и в «Антоновских яблоках»:
Потом примешься за книги, – дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьяновых корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами… Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного» (2; 189).
Вернемся еще ненадолго к Батюшкову. Трудно сказать, по каким впечатлениям Батюшков описывал библиотеку в замке Сире: действительно ли поэт видел в замке какие-то книги, или описание было навеяно, весьма вероятно, известной Батюшкову библиотекой Вольтера, купленной Екатериной II и хранившейся в начале XIX в. в Эрмитаже[293], но важно то, что Батюшков стоит у истоков русских музейно-библиотечных описаний, и позже дань этому жанру отдадут Пушкин, Тургенев, некоторые другие поэты и прозаики XIX в., а в XX в. эта традиция и будет воспринята Буниным.
Точность Бунина сказывается в воспроизведении мельчайших деталей стилистики элегической школы начала XIX в. Так, элегический жанр предписывает легкие пасторальные включения в элегиях-руинах. К примеру, в последней строфе элегии Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» одиночество героя нарушается земледельцем, произносящим сентенцию на тему памяти и «отеческих гробов»:
Оратай ближных сел, склонясь на посох свой, Гласит ему: «Смотри, о сын иноплеменный, Здесь тлеют праотцов останки драгоценны: Почти их гроб святой!»Пасторальное четверостишие, находит герой «Несрочной весны» в «одном из прелестнейших томиков начала прошлого столетия»:
Успокой мятежный дух И в страстях не сгорай, Не тревожь меня, пастух, Во свирель не играй (5, 125).Бунин не точно цитирует «Хоры и песни» А. П. Сумарокова, где этот отрывок выглядит так: «Успокой смятенный дух,/И крушась, не сгорай, / Не тревожь меня, пастух, / И в свирель не играй». Нарушая точность цитаты, изымая ее из контекста, Бунин превращает подлинную цитату XVIII в. в стилизацию в духе XX-го. Четверостишие похоже на классический перевод античной буколики, слегка неловкий, шероховатый, будто бы автор XVIII в. подбирает слова, стараясь сохранить верность оригиналу. Благородная шероховатость XVIII в. оборачивается дисгармонией «разломленного» поэтического сознания ХХ в. – стихи звучат авангардно как в лексике (где практически невозможная в XVIII в., гораздо более поздняя романтическая формула «мятежный дух» вместо сумароковского «смятенный дух» пародийно сочетается со словом «успокой»), так и в ритмике (где ощущение разлома дает сочетание хореических и анапестических стихов), а ритмика XX в. отзывается в обилии жестких мужских словоразделов[294].
Пасторальная фигура оратая, пастуха, земледельца в поэзии предельно условна, а в прозаическом опыте Батюшкова и рассказе Бунина безмятежные земледельцы поэтических идиллий контрастируют совсем с другими крестьянами – с теми, что пережили революции (французскую – у Батюшкова, русскую – у Бунина) и последовавшие за ними войны.
«Путешествие в замок Сирей» – это одна из самых ярких русских инвектив XIX в., направленных против самого феномена революции:
«Развалины, временем сделанные, – ничто в сравнении с опустошениями революции», «Здесь не одна была революция, господин офицер! Не одна революция!.. (рассказывает путешественнику старый крестьянин в сношенном фригийском колпаке. – Е. К.) Разорили храмы Божии…»[295].
Войны и революции представляются Батюшкову тем, что страшнее самой смерти. Если после смерти маркизы и отъезда Вольтера жизнь в замке не прервалась, напротив, стены сохранили память о своих обитателях, то революция и война стирают память об идиллическом прошлом:
…там, где маркиза прекрасною рукою поливала розы и лилеи, кормила голубей ячменем 〈…〉 там, где она любила отдыхать под тенью древних кедров у входа в Заирину аллею, где Вольтер у ее ног в восторге читал первые стихи бессмертной трагедии 〈…〉 там вы расставите часовых с ужасными усами, гренадер и казаков, которые приводят в трепет всю Францию[296].
Теневой, призрачный мир с рассветами и закатами, таинственная дорога в заброшенное имение – все это повторено вслед за Батюшковым и русской элегией в рассказе Бунина, но гармоническая стилистика пушкинского времени у Бунина теряет качества идеального баланса, игра полутеней то и дело превращается во вспышки гроз, в огненные зарницы («и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу» – 5; 121), отчего очертания разрушающегося мира, которому суждено погибнуть, выступают еще четче и для главного героя «Несрочной весны», и для мужика, который подвез его от станции:
Человек оказался очаровательный – детски наивный гигант, всю дорогу повторял: «Глаза бы не глядели! Слезы!» Меж тем 〈…〉 оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька (5; 122).
Заброшенная усадьба в «Несрочной весне» называется то «дворцом», то «музеем». Последнее наименование иронично: созданный по инициативе советской власти «музей» должен сохранить намеренно уничтоженное и уничтожаемое той же властью. Охраняет «музей» однорукий китаец, чья немота, уродство и инородство прибавляют к музейной теме коннотаты ужаса, однорукий музейный китаец олицетворяет угрозу абстрактную и всеобъемлющую – революционное покушение на элегический мир памяти:
в вестибюле 〈…〉 сидел 〈…〉 с короткой винтовкой на коленях однорукий китаец 〈…〉 Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме, – в нем, в этом сиденье, было даже что-то жуткое (5; 123),
и это чрезвычайно выразительное воплощение темы восточного хаоса, бессмысленного разрушения, неотвратимой, невозмутимой, немой смерти.
С подтекстом из Батюшкова, одного из основоположников русской музейной культуры, созидавшего ее наряду с другими участниками кружка А. Н. Оленина[297], музейная тема у Бунина заставляет вернуться к «Путешествию в замок Сирей», к размышлениям Батюшкова о том, насколько опасны для руин несведущие профаны:
В Германии вы узнаете от крестьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке древнего замка или готической церкви. Все рейнские развалины описаны с возможною историческою точностью учеными путешественниками и художниками, и сии описания вы нередко найдете в хижине рыбака или земледельца. Притом же немцы издавна любят все сохранять, а французы разрушать[298].
Финал «Путешествия в замок Сирей» оптимистичнее, чем финал «Несрочной весны»: у Батюшкова русские офицеры, оказавшись в замке, хотя бы на некоторое время возвращают ему прежнюю жизнь, бунинский герой путешествует по заброшенному дворцу в абсолютном одиночестве, он не может вернуть жизнь мертвой усадьбе, ему остается только самому вступить во владения смерти. Батюшков описывает руины в момент петербургского расцвета, «золотого века» русского искусства, Бунин констатирует смерть обрушившейся империи. Перечни старинных книг, описания старинных библиотек у Бунина сделаны не только со знанием всех тонкостей подобных описаний в романтической литературе, Бунин воспроизводит XIX в. почти точно, но с едва уловимыми интонациями пародии, угадывающейся в «старинных духах», в искусно выбранных или специально стилизованных витиеватых цитатах. Четверостишие «Успокой мятежный дух…» слегка пародирует пастораль просьбой «не играть во свирель»: по законам пасторального жанра игра на свирели как раз успокаивает и умиротворяет. Искаженная цитата из Сумарокова говорит о несвойственных идилии чрезмерных страстях, присущих скорее эпохе модерна: в прошлое отодвинута не только дореволюционная жизнь, но и гармония золотого века. Поэзия пушкинско-батюшковской эпохи цитируется, но ее язык не может вернуться из прошлого в своем первозданном виде, он процитирован Буниным как «музейный», мертвый язык, неуместный в эпоху катастроф, но от этого еще более ценный и недоступный.
«Несрочная весна» и «Развалины» Державина: «во славу и честь Державы Российская»
В «Путешествии…» Батюшкова вариативно умножается, распространяясь на весь текст, элегическая тема памяти о прекрасном прошлом. Замок Сирей хранит память не только о маркизе дю Шатле и Вольтере: вокруг владелицы замка смыкается целый круг других теней: ее высокородных и просвещенных родственников, знаменитых друзей, добрых слуг. Путешественник, странник, попавший в замок, тоже будто бы попадает в круг друзей, увенчанный самыми высокими именами. Несколько раз в «Путешествии…» Батюшкова упоминается и Екатерина, «лучшее украшение протекшего века». Она появляется по ассоциации с письмами Вольтера и со всей вольтеровской эпохой, и в связи со стихами Державина: «мы читали 〈…〉 оды певца Фелицы»[299].
В качестве заглавной фигуры Екатерина выведена у Бунина: «на озере остров с павильонами, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу» (5; 123). Но если у Батюшкова в центре повествования оставлена все-таки владелица замка и история ее любви к Вольтеру, то у Бунина тень Екатерины как бы замещает хозяев («И ярче и величавее всех Екатерина»), чьи имена («князья Д.»), портреты, судьбы стерты революционной стихией[300] – уничтожена сама сердцевина «музея».
Фрагмент, относящийся к Екатерине, написан у Бунина с явным наведением на Державина вообще[301] и конкретно – на очень известный текст: элегию «Развалины» с ее сочными картинами, на которых «домашняя», улыбающаяся («блистая щедростью лица»), «царскосельская» Екатерина смотрит на рдеющих в воде рыб, на собачек с завитыми кольцами хвостами:
Киприда тут средь мирт сидела, Смеясь, глядела на людей; На восклицающих смотрела Поднявших крылья лебедей; Иль на станицу сребробоких Ей милых сердцу голубков; Или на пестрых, краснооких Ходящих рыб среди прудов; Иль на собачек, ей любимых, Хвосты несущих вверх кольцом…У Бунина пестрое, живое державинское великолепие растворено в пейзаже, который, предваряя появление Екатерины, со всей очевидностью отсылает к стихам Державина:
…где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды… А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.
Она осталась по счастливой случайности нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым (5; 123).
Заставляет вспомнить эту элегию и еще один момент, – описание частицы флагманского корабля «Св. Евстафий», которая хранится в кабинете хозяина «на небольшом письменном столе». Чесменская битва, где погиб «Св. Евстафий», – та самая победа, в честь которой был поставлен памятник, которым у Державина любуется Екатерина:
А здесь, исполнясь важна вида, На памятник своих побед Она смотрела: на Алкида, Как гидру палицей он бьет; Как прочие ее герои, По манию ее очес, В ужасные вступали бои И тьмы проделали чудес…Отметим, что след Чесменской битвы можно отыскать и в других текстах Бунина, к примеру, в вымышленном топониме Чéсменка в «Игнате» (так называется деревня, откуда происходит главный герой, она расположена в Орловской губернии, рядом с Шатиловым и Извалами, реально существовавшими в орловской и липецкой землях и названными в рассказе). Что касается названия знаменитого корабля и истории его гибели, то и они уточняют и проясняют некоторые смыслы «Несрочной весны».
«Св. Евстафия Плакиду», 66-пушечный корабль Екатерина подарила когда-то сыну, и он стал одним из лучших судов русской армады. В Хиосском проливе «Св. Евстафий» должен был наряду с двумя другими линейными кораблями и одним фрегатом выступать в авангарде; на «Св. Евстафии» был поднят русский флаг командующим адмиралом Г. А. Спиридоновым. Гибель корабля подробно изображена у Е. В. Тарле: «Первыми напали на турецкий линейный корабль “Реал-Мустафа” (где находился сам капитан-паша) русские линейные суда “Европа” и “Евстафий”. “Реал-Мустафа” вскоре загорелся от русского артиллерийского огня. Команда в панике бросилась в море, чтобы вплавь добраться до берега. Но тут русских постигла большая неудача: “Евстафия” течением нанесло прямо на горящего ярким пламенем “Реал-Мустафу”, и никакими усилиями нельзя было удержать его от этого гибельного сближения. Когда “Евстафия” прибило окончательно к “Реал-Мустафе”, русские матросы и армейский отряд бросились на абордаж и перебили турок, еще находившихся на борту пылающего судна. Но тут горящая грот-мачта турецкого корабля вдруг рухнула прямо на “Евстафия”, и так как крюйт-камера была открыта (для пополнения артиллерии порохом и снарядами во время боя), то горящие головешки попали в нее. Раздался оглушительный взрыв, и “Евстафий” взлетел на воздух. Спустя несколько минут был взорван и “Реал-Мустафа”»[302]. Как и предписывается уставом, адмирал Спиридонов и штаб оставили «Св. Евстафия» сразу после начала пожара, а капитан А. И. Круз, потомок моряка, служившего у Петра I, находился на корабле до последней минуты. При взрыве его выбросило в море, и он чудом спасся, ухватившись за обломок «Евстафия».
«Частица флагманского корабля» в тексте Бунина воскрешает сразу всю его легендарную историю, а случайная, нелепая и трагическая гибель судна проводит еще одну семантическую параллель к нелепой, неожиданной гибели России в пожаре революции. Не случайно и наименование корабля. В 1915 г. Житие Евстафия Плакиды стало поводом для сочиненного Буниным большого стихотворения[303], которое заканчивается строфой, живописующей кульминационный момент Жития – крест, пламенем воссиявший над головой оленя, настигаемого Евстафием на охоте:
Мрак и стволы великой чащи, Органных труб умолкший ряд, Взор, и смиренный и грозящий, И крест из пламени, горящий В рогах, откинутых назад.Перекличка названия корабля с заглавием написанного еще до революции в имении Васильевском стихотворения[304], лесные и «огненные» мотивы Жития и «Несрочной весны», «смиренный и грозящий взор» оленя и немые взоры владельцев заброшенной усадьбы, устремленные на путешественника с портретов княжеского дома, – все это добавляет христианские коннотаты к имперской теме «Несрочной весны». Кроме того, народная этимология названия родного для Бунина Ельца, восходящая к «оленю»[305], возможно, тоже привлекала внимание Бунина к житию Евстафия, тем более, что олень был изображен на дореволюционном гербе Ельца.
В «Жизни Арсеньева» тоже есть эпизод с цитатой из Державина:
В зале не топят, – там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного, темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого, в мундире с красными отворотами, императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку которой было в детстве таинственным наслаждением 〈…〉 Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежащим на полу, сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно-гордые державинские строки:
На темно-голубом эфире Златая плавала луна… Сквозь окна дом мой озаряла И палевым своим лучом Златые стекла рисовала На лаковом полу моем (6; 101).Этот эпизод тоже показывает, как стихотворный отрывок стыкуется с прозаическим текстом, его окружающим. В цитате (у Бунина приводится очень известный, хрестоматийный пример из «Видения Мурзы») есть сложное прилагательное – «темно-голубой», в котором мгновенно опознается пристрастие Державина к двусоставным эпитетам. Подобное по структуре прилагательное «вельможно-гордые» предваряет появление чужого стихотворного фрагмента в бунинском тексте (Бунин вообще перенял у Державина любовь к пышным, двукорневым прилагательным, их можно найти почти в каждом тексте, особенно много – в «Жизни Арсеньева»), а блеск державинского «лакового пола» раньше, чем появляется цитата, можно заметить на полу батуринского дома: «в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежащим на полу». Тот же державинский «лаковый пол» есть и в «Несрочной весне»: «В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель» (5; 124)[306]. А в «Жизни Арсеньева» выдержка из Державина служит поводом к незаметному перемещению героя из Батурина в дом Писарева, в старинную библиотеку старика-хозяина:
Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках – Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боратынский… Как восхитительны были их романтические виньетки, – лиры, урны, шлемы, венки, – их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано (6; 101),
удивительно похожую на библиотеку «Несрочной весны» и «Антоновских яблок». А. К. Жолковский иронически предположил, что все герои Бунина читают одну и ту же книгу, вслед за ним можно было бы сказать, что в прозе Бунина под разными именами описывается одно и то же имение, один и тот же барский дом с окнами, выходящими в зимний или летний сад, и библиотекой, собранной из старых журналов и старинных книг в кожаных переплетах.
Возникающий в финале «Развалин» Державина мотив запустения становится ключевым и для финала «Несрочной весны»:
Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме «Летейских теней» и той «несрочной весны», к которой так убедительно призывают они нас (5; 129).
Значение местоимения «они» здесь слегка расплывается, «подтекает»; грамматически «они» – «могилы» и «развалины», это они обещают «несрочную весну», но у местоимения есть и другой оттенок. «Они» – это поэты, написавшие «Запустение», «Развалины» и множество других элегий на тему руин. Екатерининская элегия Державина увенчана аллегорией плачущей любви и изысканной анафорой, отозвавшейся в середине предпоследней строки («все», «все», «вся»). Последние четыре стиха «Развалин» нагнетают впечатление ужаса и омертвения, захватившего «все и вся», завершаясь образом осиротелой любви, столь характерным для Бунина:
Все тьмой покрылось, запустело; Все в прах упало, помертвело; От ужаса вся стынет кровь, – Лишь плачет сирая любовь.«Несрочная весна» и «Запустение» Боратынского: «к роду отцов своих»
Если подтексты из Державина и, особенно, Батюшкова в рассказе Бунина скрыты, то элегия «Запустение» (1834) дважды цитируется; поэтический неологизм Боратынского «несрочная весна» Бунин ставит в заглавие своей вещи[307]. «Странное» вне поэтического контекста словосочетание «несрочная весна»[308] появляется в элегии, описывающей не весеннюю, а осеннюю прогулку по давно оставленному героем родному имению:
Я посетил тебя, пленительная сень, Не в дни веселые живительного мая… 〈……………………………………… 〉 В осенней наготе стояли дерева…[309]Не стоит сомневаться в том, что «несрочная весна» означает не «природную», а элизийскую весну, длящуюся вечно, именно поэтому «несрочная весна» совместима с любым другим временем года. Словосочетание «несрочная весна» стоит у Боратынского в конце длинной лирической медитации и как будто закрепляет идею длительности, переводит реальное ощущение внушительного объема всей элегии и каждого ее отдельного стиха (разностопный ямб с преобладанием 6-стопных строк) в идеальный план. Подбирая заглавие и цитаты из «Запустения» для своего рассказа, Бунин сосредотачивает внимание именно на окончании элегии, где кажется, что лирический герой идет уже не по тропинкам парка, а вступает на «нездешние», бесконечные луга.
«Запустение» Боратынского – это классическая элегия на тему руин, поэтому в ней наличествует весь набор мотивов, присущих этому жанру: заглохшие тропинки, высохший пруд, ветхий мостик и т. п., но важны не столько мотивы, сколько ритм и пространственные векторы элегии, подробно описанные В. Н. Топоровым[310]. Лирический герой элегии не просто бродит по парку, он идет очень медленно, останавливаясь от того, что неверная дорога то и дело обрывается (и ритм стиха здесь моделирует обвалы: «Дорожка смелая ведет меня… обвал / Вдруг поглотил ее… Я стал / И глубь нежданную измерил грустным взором») и все время спускается вниз, от чего читателю передается ощущение холода преисподней. Лишь в самом конце мрачная печаль запустения сменяется надеждой на встречу со светлой Летейской тенью, именно этот, самый загадочный отрывок, цитирует Бунин на последней странице своего рассказа:
Он убедительно пророчит мне страну, Где я наследую несрочную весну, Где разрушения следов я не примечу, Где в сладостной тени невянущих дубов, У нескудеющих ручьев, Я тень священную мне встречу[311].Конечно, в тексте Бунина тоже отзывается затрудненный и медленный ритм, заданный «Запустением» Боратынского. Дорога в заброшенное имение для героя Бунина полна непреодолимых препятствий, сама усадьба скрыта в глубине густых лесов («кругом – заповедные леса, глушь и тишина неописуемые» – 5; 122). Попав в дом, герой долго бродит по комнатам, беспрестанно останавливаясь в залах, кабинетах, покоях, надолго задерживается в библиотеке. Бунин как бы повторяет вектор движения лирического героя Боратынского – спускаясь вниз, в библиотеку, герой «Несрочной весны» оказывается будто бы в склепе:
Часто бывал я в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и царит вечная тень, окна с железными толстыми решетками, сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, как сто, двести лет тому назад (5; 126).
«Вечную тень» сводчатых библиотечных залов освещает не только свет, пробившийся сквозь железные оконные решетки, но и свет пасторального четверостишия, найденного героем на шершавой странице книги «прошлого столетия». Поэтическая стилизация с играющим «во свирель» пастушком, «танцующий перелив чувств» (так характеризуется в тексте «переписанное» Буниным сумароковское четверостишие) – это солнечное пятно, похожее на светлую залетейскую тень, на «доступный дух» в заключительных стихах мрачной элегии Боратынского.
В связи с Боратынским нельзя не вспомнить еще один, более ранний и уже рассматривавшийся в начале этой книги рассказ Бунина, где цитируется другое стихотворение Боратынского, а сюжет рассказа перекликается с сюжетом «Несрочной весны». Доэмигрантский, дореволюционный вариант прозаической элегии-руины представляет собой «Грамматика любви» (1915), в центре которой – посещение угасающей дворянской усадьбы, хозяин которой уже умер. Путешествие по мертвой усадьбе, как и в «Несрочной весне», заканчивается чтением старинных книг библиотеки, а в тексте рядом с подлинными цитатами из поэзии начала XIX в. соседствуют сочиненные самим Буниным:
Тебе сердца любивших скажут: «В преданьях сладостных живи!» И внукам, правнукам покажут Сию Грамматику Любви (4; 307).Пасторальные стихи из «старинных книг» спрятаны среди реальных цитат, что обнажает глубинный нерв повествования: все, что видят рассказчики (Ивлев в «Грамматике любви», анонимный рассказчик в «Несрочной весне»), не может существовать в реальном мире. Старинные усадьбы, а не только стихи из старинных книг, кажутся «танцующим переливом чувств» рассказчиков и их автора. Необитаемые усадьбы с парками, садами, комнатами и вещами в этих комнатах, – это и есть сны и наваждения, сочиненные «путешественниками в неведомый край», извлеченные не только из известного всем литературного, элегического мира, а напрямую, без цитат, из небытия.
Из небытия является и «священная тень» в стихотворении Боратынского, именно поэтому она привлекла Бунина, именно поэтому она особенно притягательна для читателей и комментаторов «Запустения». За этой тенью скрыта некоторая тайна, отгадку которой текст провоцирует искать в биографии Боратынского. Многим комментаторам кажется, что в «Запустении» речь идет не просто об абстрактной тени: не переставая быть поэтической формулой, «священная тень» благодаря наличию датива «мне» и инверсии («Я тень священную мне встречу»), будто бы скрывает кого-то, неизвестного читателю, но хорошо знакомого лирическому герою, который чувствует, чья именно тень «священна» ему. Поскольку элегия «Запустение» написана о родовом имении Боратынских, то «священную тень» связывают то с архитектором, спланировавшим усадьбу, то с наставником поэта («дядькой-итальянцем» Жьянчинто Боргезе), то с его отцом, в 1804 г. основавшим новый дом в урочище Мара[312]. Как бы то ни было, тема теней предков в варианте Боратынского звучит не абстрактно, а интимно, обостряя «семейные», «родовые» ассоциации[313], которые переходят и в семантический ореол «Несрочной весны» Бунина.
Сны о родителях, ощутимое и сильное присутствие почивших родителей в жизни их детей – одна из любимых тем Бунина. Так, например, автобиографические «Воды многия» (1925–1926) завершаются светлым сном героя, где являются ему умершие родители. В «Несрочной весне» о роде и родителях рассказчика ничего не сказано, напротив, возникает ощущение, что революцией, войной, разрухой рассказчик оставлен без роду и племени, без родных и друзей, которые если и есть, то отдалены от героя (одному из таких друзей и адресовано письмо), не сопровождают его. В своем элизийском одиночестве герой «Несрочной весны» становится настоящим, «кровным» наследником князей Д., бывших владельцев усадьбы, о которых как будто бы ничего не знает и в то же время узнает все, забредая во все потаенные уголки дома, парка, родового склепа, нарисованного его же, рассказчика, воображением.
Именно мертвые, элизийские усадьбы, потерявшие своих хозяев, интересуют Бунина. В «Жизни Арсеньева» «наплывают» друг на друга разные вариации темы заброшенного поместья, одна из таких вариаций – проданное, потерянное поместье, посещаемое бывшим владельцем. Так, XIII глава второй книги включает в себя обширное отступление от сюжета на темы запустения:
В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутолимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то «кавалерственной даме», жившей в Москве, и было заброшено: земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божей. И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от которой она была в какой-нибудь версте, я сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведущей к ней, въезжал на просторный двор, оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому… Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе, и с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за домом… Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, раскинутые вокруг пустынного двора – все было огромно, серо, все разрушалось и дичало, как дичали, зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумна, простиравшиеся за ними и сливавшиеся с полем. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами…. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый, пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней, исчезнувшей жизни… (6; 86).
Любование мертвой усадьбой очень похоже на более поздние кладбищенские фрагменты Бунина, например на рассказ «Часовня» из «Темных аллей», где через оконце часовни, снаружи, дети разглядывают мертвецов (в «Жизни Арсеньева» герой через окно снаружи разглядывает мертвый, необитаемый дом):
Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там в железных ящиках лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но весело сидеть на корточках, а они лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках (7; 252: «Часовня», «Темные аллеи»).
Оба отрывка, из «Жизни Арсеньева» и из рассказа «Часовня», уже подготовлены описанием семейного склепа в «Несрочной весне», где намечены темы, впоследствии развитые Буниным: душевная приверженность к запустению и распаду, ощущение кровной, семейной связи времен, связи с ушедшими в небытие и зовущими к себе предками:
Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели и впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми очами, что царствуют в покоях дворца? 〈…〉 Нет, мысль моя не мирилась с этим… А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное горение сосен. Как-то весело и горестно радовался солнцем забытый, навсегда опустевший храм! Мертвая тишина царила в нем. За стенами же пел, гудел летний ветер (5; 125–126).
Приведенные здесь параллели с элегическими опытами Батюшкова, Державина, Боратынского позволяют поместить рассказ Бунина в тот литературный контекст, который выявляет сложную фактуру бунинской прозы: на ней оставила след и ранняя имперская элегия рубежа XVIII–XIX вв., и позднеромантическая элегия, хранящая тайны интимного, узкого, «семейного» круга.
Элегия vs биография
«Несрочная весна» завершается затекстовым топонимом: «Приморские Альпы, 5 октября 1923» (5; 128), это, как мыуже неоднократно убеждались, не только обозначение места и даты написания рассказа, это знак, который органично входит в состав художественного текста. Через затекстовый топоним рассказу придается биографический план: русские руины предстают пред взором писателя-изгнанника, поселившегося на Лазурном берегу и пытающегося представить разоренную Москву 1920-х гг. Кажется, что рассказчик «Несрочной весны» – очевидный двойник автора, вариация его собственного «я», «автоперсонаж», и рассказ может читаться как письмо автора самому себе от себя воображаемого, будто и не покинувшего Россию.
Alter ego рассказчика моделирует и расширяет авторское «я» как в пространственном, так и во временном плане: рассказчик «Несрочной весны» соотнесен с реальным автором, который пережил в Москве страшную зиму 1918 г. и написал об этом в «Окаянных днях». В «Несрочной весне» приблизительно отмечено время посещения заброшенной усадьбы – «июнь тысяча девятьсот двадцать третьего года» (5; 128), то есть между «написанием письма» и написанием рассказа прошло 2–3 месяца.
Подтверждая версию автоперсонажности, можно провести множество параллелей между дневниковой прозой «Окаянных дней» и «Несрочной весной». В обоих текстах при обозрении московских руин проскальзывают мотивы азиатского варварства:
Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами («Окаянные дни»)[314];
Москва представляется тебе даже внешне «нестерпимой». Да, она очень противна. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли с лотков, на всяческих толкучках и «пупках» («Несрочная весна») (5; 119).
Риторическому восклицанию в зачине «Несрочной весны» – «Сколько погибших домов!» соответствуют в «Окаянных днях» описания московских домов, покидаемых хозяевами:
Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения – нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная[315].
И рядом с погибающими «великолепными домами» в «Окаянных днях» – родная для Бунина усадьба Васильевское, причем сначала – это тихие зимние вечера 1916 г.:
Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы 〈…〉 Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе[316],
а затем страшное лето 1917 года, когда крестьянские бунты, поджоги едва не уничтожают усадьбу:
…почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улицам было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно[317].
Эти записи прибавляют новые штрихи к одной из фраз «Несрочной весны» – «Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом?» (5; 121): как бы случайно, единожды, упомянутое в рассказе Васильевское ставит реальную, едва не погибшую в революционном пожаре усадьбу Бунина в длинный ряд «погибших домов» «Державы Российская».
Несмотря на многочисленные параллели с «Окаянными днями», текст «Несрочной весны» не имеет публицистической тональности, напротив, сопоставление с «документальными», «дневниковыми» записями обостряет ощущение лирической природы рассказа. Документальные фрагменты вставляются в элегическую рамку. Грязный переполненный московский поезд (пожалуй, только поезд напоминает документальный кадр: «И народу всегда – не протолпишься: поезда редки, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит дело трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами, настоящий подвиг» – 5; 119) привозит героя в заброшенное поместье-сон, поместье-мечту, поместье-элегию. Сюжет с посещением заброшенного поместья, очевидно, переживает возрождение в европейской литературе первых двух десятилетий XX в. К примеру, кульминация лирического романа «Большой Мольн» А. Ален-Фурнье (автора, погибшего в 1914 г. во время Первой мировой войны) – посещение затерянного в лесах чудесного поместья, которое открылось для героев всего на один день, и в которое им так и не было суждено больше вернуться[318].
Как уже отмечалось выше, сюжетной пружиной романтической элегии-руины очень часто является момент возвращения героя в родные места, к «отеческим гробам», родным теням, увлекающим в мир воспоминаний. Список таких элегий в поэзии начала XIX в. мог бы быть бесконечно длинным: «Вновь я посетил…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Запустение»… В другом примере – классической элегии-руине «На развалинах замка в Швеции» Батюшкова возвращение вписано внутрь сна о старинном замке – путник смотрит на развалины, погружается в мечты и видит «внуков Одина»: старика-отца, отправляющего сына в туманный Альбион на борьбу с врагами, потом следует возвращение воина в родные места, встреча с отцом, свадьба с красавицей. «Приморские Альпы, 5 октября 1923» зияет под текстом «Несрочной весны» трагическим смыслом невозвращения. Рассказ, написанный как вариация на элегическую тему, последней своей фразой, оставленной за текстом, фразой, не содержащей ничего, кроме указания места и даты написания рассказа, делает резкий, неожиданный, пуантированный поворот от привычного элегического сюжета-возвращения в противоположную сторону. И здесь еще раз «выстреливает» подтекст из биографии Боратынского – поэта, застигнутого смертью на чужбине.
Параллель между героем «Несрочной весны» и автором рассказа, чье биографическое «я» проступает в затекстовом топониме, острее всего сказывается в мотиве отъезда: чтобы увидеть всю историю и потаенную прелесть России, герой «Несрочной весны» уезжает подальше от Москвы, реальный автор рассказа – Бунин уезжает из России, и по мере удаления ему все ярче открывается поэтический образ его родины. Образ этот развертывается по лирическим законам: контуры отдаляющихся картин становятся множественными, вариативными. Варьирование хорошо знакомого, многократно пережитого имеет чисто эстетические цели: только ради одной красоты, ради «танцующих переливов чувств» отодвигаются или вообще изгоняются за пределы текста драматические события. Все описываемое у Бунина подается в модальной форме сна, и по законам сновидческой метонимии заброшенная усадьба замещает весь русский мир. Здесь уместно будет привести размышления о природе сна В. В. Бибихина: «Целый мир нельзя видеть; если пытаться назвать способ, каким он в нас присутствует – он приснился, привиделся человеку 〈…〉 Но человеческие сны цепкие и неотвязные 〈…〉 имеют свойство сбываться, в них есть своя неопровержимая убедительность, они способны захватывать человека. Язык, если пытаться назвать его статус, тоже как бы приснился человеку, он укореняется в человеческом существе, доходя до самого дна»[319].
Приложение о времени, истории, памяти и лирическом сюжете: от А. Бергсона и С. Франка к Б. Эйхенбауму
«Пространственность» «я», его способность к концентрации и выходу за собственные пределы занимала разные области знания на исходе XIX века и весь XX век, и одним из плодотворнейших проявлений этого процесса стала философия памяти. Самые общие и ключевые для XX в. положения философии памяти А. Бергсона удивительно органично накладываются на представления о наиболее выразительных художественных, особенно лирических, моделях. Востребованные критикой понятия «образ», «ассоциативность» активно употребляются в философии Бергсона[320] и позволяют ему скорректировать «памятью» структуры времени и пространства, какими они, по его мнению, явлены человеку. В философии Бергсона пространство и время не «субъективизированы» полностью, но шаг в сторону субъективизации обусловлен открытием того, что «внутри» сознания реалии существуют в виде своих двойников: образов, проекций, соотносящих человека с миром. Нераздельность-неслиянность «реального», «телесного» и «ментального»; «неподвижно-материального» и «жизненного порыва» (élan vital) создает впечатление устойчивости, заключающей в себе внутреннюю динамику:
Надо признать… что то психологическое состояние, которое я называю «моим настоящим» – это вместе с тем сразу и восприятие непосредственного прошлого, и своего рода детерминация непосредственного будущего 〈…〉 Мое настоящее, таким образом, – это сразу и ощущение, и движение, а так как оно образует нераздельное целое, то это движение должно быть взаимосвязано с этим ощущением и продолжать его в действии. Из этого я заключаю, что мое настоящее представляет собой комбинированную систему ощущений и движений[321].
В трудах последователей А. Бергсона момент «субъективизации» нередко усиливался, мог усиливаться также и «метафизический» поворот (как у С. Л. Франка, например[322]), но не ослабевала тенденция видеть «расщепленность», пресекающиеся планы и границы внутри «я», а также в пространстве и во времени. Формы времени, таким образом, после А. Бергсона сделались практически формами памяти, поскольку проективность, с одной стороны, владеет памятью, а с другой, чрезвычайно усложняет ее структуру и обеспечивает ее самостоятельность. Проективность памяти позволяет представить как художественное, так и историческое время каким угодно: движущимся, остановленным, неподвижным, совмещенным, – то есть многообразно меняющимся, наделенным бесконечным семантическим потенциалом.
У писателей, в том числе и у Бунина, обычно не бывает четко и последовательно изложенной исторической теории, она представлена, как мы видели в основной части книги, опосредованно и фрагментарно. Но отдельные моменты этой теории мы можем восстановить, обратившись к философии и литературоведческой теории той эпохи, которой принадлежит поэт или писатель. Пожалуй, невозможно найти реальные, биографические связи между Буниным и философами, а также литературоведами, труды которых мы подвергнем обзору ниже, но общая философская атмосфера и сформированные в ней подходы к поэтическому тексту, думается, пригодны для осмысления историософии Бунина, а заодно и осмысления методологии многих работ о нем. Здесь мы коснемся лишь отдельных аспектов теории времени у Франка и формалистов, что позволит обнаружить корреляты между литературой памяти и конкретными свойствами художественного текста, транслирующего тонкую ментальную материю. У формалистов теория времени определяет многие фундаментальные категории, в том числе и сюжет в его лирическом изводе, да и в целом лирическая природа текста (а в основной части книги мы просматривали пять рассказов Приморских Альп с точки зрения лирической формы) объясняется теми процессами, о которых мы попытаемся размышлять далее хотя бы в порядке отдельных первоначальных наметок.
Мы обратили внимание на то, что не в последнюю очередь формалистская философия времени вырастает на основе идей Бергсона и Франка. Связь между формалистами и Бергсоном была отмечена далеко не сразу, хотя в начале 1910-х гг. Б. М. Эйхенбаумом было написано несколько рецензий на русскоязычные издания знаменитого философа[323]. Но поскольку идеи Бергсона оказали тогда сильнейшее влияние на различные стороны гуманитарного знания, то как-то особенно подчеркивать само собой разумеющееся значило поначалу – вторгаться в область общедоступного и давно осмысленного, а позже русские гуманитарии уже не могли ссылаться на философов, чуждых советским установкам (а Бергсон, несомненно, попадал в этот разряд)[324]. Сейчас, кажется, пришло время вернуться к этому вопросу, уводящему в сторону общих размышлений о нарративности/ вненарративности истории, об историзме / аисторичности эстетической формы, о независимости/зависимости друг от друга эстетического и исторического[325].
Неоспоримые и многочисленные свидетельства «влияния Франка на Эйхенбаума, Бергсона – на Шкловского и Тынянова» приводит Дж. Кертис[326]. Подчеркивая значение «Предмета знания» и других работ Франка для Эйхенбаума[327], исследователь заключает, что плюралистическая онтология Франка, сложившаяся под воздействием бергсоновской идеи длительности (durée) определила плюралистическое мышление формалистов: «Тынянов и Эйхенбаум оба воспользовались представлением Франка о системе как совокупности взаимодействующих, но отдельных единств»[328], «Франк дал им способ понимания отношений между прошлым и настоящим, которое можно было применять к исследованию литературы»[329].
Отступления на темы времени и истории есть в некоторых литературоведческих статьях Эйхенбаума, это основная проблема «Моего временника», где история становится предметом научной и художественной рефлексии[330]. Чрезвычайно настойчиво во многих работах Эйхенбаум повторяет мысль о «неподвижной истории». Вот одна из самых известных цитат на этот счет:
Напрасно историю смешивают с хронологией. История – реальность: она, как природа, как материя, неподвижна. Она образуется простым фактом смерти и рождения – фактом природы, никакого отношения к времени не имеющим. Хронология и время – абстракция, выдумка, условность, регулирующая семейную жизнь и государственную службу[331].
Этот отрывок из «Моего временника» можно сравнить с отношением Бунина к любым, в том числе историческим «идеям». «Обладая космическим сознанием, – подчеркнула О. В. Сливицкая, – Бунин постоянно в разных вариациях заявляет: “У меня их нет, – ни начала, ни конца” (5; 300)»[332]. Что же касается категории памяти, то она у Бунина – не что иное, как борьба с текучестью времени, «распластывание» «времени в пространстве»[333].
Если обратиться к примерам других писателей и поэтов с обостренным космическим чувством, то можно вспомнить статью Эйхенбаума о Тютчеве, где литературовед обосновывает мысль о том, что привычное нам хронологическое, «историческое» время недостаточно, что наряду с ним существует второе, особое время. Эйхенбаум называет его «настоящим»[334], «темным» временем, чьи приверженцы – поэты, и, в частности, Тютчев:
И времени – два. Одно – призрачное, наше, которым создается история, другое – настоящее, темное, которого «глухие стенания» раздаются в ночи… Эстетика, думаю я, еще недостаточно это оценила, потому что не опирается на онтологию. Как теория отвлеченного знания, так и теория знания художественного не может развиваться вне онтологии, т. е. теории самого предмета или бытия[335],
и еще:
Тютчев знает совершенно особенное состояние, когда настоящее воспринимается им непосредственно как прошлое. Это истинно пророческое состояние: не просто предвидеть будущее, но совсем на мгновение выйти из пределов времени и потому видеть его как бы со стороны. Так должны бы чувствовать современность истинные, призванные историки[336].
Предвиденье не будущего, а прошлого, возвращение прошлому черт настоящего является одним из главных тезисов Эйхенбаума о времени. Интересно, что статья Эйхенбаума о письмах Тютчева появляется через несколько лет после статьи о Тютчеве Франка, где прямых рассуждений о времени нет, зато есть мысль о недостаточности и неточности субъектно-объектной парадигмы для описания «художественного переживания»:
Вся вообще противоположность между субъективным и объективным моментом, между содержанием самого предмета и формой, в которой сознание улавливает, переживает и воспроизводит его, вся эта противоположность лежит за пределами художественного переживания и противоречит его природе[337].
Ослабление или отмена субъектно-объектных отношений обусловливает обострение «предметного чувства поэта»: «личность (в процессе художественного переживания. – Е. К.) чувствует себя в вещах и вещи в себе, или, точнее, не сознает ни вещей, ни себя, а лишь одно духовное целое, которое, не вмещаясь ни в какое ограниченное “я”, вместе с тем полно трепета живой жизни, пропитанной душевностью и духовностью»[338]. Фиксациям на «я» соответствуют фиксации на «настоящем» времени, настоящем как протяженности и длительности, что аналогичным образом сокращает дистанцию между «я» и миром, почти нивелирует границы между ними[339].
Идея «неподвижной истории» Эйхенбаума вполне может быть воспринята как одна из проекций форм времени, описанных у Франка в «Непостижимом»:
Во временном измерении нам дано только «настоящее» – строго говоря, только математический миг настоящего; нечто «прошедшее» и «будущее» не может нам быть дано в том смысле, в каком дано настоящее. «Настоящее» и есть «предстоящее», le présent, die Gegenwart… Само же прошлое и будущее нам не «дано» в своем содержании… Прошлое и будущее… есть для нас неизвестное. Это неизвестное, однако, с полной очевидностью и неотменимостью есть[340].
Переживание актуального настоящего, безвозвратное исчезновение во тьму прошлого всего, что теряет актуальность, становится и для Франка как бы наметкой временной множественности, временного плюрализма, нетождественности и неравномерности внутри временного потока, что вполне в духе Бергсона, о котором Эйхенбаум пишет:
Внимание к жизни… охватило бы… в неделимом настоящем всю прошлую историю сознательной личности… как нечто такое, что есть разом и непрерывно настоящее и непрерывно движущееся: такова… мелодия, воспринимаемая как неделимое, и составляющая с одного конца до другого непрекращающееся настоящее, хотя это постоянство не имеет ничего общего с неизменностью, как и эта неделимость с мгновенностью[341].
Читая статью Эйхенбаума о Бергсоне, можно прийти к выводу о том, что «неподвижная история» не имеет ничего общего с неизменностью, она предполагает изменения внутри единого потока, которые имеют характер глубинных динамических процессов.
Для настоящего времени, как оно видится Франку, подойдут метафоры сна – психического состояния, обладающего высокой временной потенциальностью. Как и сон, настоящее дается в своем непосредственном содержании, но не может быть описано, «схвачено», запечатлено, поскольку в описании оно становится прошлым[342]. Не имея возможности охватить, осмыслить настоящее вне схемы прошлого, познание, тем не менее, не игнорирует его, а все-таки пытается удержать и воссоздать, зафиксировать, почувствовать «иное», непостижимое, не схватываемое рациональной схемой. Таким образом, временной поток, устремленный к конечной цели (смерти, эсхатону), в непостижимом настоящем получает глубинную неисчерпаемость и бесконечность. Мгновение как бы останавливается, и происходит это в момент «познания», религиозного опыта (у Франка), в момент эстетического впечатления (у Эйхенбаума).
Все явно данное, – пишет С. Л. Франк, – логически-отчетливо фиксированное конечно – уже потому, что в качестве некоего «такого», «этого» оно имеет грань, отделяющую его от иного, или, точнее, конституируется этой гранью. Но оно всегда есть часть чего-то иного; и это иное – либо данное лишь смутно и неотчетливо, либо совсем не данное, а присутствующее именно в качестве неизвестного, – бесконечно; ибо «иное» здесь значит «все иное», а это последнее понятие имеет своим конституирующим признаком неисчерпаемость[343].
Акцент на неисчерпаемом настоящем, на «неподвижном» лишает время линейности, последовательности, каузальности, а пространство рядоположенности. Следствием этого становится полное расхождение социально-исторического, «хронологического», конечного времени с другим временем, временем «неисчерпаемым», «бесконечным», «неопределенным»[344]. «Неопределенное», «неисчерпаемое» время обнажает «непостижимое» в процессе познания для Франка, а для формалистов становится аналогом художественных форм с присущей им временной потенциальностью[345]. У Франка образы потенциального времени-пространства, бесконечного времени-океана, омывающего крошечный островок истории и хронологии, почти буквально совпадают с образами «темного настоящего» Эйхенбаума (см. статью о Тютчеве). Позволим себе еще одну цитату из «Непостижимого»: «Это не значит, что наше сознание актуально объемлет бесконечность; это было бы так, только если бы мы могли отчетливо обозреть всю полноту содержания бесконечности. Но наше сознание потенциально объемлет бесконечность, что именно и означает, что бесконечность присутствует в нем или для него как темная, нераскрытая, непрозрачная бесконечность»[346]. Возможно, подобным образом в письмах Тютчева Эйхенбаум ловит настроения «недоверия к существованию того, что скрылось от глаз»[347] и испуг, порожденный исчезающим и разрушающимся. Поэзия Тютчева названа Эйхенбаумом «борьбой с пространством и временем»[348], а, по слову другого филолога, она играет роль «противосейсмического устройства»[349].
Для формалистов именно художественная форма несет нагрузку сохранения «настоящего», именно она способна передать образ не хронологического, а «неподвижного», однако же изменчивого времени, которое концентрирует в себе «наслоения» прошлого. При этом прошлое не теряет актуальности: время идет против хронологии, представляя не настоящее как прошлое (в этом случае в неизвестном обнаруживается уже знакомое по опыту), а прошлое как настоящее (в этом случае прошлое всякий раз пересоздается, открывая в себе неизвестное ранее).
Для обозначения такого рода явлений Оге А. Ханзен-Леве в работе о формализме углубляет лингвистическое понятие перформативности, связывая его в художественном языке (речь в данном случае идет о киноязыке) с преодолением пространственно-временной последовательности[350]. В обычном, повседневном языке глагольная перформативность – очень редкий пример совпадения слова и действия в настоящем времени. Перформативность нивелирует временнóй аспект словесной дескрипции, которая в большинстве других случаев не успевает зафиксировать настоящее, предполагая зазор между событием/ состоянием и его называнием/описанием. Абстрагирующая сущность языка/слова как бы отдаляет процесс наименования от того единственно данного нам в содержании мгновения настоящего, которое мы, подобно сну, можем переживать, но не можем назвать, не отодвинув в прошлое и не обобщив в сознании. Художественная форма так же, как перформативный глагол, устремлена к схватыванию мгновенного настоящего, совпадению с ним, стремится удержать его. Для этого используется множество способов «концентрации времени», один (и самый яркий) из них – сюжет в его расхождении с фабулой. Как известно, сюжет художественного произведения у формалистов толкуется в максимальном отдалении от правильной фабульной последовательности, он понимается как намеренно созданная «непоследовательность» событий, совершающихся сразу в нескольких нетождественных, взаимопересеченных пространствах. И это не просто перепутанные во времени события, для которых нарративная цепь с легкостью восстанавливается, как в детективе. Комментируя B. Шкловского, Б. Эйхенбаум подчеркивает сближение сюжета и стиля, сюжета и формы, в то время как фабула отношения к стилю не имеет[351]. Скрытой причиной значительного расхождения фабулы с сюжетом является необходимость для художественного повествования ретардации, которая затрудняет и обнажает художественную форму, что позволяет именно форме, а не событиям быть предметом эстетического переживания. Сюжет и фабула, таким образом, становятся вариацией на темы хронологического и нехронологического времени, где фабула соответствует времени хронологическому, а сюжет – времени бесконечному, неисчерпаемому, «неподвижному». Наслоение времен, разных темпоральных фрагментов спрессовано настолько, что восстановление нарративной цепи нередко становится невозможным и зачастую необязательным. Поэтому говорить приходится о «возможностном» сюжете, сюжетной потенциальности, и в связи с этим в литературоведении набирают силу такие метафорические термины, как «сюжетный след», «сюжетный импульс»[352], семантическое «мерцание» и пр. Все эти термины позволяют показать нарративную цепь не только в свернутом, но и вообще в снятом виде, именно в таком виде она и может оцениваться как художественная. Сюжетная редукция, таким образом, распространяется настолько, что сюжет снижает свои позиции рядом с мотивом и даже шире – с темой, которые, напротив, свои позиции укрепляют, низводя сюжет до «смыслового пятна»[353], очень нечеткого, но наполненного высочайшей событийной потенциальностью. Кстати говоря, расплывчатость сюжетных контуров и обусловливает внимание литературоведов к онейричности текста.
Окказиональный формалистский прием «остранения» Б. Эйхенбаум рассматривает рядом с сюжетом как еще один способ ретардации, «затруднения повествования» путем перестановки характерных для обыденного сознания линейных инерций: в остранении также можно усмотреть временной и пространственный аспекты, поскольку этот прием работает на нарушении привычной последовательности восприятия: вместо движения от общей мысли к частностям, он предлагает движение от частностей к общей картине. Причем картина тоже может не восстанавливаться и даже не должна восстанавливается в самом тексте, она оживает в сознании читателя по законам интуиции. Следовательно, механизмом остранения, как и многих других приемов, описанных формалистами, становится мыслительный реверс: мысль устремляется назад, чтобы собрать все детали и сложить их в картину, привести во взаимодействие. «Искусство понимается как способ разрушения автоматизма в восприятии, целью образа признается не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание “виденья” его, а не узнаванья», – пишет Б. Эйхенбаум в своем обзоре теории формализма[354]. Ставшее афоризмом «виденье, а не узнаванье» диктует внимание к деталям текста, «разглядывание» текста в его микропоэтике, что, как нам представляется, особенно верно по отношению к текстам стихотворным, а также и прозаическим, если в них сильно отмечено, как, например, у Бунина, лирическое начало. Я. Левченко называет «микроскопический» анализ одним из ключевых моментов концепции Эйхенбаума-литературоведа[355]. Подход к произведениям Бунина со стороны микропоэтики[356], если рассуждать о нем теоретически, вполне вписывается в более общую схему познания, предлагаемого Франком, для которого бытие не является «консервативной системой», а напротив, «все сущее есть и то, что оно еще не есть»[357]. Мыслительный ход от общего к частному был бы в таком случае поиском того, «что есть», вмещением каждой новой открывшейся картины в старые рамки, приложением к ней старой схемы. Напротив, внимание к детали, к частности служит обнажению нового, еще не бывшего, «иного», то есть того, что расподобляет мгновения времени, делает их нетождественными друг другу. Из сказанного проистекает парадокс: привычная причинность сама образует историческую хронологию, это и есть «абстрактная выдумка» исторического прогресса. Законы хронологии, несмотря на их целеполагающую прогрессивность, придают описываемой системе консервативный характер, зацикливая ее на причинно-следственной цепочке, на привычном движении от общего к частному[358], которое привносит рацио в интерпретацию происходящего события извне настоящего момента, без учета уникальности происходящего здесь и теперь. Сама же суть настоящего момента к прилагаемой и уже известной заранее схеме отношения не имеет, именно поэтому только «непостижимое настоящее» (по Франку), или «неподвижное время» (по Эйхенбауму) обладает неисчерпаемой динамикой, способностью семантической аккумуляции. Здесь мы сталкиваемся с противоречием: формалисты активно участвуют в «кратком послереволюционном торжестве авангарда», претендуют на то, чтобы быть «вписанными в историю» и создавать «правящую эстетическую доктрину»: «формалисты, – пишет Я. Левченко, – во многом консервировали иллюзии модернистского сознания, крепко связанного с идеей прогресса и присваивающего себе роль его ведущей силы»[359]. Вопреки внешним устремлениям формалистов, смысл формалистской теории времени предполагает регрессивные, а не прогрессивные процессы формообразования.
Одновременно формалисты меняют и терминологическую парадигму, связанную с историей и темпоральностью. «Историзм» вытесняется «литературной эволюцией», поскольку за историзмом закрепляется прогрессивное движение, за «эволюцией» вариативное. «Литературная эволюция»[360] позволяет сосредоточить внимание не на результатах и целях исторического процесса, а на «соотнесенности» отдельных событий, картин, фрагментов. Слова «соотнесенность» и «взаимосоотнесенность» получают у Тынянова и Эйхенбаума статус терминов[361]. На взаимосоотнесенностях и строятся вторичные семантические структуры, которые начинают преобладать над «материальными» структурами конкретных приемов, исчислимых ритмов (таких, как стихотворные ритмы) и последовательностей (кадров, частей текста).
Одной из таких «вторичных» структур является то, что ХанзенЛеве, описывая теорию киноязыка Эйхенбаума и Тынянова, называет монтаж 2, сущность и значение которого вырисовывается из сравнения с монтажом 1 – известным техническим приемом обработки «автономных единиц-мотивов»[362]: автономность и прерывистость являются отличительным признаком технического монтажа. Совершенно другое понимание монтажа в трудах формалистов, которому Ханзен-Леве присваивает имя монтаж 2, обеспечивает «иллюзию непрерывности кинофразы», кинотекста и «является синонимом композиции или сюжета всего фильма»[363]. Иллюзия непрерывности текста, подвергнутого монтажной обработке (то есть, по сути, прерывистого, разрезанного текста) – необходимое условие художественного восприятия, и достигается эта иллюзия, когда кинематографическая техника из суммы приемов превращается в художественный язык с множественными модальностями, с собственной парадигматикой и синтагматикой. Киноязык строится на основе динамической системы разного рода со– и взаимосоотнесенностей, которые обладают не строго закрепленными, а многозначными и динамическими смыслами. Неисчерпаемый смысловой конструкт произведения является результатом схватывания зрителем множества различных срезов, разделенных между собой эквивалентами времени и пространства[364]. Именно о таких эквивалентах и говорит Эйхенбаум в «Киностилистике»: «иллюзия пространственно-временной непрерывности создается не действительной непрерывностью, а ее эквивалентами, параллели используются по принципу движущейся одновременности»[365].
«Движущаяся одновременность» – это еще одна формула Эйхенбаума, синонимичная «неподвижному времени»[366]. Она позволяет преодолевать дискурсивное время – время, необходимое на прочтение/признесение/просмотр художественного произведения. Взаимосоотнесенности, разного рода «параллели» предполагают действие реверсивной силы в каждом моменте художественного текста, это разрушает линейность восприятия, каждая последующая точка отражается во всех предыдущих, поэтому произведение киноискусства, как и поэтического искусства, получает объем и «длительность», становится подобным живописному полотну, где можно охватить взглядом все и сразу. Примечательно, что формалисты мыслили поэтический текст по аналогии с кинотекстом, и в статье Эйхенбаума о киностилистике можно разглядеть аналог «Проблем поэтического языка» Тынянова.
Монтаж 1 и монтаж 2 задают ритм кинотекста. Если проецировать представления о киномонтаже на произведение словесного искусства, то можно говорить о ритме 1 и ритме 2. «Механической» ритм кино, обусловленный длиной и правилами чередования кадра, сопровождается вторым, гораздо более эфемерным и выразительным ритмом:
Искусственно разложенное на абстрактные доли (кадры), движение заново слагается перед глазами зрителя на экране, но уже по-своему, по законам кино. Кино создалось благодаря двум возможностям, составляющим его собственную, вторичную природу: технической (природа киноаппарата) и психофизиологической (природа человеческого зрения). Первая делает расчлененным и прерывистым то, что в действительности непрерывно; вторая заново сообщает движению отдельных снимков иллюзию непрерывности[367].
Этот ритм можно назвать «вторым ритмом», не зависящим от количественных показателей киноматериала или вообще художественного материала, это более обобщенный и гораздо менее привязанный к «материи» художественного произведения ритм («не ритм в точном смысле, а некая общая ритмичность», пишет Эйхенбаум[368]). Стиховая ритмика, с ее набором определенных размеров, и прозаический ритм, заключающийся в чередовании сменяющих друг друга частей разной протяженности и структуры, длинных и коротких отрывков, не исчерпывают ритмическую сущность произведения. Ее можно назвать ритмом 1, техническим ритмом, который образуется дифференциацией, дроблением художественного материала на части. Но не менее важны в произведении общие ритмические силы, обладающие интегрирующим потенциалом (ритм 2 или «композиционный ритм»). Для композиции важна множественная и одновременно восстанавливающаяся в сознании читателя сеть всех внутритекстовых звуковых, пространственных, мотивных, грамматических и других «взаимовключений, наложений, пересечений»[369], которые образуют объемный ритм-пульсацию, подвижный конструкт симфонически согласованных между собой взаимосоотнесенностей разного типа.
В той же логике сосуществования в художественном произведении двух ритмов (частного, «технического» и общего, композиционного) разработано понятие лирического сюжета, монографически обоснованное Ю. Н. Чумаковым[370]. Лирический сюжет (своего рода сюжет 2) максимально отстоит от фабулы, отодвигая на второй план героев художественного произведения (сюжет 1). Развивая тыняновские положения о перспективе стиха, затмевающего перипетию, Ю. Н. Чумаков описывает сюжет «Онегина» почти как сюжет без героев[371], а позже вводит общее понятие «лирического сюжета», основанного на уже упомянутых нами «взаимовключениях, наложениях и пересечениях». Напомним, что Эйхенбаум, сравнивая театральный язык с языком кино, подчеркивает одну из главных особенностей киноязыка – его независимость от присутствия героев. Пафос статьи «Проблемы киностилистики» заключается в том, что не актер, как в театре, а время и пространство являются главной темой киноповествования[372]. Это во многом напоминает тыняновские представления о поэтическом языке, сюжетная доминанта которого связана не с героями, а с принципами сукцессивности и симультанности[373]: «симультанность» Тынянова буквально соответствует «одновременности» Эйхенбаума. Очень точное ощущение, переданное термином «неподвижность времени» Ю. Н. Чумаков развивает, добавив к привычной для всех сюжетной событийности характеристику «состояния»: «Лирический сюжет возникает как событие-состояние, проведенное экзистенциально-поэтическим временем, и опознается внутри словесно-стиховых конфигураций, где он присутствует, но не предстает»[374]. Не следует думать, что это определение годится лишь для поэзии, оно подходит для всего, что не является чистой эпикой. Сюжет 2 можно обнаружить в любом тексте, где временной и пространственный план становится самостоятельным и многосоставным.
Система со– и взаимосоотнесенностей не консервативна, она включает в себя полисемантические зоны и зоны неопределенности, поэтому она динамична, а обнаружение смысловых взаимосоотнесенностей неисчерпаемо и не определено единственно верным способом, оно варьируется в сознании читателя. Наличие интуиции в процессе восприятия художественного произведения, интерпретационной свободы в зоне внутренней речи препятствует установлению «основных» смысловых доминант художественного текста. Что касается исторического дискурса, то там, как констатирует Эйхенбаум (назвав при этом историю «выдумкой») смысловые доминанты и целепологание неизбежны. Художественная литература, в отличие от истории, устремлена к смысловой децентрации и полисемантичности.
Особая проблема – статус факта в художественном сюжете. Традиционная причинно-следственная инерция времени и истории порождает теорию отражения разного рода реалий в искусстве. У формалистов разрыв каузальности приводит к смене точки зрения: искусство лишь пользуется реальными фактами, «втягивая» их в свою эстетическую структуру, в свой мир. Попадая в художественный мир, факты из других областей преображаются до неузнаваемости, и, не теряя связи с внеэстетической средой, только подчеркивают своей неоднородностью по отношению к художественному миру его гармонию, усиливают его конструктивные основы. Так же в поэтическом мире преображаются, теряя равенство самим себе, автобиографические моменты, «реальные лица», помещенные среди вымышленных героев, конкретная предметность, вписанная в условные рамки художественного описания. Художественное преображение замедляет и останавливает время. Кроме того, художественно преображенный факт ретроспективно влияет на историю, меняет ее, поскольку из поэтического произведения факт часто возвращается в «реальность», но уже в новом статусе. Таким образом, прошлое наполняется современностью, пересоздается ее креативными усилиями, а эмпирическая и эстетическая реальность, будучи разделенными и несводимыми друг с другом, соотносятся между собой, причем вектор движения регрессивен: он направлен не из прошлого в настоящее, не из реальности в эстетический космос, а наоборот – из настоящего в прошлое, из искусства в реальность, в историю, в «быт»[375]. Наряду с памятью, сознанием, мышлением, художественное произведение видится и философам, и теоретикам искусства той призмой, проходя через которую, время замирает, «расслаивается», позволяя событию по-разному развертываться в разных плоскостях. Семантическая концентрация и «оплотнение» художественной формы обеспечивается разнородностью и множественностью частных временных потоков, общее течение которых устремлено к эсхатону.
Сноски
1
Подробно об этом периоде в биографии писателя см.: Бабореко А. Бунин: Жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 260–227.
(обратно)2
Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология. О рассказе «В ночном море» //Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. С. 285.
(обратно)3
В этом смысле показателен рассказ «О дураке Емеле, какой вышел всех умнее» (1921). Бунин неизменно читал «Емелю» при публичных выступлениях.
(обратно)4
К примеру, основная линия сюжета – любовная драма Мити и Кати – возникает далеко не сразу в процессе написания «Митиной любви», два самостоятельных отрывка «Апрель» и «Дождь» (РГАЛИ, фонд 44, дело № 60, опись 2) свидетельствуют о том, что повесть начиналась со сцен и пейзажей финала (см. об этом в комментарии О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой: Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1966. Т. 5. С. 520).
(обратно)5
Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 145.
(обратно)6
Понятие «лирический герой» (в некотором смысле коррелят лирического «я») нередко служит инструментом для полного абстрагирования поэтического «я» от «я» биографического, для обособления словесного плана художественного произведения от плана реального и вещественного. Однако в изначальном, тыняновском понимании авторского лица подчеркивалось и другое. В статье «Блок и Гейне» Ю. Н. Тынянов пишет о многоликости, «двойничестве», литературности, романсовости авторского лица Блока («удвоение» есть уже в знаменитой фразе Ю. Н. Тынянова: «Блок – самая большая лирическая тема Блока»), но умноженное, «расщепленное» авторское «я» может быть не только чистым словесным конструктом, но и сохранять «элемент личности» автора в отдельных своих ипостасях, переводить «план искусства на план жизни». Чистый стиль, чистый словесный конструкт без единого намека на человеческое лицо, без единой чужеродной ноты для Тынянова представляет лирическое «я» Гейне, а вот лирическое «я» Блока некоторыми диссонансами словесного плана позволяет полюбить его «человеческое лицо», «а не искусство». См.: Тынянов Ю. Н. Блок и Гейне // Об Александре Блоке. Петербург: Картонный домик, 1921. С. 237–264.
(обратно)7
Так, например, суммируя свои теоретические идеи 1970-х гг., А. К. Жолковский пишет о поэтическом мире как о «системе идиосинкратических для автора инвариантных мотивов, реализующих его центральный инвариант – единую тему его творчества» (Жолковский А. К. Осторожно, треножник! М.: Время, 2010. С. 97).
(обратно)8
Эйдриан Уоннер пишет о рассказе «Первый класс»: «Bunin’s choice of genre enhances the intended effect. The single seemingly insignifcant moment captured by his minimalist narrative crystallizes into something larger through the frame in which it is presented. The unresolved tension is refected in a text that, although labeled “rasskaz”, refuses to tell a “story”, but at the same time reverberates with potential narratives». Wanner A. From Subversion to Affrmation: The Prose Poem as a Russian Genre // Slavic Review. Vol. 56. Fall, 1997. № 3. P. 534. [ «Усиление эффекта происходит за счет выбранного Буниным жанра. Его минималистская нарративная техника трансформирует и укрупняет одиночный и, казалось бы, незначительный эпизод, вмещая его во внешнюю рамку. В результате, несмотря на жанровое обозначение “рассказ”, бунинский текст, с одной стороны, ни о чем не “рассказывает”, а с другой стороны, заключает в себе перекличку потенциальных повествований, создавая ощущение напряжения, не находящего себе выхода».]
(обратно)9
Полярность определяет, по мнению О. В. Сливицкой, «космическое мироощущение» Бунина: «Подобно тому, как атом, невообразимо малая часть солнечной системы, повторяет в себе всю ее структуру, так и человек – и противостоит Космосу, и включает его в себя. Из этого следуют два противоположных, но лишь внешне противоречивых вывода. // Один – безысходно трагический. Перед лицом непостижимых космических сил (природы, эроса и смерти) личность ничтожна, человек незащищен и одинок, а счастье его хрупко и иллюзорно 〈…〉 // Второй вывод – торжествующе оптимистичен. Космос не только противостоит человеку, но и входит в него как огромное целое, наделяя его безмерной силой жизненности» (Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 52–53).
(обратно)10
Эта формула развертывает в научный дискурс поэтическую строчку Тютчева «Все во мне и я во всем». «В одном стихотворении, – пишет Ю. Н. Чумаков, – обнаруживаются главные черты тютчевского мирообраза, которые многократно преображаются и мультиплицируются в корпусе его лирики: автономность, сжатость, особое качество безличности, связанное с остаточной недифференцированностью авторского лица от универсума» (Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 359).
(обратно)11
Ман П. де. Аллегория чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. С. 61. Это же пространственное определение из «Сонетов к Орфею» Рильке у Ю. Н. Чумакова применяется для описания композиции пушкинского романа «Евгений Онегин»: «“Евгений Онегин” – поэтически оформленная картина действительности авторского сознания, которая в своем существовании in continuo вбирает в себя и конструирует из себя внешнюю сторону универсума. У Рильке это называется Weltinnenraum, внутреннее пространство мира или, более свободно, душа, вмещающая мир. На этом основании и возводится композиция “Евгения Онегина”» (Чумаков Ю. Поэтика «Евгения Онегина» // Australian Slavonic and East European Studies (Formerly Melbourne Slavonic Studies). Vol. 13. 1999. № 1. P. 37).
(обратно)12
Златоцвет. Берлин, 1924. С. 9–11.
(обратно)13
Сливщкая О. В. Основы эстетики Бунина // И. А. Бунин: pro et contra. СПб.: РГГУ, 2001. С. 465–478.
(обратно)14
Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худ. лит., 1966–1967. Т. 5: Повести и рассказы 1917–1930 гг. С. 90. В дальнейшем сноски на это издание даются в тексте – в круглых скобках с указанием номера тома и страницы.
(обратно)15
В черновике «Неизвестного друга» письмо от 11 октября заканчивалось так: «Город Вы знаете, он на почтовом штемпеле. Прибавьте только posterestante, N. N.» (РГАЛИ, фонд 44, опись 3, ед. 7, л. 7). В чистовом варианте Бунин убирает даже этот, весьма приблизительный адрес, и подобие инициалов «N. N.».
(обратно)16
Формалистскими терминами «знак героя», «сюжетный знак» активно пользовался В. Гофман, считавший, что тотальная депсихологизация современной литературы (литературы 20-х гг. прошлого века) является первым шагом на пути к превращению героев в «алгебраические знаки, взятые в самом абстрактном плане». В. Гофман называет героя русской литературы 1920-х гг. (речь идет о Пильняке) «недифференцированным персонажем», «знакомым незнакомцем»: «Герои символизируют тематические тезы автора. Они – иллюстрация, пример. У них нет психологии и нет судьбы – они приготовлены обслуживать тему, как диапозитивы научно-популярную лекцию. Они не говорят, не действуют, не “переживают”. Все это делает за них автор» (См.: Гофман В. Место Пильняка // «Младоформалисты»: Русская проза. СПб.: ИД «Петрополис», 2007. С. 212–213).
(обратно)17
О «кажущейся семантике», «видимости значения» см.: Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Вопросы поэтики. Л.: Academia, 1924. С. 78–87.
(обратно)18
Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 56.
(обратно)19
Значимость «мотива безответности», «молчания» подчеркивает в рассказе О. В. Сливицкая, отмечая «существенную разницу между отсутствием ответа и безответностью» (см.: Сливицкая О. В. Основы эстетики Бунина… С. 466).
(обратно)20
Михайлов А. Д. «Португальские письма» и их автор // Гийераг. Португальские письма. М.: Наука, 1973. С. 234.
(обратно)21
Данный сюжет может быть еще более обобщенным – как в «Письмах незнакомке» А. Моруа, где перечисляются идеальные качества идеальной дамы. Бунина интересовали и такие, абстрактные построения, стоит вспомнить только идеальный портрет красавицы со страницы «старинной книги» в «Легком дыхании» («черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки…» – 4; 360). В «Неизвестном друге» героиня конкретна, принципиально не «типажна», уникальна, но одновременно ее образ несколько обобщен.
(обратно)22
Формулу «Мир без меня» А. К. Жолковский выбирает для целого кластера текстов, объединенных этим лейтмотивом. См., например: Жолковский А. К. Загробное стихотворение Бунина // Жолковский А. К. Новая и новейшая русская поэзия. М.: РГГУ, 2009. С. 53–55.
(обратно)23
Афонин Л. Н. О происхождении рассказа «Неизвестный друг» // Литературное Наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84. Кн. 2. С. 412–423.
(обратно)24
Н. П. Эспозито сообщает Бунину, что говорит и пишет на четырех языках, читает на шести. См.: Там же. С. 413.
(обратно)25
Там же. С. 422.
(обратно)26
На таких основаниях у О. В. Сливицкой под эстетику Бунина подводится философский фундамент: биполярная «Божественная сущность мира»; «неразрывное единство» и одновременно «напряженное противостояние» Инь и Янь; «универсализация души», связанная с состоянием всеобщности, но единственно дающая возможность сосредоточиться на своем «я» (См.: Сливицкая О. В. Основы эстетики Бунина… С. 468–475).
(обратно)27
Бибихин В. В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 53.
(обратно)28
Одна из первых вариаций на темы «Неизвестного друга» у Бунина – это рассказ 1909 г. «Старая песня» (во второй редакции 1926 г. он называется «Маленький роман»), где основу повествования тоже составляют письма героини, уехавшей в свадебное путешествие с нелюбимым мужем. Она пишет из Альп на родину (в Россию) своему давнему другу, любовь к которому еще не успела, но уже готова захватить обоих. Дальнейшее развитие истории оборвано смертью героини, и «маленький роман», таким образом, становится романом не до конца исполнившейся любви. Героиня «Маленького романа», как и героиня «Неизвестного друга», тоже внимательная читательница, а ее письма – это письма о письмах: «В письмах одного умершего писателя, я недавно прочла: “Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает”. Да, да, никогда не бывает» (2; 335).
(обратно)29
Отмечено Э. И. Худошиной.
(обратно)30
Афонин Л. Н. О происхождении рассказа «Неизвестный друг». С. 412.
(обратно)31
«Теперь мы с ним говорим только о писании и о писании. Мне кажется, что все, что я даю ему читать, должно казаться слабым, беспомощным и сама стыжусь этого… Но что же делать, если я чувствую себя рядом с ним лягушкой, которая захотела сравняться с волом», – пишет о себе и Бунине в «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецова (Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. С. 71).
(обратно)32
Слово «неизвестный» в разных вариантах то и дело появляется в тексте «Неизвестного друга», поддерживая тему заглавия.
(обратно)33
Еще больше «мужской», авторский взгляд чувствуется в портрете ее дочери: «…прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, как умеют это только девочки на пятнадцатом году» (5; 95).
(обратно)34
Героиня пишет с тем же мастерством, что и сам Бунин, единственно «женское» и «сентиментальное», что оставлено ее стилю, – это беспрестанно повторяющееся слово «прелестный», один из любимых эпитетов самого Бунина, хранящий оттенок пушкинской поэзии.
(обратно)35
В классических образцах жанра писем без ответа «сообщительность» между героем и героиней может быть усилена довольно простым способом: отсутствие ответа ведет к самоубийству пишущего, который может буквально одним жестом превратить «мир без тебя» в «мир без меня». Но у Бунина этот, традиционный для беллетристики вариант развязки, даже не проговаривается, как не проговаривается любовное признание.
(обратно)36
Законы лирической концентрации может продемонстрировать один из примеров А. К. Жолковского. Сравнивая с черновыми последний вариант «Писем римскому другу» И. Бродского, исследователь констатирует исчезновение лирического «я»: «я в качалке, на коленях – Старший Плиний» – было в черновике, «На рассохшейся скамейке – Старший Плиний» – осталось в беловом тексте. В результате – «Старший Плиний», будучи все той же книгой, что и в черновике, все-таки в дефинитивном тексте превращается в «живую» фигуру мудреца-историка, дремлющего на скамейке, а читателю приходится воскрешать в памяти не столько труды, сколько эпоху и биографию древнего автора, а затем невольно искать в ней параллелей с биографией Бродского (См.: Жолковский А. К. Плиний на скамейке: заметки о поэзии Бродского // Жолковский А. К. Новая и новейшая русская поэзия. М.: РГГУ, 2009. С. 173–178).
(обратно)37
Метонимический принцип, обозначенный формулами «все во мне, и я во всем», «точка, распространяющаяся на все», подробно описан в работах Ю. Н. Чумакова как универсальная модель лирического сознания. См.: Чумаков Ю. Н. Точка, распространяющаяся на все: Тютчев // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 358–372.
(обратно)38
Бунин И. А. Темные аллеи. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 238.
(обратно)39
Ср.: у Чехова: «Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера»; у Бунина: «…чувствовал запах дымка… думая: “Это надо запомнить – в этом дымке тотчас чудится запах ухи”» (7; 75).
(обратно)40
На общность некоторых черт в бунинских портретах писателей впервые обратил внимание Ю. Мальцев: «Например, при первом же знакомстве с Куприным Бунина восхитило в Куприне нечто “звериное” 〈…〉 В Толстом он тоже отмечает биологическую породистость, “дикость”, сходство с гориллой, его “бровныя дуги”, “по-звериному зоркие глаза” (“по-звериному” – в устах Бунина высший комплимент)» (Мальцев Ю. Иван Бунин. 1970–1953. Frankfurt/Main; Moskau: Possev, 1994. С. 17–18.)
(обратно)41
Даже название парохода «Гончаров» звучит напоминанием о восточном путешествии фрегата «Паллада».
(обратно)42
В каком городе она живет, куда едет, остается неясным.
(обратно)43
Некоторые другие эротические сюжеты Бунина также строятся на единстве и противопоставлении вожделения и жалости, этот мотив отчетливо выделяется в «Гале Ганской».
(обратно)44
Выготский Л. С. «Легкое дыхание» // Выготский Л. С. Психология искусства. М.: «Искусство», 1986. С. 183–205.
(обратно)45
Жолковский А. К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука, 1994. С. 109.
(обратно)46
Курсив наш. – Е. К.
(обратно)47
Визитные карточки фигурируют и в «Деле корнета Елагина», с предсмертными записками на обороте их находят на груди убитой Сосновской – это последняя реплика актрисы.
(обратно)48
В. Руднев упоминает о «постмодернистской эпистемической вседозволенности», которая предстает характерным вариантом «творческого подхода к жизни», предполагающим не обывательское игнорирование тех или иных недозволенных желаний, не невротическую реакцию на них, а модальную реализацию (Руднев В. Апология нарциссизма: исследования по психосемиотике. М.: Аграф, 2007. С. 160–161).
(обратно)49
Степун Ф. И. А. Бунин и русская литература // Возрождение, Париж, 1951. Январь-февраль. Тетр. 13. С. 174. (Цитата дана без соблюдения норм дореволюционной орфографии, еще сохранявшихся в «Возрождении» 1951 г.)
(обратно)50
Еще одна видоизмененная вариация «Одиночества» – «Месть» («Темные аллеи»).
(обратно)51
В качестве подтекста «Визитных карточек» «Une aventure parisienne» подсказана А. К. Жолковским в ходе обсуждения главы. // У Мопассана восторженная провинциалка, внимательная читательница модных литературных журналов приезжает в Париж в надежде познакомиться со знаменитостью, но литературной мир оказывается закрытым для нее, пока она случайно не узнает через стекло витрины в некоем покупателе антикварной лавки известного писателя, для которого тут же покупает понравившуюся ему дорогую (уродливую, на ее взгляд) статуэтку, а взамен умоляет писателя провести вместе с нею целый день. Недоумевая, писатель соглашается, он возит случайную попутчицу гулять, пить абсент в одном из известных кафе на Больших бульварах, обедать в ресторан, ведет ее в театр, а когда наступает ночь и приходит время возвращаться домой, то провинциалка отказывается покинуть писателя, однако радости богемной жизни остаются недоступны неискушенной героине: «Mais elle était simple comme peut l’être l’épouse légitime d’un notaire de province, et lui plus exigeant qu’un pacha à trois queues. Ils ne se comprirent pas, pas du tout» [ «Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли» (пер. Н. Чеботаревской)].
(обратно)52
Ряд бунинских подтекстов можно умножать, вплоть до Бессонова из романа «Сестры» А. Н. Толстого, тоже, несомненно, повлиявшего на рассказ.
(обратно)53
Сюжет «Последнего свидания» напоминает чеховскую «Скучную историю», «Невесту» и пр. рассказы, где молодая девушка покидает дом.
(обратно)54
Э. И. Худошина отмечает татарские коннотации, характеризующие Волгу в русской имперской географии: «В "Отрывках из путешествия Онегина" Таврида – один из эпизодов маршрута, прочерченного вдоль юго-восточной границы России… где явно отмеченной оказалась "восточная", "татарская" тема: Москва, Нижний Новгород, великая русская река Волга, на которой в недавнем прошлом располагались столицы татарских ханств (из них названа Астрахань), затем Кавказ и Крым» (Худошина Э. И. Крым в имперской географии Пушкина // Крымский текст в русской культуре: Материалы междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. С. 32). «Татарская» тема обнаруживает себя не только в «Онегине», но и в других текстах Пушкина, представляя один из ключевых концептов русского национального сознания: «В татарской теме, одически предсказанной в Эпилоге к “Кавказскому пленнику” и лирически развитой в “Бахчисарайском фонтане”, возникают неожиданно-символические коннотации: русский патриций знает, что он – европеец, но в то же время чувствует себя и “немного татарином”, так же как русский имперский миф “знает”, что Россия – это цивилизующий “дикие” народы Запад, но в то же время – “немного” Восток» (Там же. С. 38).
(обратно)55
Кузнецова Г. Н. Грасский дневник… С. 124.
(обратно)56
См.: Михайлов О. Н. Страстное слово // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: ИМЛИ РАН, 1998. С. 5–20.
(обратно)57
Дмитрием Павловичем зовут главного героя «Митиной любви», и эта ономастическая связь с царской фамилией, придает судьбе Мити символические черты: на гибнущем отпрыске благородного дворянского рода стоит печать погибшей империи, не успевшей расцвести.
(обратно)58
Этот ряд можно продолжить: во «Втором кофейнике» героиня вспоминает Шаляпина, Малявина и Коровина, заметим, что все три фамилии одинаково оканчиваются, все трехсложны и образуют «русскую тройку» благодаря «русскому» звучанию и русской тематике, объединяющей творчество певца и двух художников.
(обратно)59
Очевидно, что один и тот же комплекс мотивов связывает поклонницу Брюсова в «Речном трактире» с героиней «Визитных карточек»: «похожей на бедную курсисточку» («Речной трактир») – «мечтала гимназисткой» («Визитные карточки»); «желание воспользоваться ее наивностью», «испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве» («Речной трактир») – «возбуждало его жалостью, нежностью, страстью» («Визитные карточки»).
(обратно)60
См. об этом: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е–1950-е годы): Антология. М.: Книжица; Русский путь, 2010. С. 47–59.
(обратно)61
Морозов С. Н. Бунин – литературный критик: Дис…. канд. филол. наук. М., 2002. С. 59.
(обратно)62
Там же. С. 60.
(обратно)63
Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных: В 3 т. / Под ред. М. Грин: М.: Книга по требованию, 2012. Т. 2. С. 52–53.
(обратно)64
Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 35.
(обратно)65
Бунин И. А. Заметки (о литературе и современниках) // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М., 1998. С. 21.
(обратно)66
Лавров А. В. Вокруг гибели Надежды Львовой. Материалы из архива Валерия Брюсова // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 199.
(обратно)67
Бунин И. А. Заметки (о литературе и современниках) // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: ИМЛИ РАН, 1998. С. 314.
(обратно)68
Там же.
(обратно)69
Ходасевич В. Ф. Брюсов // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 32.
(обратно)70
Там же. С. 33.
(обратно)71
«Конец Ренаты», то есть смерть и похороны Нины Петровской, остались запечатленными и в дневниковых записях В. Н. Буниной от 24 и 26 февраля 1928 г.: // …покончила самоубийством Нина Петровкая. Верочка рассказывала, что… она пила, прибегала к наркотикам. 45 дней назад умерла ее сестра… она тыкала в нее булавки, а затем колола себя, чтобы заразиться трупным ядом. Но яд не брал ее. Жутко представить, что было в ее душе… Жаль, что знаю я ее очень мало. Почему-то все вспоминается какая-то выставка в Строгановском училище, пустые залы, в одной в углу безжизненная фигура Брюсова в застегнутом сюртуке и мохнатая черная голова Нины на маленьком туловище… // …Похороны расстроили больше, чем ожидала. Народу немного. Больше женщины. Мужчин только четверо: Боря, Ходасевич, Соколов, нотариус и др. Унковский. // Гроб простой, дощатый, в церкви покрыт был черным сукном с серебряными галунами. И от этой простоты, отсутствия обычной на похоронах пышности было очень жутко. // (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных: В 3 т. / Под ред. М. Грин. М.: Книга по требованию, 2012. Т. 2. С. 174).
(обратно)72
Лавров А. В. Вокруг гибели Надежды Львовой… С. 207.
(обратно)73
Надо сказать, что Львова и Сырейщикова были лишь вариациями общего жизенно-поэтического сюжета Брюсова, который он проиграл многократно с разными героинями. Наверное, одна из первых или первая вариация – роман с Е. А. Масловой: // Не раз отмечено, что еще до появления сложных эстетик зрелого символизма, сделавшегося, по слову Андрея Белого, целостным «миропониманием», центральным пунктом «декадентства» 1890-х гг. был именно эротический жизнетворческий эксперимент, порой неотделимый от сопровождающего его текста – тоже далекого от общепринятых литературных конвенций и представляющего собой сплав дневника и сюжетной прозы, который к тому же часто оставался в архиве писателя. Именно такая участь была уготована ранней брюсовской повести «Декадент», написанной в ноябре 1894 г. и отразившей первое серьезное любовное увлечение молодого поэта. В этой жизненно-литературной и отчасти мистической истории (ее участники устраивали спиритические сеансы) с 25-летней Е. А. Масловой будущий лидер русских символистов апробировал ключевые слагаемые впоследствии неоднократно воспроизведенного в лирике и опробованного в повседневности любовного сюжета. Его стержнем было «моментальное покорение женщины, свидетельствующее о силе воздействия личности», следующее за этим соревнование «в силе переживания, воздействия друг на друга, страстности», а также непременное «стремление сохранять “холод тайны, когда огонь кипит в крови”». // (Анисимов К. В., Капинос Е. В. «Речной трактир»: еще раз на тему «Бунин и символисты» // Сибирский филологический журнал. 2013. № 3. С. 93–108). Подробно о Е. А. Масловой см.: Богомолов Н. А. Повесть Валерия Брюсова «Декадент» в контексте жизнетворческих исканий 1890-х годов // Богомолов Н. А. Вокруг «серебряного века». М.: НЛО, 2010. С. 119–164.
(обратно)74
Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» – литературный манифест Валерия Брюсова // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 163–167 и др.
(обратно)75
«Брюсовский опыт, – пишет А. В. Лавров, – имеет свой отдаленный типологический прообраз в знаменитом памятнике французской литературы XVII в., “Португальских письмах” Гийерага, выданных за подлинные любовные послания португальской монахини» (Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» – литературный манифест Валерия Брюсова… С. 170).
(обратно)76
И. Эренбург тоже оставил мемуары о Надежде Львовой. В книге «Люди, годы, жизнь» Львова выведена как первая любовь и романтическая корреспондентка автора: «Мы расстались в 1908 году… Два года спустя она начала писать стихи. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с Брюсовым. Осенью 1913 года вышли две книги: “Старая сказка” Н. Львовой и “Стихи Нелли” без имени автора… 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством… Брюсов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил тютчевские слова: “И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений – Самоубийство и Любовь”. А Надя застрелилась» (Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая. М.: Советский писатель, 1961. С. 58–59).
(обратно)77
Имя или его отсутствие важны для Бунина. Именами героинь называются рассказы: «Танька», «Натали», «Таня», «Руся», «Зойка и Валерия», «Галя Ганская» и т. п., имена становятся почти портретами – то нарисованными по контрасту (Зойка и Валерия), то обогащенными дополнительными коннотациями (к примеру, польскими в «Гале Ганской» или русскими в «Русе»).
(обратно)78
См., например, в воспоминания Л. Арсеньевой: «Но я видела его веселым, энергичным и слабым, больным (в 1935 году), слепнущим, по временам даже теряющим память, но никогда не терявшим своего купринского “я”, своего “неуемного татарского нрава”, – выражаясь его собственными словами. Куприн неизменно ссылался на этот “неуемный татарский нрав” как на исчерпывающее объяснение своих поступков, когда ему случалось рассердиться, выйти из себя, хотя бы и по справедливому гневу, или просто вспылить (и в “Юнкерах” Куприн говорит о своем татарском нраве)» (Арсеньева Л. О Куприне // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 51).
(обратно)79
См.: Григорков Ю. А. И. Куприн (мои воспоминания) // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 53.
(обратно)80
Думается, перечисление в одном ряду легендарной «Бродячей собаки» с «Медведем» при описании литературной жизни Москвы 1918 г. также должно усилить «дьявольские», «дикие», «звериные» коннотаты происходящего в революционное время в стране и в писательской среде: // …а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих собак»? Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, – большой гонорар, говорит, дадим (запись от 2 марта 1918 г.) // (Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 83.)
(обратно)81
Возможно, в этой песне, исполненной Иваном Грачевым от лица девицы, обнаруживается пародия на тему травестийного брюсовского цикла «Стихов Нелли».
(обратно)82
В это время мы можем почувствовать, как отличается «я» молодого доктора от «я» того же героя, сидящего в «Праге». Доктора «1913 года» характеризует куда большая грусть и смиренная беспомощность перед ходом истории.
(обратно)83
В рассказе «Кума», следующем за «Речным трактиром» в «Темных аллеях», герой рекомендует себя «знатоком и собирателем древних русских икон», что роднит его и с Брюсовым из «Речного трактира», и с доктором. В лирической прозе мы чувствуем все время как будто бы одного героя, очень близкого автору, героя, который есть «некое» авторское «я». И в то же время – перед нами разные герои, вплоть до противоположных (как в случае с Брюсовым), чья похожесть только помогает варьировать одни и те же темы, поворачивать их разными сторонами к читателю.
(обратно)84
Подобные выводы вытекают не только из лирической природы текста, но и из универсальной природы дискурса вообще. К примеру, Ж. Деррида в противовес «центростремительному» присутствию, обоснованному в философии экзистенциалистов, усиливает смыслы децентрации: // И это позволяет прийти к выводу, что центра нет, что его нельзя помыслить в форме присутствующего сущего, что у него нет естественного места, что он представляет собой не закрепленное место, а функцию, своего рода неместо, где происходит бесконечная игра знаковых замещений. Вот в этот-то момент язык и завладевает универсальным проблемным полем; это момент, когда за отсутствием центра или начала все становится дискурсом – при условии, что мы будем понимать под этим словом систему, в которой центральное, изначальное или трансцендентальное означаемое никогда полностью не присутствует вне некоторой системы различий. Отсутствие трансцендентального означаемого раздвигает поле и возможности игры значений до бесконечности // (Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Ad Marginem, 2000. С. 448). В художественном дискурсе, особенно лирическом, силы децентрации возрастают, как, впрочем, и центробежные силы.
(обратно)85
Вот далеко не полный перечень прозаических текстов Бунина с морскими пейзажами. Северное море изображено в «Велге», Черное – в «Надежде», «Тумане», «Ночи», «Кавказе», «Истории с чемоданом», «Молодости и старости», в рассказах «Осенью», «Конец», «В такую ночь…», «Крик», бегло, но очень значимо упоминается Черное море в «Митиной любви»; Средиземное – в «Генрихе», «Мести», «Острове Сирен», в рассказах «Возвращаясь в Рим», «Мистраль», «Бернар»; Черное и Средиземное – в «Холодной осени», «Гале Ганской»; Черное море и Антарктика – в «Пингвинах»; Красное – в «Копье Господнем»; Индийский океан – в рассказах «Третий класс», «Ночь отречения», «Соотечественник»; Атлантика – в рассказе «Старый порт», разные моря и океаны в «Господине из Сан-Франциско», «Жизни Арсеньева», «Неизвестном друге», «Водах многих», «Братьях», «Сыне», «Снах Чанга», «Отто Штейне». Книга художественных очерков «Тень птицы» (1934) посвящена морскому путешествию Бунина в Константинополь, Афины, Египет, Яффу, Ливан и Сирию, а затем в Бейрут, Баальбек и Табху (само путешествие было совершено Буниным в 1907 г.). Подробно о путешествиях И. А. Бунина и их художественных описаниях см.: Натова Н. Воды многая: «Путевые поэмы» И. А. Бунина // Записки русской академической группы в США. New York, 1995. Т. XXVII. С. 135–162.
(обратно)86
Бабореко А. Бунин: Жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 87.
(обратно)87
Приведем несколько примеров таких дневниковых пейзажей: «Солнечный день, на пути в Cannes – обернулись: чисто, близко, четко видные полулежащие горы несказанно-прекрасного серого цвета, над ними эмалевое небо с белыми картинными облаками» (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных. М.: Книга по требованию, 2012. Т. 2. С. 212); «Проснулся в 4 ½. Довольно сумрачно – рассвет совсем как сумерки. В синеватых тучках небо над Эстерел[ем], над Антибск[им] мысом по тучкам красноватое, но солнца еще нет» (Там же. Т. 2. С. 288); «Солнечно – и уже августвск. и сент. сухость в этом блеске. Все еще доносится мистраль» (Там же. Т. 3. С. 62); «Ночь, молодая луна, мистраль» (Там же. Т. 3. С. 85); «Мрачно, холод, дождь, Эстерель пегий от снега» (Там же. Т. 3. С. 81).
(обратно)88
Под «концом» в заглавии, конечно, подразумевается гибель не только в прямом, но и в переносном смысле слова: путешествие может закончиться по-разному, но в любом случае «Конец» повествует о конце России и о конце тех, кто ее покинул.
(обратно)89
Евпатория не называется в тексте, но ее можно узнать по отмели у берега, пароход у Бунина стоит на рейде, там и происходит посадка.
(обратно)90
Позже, в «Речном трактире», Бунин повторит какие-то детали рассказа «В ночном море». «Речной трактир» – это тоже длинная беседа врача и писателя, правда, рассказ ведется от лица врача, о его жизни, а собеседник молча слушает.
(обратно)91
«Уже это парадоксально – анализ эмоций, которых нет», – пишет о рассказе О. В. Сливицкая (Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море» // Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича. СПб.: Изд-во С-Петербург. ун-та, 1996. С. 288).
(обратно)92
Приведем здесь комментарий к рассказу: «В. Н. Муромцева-Бунина связывала происхождение рассказа с личными переживаниями писателя, с его отношением к А. Н. Бибикову, за которого, разойдясь с Буниным, вышла замуж В. В. Пащенко (прообраз Лики в романе “Жизнь Арсеньева”). // 〈…〉 Вера Николаевна писала: “К Арсению Николаевичу Бибикову у Ивана Алексеевича не было не только злобы, но и дурного чувства… // Первого мая 1918 года, рано утром, я еще лежала в постели и услышала мужские шаги: кто-то вошел в комнату Ивана Алексеевича. Это оказался Бибиков. Только что скончалась его жена, и он кинулся к нему. // О чем они говорили, я не спрашивала. Думаю, что рассказ “В ночном море” зародился и вырос из этого свидания» (5; 515).
(обратно)93
В художественной прозе Бунина, а также в статьях можно найти множество вариаций на темы романа. Поэзия усадьбы с теми же мотивами, что и в романе, разработана в «Золотом дне», «Несрочной весне», «Антоновских яблоках», «Последнем свидании», в очерке «Читая Пушкина» и др. (речь об этом еще пойдет в 5 главе), тема детства – в «Далеком», «Снежном быке», «У истока дней» (с эпизодом смерти сестры, повторенным в «Арсеньеве»), тема Лики, если верить мемуарам В. Н. Буниной, начинается с «Ночного моря» и не уходит со страниц произведений Бунина вплоть до «Темных аллей».
(обратно)94
Формула «мириады лет тому назад» встречается и в других рассказах Бунина, к примеру, в этюде «Ночь» 1925 года в сочетании с теми же темами бессмертия души и восточными мотивами: // Рождение! Что это такое? Рождение! Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне почти тождественно. «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И я сам испытал подобное (как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках): испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле (5; 300–301).
(обратно)95
Ср. одноименное стихотворение И. А. Бунина – «Пантера».
(обратно)96
Аверин Б. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 182–183.
(обратно)97
Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море»… С. 287.
(обратно)98
Подробно о символике заглавия и его контексте у Бунина см.: Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море»… С. 290.
(обратно)99
Там же. С. 289.
(обратно)100
РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 56. Л. 6.
(обратно)101
У Бунина собрано много реплик Чехова, в которых звучит предчувствие скорой кончины: // «– Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам. // На этот раз он ошибся: он прожил меньше» (9; 190–191). «Поистине было изумительно то мужество, с которым болел Чехов!» (9; 184) – восклицает Бунин. А вот несколько «врачебных» шуток смертельно больного Чехова на темы здоровья: «В письме от 29 сентября он пишет между прочим: “… скажи Бунину, чтобы он у меня полечился, если нездоров; я его вылечу”» (9; 212); «Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что “чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм”» (9; 217).
(обратно)102
Бунин так передает обращенные к нему слова Чехова: «Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: “Море пахнет арбузом…” Это чудесно, но я бы так не сказал» (9; 196), то же самое, по воспоминаниям Бунина, говорил Чехов Горькому: «У вас слишком много определений… понятно, когда я пишу: “Человек сел на траву”. Наоборот, неудобопонятно, если я пишу: “Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь…”» (9; 219). А вот собственное бунинское определение стилистики Чехова: «Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если употреблял, то чаще всего обыденные, и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом» (9; 198).
(обратно)103
О. В. Сливицкая называет целый ряд элегий об «идиотическом бесчувствии», среди которых «Признание» Боратынского, шестая из «Северных элегий» Ахматовой (см.: Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море»… С. 288), к этому можно прибавить лишь то, что пушкинская «недоступная черта» послужила самым очевидным интертекстом для стихотворения «Есть в близости людей заветная черта…» А. Ахматовой.
(обратно)104
Судя по дневникам Бунина и статье «Конец Мопассана», он чрезвычайно высоко ценил мастера французской новеллы. В дневнике В. Н. Буниной за 1918 г остался такой диалог: // «– А куда вы отнесете Мопассана? – спросил улыбаясь Ян. // – Мопассан – другое дело, – он создал пятнадцать томов мужчин, женщин, – возразил Тальников. // – Да, и мироощущение у него иное, очень глубокое, – добавил Ян» (Бунин И. Α., Бунина В. Н. Устами Буниных. М.: Книга по требованию, 2012. Т. 1. С. 185).
(обратно)105
Дело еще и в том, что Бунин вплоть до последних лет своей жизни редактировал «Бернара», этим текстом заканчивается и 7 том цитируемого нами 9-томного собрания сочинений Бунина 1965–1966 гг. (7 том – это последний из томов с художественной прозой писателя, 8-ой отдан стихам и переводам, 9-й – мемуарам и публицистике). Отводя рассказу заключительное место, составители руководствовались, по-видимому, прижизненным изданием: Бунин И. А. Собр. соч., т. I–XI, где рассказ входит в 9 том.
(обратно)106
Здесь и далее цитаты из «Sur l’eau» приводятся по изданию: Maupassant G. de. Sur l’eau / Edition présenté, établie et annotée par Jacques Dupont. Paris: Gallimard, 2000.
(обратно)107
Заглавие рассказа «Sur l’eau», в отличие от такого же заглавия дневника, на русский переводят «На реке», а не «На воде».
(обратно)108
Так, в финальных сценах романа «Bel-Ami» символический смысл фокусируется вокруг картины «Jésus marchant sur les fots» («Иисус, шествующий по водам»): в помутившемся рассудке госпожи Вальтер жестоко изменивший ей Дюруа то уподобляется Христу и предстает спасительным идеалом, то обращается в дьявола.
(обратно)109
О древних, античных и мифологических, истоках осмысления средиземноморского пространства см.: Топоров В. Н. Эней – человек судьбы. К «средиземноморской персонологии». М.: Радикс, 1993. Ч. 1.
(обратно)110
Здесь и далее цитаты из «Bel-Ami» приводятся по изданию: Maupassant G. de. Bel-Ami. Préface et notes de Jean-Louis Bory. Paris: Gallimard, 2003. В пер. Н. Любимова: // Но вот с крутого поворота неожиданно открылся широкий вид: и залив Жуан, и белая деревушка на том берегу, и мыс Антиб впереди – все было теперь как на ладони. // – Вон эскадра! Сейчас ты увидишь эскадру! – по-детски радуясь, шептал Форестье. // 〈…〉 // Форестье пытался вспомнить названия судов: // – «Кольбер», «Сюффрен», «Адмирал Дюперре», «Грозный», «Беспощадный»… Нет, я ошибся, «Беспощадный» – вон тот. (Здесь и далее цитаты из русского перевода романа «Милый друг» приводятся по изданию: Мопассан, Г. де. Собр. соч.: В 7 т. М.: Правда, 1992. Т. 3).
(обратно)111
Все варианты данного пейзажа в творчестве Мопассана перечислены Ж. Дюпоном. См.: Maupassant Guy de. Sur l’eau… P. 185.
(обратно)112
«Voici le Colbert, la Dévastation, l’Amiral-Duperré, le Courbet 〈…〉 // Je veux visiter le Courbet 〈…〉 Rien ne donne l’idée du labeur humaine, du labeur minutieux et formidable de cette petite bête aux mains ingénieuses comme ces énorme citadelles de fer 〈…〉 travail de fourmis et de géants, qui montre en même temps tout le génie et toute l’impuissance et toute l’irremédiable barbarie de cette race si active et si faible qui use ses efforts à créer des engins pour se détruire elle-même» («Вот “Кольбер”, “Разгром”, “Адмирал Дюперре”, “Курбе” 〈…〉 Я решил посетить “Курбе” 〈…〉 Ничто не дает такого точного представления о человеческом труде, о кропотливом и исполинском труде этой козявки с искусными руками, как выстроившиеся передо мной стальные твердыни 〈…〉! Труд муравья и гиганта, в котором отразились и гений, и бессилье, и безнадежное варварство племени, столь деятельного и столь ничтожного, отдающего все свои силы на создание машин, заготовленных для его же гибели») [Здесь и далее цитаты из русского перевода книги «На воде» приводятся по изданию: Мопассан Г. де. Собр. соч.: В 7 т. М.: Правда, 1977. Т. 5 (Пер. Б. Горнунга)]. Возможно, к мопассановскому описанию военной эскадры («храмы смерти», выстроившиеся на рейде) восходит и корабль-дьявол в «Господине из Сан-Франциско».
(обратно)113
«Я заносил в этот дневник свои смутные мечтания 〈…〉 Меня просят опубликовать эти беспорядочные, нестройные, неотделанные записки, которые следуют одна за другой без всякой логики и обрываются вдруг, без причины, только потому, что порыв ветра положил конец моему путешествию. // Я уступаю этой просьбе. Быть может, напрасно».
(обратно)114
«“Милый друг” – это не совсем точный перевод заглавия романа, поскольку для “bel” трудно подыскать подходящий русский эквивалент, «мопассановское bel ami, образованное по аналогии с названиями вроде beau-père ‘тесть, свекр, отчим’, beau -frère ‘шурин, свояк, деверь’, то есть иной брат, ведь красота (bel, beau ‘красивый, прекрасный’) это инакость, потому-то bel ami по-русски не милый друг, а дружок», – пишет, ссылаясь на О. Н. Трубачева, В. Айрапетян (Айрапетян В. Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 315–316).
(обратно)115
Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. М.: Possev, 1994. С. 325–326.
(обратно)116
Там же. С. 327.
(обратно)117
Насколько значимой и символичной была смерть и память о В. К. Николае Николаевиче в окружении Бунина видно по дневнику В. Н. Буниной: // Поехали с Лосем на панихиду по Николае Николаевиче […] панихида в нижней церкви у надгробия Ник. Ник. Мы прошли совсем вперед. Народу уже было порядочно, в проходе шпалерами стояли, вероятно, военные, в самой церкви у стены – хор, молящиеся – Кутепов, Баратов и др. Странно казалось, что панихиду служат в белых и голубых ризах. Перед надгробием Вел. Князя, позади священников, стояла жена и родственники […] 〈…〉 После панихиды подошли поклониться могиле. По сравнению с летом стало наряднее: много цветов, всяких лент, зеленое Великокняжеское знамя, на кожаной подушке корона, на стенах – образа, лампы – все, что осталось от Империи, символы ее. Тяжело […] (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных. С. 214).
(обратно)118
При желании можно даже отыскать дальние родственные связи Буниных и Романовых: См.: Пчелов Е. В. Бунин и Романовы // Творчество И. А. Бунина и русская литература XIX–XX веков. Белгород, 1998. С. 112–116.
(обратно)119
Разъяснение стихов наивной возлюбленной – это частый сюжет у Бунина, вот еще пример из «Холодной осени»: // Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета: // Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот… // – Капота нет, – сказала я. – А как дальше? // – Не помню. Кажется, так: // Смотри – меж чернеющих сосен Как будто пожар восстает… // – Какой пожар? // – Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. «Надень свою шаль и капот…» Времена наших дедушек и бабушек… Ах, Боже мой, Боже мой! // – Что ты? // – Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя… (7; 207).
(обратно)120
Произведений с подобным сюжетом множество: от «Письма незнакомки» С. Цвейга, где этот сюжет однотонно пуантирует повествование от начала до конца, до романа Р. Гари «Ожидание на рассвете» (R. Gary, «La promesse de l’aube»), где письма матери к главному герою – периферийный, но необычайно важный момент.
(обратно)121
Так же остается, уже уйдя из жизни, Лушка рядом с Хвощинским в «Грамматике любви», безымянная героиня – рядом с рассказчиком в «Позднем часе».
(обратно)122
В этом смысле показателен рассказ «Таня» из «Темных аллей», где героиня в чистом виде воплощает этот наивный тип.
(обратно)123
Любопытно, что в примечаниях А. Мясникова к «Суходолу» четко противопоставляются крестьяне и дворяне в принятых литературоведческих традициях середины 60-х гг., и тем не менее А. Мясников находит возможность отметить особый взгляд Бунина на этот счет: «Кровь господ и кровь мужиков давно перемешалась в дворянских усадьбах и деревнях» (3; 457). Бунину была дорога исконная, древняя, досословная связь дворянства и крестьянства, единство их уз. Тема «“утробного” единства баб и мужиков» видится К. В. Анисимову как одна из главных тем «Суходола» и других произведений Бунина, в «Суходоле» семейными узами с Хрущевыми связана горничная Наталья, подобно тому, как Наталья Савишна связана с Иртеньевыми в «Детстве» Толстого. (См.: Анисимов К. В. Толстовские мотивы в «Суходоле» И. А. Бунина // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2009. № 4 (66). С. 199–207.) Та же идея заимствована у К. В. Анисимова С. А. Ломакиной. (См.: Ломакина С. А. Наследие Л. Н. Толстого в творческом сознании И. А. Бунина // И. А. Бунин и XXI век. Мат-лы междунар. науч. конф., посв. 140-летию со дня рожд. писателя. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2001. С. 164–169.) Аналогичный сюжет родства/ отчужденности связывает в мире Бунина писателя с персонажами. И тот же сюжет родства/отчужденности связывает в мире Бунина писателя с персонажами.
(обратно)124
Подчеркивая «ассоциативный принцип раскрытия образа» у Бунина, А. А. Хван делает блестящее наблюдение над сюжетом «Генриха», связывая воедино смерть Генрих и стоянку поезда, везущего Глебова в Ниццу: // Символичность следующей картины является кульминационной в передаче на тонком уровне произошедшей трагедии: «Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящийся огонь при входе в закопченную пасть туннеля». (Хван А. А. Метафизика любви в произведениях А. И. Куприна и И. А. Бунина. М.: Институт художественного творчества, 2003. С. 78.)
(обратно)125
В книге Б. В. Аверина речь идет о некоем «несоответствии, “зазоре” между действительностью и воспоминанием о ней» у Бунина: «Впечатление от реальности, след, оставленный от нее в душе, остается странным ее подобием, природу которого необходимо уловить» (Аверин Б. В. Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 215). «Погоня» за воспоминанием, а не статическая констатация «прошлого в настоящем» и определяет природу бунинского рассказа.
(обратно)126
Вымышленный австрийский писатель Артур Шпиглер из «Генриха» как бы «довоплощается» до реального Артура Шницлера в «Чистом понедельнике»: «Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги – Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского». Создается ощущение одного героя, который прорисовывается то дальше от реальности, то ближе к ней.
(обратно)127
Первый намек на сходство между Глебовым и Дюруа можно найти уже на первой странице рассказа «Генрих». Поднимаясь в лифте, Глебов смотрится в зеркало: «Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет» (4; 225). Поднимаясь по лестнице к Форестье, Дюруа точно так же любуется собой в зеркале на первых страницах «Bel-Ami»: «il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait 〈…〉 c’etait lui-même, refété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le ft tressaillir tant il se jugea mieux qu’il n’aurait cru» («вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор 〈…〉 это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создававшем иллюзию длинного коридора. Он задрожал от восторга, – в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе»). Примечательно, что зеркальные мотивы пронизывают весь рассказ Бунина, персонажи появляются в зеркале чужих слов, воспоминаний, переводов. В «Bel-Ami» закат над морем и Антибом, отраженный в зеркале, видят Дюруа и Мадлена, сидя у постели умирающего Форестье: «La glace de la cheminée, refétant l’horizon, avait l’air d’une plaque de sang» («Зеркало над камином, отражавшее даль, казалось кровавым пятном»). Зеркало как мотив, позволяющий судить о «сугубо бунинской воспринимающей способности сознания… отличающейся “неслиянным и нераздельным” соприсутствием в ней человека и мира, жизни и смерти, телесно-физического и духовно-ментального планов бытия» исследуется в работе Е. К. Созиной (См.: Созина Е. К. Мотив зеркала в прозе И. Бунина. Рассказ «У истока дней» // Литературный текст: проблемы и методы исследования. Тверь: ТГУ, 1998. С. 59–74). // Е. К. Созина рассматривает мотив зеркала в широком, «метатекстуальном» ракурсе, подобный подход мы предлагаем здесь для описания морских, водных мотивов. Кстати, в некоторых текстах Бунина можно установить связь между «водным» и «зеркальным». Например, мотив зеркала, метафора жизни-плавания с Библейскими и разнообразными литературными подтекстами, антибский пейзаж за окном, рефлективное самоописание – из всего этого вырастает миниатюра «Мистраль» 1944 г.
(обратно)128
«потому что я его старый друг».
(обратно)129
Мотив сокрытия и обнажения исходит из области все той же местоименной динамики, отмеченной Ю. Мальцевым у Бунина (см. сноски 31, 32), прием этот не ограничивается полем местоимений, но распространяется и на имена. Вот один из таких примеров: Глебова в рассказе почти не называют по фамилии, фамилия мелькает лишь пару раз в начале и исчезает, дальше героя обозначает только местоимение «он». Скольжение от «Глебов» к «он», формально не меняя третьего лица, все же приближает читателя к герою, к его собственному «я», а героя приближает к автору. К концу рассказа точка зрения вплотную придвигается к герою, и автор, уже почти сливаясь с ним, дает обзор происходящего откуда-то изнутри геройного «я», почти отождествившегося с «я» авторским. // Движение авторского и геройного «я» из одной дейктической области в другую, с одной на другую точку зрения, часто отмечают также у Чехова. Разумеется, прием этот был отрефлексирован обоими писателями, о чем свидетельствует следующая реплика в бунинской книге о Чехове: // «– Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте» (9; 206).
(обратно)130
По сравнению с элегией «Под небом голубым…», речь о которой шла выше, это стихотворение – еще один инвариант элегического любовного сюжета, аранжированного темой своего / чужого берега, только привычное для романтической поэзии море заменено рекой, чужие края – родными местами, но элегический мотив «чужого берега» «работает» и здесь.
(обратно)131
Сюжет Пигмалиона и Галатеи, поэта и Музы достаточно часто появляется у Бунина, а в «Темных аллеях» один из рассказов так и назван – «Муза».
(обратно)132
Если принять на веру то, что в «Речном трактире» прототипом курсистки, зашедшей в «Прагу» с Брюсовым, является Надежда Львова (см. об этом в I главе этой книги), то вполне логично рассматривать «Галю Ганскую» как вторую в «Темных аллеях» вариацию сюжета неожиданного самоубийства героини, и тогда этот рассказ может быть сочтен подтекстовым остатком «Речного трактира», разросшимся до самостоятельного текста и совершенно оторванным от «реалий».
(обратно)133
Без отрывков «из старинных книг», описания библиотек, перечисления писаных и неписаных правил сочинительства, цитат из разных поэтических и прозаических текстов, что уже отмечалось и еще будет показано ниже, редко обходится какой бы то ни было рассказ Бунина.
(обратно)134
Надо отметить, ссылаясь на С. Н. Морозова, что среди псевдонимов Бунина пока не найдено подписи «Ивлев». Художественные произведения Бунин чаще всего публиковал под своей фамилией, а под псевдонимами печатался в периодике во времена своей журналистской или редакторской деятельности. С. Н. Морозов констатирует: «Бунин использовал псевдонимы только в первый период своей литературной деятельности. Это были следующие псевдонимы: И. Б., И. Б-н, Ив. Б-н, И. А. Б-н, И. А. Б…, Б-н, И. Озерский, Чубаров, И. Чубаров, Ч-ов» (Морозов С. Н. И. А. Бунин – критик: Дис…. канд. филол. наук. М., 2002. С. 158), так что комментарий к рассказу может быть специальным наведением на автобиографический план персонажа. Правда, как и «Ивлев», почти все перечисленные С. Н. Морозовым псевдонимы «произведены от начальных букв» имени Бунина, за исключением топонимического псевдонима, отсылающего к родным для Бунина местам – Озеркам, и фамилии его матери – Л. А. Чубаровой.
(обратно)135
Подробный перечень различных концепций памяти, связанных с творчеством Бунина, приводит в своей книге Б. В. Аверин (АверинБ. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 176–180).
(обратно)136
«Куда точно и с какой целью едет он, – пишет об Ивлеве Η. М. Зоркая, – (…) остается неизвестным». Далее делается предположение, что Ивлев «ехал с самого начала по Лушкиным местам 〈…〉 Наверное, одиозность истории Хвощинского (а значит – и влюбленности в Лушку Ивлева) заставляет его скрывать, может быть, от самого себя истинную цель поездки» (Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. С. 253, 256).
(обратно)137
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 190–198. Что касается близости «мировоззренческих начал» Тургенева и Бунина, то здесь можно говорить об интересе обоих писателей к пограничным преморбидным и онейрическим состояниям, к различению их оттенков. В. Н. Топоров так описывает мистическое чувство Тургенева: «Мистическое чаще всего открывалось Тургеневу в таинстве жизни и смерти, а одной из частых и конкретных форм проявления мистического были сны, которые он фиксировал в своих произведениях и письмах многажды и обычно очень тонко, стараясь не возмутить виденное слишком грубой реальностью слова» (Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М.: РГГУ, 1998. С. 47).
(обратно)138
См. об этом подробнее: Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. С. 190.
(обратно)139
С. Кржитски, несколько спрямляя проблему, называет «Ивлева» «ранним псевдонимом» Бунина («Ivlev is an early pen name of Bunin») (Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin. The Hague; Paris, 1971. P. 114).
(обратно)140
«“Погода” повторяет и усиливает “линию Лушки”, ей вторя, вибрируя, нарастая. Знаменательно здесь то, что погода – так сказать, “компонент пейзажа” – у превосходного пейзажиста Бунина в рассказе отделена от пейзажа, имеет свою самостоятельную роль. Пейзаж ровный, однотонный. Погода же изменчива, одухотворена, подводит нас к кульминации и разрядке» (Зоркая Н. М. На рубеже столетий. С. 257).
(обратно)141
Ярко прослеживается этот прием, к примеру, в рассказе «Темир-Аксак-Хан», где в начале от лица автора описывается морской берег: «Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон веет из темноты влажный беспокойный ветер» (5; 34), а в конце редкое, с ранних лет присущее Бунину чувство близости невидимой водной стихии, незаметно «передано» героине: «…в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины души проникающим ветром» (5; 36).
(обратно)142
Жолковский А. К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука, 1994. С. 115.
(обратно)143
Именно такую версию прочтения имени Лушки предлагает Л. П. Пожиганова. См.: Пожиганова Л. П. Путешествие с Дон-Кихотом: поэтика игры в рассказе «Грамматика любви» // Пожиганова Л. П. Мир художника в прозе Ивана Бунина 1910-х годов. Белгород, 2005. С. 134.
(обратно)144
К тому же «плакучая береза» продолжает тему «черных куличиков», которые «с плачем метнулись 〈…〉 в дождливое небо» (4; 301). Плотная мотивная сетка «печальных» мотивов придает элегическую окраску всему тексту «Грамматики любви», где внешние, «пейзажные» и «интерьерные» черты наплывают на сферу эмоциональной жизни героев и автора.
(обратно)145
Здесь необходимо привести еще одну цитату из работы Н. М. Зоркой: «История Лушки в рассказе прерывиста, сбита и неясна – восстановить ее в точности было бы невозможно, ибо мы даже не узнаем ни причины смерти героини (то ли самоубийство, то ли что-то другое), не знаем ни ее отношения к Хвощинскому, ни подробностей их “романа”. Лушка сразу является нам из рассказа “легендарной”, “загадочной”, “смутным образом”» (Зоркая Н. М. На рубеже столетий. С. 255).
(обратно)146
На подтекст из «Бедной Лизы» указывает К. В. Анисимов. «Бедная Лиза» с ее коллизией встречи и расхождения сословий оказывается чрезвычайно важной, по мнению исследователя, для историософии Бунина, пытающегося найти гармонизирующие медиальные силы, которые бы сгладили сословные расхождения: // // Мерцание самоубийства Лизы как минус-приема 〈…〉 обусловлено не только полемикой с руссоистским социологизмом, который выражал Карамзин («И крестьянки любить умеют»). Дело 〈…〉 в более глубокой исторической соотнесенности текстов Бунина и Карамзина 〈…〉 Бунинский сюжет в этом смысле представляет собой инверсию: роман помещика 〈…〉 Хвощинского с дворовой девкой приводит к настоящей гибели не ее (она умерла своей смертью), а именно его, превращающегося 〈…〉 в «безжизненную марионетку». Природа в своем превосходстве как минимум проблематизируется, а социальные оценки снимаются (Анисимов К. В. Грамматика любви И. А. Бунина: историко-культурные контексты // Нарративные традиции славянских литератур: От средневековья к Новому времени. Новосибирск, 2014. С. 219.).
(обратно)147
Об этом см.: Проскурина Е. Н. Судьба «дома у дороги» у Пушкина, Бунина, Платонова // Пушкин в ХХI веке: вопросы поэтики, онтологии, историцизма. Сб. статей к 80-летию проф. Ю. Н. Чумакова. Новосибирск, 2003. С. 179–186. О сюжетном сходстве рассказов «Грамматика любви» и «Темные аллеи» см. также: Краснянский В. В. Три редакции одного рассказа // Русская речь. 1970. № 5. С. 61–62.
(обратно)148
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977. С. 352.
(обратно)149
См.: Краснянский В. В. Три редакции одного рассказа. С. 57–62.
(обратно)150
Краснянский В. В. Три редакции одного рассказа. С. 59.
(обратно)151
См.: Анисимов К. В. Грамматика любви И. А. Бунина: историко-культурные контексты… С. 202.
(обратно)152
См.: Там же. Ранее на сходство матери и сына указывалa Н. М. Зоркая, на которую и ссылается К. В. Анисимов (Зоркая Н. М. На рубеже столетий. С. 252).
(обратно)153
Проблему «генезиса приема “перечисления авторов и книг”» И. Г. Добродомов и И. А. Пильщиков ставят в связи с кругом чтения Онегина и Автора в «Евгении Онегине»: // Юмъ〈,〉 Робертсонъ, Руссо, Мабли〈,〉 // Бар〈онъ〉, д’Ольбахъ〈,〉 Волтеръ, Гельвецiй〈,〉 // Локъ, Фонтенель, Дидротъ – // Ламотъ // Горациiй, Кикеронъ, Лукрецiй〈.〉 // // Подобные перечни то и дело встречаются в черновиках и беловой редакции «Онегина» и в других художественных текстах первой половины XIX в. См.: Добродомов И. Г., Пильщиков И. А. Лексика и фразеология «Евгения Онегина». Герменевтические очерки. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 133–141.
(обратно)154
К. В. Анисимов отмечает две традиции, отраженные в библиотеке Хвощинского: высокую книжную и низовую, что оказывается важным для интерпретации рассказа (См.: Анисимов К. В. Грамматика любви И. А. Бунина: историко-культурные контексты… С. 219–221).
(обратно)155
Тургенев И. С. Бригадир // Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. М.: Наука, 1965. Т. 10. С. 48.
(обратно)156
Бунин был внимателен ко всем видам «травы забвения» (это словосочетание процитировано из рассказа Бунина «Несрочная весна» В. Катаевым в заглавии собственной книги): мотивы ядовитых растений, уводящих в мир снов, забвения, смерти есть в «Жизни Арсеньева», в стихотворении «Дурман» («Дурману девочка наелась…»), в «Косцах» и др. текстах.
(обратно)157
О том, какие проекции дает стихотворение «Последний поэт» Боратынского на текст «Грамматики любви» Бунина см.: Кучеровский Н. М. И. Бунин и его проза (1887–1917). Тула, 1980. С. 211–212.
(обратно)158
См.: Блюм А. В. Из бунинских разысканий // И. А. Бунин: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 678–681.
(обратно)159
Отсюда – возможность истолковать Хвощинского как рыцаря, ДонКихота. См.: Пожиганова Л. П. Путешествие с Дон-Кихотом: поэтика игры в рассказе «Грамматика любви». С. 129–148.
(обратно)160
Жолковский А. К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя. С. 329.
(обратно)161
Хотя реальный прототип «Грамматики любви» относится к 30-м гг. XIX в., а условное время любви Хвощинского располагается на временной оси еще позже, но мы говорим о традиции XVIII в., т. к. стиль письма и жизни Хвощинского – устаревший, он будто бы оставлен вне XIX в. Рискнем провести, может быть, излишне прямую аналогию между автором и его героем: литературные интересы самого Бунина были обращены на прошлое и в поэзии (лирика XIX в., a не символисты и акмеисты), и в прозе (к примеру, из французов – не столько Пруст, сколько Мопассан).
(обратно)162
См. об этом: Топоров В. Н. «Сельское кладбище» Жуковского: к истокам русской поэзии // Russian Literarute. 1981. № 10. С. 235–241.
(обратно)163
Это определение А. К. Жолковский приводит в связи со стихотворением Б. Пастернака «Ветер» («Я кончился, а ты жива») – текстом, который будто бы «пишется автором после смерти». См.: Жолковский А. К. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. М.: НЛО, 2011. С. 317.
(обратно)164
Любопытны естественные трудности, возникающие при переводе стихотворения из «Грамматики любви» на другой язык. С. Кржитски приводит два английских варианта. // Первый перевод принадлежит ему самому, там нет местоимения «ты» или какого-либо ему аналога, зато появляется «thus», «сие»: // The hearts of lovers are thus saying: «In legends joyful live your life!» To their offspring they are conveying These Grammar Rules, the rules of love. // Сердца любивших говорят сие: «В радостных преданьях живи // [свою жизнь]» // Другой перевод (его автор – В. G. Guerney) содержит местоимение (it), но оно тоже не соответствует «ты», поскольку может быть отнесено к любому неодушевлённому «нечто», но не к липу. // But – «Live thou in legends of Love's // bliss!» // Shall greet it hearts that with Love // strove; // And to their grandchildren show this // Grammar of Love. // Но: «Живи в преданьях любовного счастья!» // Это [высказывание] [согреет] своим приветом сердца, стремившиеся к любви; // Впрочем, В. G. Guerney, вероятнее всего, переводит первую редакцию «Грамматики любви». // См.: Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin. P. 115.
(обратно)165
Г. А. Гуковский так характеризует эпитеты сладкий/сладостный: // // Эпитет «сладкий», «сладостный», – стал одним из признаков стиля элегического, или психологического романтизма 1800–1820-х гг. Он повторялся буквально сотни раз в стихах как первоклассных поэтов, так и их учеников, – вплоть до эпигонов. Ему повезло, потому что он был типичным для системы, установленной Жуковским 〈…〉 В терминологической системе классицизма «сладкий» – это определение вкуса 〈…〉 Но в системе Жуковского 〈…〉 он стал обозначать всякое положительное отношение к миру (Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М.: Художественная литература, 1965. С. 61–62). // // Текст Бунина тонирован двояко: и в цвета более ранней поэзии XVIII в., и в цвета романтической поэзии, он, как и романтическая поэзия, перенасыщен «сладостью», поскольку кроме «преданий» есть еще и «сладостные воспоминания» в цитате из «Грамматики…».
(обратно)166
К примеру, так переводит заглавие бунинской новеллы Anne-Flipo Masurel (См.: Bunin I. La Grammaire de l’amour. Sables Éditions, 1997).
(обратно)167
Этим не исчерпывается анализ поэтического отрывка, любопытно добавить сюда еще и то, что ориентированное на книжную традицию разных веков четверостишие, сохраняет каким-то образом связь с народным стихом в духе, например, «волжских матеночек»: // Обещалися мы оба // Сохранить любовь до гроба // Обещанье мы не забыли // Ах! Злые люди нас разлучили.
(обратно)168
В связи с «Грамматикой любви» С. Кржитски со ссылкой на P. Henry высказывает такую мысль: «Bunin creates a story ‘out of nothing’. Under his dispassionate pen, the treatment of purely lyrical, sentimental, almost Karamzin-like theme becomes a typical example of Bunin’s art “with his successful ‘alienation’ of the subject, and the controlled, but effortless, seemingly casual progress of action”» (Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin… P. 116). («Бунин создает рассказ “из ничего”. Под его беспристрастным пером происходит характерная для Бунина метаморфоза: чисто лирическая, сентиментальная, почти карамзинская тема “отдаляется от повествователя, и изложение хода событий кажется естественным и ненадуманным”»).
(обратно)169
Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии (проза И. А. Бунина 1930–1940-х гг.). Омск: Изд-во ОмГПУ, 1997. С. 161–163.
(обратно)170
Тема кинематографичености Бунина не раз поднималась в связи с замыслом писателя предложить «Господина из Сан-Франциско» для голливудского сценария. Рассказ Бунина так и не превратился в кинофильм, но известен ряд произведений, которые сам автор хотел бы видеть экранизированными. Это тексты, тяготеющие к повестям: «При дороге», «Дело корнета Елагина» (См.: Янгиров Р. «Страсть к обозрению мира»: Иван Бунин и кинематограф // Русская мысль. № 4290. 28 октября – 3 ноября 1999 г. С. 12–13). // В упомянутой у М. С. Штерн статье А. В. Разиной (Разина А. В. Кинематографичность – как стилевая особенность творческого почерка Ивана Бунина // И. А. Бунин и русская литература XX века: По материалам Междунар. конф., посвящ. 125-летию со дня рожд. И. А. Бунина. М.: Наследие, 1995. С. 258–267) сделана попытка оторвать идею кинематографичности от повествовательности, противопоставить кинематографичность повествовательности, показать, что кинематографическими средствами можно передать не только события и «исторический фон», но лирическую «картинность» «зримость» предметов и пейзажей (отсюда повышенная важность мотиваокна), «отпечатки», «эскизность», «недоговоренность». К сожалению, последнее, как считает А. В. Разина, оказалось затруднительным для кинематографистов, которые брались за экранизацию Бунина. Бунинская «кинематографичность» в интерпретации А. В. Разиной соответствует лирическому модусу его прозы.
(обратно)171
Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии (проза И. А. Бунина 1930–1940-х гг.)… С. 161–162.
(обратно)172
Там же. С. 162.
(обратно)173
«В организации сюжета, – пишет о “Зимнем сне” М. С. Штерн, – важную роль играют мотивы фантастической баллады: ожидание экстаординарного события, появление вестника, свидание у гроба, бесконечное снежное поле, бешеная скачка глухой зимней ночью» (Там же. С. 163).
(обратно)174
В сюжете Вукола М. С. Штерн усматривает «очерковое начало» рассказа, вплетенное в балладно-сказочный контекст (Там же. С. 163).
(обратно)175
Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 408.
(обратно)176
А также мотивы русской романтической лирики в стиле «Зимнего утра».
(обратно)177
«Но особый пиетет вызывал в Бунине Жуковский 〈…〉 Он никак не мог примириться, что незаконный сын его деда от турчанки Сальмы не носит имя Василия Афанасьевича Бунина, а по крестному Василия Андреевича Жуковского. “А ведь не были бы придуманы «нелепые» узаконения, был бы поэт Буниным” – приговаривал он», – вспоминает о И. А. Бунине А. В. Бахрах (Бахрах А. В. Бунин в халате // Иван Бунин: Pro et Contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 196). Баллады Жуковского цитируются в художественных текстах Бунина, к примеру, в «Жизни Арсеньева»: // // Это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен – радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их стансов, посланий, элегий, баллад: // Скачут. Пусто все вокруг. // Степь в очах Светланы… (6; 210).
(обратно)178
См.: Мерилай А. Вопросы теории баллады. Балладность // Поэтика жанра и образа. Труды по метрике и поэтике. Тарту: Тартуский университет, 1990. С. 3–21. Ссылаясь на В. М. Жирмунского, А. Мерилай также пишет о балладном нео-синкретизме (Там же. С. 7).
(обратно)179
По признаку непереводимости Ю. Н. Чумаков сближает сон и лирику, непереводимость сна обеспечена тем, что он не имеет реального денотата, не «достигает степени феномена», а формируется исключительно во внутреннем, укромном пространстве (Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М., 2010. С. 48). В итоге сон намечает и расширяет границы внутреннего мира, увеличивая напряжение между внутренним и внешним. Примерно в том же направлении, но в более общем ракурсе исследовано безумие в одной из книг М. Фуко. Вот что пишет М. Фуко по поводу древнего, архетипического сюжета «Корабль дураков»: «Плаванье сумасшедшего означает его строгую изоляцию и одновременно является наивысшим воплощением его переходного статуса 〈…〉 Для внешнего мира он – внутри, для внутреннего – вовне» (Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 33).
(обратно)180
Виролайнен М. Н. «Я» и «не-я» в поэтике Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: Наука, 2003. Т. XVI–XVII. С. 94.
(обратно)181
Там же. С. 97.
(обратно)182
См.: Виролайнен М. Н. «Я» и «не-я» в поэтике Пушкина. С. 94–101.
(обратно)183
Принципиальный пропуск «ты» в лирике отодвигает от этого рода литературы проблему диалога, коммуникативности, любое «ты» обязательно вмещается в «я». Вместо «ты» на первый план выходит и становится вровень с «я» весь мир в своей скульптурной объемности.
(обратно)184
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. С. 60.
(обратно)185
Бибихин В. В. Грамматика поэзии. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. С. 134–136.
(обратно)186
О «балладности» у Бунина см., например: Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии… С. 163; Атаманова Е. Т. И. А. Бунин и В. А. Жуковский (К проблеме реминисценций в творчестве И. А. Бунина) // Творчество И. А. Бунина и русская литература XIX–XX веков. Белгород, 1998. С. 3–6; Анисимова Ε. Е. Жуковский и Бунин: эволюция образа зеркала в русской литературе XIX – начала XX веков // Филология и человек. Барнаул, 2010. № 2. С. 66–78; АнисимоваЕ. Е. «Душа морозная Светланы – в мечтах таинственной игры»: эстетические и биографические коды Жуковского в рассказе Бунина «Натали» // Вестник Томского университета. Сер. Филология. 2011. № 2. С. 78–84; Анисимова Е. Е. Традиции В. А. Жуковского в мотивной поэтике И. А. Бунина: от лирики к публицистике // Вестник Новосибирского университета. Сер. История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 2. С. 167–171.
(обратно)187
Поэтика рассказа «В некотором царстве» предвосхищает сверхмалые формы 1930 г., среди которых «Ландо», «Телячья головка», «Роман горбуна», «Первая любовь», «Петухи», «Распятие», «Канун» и др.
(обратно)188
«Некоторое царство», «царство» – это один из повторяющихся мотивов у Бунина, который имеет в текстах Бунина разную степень определенности/неопределенности. Ср. гораздо более определенный контекст «царства» в «Жизни Арсеньева»: // …или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовение «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича», – почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, «мирного и благоденственного жития», высится русская корона (6; 64). // Близки рассказу «В некотором царстве» зимние, рождественские, перенасыщенные пушкинскими цитатами пейзажи «Иды» (1925), а предваряется сюжет об Идее и композиторе тем же присловьем, что и в заглавии рассказа 1923 года: «Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве…» (5; 248).
(обратно)189
Цветаева М. И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. С. 332–333.
(обратно)190
Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. С. 135.
(обратно)191
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем в 20 т. М.: Языки славянских культур, 2008. Т. 3. С. 13.
(обратно)192
Россия у Бунина нередко обрисована как спящая или засыпающая страна, а в послереволюционном творчестве часто олицетворяется в образе спящей, засыпающей, мертвой или умирающей героини, которую видит во сне герой.
(обратно)193
Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч. в 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004–2005. Т. 2. С. 61.
(обратно)194
«– Отойдите за ради Господа. Того гляди, старуха зайдет… // – Какая старуха? // – Да старая горничная, будто не знаете!» (7; 95).
(обратно)195
Условность любых письменных посланий в художественном тексте может быть проиллюстрирована примером из «Онегина», где, как отмечено Ю. Н. Чумаковым, письмо Татьяны находится одновременно у Онегина («Та, от которой он хранит / Письмо…») и у Автора («Письмо Татьяны предо мною…»). Ю. Н. Чумаков объясняет подобные «противоречия» «альтернативностью» модальностей онегинского текста (см.: Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В мире стихотворного романа. М.: МГУ, 1999. С. 106). Альтернативная модальность свойственна и лирической прозе Бунина, и хотя у Бунина речь, возможно, идет вообще о разных телеграммах, но покров сна, которым окутан рассказ, позволяет соединить два этих послания – недочитанное/неполученное и недописанное/неотправленное.
(обратно)196
Причем лошади, на которых едут тетка и племянница, описаны столь детально и с такого близкого расстояния, что кажется, будто сам рассказчик, Ивлев, сидит в санях вместе с племянницей и теткой, а ведь ранее он видит себя одного «в дороге в глухой России, глубокой зимой». Таким образом, сани Ивлева то ли нагоняют сани тетки и племянницы, то ли теряются, а точка зрения рассказчика, приблизившись вплотную к героиням, приобретает некоторую неопределенность: «Он видит» в третьем абзаце сменяется на «И это радует», и субъект «радости», возможно, уже не «он», Ивлев, и даже не племянница, субъектное поле глагола «радует» – это сложный синтез. Далее в тексте статьи об этом еще будет идти речь.
(обратно)197
Рассказ «Пингвины» 1929 г. тесно перекликается с «Некоторым царством» во многих художественных приемах и мотивах, «Пингвины» – это тоже сон с плотным пушкинским подтекстом, с многочисленными ложными пробуждениями, с балладной ездой на лошадях («И лошади бегут как-то не в меру ровно, и ямщик на облучке так неподвижен и безличен, что я его даже плохо вижу, – и только чувствую и опасаюсь, потому что бог его знает, что у него на уме» (5; 392)), с неожиданными переключениями планов.
(обратно)198
То же неопределенное субъектное поле обнаруживает себя и в других фрагментах рассказа, см. сн. 63.
(обратно)199
О лирической концентрации как об одном из конституирующих качеств лирического текста пишет Т. И. Сильман. См.: Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. С. 6, 10 и др.
(обратно)200
Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 95.
(обратно)201
Интонирование Б. Эйхенбаум связывал с «мелодикой стиха», отмечая при этом, что «развитая интонационная система может придать стиху действительную мелодичность, не соединяясь с эффектами инструментовки и ритма 〈…〉 ритмическая подвижность… скорее противоречит принципу мелодизации, чем помогает ему» (Эйхенбаум Б. Мелодика стиха. Петербург: Общество изучения теории поэтического языка, 1922. С. 10).
(обратно)202
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 61.
(обратно)203
См.: Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета.
(обратно)204
Вокативное «Барышня!» окликает не только героиню, но и весь текст рассказа, поскольку в ответ на этот зов текст разворачивается по-новому, открывая лицо своей главной героини, у которой нет даже имени. Вместе с окликом племянница «изымается» из всего предшествующего контекста, перестает быть равновеликой ему и выходит на первый план, и все последующие части рассказа посвящены уже только ей. И теперь отсутствие имени придает образу племянницы абстрактность, символичность и обобщенность, которыми обладает все «некоторое царство», она сама становится «некоторым царством» в душе Ивлева. Из безымянной неизвестной (а тема незнакомки – одна из любимых у Бунина, см. рассказ «Неизвестный друг») племянница становится сразу всем.
(обратно)205
Это видно, к примеру, по рукописи рассказа «Неизвестный друг», где в письме героини от 22 октября был такой отрывок: «Помните ли Вы эти несравненные строки: “В 〈нрзб.〉, едва проснувшись, я отворил окно” – Тотчас же мне захотелось любить, я даже чувствовала любовь к себе…» (РГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. 7, л. 12). В окончательном тексте это окно исчезнет вместе с цитатой.
(обратно)206
Чехова М. П. Из далекого прошлого // Вокруг Чехова. М.: Правда, 1990. С. 357.
(обратно)207
Позже Бунин повторит эту деталь в «Балладе», описывая предрождественские хлопоты в старинной русской усадьбе: «Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнущие, а потом застелили их чистыми попонами…» (7; 17).
(обратно)208
См. об этом: Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. С. 52–55.
(обратно)209
Баак Й. ван. Событие и событийность. Некоторые когнитивные наблюдения и художественные казусы // Событие и событийность. М.: Изд-во Кулагиной. Intrada, 2010. С. 87–88.
(обратно)210
Можно вспомнить здесь один «литературный» диалог Лики и Арсеньева с фразой «это… был я сам» в кавычках: // Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала: // – А скажи, зачем ты прочел мне это место из Гете? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидал какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами. Как это там сказано? // – «Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носил». // – Ну да, и это как-то чудесно и страшно… (6; 261).
(обратно)211
Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 1998. С. 32.
(обратно)212
РГАЛИ. Ф. 44 оп. 2 ед. хр. 58. Л. 1, 2.
(обратно)213
Вместо этой реплики в черновике следует другая: «…кто-то весело подхватил: // – Мне, знаете, также участь Феникса не кажется завидной», в чистовике переадресованная мужу главной героини (РГАЛИ. Ф. 44 оп. 2 ед. хр. 58. Л. 2).
(обратно)214
Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Современник, 1991. С. 22.
(обратно)215
Преображение «некоторого царства» в Россию, конечно, вписывается в общий контекст творчества Бунина, у которого многие «сказочные» зачины и неопределенные локусы («некоторое царство») одновременно опознаются как совершенно конкретные русские места. Сочетанию локальной неопределенности с локальной конкретикой вторит нередкое у Бунина соединение в пределах одного текста реальных топонимов и условно-поэтических локальных наименований. См. об этом: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005.
(обратно)216
От житийного мученичества мало чем отличаются, по словам Катерины, ночи «батюшки Родиона»: «и в полночные часы непрестанно осаждают его звери воющие, толпы мертвецов яростных и диаволов» (4; 366), но происходит все это не на страницах священных книг, а в лесной хижине за «недальней женской обителью».
(обратно)217
Киево-печерские страстотерпцы названы среди тех святых, жития которых читает Арсеньев (см. сноски 8, 9).
(обратно)218
В «Аглаю» вошли не только любимые жития Алексея Арсеньева, но и любимые бунинские жития, к которым писатель неоднократно обращался в стихах и прозе: Св. Евстафий, Св. Прокопий (правда, в «Аглае» названо два разных Прокопия), Матфей Прозорливый. Об этом, а также о влиянии, оказанном на Бунина «Житиями святых» И. Бухарева, см.: Скрипникова Т. И. Образы святых в творчестве И. А. Бунина // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже XX–XXI веков: Материалы международной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения писателя. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2006. С. 110–116.
(обратно)219
Один из пассажей «Жизни Арсеньева» посвящен именно «житийным» чтениям Арсеньева (гл. XVIII первой книги): «И вот я вступил ещё в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорог мне, живо напоминающим ту странную зиму; мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными власами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слёз и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола… Я жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своём сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из верёвочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только чёрный хлеб… И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой. Пошли солнечные дни 〈…〉 Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживленьем, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни» (6; 45). Эта глава завершает в романе отрывок о первом большом горе Арсеньева – смерти сестры Нади, за ней и последовала зима «страданий», «самоизнурений» и «самоистязаний». Автоперсонаж «Жизни Арсеньева» будто бы проигрывает одну из Бунинских вариаций, уже написанную в «Аглае». Аглая, таким образом, умножается в Арсеньеве, и на фоне автобиографического романа тоже начинает восприниматься как один из образов многоликого бунинского авторского «я». // Тема житийного чтения и самоистязаний Арсеньева входит в еще более обширный – историософский тематический блок. Чуть раньше, в XVI главе, можно прочесть такой пассаж: «Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистребленью. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, всё-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а своё безделье, дрёму, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом всё скудевшего?» (6; 41). Два приведенных здесь отрывка прочитываются как мотивная и историософская квинтэссенция «Аглаи» с темами жизни/смерти, зимы/весны, житийного чтения, самоотреченности/ самоистязаний и их исторического выхода.
(обратно)220
Позже эпоха Ивана Грозного («Ивана») со свойственными ей коннотациями азиатского (татарского), бунтовского, «лютого», разгульного активно осмыслялась русской эмиграцией в параллели к революционной истории XX в. См. об этом: Янгиров Р. М. Парижский спор об «Иване» и о «русской слякоти»: советский кинематограф в восприятии литераторов русского зарубежья в 1920-е–1940-е годы // Русская литература конца XIX – начала XX века в зеркале современной науки. М.: ИМЛИ, 2008. С. 341–370.
(обратно)221
На «языческое» происхождение фамилии (от слова «шкура») обратила внимание Т. Ю. Яровая. (Яровая Т. Ю. Религиозные мотивы и авторский подтекст в рассказе И. А. Бунина «Аглая» // Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. СПб.: МИРС, 2008. Т. 2. Ч. 1. С. 306).
(обратно)222
Обзор темы снов см.: Яровая Т. Ю. Религиозная проблематика в рассказе И. А. Бунина «Аглая» // Проблемы целостного анализа художественного произведения. Борисоглебск, 2007. Вып. 7. С. 85–86.
(обратно)223
Курсив наш. – Е. К.
(обратно)224
Подробнее об этом, самим Буниным прокомментированном, мотиве иконописности см.: Чуньмэй У. Портреты старца и странника в рассказе И. А. Бунина «Аглая» // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже веков. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2006. С. 130.
(обратно)225
См. об этом: Колосова С. Н. «Ночь отречения», «Святитель» И. А. Бунина: образ главного героя и особенности сюжета // Пасхальные чтения. М., 2004. С. 158–164; Чуньмэй У. Портреты старца и странника в рассказе И. А. Бунина «Аглая»… С. 131. Яровая Т. Ю. Религиозная проблематика в рассказе И. А. Бунина «Аглая»… С. 86.
(обратно)226
Скрипникова Т. И. Образы святых в творчестве И. А. Бунина // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже XX–XXI веков… С. 115. Т. И. Скрипникова идет вслед за О. А. Бердниковой, но у О. А. Бердниковой та же позиция выражена мягче и оттеночнее: // В судьбе Аглаи для писателя важен был и феномен добровольного принятия смерти, которую «по молитве и святому размышлению» «повелел принять» старец Родион, явившийся, как и Катерина, проводником Божьей воли. Тайна смерти, сознательная готовность к ней Аглаи так возвеличивает ее, делает ее в глазах автора-повествователя истинно святой, «заклявшей» «хаотическое царство смерти» (Е. Трубецкой). (Бердникова О. А. Жизнь и житие в прозе И. А. Бунина // И. А. Бунин в диалоге эпох. Воронеж: ВГУ, 2002. С. 14).
(обратно)227
Пращерук Н. В. «Аглая» и «Чистый понедельник» Ивана Бунина: трансформация темы религиозного призвания // Литература русского зарубежья. Тюмень: Изд-во ТГУ, 1998. Ч. IV. С. 9. Так же неоднозначно трактуется образ Родиона и в работах Т. Ю. Яровой.
(обратно)228
Эти, часто цитируемые по поводу «Аглаи» слова Бунина, приведены в дневнике Г. Кузнецовой (Кузнецова Г. Грасский дневник. СПб.: «Издательский дом Мiръ», 2009. С. 237).
(обратно)229
Кузнецова Г. Грасский дневник. С. 237.
(обратно)230
«И она никогда не просила почитать еще: всегда непонятная была она» (4; 362) – так характеризуется у Бунина героиня. В диалоге сестер всегда ведет Катерина, она читает о святых, рассказывает о старце Родионе, толкует сны Анны, а Анна всегда молчит или отстраненно и неопределенно отвечает на вопросы («А думаешь ты о чем?» – «Так я не знаю» (4; 362)). И лишь один вопрос Анна задает сама, может, усомнившись в святости о. Родиона, но не высказав своих сомнений: «А что же батюшка Родион не юродствовал?» (4; 365).
(обратно)231
Яровая Т. Ю. Религиозные мотивы и авторский подтекст в рассказе И. А. Бунина «Аглая»… С. 305.
(обратно)232
В ходе работы над рассказом Бунин исключил из библиотеки житий два фрагмента, которые касались как раз смирения плоти: один из описанных Буниным в черновике киево-печерских подвижников «садился, обнаженный по пояс, на холодную землю, дрожа от лесной сырости и до рассвета сучил кудель, в кровь заедаемый несчетными комарами», другой святой «ради девства своего живым зарылся в землю выше пояса, и стоял, не единым суставом не двигая, чувствуя, как ноги его перегорают в земле, дышащей пламенем, поглощая своей пастью главу его» (РГАЛИ. Фонд 44, оп. 2, ед. хр. 48. Л. 10). Отметим и здесь мотив огня.
(обратно)233
Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Современник, 1991. С. 60.
(обратно)234
Там же. С. 65. Лейтмотив похорон проходит через все «Окаянные дни». Олицетворением мертвой страны в образе покойника «Окаянные дни» и завершаются.
(обратно)235
На Ленотра как на источник рассказа «Богиня Разума» указывает А. К. Бабореко (Бунин И. А. Богиня Разума. Предисловие А. К. Бабореко // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84. Кн.1. С. 79–87).
(обратно)236
Там же. С. 85.
(обратно)237
Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 33.
(обратно)238
Там же. С. 56.
(обратно)239
И. Одоевцева в своей второй мемуарной книге сохранила диалог с Буниным о рассказе «Богиня Разума»: // – Меня всегда, как ни странно, тянуло к кладбищам 〈…〉 Сколько я их на своем веку перевидал. И даже писал о них. Помните мой рассказ о могиле Терезы-Анжелики Обри – богини Разума? // – Да, я помню. Я ходила на Монмартрское кладбище и отыскала ее, прочитав ваш рассказ. // – Вот это хорошо, – одобряет он. – Если даже не ходили, а только сейчас выдумали, чтобы доставить мне удовольствие, то и это хорошо. // – Нет. Честное слово, ходила. Он кивает. // – Что ж, верю… (Одоевцева И. В. На берегах Сены. М., 1989. С. 271).
(обратно)240
«Рассказ строится на резком контрасте жизни и смерти», – пишет об «Огне пожирающем» О. В. Сливицкая. (Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 103).
(обратно)241
Здесь и далее курсив наш. – Е. К.
(обратно)242
В «Аглае» мотив неожиданной смерти обыгрывается словом «приуготовление»: «Знаю, знаю, сестра тебя приуготовила» (4; 367), – приговаривает Родион, избирая Аглаю на смерть. Только «приуготовление» это – одна из ловушек текста, поскольку чтения житий должны были готовить Анну к подвигу веры, а не к смерти. Внезапность, неожиданность заключается в том, что благие приуготовления оказались зловеще-смертными.
(обратно)243
Здесь и далее курсив наш. – Е. К.
(обратно)244
Отдельные мотивы, окружающие в «Жизни Арсеньева» смерть Писарева, появляются в разных, порой совершенно неожиданных, местах романа, как бы продляя смерть Писарева, все время возобновляя память о ней. Так, после похорон Писарева «возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку» (6; 115), позже ассоциация с этим сложенным в сундук дворянским мундиром возникает в главе о похоронах В. К. Николая Николаевича в Антибе. Прежде чем войти в дом, где стоит гроб с телом Великого Князя, Арсеньев видит: «вдруг теряюсь: внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых десять лет и что поражает меня как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной и вся моя прежняя жизнь: светлоглазого русского офицера в гимнастерке, погонах» (6;188). Эти «фуражки, клинки и погоны» (6; 190) траурного караула, «уже десять лет не виденные» (6; 190) Арсеньевым, как будто вытащены из того самого сундука, куда был уложен после похорон дворянский мундир Писарева. Ради похорон Великого Князя траурный караул будто бы сам встает из могилы.
(обратно)245
Вся глава посвящена описанию противоречивых мыслей и чувств Николеньки у гроба матери: «Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие… Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение 〈…〉 Я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую правду и наполнила душу отчаянием». (Толстой Л. Н. Детство // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 тт. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры. Т. 1. С. 111–113).
(обратно)246
«Мессианическое время» Дж. Агамбен называет также «оперативным временем», в которое мы «схватываем и исполняем наше представление о времени», «время, которым мы являемся», «единственным реальным временем, которое мы имеем» (Агамбен Дж. Apóstolos (Из книги «Оставшееся время: Комментарий к “Посланию римлянам”») // НЛО. 2000. № 46. С. 51–53.)
(обратно)247
Марченко Т. В. Парижский текст Ивана Бунина: прелюдия в лунном свете // Revue des études slaves. T. 85. 2014. № 1. P. 165–166.
(обратно)248
Там же. P. 167–169.
(обратно)249
Там же. P. 175.
(обратно)250
Устами Буниных. М.: Книга по Требованию, 2012. Т. 2. С. 85.
(обратно)251
«Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня» (7; 37), «И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду» (7; 40), «И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно…» (7; 40), «Как поздно и как немо!.. Ветер стих к предрассветному часу» (7; 42) (Здесь и далее в текстах Бунина курсив наш. – Е. К.). // Лирическая природа «Позднего часа» подробно исследована в работе В. П. Скобелева, где, в частности, отмечена и прокомментирована серия подобных «позднему часу» повторов: «Дважды отмечается августовская трава – при описании свидания в саду говорится про “заросшую сухими травами дорожку”, потом, в сцене на кладбище, вновь упоминается “сухая трава”. Дважды упоминается мост, проходя по которому, герой-повествователь попадает в уездный город, говорится и про один из парижских мостов через Сену. Дважды автор считает нужным упомянуть, что она и он во время ночного пожара взялись за руки. Систематически повторяющиеся эпически значимые, тяготеющие к объективированной наглядности детали… становятся именно в своей повторяемости экспрессивно значимыми, подобно рефрену в поэзии» (Скобелев В. Н. К соотношению эпического и лирического в сюжетно-композиционной системе бунинской новеллы эмигрантского периода («Поздний час») // Русское зарубежье – духовный и культурный феномен. Международный сборник научных статей. М.: Московская академия образования Натальи Нестеровой, 2003. Вып. 1. С. 32–33). Кроме лексических, у В. Н. Скобелева приведены синтаксические и грамматические повторы в тексте рассказа.
(обратно)252
О том, что «сейчас» июль, мы узнаем из следующих строк: «в месячном свете июльской ночи» (7; 37), «от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня» (7; 37).
(обратно)253
См., например: Лушенкова А. Иван Бунин и Марсель Пруст: «непроизвольная» и «чувственная» память // Метафизика И. А. Бунина: Сб. науч. трудов, посвященный творчеству И. А. Бунина. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. Вып. 2. С. 43–58; Таганов А. Н. Иван Бунин и Марсель Пруст: потаенное сродство // Потаенная литература. Исследования и материалы. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2000. Вып. 2. С. 107–116.
(обратно)254
«Восприятие никогда не бывает простым контактом духа с наличным предметом: оно всегда насыщено дополняющими и интерпретирующими его воспоминаниями-образами. Воспоминание-образ, в свою очередь, причастно к “чистому воспоминанию”, которое оно начинает материализовать, и к восприятию, в которое он стремится воплотиться: рассматриваемое с этой последней точки зрения, оно может быть определено как рождающее восприятие. Наконец, чистое воспоминание (несомненно, независимое de jure), как правило, появляется только в окрашенном и живом образе, который его обнаруживает» (Бергсон А. Материя и память // Собр. соч. в 4 т. М.: «Московский клуб», 1992. Т. 1. С. 243).
(обратно)255
См.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. С. 144–145.
(обратно)256
Реальный Троицкий монастырь в Ельце был основан на несколько десятилетий раньше венчания на царствие Алексея Михайловича, но расцвел и укрупнился именно в середине XVII в. См.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина… С. 125.
(обратно)257
См., например, карту из частного собрания В. А. Заусайлова: электронный ресурс -karta (дата обращения 01.07.2013).
(обратно)258
О Ельце в этом тексте см.: Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Худож. лит., 1983. С. 14.
(обратно)259
Устами Буниных… Т. 2. С. 35–36.
(обратно)260
Монастырская улица, действительно, была в старом Ельце, но она лежит в стороне от тех мест, что описываются в рассказе. Здесь же «Монастырской» названа главная улица Ельца, в реальности – Орловская (ныне Коммунаров), которая в других произведениях Бунина называется не только «Долгой», как в «Жизни Арсеньева», но еще и «Соборной» или «Острожной». См.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. С. 125.
(обратно)261
Аналогичные «зримые детали» встречаются и в других текстах Бунина, к примеру, в «Визитных карточках» и «Солнечном ударе», где пароходы причаливают к пристани в городах, название которых мы не знаем, но описание Бунина таково, что читатель может точно определить, что пароходы причаливают к правому берегу Волги. Топографическая точность и в то же время поэтическая обобщенность неназванного локуса позволяет видеть в этом парадоксальном сочетании характерную примету бунинского стиля.
(обратно)262
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 74. Для Ю. Н. Чумакова, как и для нас в данном случае, важна лирическая природа стихотворного романа.
(обратно)263
Подобных моментов взгляда на себя со стороны, «неузнавания» себя самого, нового, давнего, много в «Жизни Арсеньева», особенно это касается любимых Буниным сцен перед зеркалом. Вот один из примеров: «Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо 〈…〉 Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребенок» (6; 29). Коллизию умножения разных «я» и в то же время ментальной непрерывности «я» видит в этом бунинском мотиве Е. К. Созина. См.: Созина Е. К. «Стадия зеркала» в творчестве И. А. Бунина // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры. Тюмень, 1997. Вып. 3. С. 62–66.
(обратно)264
Устами Буниных… Т. 3. С. 49.
(обратно)265
Об этом: Быков Д. Лекция «Поэзия в прозе. Иван Бунин» (25 сентября 2011 г.) Электронный ресурс: (дата обращения 07.12.2013).
(обратно)266
Аналогичный пример можно видеть, к примеру, в рассказе «Зимний сон», где главный герой, Ивлев, видит во сне учительницу, и далее все происходящее с учительницей и Ивлевым направляется уже не волей Ивлева, а будто бы учительницей, но при этом учительницу Ивлев видит во сне.
(обратно)267
«Всевиденье», детальность, скульптурность и пластичность образов – характерное качество прозы Бунина, о которой, к примеру, В. Вейдле пишет: «Все исполнено, все сотворено. Точно из первозданной глины вылеплены навек и толстая спина офицера “во всей его воинской сбруе”, и “непорочно-праздничное платьице” Лики на балу, и ее “озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки”, и пугающий бедного Костеньку старухин мопс, “раскормленный до жирных складок на загривке…”» (Вейдле В. На смерть Бунина // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы): Антология. М.: Книжница, Русский путь, 2010. С. 485).
(обратно)268
О звездах у Бунина – см.: Тер-Абрамянц А. П. Созвездия Ивана Бунина (Образы звездного неба в творчестве Бунина) // И. А. Бунин и русская литература XX века. М., 1995.
(обратно)269
Сириус, его восход, положение на небосклоне, перемены его зелено-голубых оттенков, постоянно занимают Бунина, что видно не только по прозе или стихам, но и по дневниковым записям: // Проснулся в 4 часа, вышел на балкон – такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них (ночью с 28 на 29 Авг. 23 г.) // (Устами Буниных… Т. 2. С. 118.) // Позавчера поразила ночь, – оч. мало звезд, на юге невысоко лучистый, но очень ясно видный голубыми брил[лиантами] играющий (только он один) Сириус (15. XII. 40); // // …ночью: луна оч. высоко, небо пустое, огромн., на юго-в. лучисто играет чистый голубой бриллиант Сириуса (25.I.41). // (Устами Буниных… Т. 3. С. 84, 75, 79).
(обратно)270
Уместно еще раз вспомнить «длинную могилку прекрасную» (4; 368) из рассказа об Аглае.
(обратно)271
Пушкин А. С. Сочинения. Л.: Художественная литература, 1936. С. 419.
(обратно)272
Правда, в живом Ельце, в счастливую ночь свидания даже этот свет греет: «задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете» (7; 40).
(обратно)273
«На усиление субъективного начала в сюжете повествования работает и применяющийся в “Позднем часе” принцип неопределенности, составляющий, как известно, один из основополагающих признаков лирического рода, лирического мышления» (Скобелев В. П. К соотношению эпического и лирического в сюжетно-композиционной системе бунинской новеллы эмигрантского периода («Поздний час»)… С. 33).
(обратно)274
Устами Буниных: Т. 1. 1881–1921. М.: Книга по требованию. С. 20.
(обратно)275
Жуковский В. А. Сочинения. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954. С. 92.
(обратно)276
Устами Буниных… Т. 2. С. 84.
(обратно)277
Жуковский В. А. Сочинения. С. 199.
(обратно)278
«Большая Выра, изобильная водою и глубокая при мельничных плотинах, не протекает собственно в Мишенском, а, прихотливо извиваясь, омывает вблизи сочные, богатые могучей растительностью луга этого села, прилегающие к Большой Болховской (Орловской губернии) дороге и изобилующей своими преданиями Васьковой горе», – пишет о расположении Мишенского П. М. Мартынов (См.: Мартынов П. М. Село Мишенское, родина В. А. Жуковского // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М.: Наука, школа «Языки русской культуры», 1999. С. 488).
(обратно)279
Обратим внимание на некоторое сходство зачинов «Несрочной весны» и «Письма»: «А еще, друг мой…», «Еще пишу вам…».
(обратно)280
Рассказы о бесследном исчезновении людей из «Несрочной весны» («Я спросил: “А если пешком?” – “А вам далеко?” – “Туда-то” – “Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете”. – “Да ведь, говорю, по лесу да еще пешком?” – “Что ж, что по лесу! Дойдете”. И тут же рассказал, как весной два каких-то “человечкя” наняли так-то “мужичкя” в ихнем селе, да и пропали вместе с ним: “Ни их, ни его, ни лошади, ни снасти… Так и неизвестно, кто кого растерзал – они его или он их”» – 5; 120) вторят множеству подобных историй из «Окаянных дней», в обоих случаях Бунин старается подчеркнуть их изустную стилистику: «Приехал Д. – бежал из Симферополя. Там, говорит, “неописуемый ужас”, солдаты и рабочие “ходят прямо по колено в крови”. Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке». (Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1991. С. 11).
(обратно)281
См., например: Ермоленко Г. Н. Образ «темной аллеи» в новелле Ивана Бунина «Зойка и Валерия» // Dzieło literackie jako dzieło literackie. Bydgoszcz, 2004. С. 303.
(обратно)282
См. напр.: Гаевский В., Гершензон П. Разговоры о русском балете: Комментарий к новейшей истории. М.: Новое издательство, 2010. С. 25–26, 47, 76 и др.
(обратно)283
Теоретическое обоснование бунинской вариативности см.: Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 36–68.
(обратно)284
Боратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1989. С. 76.
(обратно)285
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе / Подг. И. М. Семенко. М.: Наука, 1977. С. 110.
(обратно)286
Там же. С. 518–519.
(обратно)287
Рассказик «Несрочной весны» пишет своему адресату: «у вас в Европе…» (5; 118).
(обратно)288
Посвященные маркизе стансы Вольтера «A m-me du Chatelet» (1741) в 1817 г. переводил Пушкин, мотивы предзакатного расцвета, перед которым меркнет неопытная красота, есть в батюшковском «Тебе ль оплакивать утрату юных дней…», пушкинском «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…», чувствуются они и в образе «гробовой Афродиты» Боратынского.
(обратно)289
Красота и любовь рядом со смертью, пробуждающиеся гробницы, – постоянные элегические темы в «Опытах…» Батюшкова.
(обратно)290
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 111.
(обратно)291
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 111.
(обратно)292
Там же. С. 112.
(обратно)293
Как раз во время работы над «Путешествием в замок Сирей» Батюшков служил в Императорской публичной библиотеке, куда полвека спустя и была передана библиотека Вольтера. См.: Батюшков К. Н. Избранная проза / Сост., послесл. и примеч. П. Г. Паламарчука. М.: Сов. Россия, 1988. С. 477.
(обратно)294
В ритме этого бунинского четверостишия можно услышать и фольклорные, частушечные призвуки. Несколько «выровнять» ритм, перевести его из «народного» в сугубо «литературный» формат можно, разбив его не на 4, а на 6 стихов: // // Успокой мятежный дух // И в страстях // Не сгорай, // Не тревожь меня, пастух, // Во свирель // Не играй.
(обратно)295
Батюшков К. Н. Избранная проза. С. 105–106.
(обратно)296
Там же. С. 110.
(обратно)297
В том же году, что и «Путешествие в замок Сирей», Батюшков под влиянием идей А. Н. Оленина пишет свой наиболее известный «музейный» текст – «Прогулку в Академию художеств». Как и «Путешествие…», «Прогулка…» написана в форме письма «другу-затворнику» в провинцию.
(обратно)298
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 105.
(обратно)299
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 111.
(обратно)300
Это характерный для Бунина прием, он использован и в «Чистом понедельнике», на последних страницах которого В. К. Елизавета Федоровна замещает собой главную героиню рассказа, он чувствуется и в «Жизни Арсеньева» в связи с темой В. К. Николая Николаевича.
(обратно)301
Прибавим еще, что одно из стихотворений Анны Буниной 1808 г. «Сумерки» обращено к Державину: лирическая героиня в мечтах посещает Званку и встречается там с великим поэтом.
(обратно)302
Тарле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг (1769–1774). Электронный ресурс: (дата обращения 15.07.2013).
(обратно)303
Беглая поэтическая квинтэссенция Жития Евстафия Плакиды есть и в бунинском рассказе «Аглая»: «Так узнала Анна 〈…〉 о воине Евстафии, обращенном к истинному Богу зовом Самого Распятого, солнцем просиявшего среди рогов оленя, им, Евстафием, на зверином лове гонимого» (4; 363).
(обратно)304
В «Несрочной весне» не случайно упомянуто Васильевское, имение родственников Бунина Пушенниковых, где писатель подолгу жил; речь об этом пойдет ниже.
(обратно)305
Об этимологии топонима «Елец» см.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. С. 151–157.
(обратно)306
Кроме того, сияющий лакированный пол, на который смотрит и Оля Мещерская, и начальница, – атрибут роскошного интерьера кабинета начальницы в «Легком дыхании»: // … сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытсвом посмотрела Мещерская, подняла глаза (4; 357).
(обратно)307
Есть еще один текст, поэзией затерянного поместья напоминающий и «Грамматику любви», и «Несрочную весну», и «Жизнь Арсеньева» – рассказ 1903 г. «Золотое дно», в котором герой приезжает в угасающую усадьбу Батурино (так же названа в романе родная усадьба Арсеньева). «Золотое дно» начинается с дважды повторенного элегического заглавия Боратынского – «запустение»: «Тишина – и запустение. Не оскудение, а запустение…» (2; 278). // «Золотое дно» следует считать одной из первых прозаических вариаций элегической темы мертвого поместья: // Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутыли, позеленевшие подсвечники… В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать 〈…〉 А я медленно прохожу в большой гулкий зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов 〈…〉 я отступаю к стеклянной двери на рассохшийся балкон, с трудом отворяю ее – и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд (2; 282).
(обратно)308
Поэтические неологизмы Боратынского, по наблюдению С. Г. Бочарова, нередко помечены «отрицательным знаком» (см.: Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985. С. 69–70). Выбор печального «элизийского» слова с отрицательной приставкой, вероятнее всего, не случаен заглавии Бунина. Три из пяти рассказов Приморских Альп включают морфемы отрицания или неопределенности: «Неизвестный друг», «В некотором царстве», «Несрочная весна».
(обратно)309
Боратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. С. 176.
(обратно)310
Топоров В. Н. Встреча в Элизии: Об одном стихотворении Баратынского // Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана / Stanford Slavic Studies. Stanford, 1994. Vol. 8. P. 197–222.
(обратно)311
Боратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. С. 177. У Бунина «несрочная весна» в цитате из Боратынского выделена курсивом, что усиливает ощущение композиционного кольца: рассказ об июльском путешествии в провинцию начинается и заканчивается «несрочной весной». И вообще связка мотивов весны, смерти и кладбища очень характерна для Бунина (см. главу IV настоящей книги – «Бунинский тезаурус смерти»).
(обратно)312
См.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М.: НЛО, 1998. С. 5. См. также художественную, тесно сплетенную со множеством серьезных исторических событий XVIII в. летопись рода Боратынского и подробное описание имения Мара в кн.: Песков А. М. Боратынский. Истинная повесть. М.: Книга, 1990.
(обратно)313
Высказываясь о «Запустении Боратынского», И. Бродский тоже обращает внимание на финальную часть элегии: «я бы сказал, что лучшее стихотворение русской поэзии – это “Запустение”. В “Запустении” все гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира. Дикция совершенно невероятная. В конце, где Баратынский говорит о своем отце “Давно кругом меня о нем умолкнул слух, / Прияла прах его далекая могила. / Мне память образа его не сохранила…” Это все очень точно, да? “но здесь еще живет” И вдруг – это потрясающее прилагательное: “…его доступный дух”. И Баратынский продолжает: “Здесь, друг мечтанья и природы, / Я познаю его вполне…” Это Боратынский об отце… “Он вдохновением волнуется во мне. Он славить мне велит леса, долины, воды…” И слушайте дальше, какая потрясающая дикция: “Он убедительно пророчит мне страну, / Где я наследую несрочную весну, / Где разрушения следов я не примечу, / Где в сладостной тени невянущих дубов, / У нескудеющих ручьев…” Какая потрясающая трезвость по поводу того света! “Я тень, священную мне, встречу” 〈…〉 Тот свет, встреча с отцом – ну кто об этом так говорил?» (Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 229).
(обратно)314
Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1991. С. 40.
(обратно)315
Бунин И. А. Окаянные дни… С. 35.
(обратно)316
Там же. С. 18–19.
(обратно)317
Бунин И. А. Окаянные дни. С. 31–32.
(обратно)318
Б. А. Грифцов так описывает сюжет «Большого Мольна»: «Это повествование о бродяге, который ищет чудесных приключений, фантазия о которых возникла в голове непоседливого школьника. События просты: по дороге на станцию Мольн заблудился и попал на курьезный праздник. Отныне имение, клонившееся к упадку, будет казаться ему “таинственной вотчиной”, его владелица хрупкая Ивонна и ее беспутный брат будут для него носителями особых событий» (Грифцов Б. А. Теория романа. М.: Совпадение, 2012. С. 157).
(обратно)319
Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. СПб.: Наука, 2008. С. 131.
(обратно)320
Отбор образов («la selection des images»), их узнавание («la reconnaissance des images»), сохранение, («la survivance des images») фиксация и разграничение («la delimitation et de la fixation des images») – все это подробно описывается в «Материи и памяти» А. Бергсона.
(обратно)321
Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Московский Клуб, 1992. Т. 1. С. 246.
(обратно)322
См. об этом: Евлампиев И. И. Человек перед лицом абсолютного бытия: мистический реализм Семена Франка // Семен Людвигович Франк. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 163–196.
(обратно)323
Эйхенбаум Б. Анри Бергсон. Восприятие изменчивости / Пер. с франц. // B. А. Фроловой // Запросы жизни. СПб., 1912. 30 декабря. С. 3013–3014; Эйхенбаум Б. Бергсон о сущности своей философии // Бюллетени литературы и жизни за 1912–1913 год. Т. I. Литературный отдел. М.: Типография Саблина, 1913. С. 494–499.
(обратно)324
И. Ю. Светликова отмечает, что после выхода рецензии Эйхенбаума на русский перевод «Восприятия изменчивости» Бергсона, упоминаний о Бергсоне в работах формалистов не обнаруживается, зато позже, уже в 1970-х гг. в частной беседе В. Шкловский назовет Бергсона «непроцитированным автором» (См.: Светликова И. Ю. Новый ЛЕФ: история и литературно-художественные концепции: Дис…. канд. искусствовед. СПб., 2001. С. 136). И. Ю. Светликова подробно исследует влияние Бергсона на «Ритм и синтаксис» О. Брика (Там же. С. 136–141; Светликова И. Ю. Истоки русского формализма: Традиция психологизма и формальная школа. М.: НЛО, 2005. // C. 71). «Бергсонианству» Шкловского и Эйхенбаума посвящены отдельные главы в недавней книге Я. С. Левченко, см.: Левченко Я. С. Другая наука: русские формалисты в поисках биографии. М.: ВШЭ, 2012. С. 46–58.
(обратно)325
Широкая панорама этих проблем, включающая в себя и миры русских формалистов, представлена у М. Б. Ямпольского, см.: Ямпольский Б. М. Пространственная история. Три текста об истории. СПб.: Книжные мастерские; Мастерская «Сеанс», 2013.
(обратно)326
Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб.: Академический проект, 2004. С. 110.
(обратно)327
Как показал Дж. Кертис, главной книгой Франка для Эйхенбаума и формалистов стала диссертация Франка «Предмет знания» (1915), но мы будем обращаться к более позднему «Непостижимому», где Франк не только сохраняет, но и четче формулирует основные идеи «Предмета знания».
(обратно)328
Там же. С. 101.
(обратно)329
Там же.
(обратно)330
Отталкиваясь от «Моего временника», описывает историософию Эйхенбаума Я. Левченко. См.: Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума в 1920-е гг. Tartu: University Press, 2003. C. 111–126; Он же. Другая наука… 2012. С. 167–220.
(обратно)331
Эйхенбаум Б. М. Мой временник // Эйхенбаум Б. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М.: Аграф, 2001. С. 38.
(обратно)332
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 64. Здесь же уместно будет привести стихотворный афоризм Бунина «Нет в мире разных душ и времени в нем нет» («В горах») и определение бунинского художественного времени, принадлежащее Ю. Мальцеву – «некая меняющаяся неподвижность» (Мальцев Ю. Иван Бунин. Frankfurt(AM); Moskau, 1994. С. 29).
(обратно)333
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни». С. 124.
(обратно)334
В противоположность ненастоящему «историческому».
(обратно)335
Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева // Ф. И. Тютчев: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 352.
(обратно)336
Там же. С. 355. Подобное тютчевскому «чувство современности» и «пророчества назад» присущи и самому Эйхенбауму (См.: Левченко Я. Другая наука… С. 189).
(обратно)337
Франк С. Л. Космическое чувство в поэзии Тютчева // Ф. И. Тютчев: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 279.
(обратно)338
Там же. С. 286.
(обратно)339
Вот еще один пример на ту же тему: Я. Левченко пишет о том, что Эйхенбаум завершает автобиографическую родословную «в регистре личного повествования, окончательно ликвидируя дистанцию между научно реконструируемым и интимно переживаемым» (Левченко Я. Другая наука… С. 188). И это тоже очень характерно для мышления, не заостряющего субъектно-объектных отношений.
(обратно)340
Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М.: Изд во «Правда», 1990. С. 208.
(обратно)341
Эйхенбаум Б. Бергсон о сущности своей философии. С. 497.
(обратно)342
Так, ученик и последователь Л. Витгенштейна Н. Малкольм считает сон феноменальным языковым явлением, несущем в себе неуловимую для языка и сознания энергию настоящего, которая утрачивается, обретая нарративные формы: «Можно быть поставленным в тупик тем, почему сны относятся к прошедшему времени, если на самом деле в мы не думали и не переживали различных вещей в нашем прошлом сне»; «В рассказывании снов нет действий, а есть только язык!» (Малкольм Н. Состояние сна. М.: «Прогресс»; «Культура». С. 129, 130). // Как и сновидческие зоны, зоны прошлого («прошлого-в-себе») скрыты от нас, поэтому воспоминания о прошлом приобретают множественные формы, одно событие в прошлом может порождать различные и многочисленные образы-воспоминания, и бергсонианская игра разных форм воспоминаний чрезвычайно продуктивна для искусства. В частности, для киноискусства (См.: Делез Ж. От воспоминания к грезе (третий комментарий к Бергсону) // Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 294–320), для словесного искусства, активно работающего с образами сна, памяти (Пруст, Бунин, Набоков, Ремизов и др.) (См., например: Панов С. В., Ивашкин С. Н. Память культуры и сценография литературы: складки виртуального и следы невозможного // Память литературы и память культуры: механизмы, функции, репрезентации. Воронеж: Изд во воронежского ун та, 2009. С. 55–61; Нагорная Н. А. Память и сны в автобиографической книге А. М. Ремизова «Подстриженными глазами» // Память литературы и память культуры: механизмы, функции, репрезентации. Воронеж: Изд во воронежского ун та, 2009. С. 20–26). // Примечательно следующее сравнение Б. Эйхенбаума: «Состояние зрителя (кинофильма. – Е. К.) близко к одиночному, интимному созерцанию – он как бы наблюдает чей-то сон» (Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб.: РИИИ, 2001. С. 18).
(обратно)343
Франк С. Л. Непостижимое… С. 209. Размышляя о художественных воплощениях сна в литературе, отметим семантическую нагруженность мотива сна в любом литературном произведении. Однако для лирической формы сон – это более чем мотив. Подобно тому, как чистая лирика и лирическая проза может быть буквально пронизана памятью, она может быть пронизана и сном: онейрическая оптика сна может задавать композиционные и пространственные границы текста. В рассмотренных нами примерах такое лирическое построение ярче всего демонстрирует рассказ «В некотором царстве» (см.: глава 3 настоящей книги).
(обратно)344
Отрицание «временной бессмыслицы» в историософии С. Л. Франка отмечает К. Г. Исупов: «Франк – растворитель: в живой жизни и в живом знании все распускается – и гносеология, и история. Мир самоорганизуется в предвечное смысловое целое, и все запросы о его “временной” бессмыслице списаны на счет скудоумия жертв исторического процесса» (Исупов К. Г. Русская философская культура. СПб.: Университетская книга, 2010. С. 342).
(обратно)345
Процесс познания, описанный у Франка, теснейшим образом связан с «Теорией эволюции» Бергсона. Эволюция для Бергсона – это потенциальное бытие, бесконечность возможностей, из которых слабый интеллект может выбрать только небольшое число реализаций («Именно потому, что интеллект всегда стремится воссоздавать и воссоздает из данного, он и упускает то, что является новым в каждый момент истории»: Бергсон А. Творческая эволюция. М.; Жуковский: Кучково поле, 2006. С. 174). В противоположность интеллекту творческие способности могут без ограничений воспринять богатейший потенциал бытия, его «расходящиеся направления». Отсюда проистекает у Бергсона термин «творческая эволюция». // У Франка мышление не сводится к слабому и ограничивающему мышление интеллекту (рацио). Пределы мышления у Франка расширены, поскольку оно включает в себя «непознаваемое». В «непознаваемом» видится нам своеобразный аналог бергсоновского «творчества», обеспечивающего переживание бытия в его потенциальности.
(обратно)346
Там же. С. 210.
(обратно)347
Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева // Ф. И. Тютчев: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 353.
(обратно)348
Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева. С. 358.
(обратно)349
Чумаков Ю. Н. Заметки об идиожанрах Ф. И. Тютчева // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 346.
(обратно)350
Так, Оге А. Ханзен-Леве пишет: «Медиальное своеобразие кино заключается, аналогично графической фиксации языковых текстов, в материальной фиксации в виде пленки, складывающейся из линейной последовательности кадров (“пленочные кадры”): лишь в процессе демонстрации этих следующих друг за другом фотографических снимков возникает перформативно – в процессе декламации (материализации) языкового текста – эстетический объект, который в качестве пространственно-временной последовательности “монтажных кадров” проявляет такую же конструктивную самостоятельность, как и декламация в отношении к письменно фиксированному тексту» (Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М.: Языки русской культуры, 2001. C. 334).
(обратно)351
«Особенное значение в этот период, – пишет Б. Эйхенбаум в статье 1926 г., – имеют работы В. Шкловского по теории сюжета и романа. На самом разнообразном материале – сказки, восточная повесть, “Дон-Кихот” Сервантеса, Толстой, “Тристрам Шенди” Стерна и пр. – Шкловский демонстрирует наличность особых приемов “сюжетосложения” и их связь с общими приемами стиля» (Эйхенбаум Б. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 387).
(обратно)352
«Импульс» – это одно из самых любимых слов формалистов и лефовцев с почти универсальным значением, возможно, оно, как и другие термины, к примеру, «эволюция» тоже было заимствовано у Бергсона.
(обратно)353
О мотиве как смысловом пятне см.: Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М.: Наука, 1993. С. 29–30.
(обратно)354
Эйхенбаум Б. Теория «формального метода»… С. 386.
(обратно)355
Левченко Я. Другая наука… С. 197.
(обратно)356
В третьей главе нашей книги мы предпослали аналитическому описанию рассказа Бунина «В некотором царстве» полный текст этого небольшого произведения, что явилось концептуальным моментом, необходимым для того, чтобы указать на сходство между уже утвердившимися подходами к лирическому стихотворному тексту и предлагаемым нами подходом к прозаической миниатюре со стороны микропоэтики.
(обратно)357
Франк С. Л. Непостижимое… С. 250.
(обратно)358
К. Г. Исупов так описывает аналогичное движение в историософском мышлении С. Л. Франка: «Оригинальность подхода Франка к проблемам философско-социального порядка сказалась в том, что идет он в своем анализе не от макромира (общество) к микромиру (“я”), но… в обратном векторе» (Исупов К. Г. Русская философская культура…. С. 337).
(обратно)359
Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума… С. 18.
(обратно)360
Понятие «литературная эволюция» Ю. Н. Тынянов вводит с целью пересмотреть историю литературы, отойти от «упрощенного каузального подхода к литературному ряду». Сам термин «эволюция» кажется заимствованием из «Творческой эволюции» А. Бергсона и означает «изменчивость», «парадигматичность», соотнесенность элементов системы: «Проделать аналитическую работу над отдельными элементами произведения, сюжетом и стилем, ритмом и синтаксисом в прозе, ритмом и семантикой в стихе и т. д. стоило, чтобы убедиться, что абстракция этих элементов как рабочая гипотеза… допустима, и что все эти элементы соотнесены между собой и находятся во взаимодействии» (Курсив Ю. Н. Тынянова. – Е. К.) (Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 272). Кроме того, по мнению Б. М. Ямпольского, на тыняновском понятии «эволюции» лежит след биологической теории, что меняет исторический масштаб, расширяя его до внечеловеческого, природного, доисторического, доязыкового, докультурного. Моменты семантической неопределенности (следствие динамических колебаний) делают текст в восприятии формалистов «живым», природным, органическим, а не только «культурным», «условным», «историческим». Об истории Тынянова как палимпсесте, включающем в себя и «природный» слой, см.: Ямпольский Б. М. Пространственная история… С. 57.
(обратно)361
Я. Левченко определяет метод работы Б. Эйхенбаума как «собирание и абстрагирование фактов по принципу аналогии и отождествления» (Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума в 1920-е гг. C. 12).
(обратно)362
Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм… С. 330.
(обратно)363
Там же. С. 327–336.
(обратно)364
Эквиваленты», «колеблющиеся признаки значения», «видимости значения» – все эти формалистские представления могут прочитываться как следствие отзвуков философии Бергсона в мышлении формалистов. Я. С. Левченко находит, что «первичность отклонения по отношению к норме оказывается созвучна представлению об отсутствии как о сложном случае наличия», и приводит пассаж из «Творческой эволюции» о «несуществующем»: «…понятие о “несуществующем” объекте необходимо является понятием о “существующем” объекте, к которому, кроме того, прибавляется еще представление об исключении этого предмета из настоящей действительности в целом» (Левченко Я. С. Другая история… С. 58).
(обратно)365
Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики… С. 34.
(обратно)366
«Движущуюся неподвижность», «движущуюся одновременность» чувствовали и критики Бунина, особенно те, что углублялись в лирическую природу бунинского повествования. Так, Ф. А. Степун пишет об «иллюзии очень большого движения» в рассказе Бунина: «Говорю иллюзия потому, что на самом деле не движение вводится в рассказ, а скорее наоборот, рассказ в движение жизни» (Степун Ф. Литературные заметки. И. А. Бунин (по поводу «Митиной любви») // Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 325). См. также комментарий к этой мысли Ф. Степуна в книге О. В. Сливицкой: Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»… С. 69–70).
(обратно)367
Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики… С. 29.
(обратно)368
Там же. С. 22.
(обратно)369
По мысли Ю. Н. Чумакова, «взаимовключения, наложения, пересечения» образуют «нелинейно-запутанную» сетку текста, бесконечно наращивают его семантический объем (Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 64).
(обратно)370
См.: Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета… С. 88.
(обратно)371
См.: Чумаков Ю. Н. Перспектива стиха или перспектива сюжета («Евгений Онегин»)? // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. C. 79–85.
(обратно)372
«Одним из существенных недостатков театра… была неподвижность сценической площадки и связанная с этим неподвижность точек зрения и планов 〈…〉 Кино усложнило самый вопрос о сценической площадке… Ничто не стоит и не ждет своей очереди – меняются и места действия, и части сцен, и точки зрения на них… Кинодинамика… оказалась достаточно могущественной» (Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики… С. 23–24). Примерно в то же время, что и «Проблемы киностилистики» появляется статья Б. Эйхенбаума «Размышления об искусстве», где на два порядка делятся эмоции. К эмоциям первого порядка относятся естественные – радость, печаль, гнев, страх и т. п. Эти эмоции, как считает критик, не имеют отношения к искусству («Искусство в существе своем вне-эмоционально»), то есть из сферы искусства исключаются чувства, которые позволяют прочитывать сюжет героев, сопереживая им. Зато для художественного восприятия необходимы интеллектуальные эмоции (эмоции второго порядка): «ритмическая эмоция, эмоция речевая, пластическая, цветовая, звуковая, эмоции пространства, движения и т. д.» (Эйхенбаум Б. Размышления об искусстве // Жизнь искусства. 1924. № 99. С. 8–9).
(обратно)373
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л.: Academia, 1924. С. 40–41.
(обратно)374
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета… С. 85.
(обратно)375
«Стареющий современник, – пишет Ю. Н. Тынянов в “Литературном факте”, – переживший одну-две, а то и больше литературные революции, заметит, что в его время такое-то явление не было литературным фактом, а теперь стало, и наоборот 〈…〉 то, что сегодня литературный факт, то назавтра станет простым фактом быта, исчезнет из литературы» (Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 257).
(обратно)



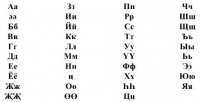
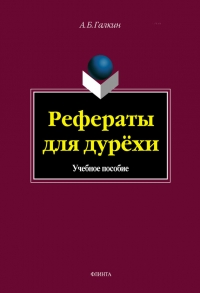
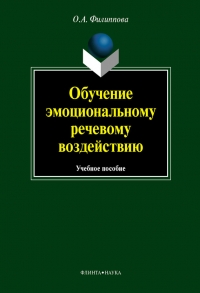



Комментарии к книге «Поэзия Приморских Альп. Рассказы И. А. Бунина 1920-х годов», Елена Владимировна Капинос
Всего 0 комментариев