Лексика славянского язычества
Т. Б. Лукинова
Дальнейшее успешное развитие славянской сравнительно-исторической лексикологии все настоятельнее требует широкого привлечения экстралингвистических фактов. При этом чем древнее изучаемые пласты лексики, тем более возрастает значение данного требования. Особенно важны свидетельства смежных гуманитарных наук, и в первую очередь этнографии, для тех лексических групп, у которых можно предполагать связь с широким комплексом древних верований и представлений об окружающем мире, обусловленными ими обрядами, ритуалами, все вместе относимые к тому, что обозначается термином славянское язычество.
Представляется вполне приемлемым предложенное акад. Б. А. Рыбаковым расширенное понимание славянского язычества как «части огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий»[1]. Унаследовав многие элементы духовной культуры предков-индоевропейцев, впитав не менее, если не более многочисленные черты иноплеменных культур, язычество определяло духовный облик славян не только до принятия ими христианства, но и долгое время после этого события. В жизни восточных славян языческая стихия заявляла о себе так мощно, что приходилось говорить об их двоеверии в течение многих столетий. Более или менее явственные следы прежних языческих воззрений и языческой обрядности обнаруживаются в разной форме еще и в наше время (в частности, в виде примет, поверий, детских игр и т. п.)[2].
Такое длительное и органическое проникновение язычества в жизнь и быт славянских племен и народов не могло не отложиться в славянских языках и прежде всего в лексике. Следует подчеркнуть, что интерес к свидетельствам этнографии и фольклора при исследовании славянской лексики был характерен для филологии еще середины прошлого века. Достаточно вспомнить ряд удачных этимологий, предложенных А. А. Потебней в 60‑х годах (бабочка и под.). К сожалению, эта линия исследований по ряду причин не получила большого развития ни у самого Потебни, ни у других ученых. Лишь в последние десятилетия снова появился интерес и к язычеству как таковому и к языческим мотивам в исторической лексикологии и семасиологии (труды Н. И. Толстого, Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева, А. В. Десницкой и др.).
Примечательно, что учет возможных ассоциаций, связанных с языческими представлениями, может помочь пролить свет даже на некоторые фонетические и морфологические явления. Так, для метатезы в рус. ладонь < долонь (праслав. *dolnь) не исключена возможность влияния слова лада ‛супруг, супруга’ и производных от корня лад‑, касающихся языческой свадебной церемонии (ср. рус. диал. лады́ ‛помолвка’ — Даль³ II, 233), в первую очередь, широко распространенных припевов «ой ладо, ладо», «ой дид-ладо» и под. Постоянное сопровождение свадебных песен плесканием долонным (по-видимому, первоначально имевшим ритуальный характер) привело к возникновению устойчивой ассоциации между пением и действием, что послужило психологической основой для метатезы.
Сходным образом объясняется и субституция о → у в собственном имени Кузьма при более раннем Козьма, Косма (из греч. Κοσμας). Фольклорные и этнографические данные свидетельствуют, что существовала легенда о святых Козьме и Демьяне как первых кузнецах (в силу звукового сходства имени со словом)[3]. Постоянная ассоциация Козьмы с кузнецом, кузницей, кузнечным делом, которое рассматривалось как магическое действо, способствовала дальнейшему сближению фонетического облика имени с соответствующим апеллятивом.
На морфологическом уровне в связи с рассматриваемой проблематикой интерес могут представить архаичные основы на согласные, в частности группа s-основ. Касаясь семантики слов с этим формантом, С. Б. Бернштейн, например, отмечал: «Именные основы на ‑s характеризуются значительным семантическим разнообразием. Здесь и абстрактные имена типа nebos‑, slovos‑, и анатомические термины типа tělos‑, čelos‑, okos‑, istos‑, červos‑, и технические термины — kolos‑, igos‑, ‑tęžos‑, runos‑, ojos‑»[4].
Однако можно, кажется, выделить некий семантический стержень, вокруг которого группируются древнейшие s-основы: большинство их оказывается тесно связанным со сферой язычества. Прежде всего это касается тех слов, которые имеют соответствия в других индоевропейских языках: небо, слово, коло (небо — место обитания богов, по небу проходит свой ежедневный путь животворное солнце и проплывают тучи, несущие влагу нивам; слово издавна наделялось магической силой; разного рода ритуалы и обряды сопровождались молитвами, заклинаниями, заговорами; с верой в магию слова связано табуирование; следует упомянуть и о том, что слово имело в древности значение более широкое, чем лат. verbum, оно ближе многозначному греч. λόγος; коло (колесо) выполняло не только важную хозяйственную функцию, но и издавна было символом солнца, круг (коло) чертили, чтобы предохранить себя от действия враждебных сил и т. п.).
Чудо, *kudo (ср. рус. кудесник, кудесить и под.), диво — связь семантики этих слов с верованиями очевидна; дерево — этнография свидетельствует о культе деревьев как составной части древнейших растительных культов (в языке следом поклонения деревьям может быть этимология слова здоров — праслав. *sъdorvъ с реконструируемым первоначальным значением ‛из хорошего дерева’). Для слов тело, удо, око, ухо и других анатомических терминов с формантом ‑s можно предположить связь с жертвоприношениями и ритуальным расчленением тела.
Как s-основа могло выступать и порядковое числительное *pьrvъ; объяснение этому следует искать, по-видимому, в том известном факте, что первому снопу при уборке урожая, первому приплоду у домашних животных, первому ребенку в семье придавалось особое значение, они были объектами определенных ритуалов, их могли приносить в жертву.
Таким образом, обзор семантики славянских s-основ с особым вниманием к некоторым семантическим нюансам и с учетом свидетельств, представляемых этнографией, позволяет видеть в них не только четко очерченную грамматическую (морфологическую), но и лексико-семантическую группу.
Детальное обследование в аналогичном плане n-основ также может привести к интересным результатам. В частности, в древнейших основах среднего рода на ‑men (типа племя — племени, имя — имени) просматривается некий общий семантический сегмент, имеющий отношение к рождению ребенка и, возможно, соответствующим этому событию древним ритуалам.
* * *
В изучении лексики, связанной с язычеством, есть свои трудности и притом трудности серьезные. Не случайно В. Н. Топоров писал об «ощущении тупика, знакомом многим исследователям, работающим в этой области»[5]. К числу таких трудностей можно отнести уже само выделение слов, так или иначе входящих в сферу славянского язычества. Лишь сравнительно немногие слова непосредственно отражают «языческие» понятия: рус. навь, русалка, домовой, водяной, волхвовать и под.; больше таких, которые сейчас в сознании говорящих на том или ином славянском языке не ассоциируются с языческой древностью, и лишь этимология этих слов обнаруживает, что когда-то они входили в круг соответствующих понятий (как рус. хороший, врач, бабочка, укр. дідько, кувати, треба и некоторые др.). Можно с уверенностью утверждать, что еще немалое количество подобных слов, до сих пор не имеющих достоверной этимологии, ждет своих исследователей. Однако пока этимологизирование будет базироваться только на лингвистическом материале, трудно ожидать больших успехов, тогда как широкое использование данных родственных гуманитарных дисциплин способно дать серьезный импульс дальнейшему развитию сравнительно-исторической лексикологии.
Как много может почерпнуть этимолог из этнографии, можно проиллюстрировать на примере рассмотрения гнезд таких, казалось бы, давно всесторонне разработанных слов, как термины родства, в частности слова баба и дед. Оба слова во всех славянских языках обросли большим числом производных образований. Относительно слова баба в польском языке автор, например, «Słownika rzeczy starożytnych» отмечал: «Żaden wyraz w języku polskim niema tylu znaczeń różnorodnych ile baba i babka»[6]. Семантика этих производных чрезвычайно пестра и разнообразна: здесь названия и растений, и живых существ (в частности, насекомых), и кушаний, и предметов, относящихся к сельскому хозяйству или быту, есть даже названия облаков и туч. Разобраться во всем этом многообразии, найти мотивацию для каждого слова, исходя только из того, что представляет языковой материал, невозможно. Даже такой маститый исследователь, как М. Фасмер, этимологизируя название растения дедо́к ‛лопух, репейник’ прямолинейно толкует: «дедо́к… от дед — из-за колючек, которые напоминают небритую бороду старика»[7]. Но все это, казалось бы, хаотическое нагромождение разрозненных фактов приобретает черты относительной упорядоченности и даже некоторой систематичности (хотя бы в плане очевидного параллелизма семантики производных от баба и дед), как только взглянуть на него через призму этнографии и увидеть в привычных терминах родства еще и названия умерших предков.
Было бы несправедливо утверждать, что отмеченное значение совсем выпало из поля зрения лингвистов: словари, фольклорные тексты фиксируют, например, рус. ба́бка ‛дух предка’ (бабки запечные[8]), дед ‛домовой’ (первоначально ‛дух предка, охраняющий дом от чужих, враждебных духов’) и суффиксальные образования в том же значении де́дка, де́дко, де́душка, де́дунька (Филин 7, 330—332), укр. ді́дько ‛нечистая сила’, блр. дзед, дзедка ‛домовой’, чеш. děd, dědek то же, словац. dedkoviá ‛домашние божки, духи предков, охраняющие дом’, н.‑луж. nocne źědki ‛маленькие ночные человечки’ и под. Но эти значения воспринимаются исследователями, как второстепенные, глубоко периферийные, что противоречит как обилию и характеру самого языкового материала, так и утверждениям этнографов: последние согласно свидетельствуют о большой роли культа умерших предков у славян-язычников. Н. Н. Белецкая, например, даже полагает, что «культ предков играл определяющую роль в языческом мировоззрении, а также и в генезисе языческой обрядности»[9]. Добрым духам предков посвящали первые (и последние) плоды (отсюда названия, например, снопов: рус. ба́ба, ба́бка, укр. дід, ді́дик и под.[10], для них готовили ритуальную пищу (отсюда названия блюд), верили, что духи предков могут воплощаться в живых существ (ср. рус. ба́бочка, польск. babka, словен. babučka и под.) и даже в тучи и облака: рус. ба́ба ‛мифическая облачная жена, приносящая живую воду, т. е. дождь’ (Филин 1, 14), чеш. báby ‛тучи’, польск. dziady то же.
В этнографическом контексте становится очевидным также, что лопух или репейник назвали дедком потому, что существовал обычай ставить символ доброго духа — сноп этого колючего растения у ворот или дверей избы, хлева, чтобы отогнать чужих, враждебных духов, нечистую силу, — не случайно репейник называется, также чертополох, чертогон (ср. и укр. чортополох, польск czartopłoch).
Максимальное привлечение и использование этнографических мотивов в лексикографических разработках — лишь одна, хотя и чрезвычайно важная, сторона дела. Не менее плодотворным может оказаться и такой подход, когда, исходя из этнографии, определяется самый объект исследования. К этому вынуждает крайняя расплывчатость и условность границ, отделяющих лексику славянского язычества от всех остальных тематических групп. Результативным, например, может быть исследование слов, относящихся к такому древнему и важному культу, как культ огня; немало интересного следует ожидать и от изучения лексики, отражающей культ воды, культ растений, веру в магию слова и под. Свои плоды может дать систематическое обследование и этимологизирование слов, связанных с реалиями, представляемыми археологией (способы захоронений и пр.). Отдельные разработки в этом направлении есть, но их мало.
Широкая и планомерная работа с лексикой славянского язычества способна представить новый материал для изучения древнейших контактов славян с неславянскими племенами (балтами, германцами, угро-финнами, иранцами, тюрками и др.). Так, праслав. *ǫpyrь ‛упырь’, входящее в круг слов, отражающих культ огня (этимологизируется как состоящее из *ǫ‑ — префикс отрицания и *pyr‑ ‛огонь, гореть’, общее древнейшее значение ‛не преданный огню’) имеет точное соответствие в греческом ἄπυρος то же[11]. Независимо от того или иного решения вопроса о происхождении этих слов (независимые параллельные образования? калька в одном из языков? кальки в обоих языках?) они — бесспорное свидетельство древних контактов.
В конечном счете исследование архаичного слоя лексики, отражающей духовную культуру древних славян и в какой-то своей части восходящей к лексике праиндоевропейской, нельзя недооценивать и при решении круга проблем славянского этногенеза.
Примечания
1
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, 3.
(обратно)2
См., например: Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX века. М.—Л., 1957.
(обратно)3
Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. — Чтения ОИДР, 3, 1865, М., 1865, 161. О Кузьме и Демьяне — кузнецах см. также: Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей, М., 1974, 161; Кондратьева Т. Н. Кузьмодемьян-свадебник. — Русская речь 1, 1979, 108—111. О сближении имени со словом кузнец — Фасмер II, 403.
(обратно)4
Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1974, 163.
(обратно)5
Топоров В. Н. Фрагмент славянской мифологии. — КСИС АН СССР, М., 1961, 30, 15.
(обратно)6
Słownik rzeczy starożytnych. Kraków, 1896, 17.
(обратно)7
Фасмер I, 494.
(обратно)8
Довнар-Запольский М. В. Исследования и статьи. Киев, 1909, I, 145—146.
(обратно)9
Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978, 163.
(обратно)10
Б. А. Рыбаков писал, например, что «у некоторых славянских народов существовало почтительное отношение к последнему снопу, увозимому с поля. Его называли «дедом», «стариком», «бабой»; его зерна считали плодовитыми и примешивали их к посевным» (Рыбаков Б. А. Указ. соч., 425)
(обратно)11
Подробнее см.: Лукінова Т. Б. Лексика слов’янських мов як джерело вивчення духовної культури давніх слов’ян. — IX Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янське мовознавство. Доповіді. Київ, 1983, 95—103.
(обратно)

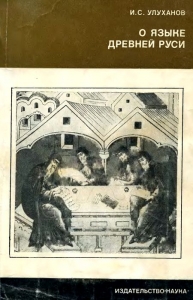

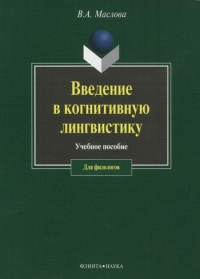





Комментарии к книге «Лексика славянского язычества», Татьяна Борисовна Лукинова
Всего 0 комментариев