Игорь Степанович Улуханов О языке Древней Руси
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Из истории мировой культуры»
Издательство «НАУКА»
Москва
1972
Ответственный редактор доктор филологических наук Л. П. ЖУКОВСКАЯ
На обложке помещена миниатюра «Переписка книг» из рукописи «Житие Сергия Радонежского» XVI в (рукопись хранится в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина): на контртитуле — фрагмент листа Остромирова евангелия XI в. (рукопись хранится в. Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).
ВВЕДЕНИЕ
Язык Древней Руси — это язык далекого прошлого. Но прошлое языка постоянно напоминает о себе.
Вот несколько отрывков из «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина:
Уже Фарлаф по граду мчится, И шум на стогнах восстает... В полях наездники мелькают, Вдали подъемля черный прах... В устах открытых замер глас, И пал без чувств он на колена...Как видим, устаревшие элементы языка можно встретить даже в широко известном и всеми любимом произведении: это слова, отсутствующие в современном языке (стогна — «площадь», подъемля — «подняв») или малоупотребительные (град, глас, уста); слова, выступающие в иных значениях, нежели в современном языке (восстать — в значении «подняться», прах — в значении «пыль»); наконец, устаревшие формы широко употребительных слов (на колена вместо на колени).
Но не только устаревшие слова и формы заставляют нас обращаться к прошлому языка.
Задумывались ли вы когда-нибудь, например, над тем, почему можно сказать причинить зло, но нельзя — причинить удовольствие? Почему говорят прервать разговор, но нельзя прервать нитку? Почему в современном русском языке рядом со словами берег, дерево, голова имеются прибрежный, древонасаждение, обезглавить? Родственно ли слово подражать слову дорога, обвязать — обязать, гражданин — горожанин, смрад — смородина? Ответить на эти вопросы можно, лишь обратившись к истории русского языка, к языку Древней Руси.
История языка помогает узнать, как жили, мыслили наши предки, каково было их мировоззрение, их внутренний мир. Следы язычества можно найти, например, в таких словах, как чаровать, обаяние, кудесник и др. Глагол чаровати в древности означал «колдовать, ворожить», обаяние — «чародейство, волхвование», а кудесник — «колдун» (образовано от куде́сы, кудеса́ — «колдовство, чудеса»). В языке много слов, имевших в древности значения, связанные с отжившими ныне понятиями. Например, слово государство связано по происхождению со словом государь — «царь, монарх». Слово обожать образовано от слова бог и когда-то означало «обожествлять» или «приближать человека к богу, возвышать его нравственно».
Многие устаревшие слова или формы слов, выйдя из употребления, оставили следы в языке в составе устойчивых сочетаний, имен собственных или производных слов.
Слово зеница в выражении беречь как зеницу ока означает «зрачок», и все выражение в целом первоначально значило «беречь, как зрачок глаза». В выражении почил в бозе (т. е. умер «в боге», как подобает христианину) мы встречаемся со старой формой в бозе[1]. Слово бологое в древности значило «хорошее, красивое»; этим словом было названо село, превратившееся затем в город. Слово Мытищи означало место, где собирали мыто — «пошлину за проезд и провоз багажа». Глагол ошеломить был образован от слова шелом — «шлем» и означал «сильно ударить по голове, шлему» (по-древнерусски «по шелому»).
В художественной литературе мы также встречаемся с устаревшими значениями слов, которые иногда сосуществуют с современными. Вот пример из пьесы А. Афиногенова «Машенька»:
Маша. Потом анкету надо заполнить. В графе родителей мне как писать? Кто моя мать?
О к а е м о в. Хм. Мещанка, наверное.
Маша. Что ты, дедушка, разве можно так про маму говорить? Мещанка — это которая сплетничает, склоки любит, жадная.
О к а е м о в. Нет, нет, я имею в виду социальное происхождение, а не нравственный облик.
Маша. Все равно нельзя. Я напишу — домашняя хозяйка, и все.
Здесь в речи представителей разных поколений столкнулись два значения слова мещанка (образовано от слова мѣсто, ранее означавшего «город»): старое — «женщина, принадлежавшая в старой России к городскому сословию, состоявшему из мелких торговцев, ремесленников, низших служащих и т. п.» и новое — «женщина с мелкими, ограниченными интересами и узким кругозором».
Можно было бы привести еще очень много примеров связи прошлого и настоящего в языке. За отдельными разрозненными примерами стоят более общие процессы, сыгравшие огромную роль в истории русского языка, — такие, как взаимодействие книжных и народно-разговорных элементов, изменения значений слов, смена одних грамматических форм другими и т. д.
В этой небольшой книге будут кратко описаны важнейшие процессы развития языка, на котором говорили и писали на Руси в средневековый период (с XI по XVII в.). Мы стремимся познакомить читателя с основными разновидностями письменного и устного языка Древней Руси. Книга не содержит, конечно, систематического описания развития словарного состава, фонетического и грамматического строя русского языка. Рассматриваемые в ней явления иллюстрируются лишь отдельными примерами, взятыми чаще всего из словарного состава[2].
* * *
Как же сформировались разновидности языка Древней Руси?
Восточные славяне — предки русских, украинцев и белорусов — выделились примерно в VII—VIII вв. из общеславянского единства. С этого времени начинает свое существование и восточнославянский язык — предшественник русского, украинского и белорусского языков, выделившийся из общеславянского языка — предшественника всех современных славянских языков. К славянским языкам кроме русского, украинского и белорусского относятся также болгарский, македонский, сербо-хорватский, словенский, польский, чешский, словацкий и лужицкие языки — верхний и нижний. Общеславянский язык задолго до нашей эры выделился из индоевропейского языка-основы. Читателя, желающего подробнее узнать об этих процессах, мы отсылаем к научно-популярным работам о происхождении языка и отдельных языковых семей (27, 44).[3]
На восточнославянском языке говорили племена (поляне, древляне, дулебы, уличи, тиверцы, так называемые «белые хорваты», северяне, вятичи, радимичи, дреговичи, кривичи и словене новгородские), заселявшие западную и центральную часть нынешней Европейской части СССР — от Среднего Поднепровья на юге до озера Ильмень на севере.
В IX в. в среднем течении Днепра, на территории, заселенной полянами, возникло феодальное государство — Киевская Русь, объединившее вокруг себя восточнославянские племена, которые составили древнерусскую народность. Кроме Киева — «матери русских городов» — еще в VIII—IX вв. возникли Смоленск, Псков, Изборск, Полоцк, Искоростень, Чернигов и др. Страной городов («Гардарикой») называли скандинавы Киевскую Русь. Молодое, но могущественное государство вступает в культурное общение с Византией, Болгарией, Венгрией, Чехией, Польшей. Изделия русских мастеров становятся известными далеко на Западе и на Востоке. Строятся красивые здания. Важнейшим культурным событием было появление письменности.
Гнездовская надпись, X в.
Какие-то элементы письма, очевидно, существовали у славян и ранее: черноризец (т. е. монах) Храбр — автор сказания «О письменах», написанного в конце IX в., сообщает о «чертах и резах» как о знаках какого-то письма. Но никаких следов этого письма не найдено. Очевидно, это были надрезы и черточки на дереве, имевшие значение чисел. Отдельные надписи так называемого кирилловского письма (т. е. того же письма, которым мы пользуемся и в настоящее время) относятся к X в.
В 1949 г. под Смоленском около села Гнездово была открыта первая русская кирилловская надпись. Она была сделана в середине X в. на сосуде. Одни ученые читают ее как горухща, другие — как горушна, третьи — как горунща (31). Возможно, надпись означала, что в сосуде хранятся горчичные зерна. В X в. на Русь стали поступать из Болгарии церковные книги, написанные на старославянском языке. Особенно усилился их приток после того, как Русь приняла христианство в 988 г. Это, естественно, способствовало все большему распространению письменности. Книги переписывались русскими писцами, которые таким образом усваивали особенности старославянского языка. Что же представлял собой этот язык?
Старославянский язык — это язык, на котором написаны первые письменные памятники славянства: переведенные с греческого языка во второй половине IX в.
Евангелие, Апостол, Псалтырь и другие богослужебные книги. Перевод был осуществлен братьями-греками Константином (827—869 гг.) и Мефодием (умер в 885 г.), жившими в Солуни (современные Салоники) и хорошо знавшими славянский язык местного населения. Константину (в монашестве Кириллу) принадлежит заслуга создания первой славянской азбуки. До Кирилла славяне, по-видимому, неупорядоченно употребляли для письма и счета буквы греческого алфавита.
Известны две древнейшие славянские азбуки — глаголица и кириллица. Несмотря на то, что кириллица названа по имени Кирилла, ученые на основании ряда убедительных фактов полагают, что Кирилл (Константин) создал не кириллицу, а глаголицу (очевидно, в 862 г.). По мнению одних ученых, глаголица была создана на основе греческого минускульного письма (т. е. греческой скорописи), по мнению других, — на основе специальных знаков греческого письма, употреблявшихся для сокращения слов, для ускорения письма, для обозначения терминов в текстах ученого содержания, для целей криптографии (тайнописи) и магии (13, стр. 305). Глаголица распространилась главным образом в Моравии, Македонии и Хорватии.
Кириллица возникла позднее глаголицы, очевидно в первой половине X в., и получила распространение в Болгарии, Сербии и на Руси. Кириллический алфавит был создан на основе греческого устава (крупного почерка, характеризующегося тщательно выведенными буквами); при этом неупорядоченно использовавшееся славянами греческое письмо было усовершенствовано по образцу глаголицы, приспособлено к особенностям славянской речи.
Дальнейшая судьба славянских азбук была неодинакова. Начиная с XII в. глаголица почти во всем славянском мире выходит из употребления. На Руси глаголица не играла существенной роли. Отдельные ее элементы можно встретить в памятниках, написанных кириллицей, а также в некоторых надписях. В более позднее время ее иногда употребляли в качестве тайного письма. Кириллицей же (в несколько упрощенном виде) мы пишем до сих пор.
О деятельности Кирилла и Мефодия нам известно главным образом из их биографий (житий), написанных их учениками, из документов, написанных на латинском языке разными лицами, жившими в Риме в то же время, что Кирилл и Мефодий, а также из сочинения «О письменах» черноризца Храбра. Последний так пишет о создании первой славянской азбуки: «Пото(м) же чл҃колюбець б҃ъ... посла имъ ст҃го костянтина философа, нарицаемаго кирила мужа праведна и истинна, и створи и(м) писменъ. тридесяте и осмь, ова убо по чину грьчьскы(х) писменъ. ова(ж) по словеньстѣ рѣчи... Се же су(т) писмена словеньская. сице и(х) подобае(т) писати и глашати. а. Б. В. даже до Ѧ и о(т) сихъ су(т) четыри между десятьма. подбна грьчьскы(м) писмено(м)... а четыре на десяте по словеньскому языку... [Потом же человеколюбец бог... послал им (т. е. славянам) святого Константина философа, называемого Кириллом, мужа праведного и истинного. И он создал им азбуку, состоящую из тридцати восьми букв, часть — по образцу греческих букв, а часть — применительно к славянской речи... Вот славянские буквы, которые следует писать и произносить: а, б, в и так до Ѧ. И из них 24 буквы подобны греческим буквам... а 14 созданы для славянского языка]».
В основу языка древнейших славянских переводов с греческого Кирилл и Мефодий положили хорошо известный им говор славянского населения Солуни — древнеболгарский (южнославянский) в своей основе. В процессе перевода этот говор подвергся известной обработке, нормализации, приспособлению к устоявшимся особенностям греческих текстов. Переводы, сделанные Кириллом и Мефодием, не сохранились, и о старославянском языке мы можем судить на основании более поздних памятников (X и XI вв.).
Книги, написанные на старославянском языке, получили широкое распространение уже в конце IX в. Этому способствовала просветительская деятельность Константина и Мефодия, совершивших поездку в Моравию и Паннонию. Затем братья отправились в Рим, где их принял папа Адриан II. В Риме Константин заболел и умер. Мефодий и многочисленные ученики братьев продолжили начатое им дело.
Распространяясь вместе с книгами по территории, занятой славянами (в Моравии, Чехии, Паннонии, у болгар, сербов и хорватов, у восточных славян), старославянский язык впитывал в себя особенности местных говоров. Так в XI—XII вв. образовались местные редакции (разновидности) старославянского языка. Совокупность этих редакций — русской, среднеболгарской, сербской и западнославянской (чешской) — носит название церковнославянского языка.
На протяжении всего средневекового периода церковнославянский язык был общим литературным языком славян. На старославянский, а позднее на церковнославянский язык были переведены с греческого сочинения византийских церковных и светских писателей. В процессе перевода создавались средства передачи абстрактных понятий, вырабатывалась славянская политическая и религиозно-философская терминология.
Первыми письменными текстами, известными нашим предкам — восточным славянам, были, по всей вероятности, тексты, написанные на старославянском языке, и в этом огромное значение последнего в развитии русского языка и русской культуры.
Таким образом, уже в X—XI вв. на Руси существовал не только исконный по происхождению восточнославянский (древнерусский) язык, но и церковнославянский язык (старославянский в своей основе). О взаимодействии и взаимовлиянии этих языков свидетельствуют многие памятники письменности. Распределение восточнославянских и церковнославянских элементов в письменности было тесно связано с жанром произведения, а сами жанры в письменности Древней Руси выделялись на основе темы произведения, определялись его предназначенностью.
Церковнославянский язык распространялся на Руси прежде всего как язык церкви. Поэтому естественно, что на нем писалось все, что было связано с церковной тематикой, и прежде всего канонические книги «священного писания» (Евангелие, Апостол и Псалтырь; древнейшей из дошедших до нас книг, написанных на Руси, является «Остромирово евангелие» 1056—1057 гг.).
На церковнославянский язык переводились также сочинения греческих авторов. Профессиональные переводчики, несомненно, существовали на Руси уже в начале XI в. Об этом свидетельствует запись, помеченная в летописях 1037 г. Речь идет о сыне Владимира Святославича князе Ярославе Мудром: «Ярославъ... книгамъ прилежа и почитая е часто в нощи и въ дне. и собра писцѣ многы. и прекладаше о(т) Грекъ н(а) Словѣньское писмо. и списаша книгы многы [Ярослав... к книгам проявлял усердие и часто читал их ночью и днем. И собрал писцов множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг» («Повесть временных лет»).
Страница «Остромирова евангелия» 1056—1057 гг.; в правом нижнем углу запись писца. В записи упоминается имя новгородского посадника Остромира, для которого была написана эта рукопись
С греческого языка переводились сочинения видных церковных деятелей (Иоанна Златоуста, Феодора Студита), жития, церковные уставы, а также историко-повествовательная литература. В частности, в XI в. была переведена «Хроника Георгия Амартола» (т. е. Грешника) — византийского монаха, жившего в середине IX в. и изложившего в своем произведении события от «сотворения мира» до начала IX в., а также «История Иудейской войны» Иосифа Флавия — историка и военачальника (I в. н. э.), поселившегося в Риме после Иудейской войны (66—73 гг.). В первых переводах помимо русских переводчиков, по-видимому, принимали участие южные славяне (болгары). Об этом свидетельствуют данные языка.
Кроме переводов с греческого языка в Древней Руси были известны переводы с латинского, с древнееврейского, а также с чешского, польского и немецкого языков.
Однако в это время (XI—XII вв.) на Руси занимались не только переписыванием и переводом книг. Сохранились оригинальные произведения, написанные уже в XI в. древнерусскими писателями на церковнославянском языке. К числу таких произведений относятся, например, «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (середина XI в.) — панегирик, прославляющий «благодать» — символ христианства; «Житие Феодосия Печерского» (конец XI в.) — биография-прославление основателя Киево-Печерского монастыря Феодосия Печерского (умер в 1074 г.), «Чтение о Борисе и Глебе» (конец XI в.) и «Сказание о Борисе и Глебе» (начало XII в.) — рассказы о праведной жизни и мученической смерти младших сыновей киевского князя Владимира Святославича, убитых в 1015 г. в междоусобной борьбе их братом Святополком. И в дальнейшем — вплоть до XVII в. — церковнославянский язык господствовал во всей церковной письменности: в книгах «священного писания», житиях святых, сводах церковных правил, проповедях, поучениях, посланиях церковных деятелей и т. п. На церковнославянском языке писались и некоторые политические, исторические и научные сочинения.
В общем объеме письменности, дошедшей до наших дней, безусловно преобладают богословские тексты, написанные на церковнославянском языке. Так, среди книг XI—XIV вв. сохранилось 370 евангелий и почти 100 списков Апостола, но лишь два списка летописи (I Новгородская и Лаврентьевская) (19, стр. 37). По-видимому, это более или менее правильно отражает реальное соотношение памятников церковнославянского и древнерусского языков, характерное для русского средневековья (хотя определенную поправку следует сделать на то, что у церковных памятников было больше шансов сохраниться, нежели у светских). По подсчетам ученых, в XI—XIII вв. на Руси существовало примерно 10 тыс. церквей и 200 монастырей, в которых имелось не менее 85—100 тыс. книг. Церковь оказывала огромное влияние на все средневековое общество. «Средние века, — писал Ф. Энгельс, — присоединили к теологии и превратили в ее подразделение все прочие формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию»[4]. Господство церкви в сфере культуры и просвещения и определило преобладание церковнославянского языка в письменности Древней Руси. О церковнославянском языке рассказывается в первой главе этой книги.
«Хроника Георгия Амартола», список 1386 г.
Страница из «Успенского сборника» XII в. Начало «Сказания о Борисе и Глебе»
Вторая глава посвящена древнерусскому языку. В ней мы сначала знакомим читателя с сохранившимися в письменных памятниках записями устной речи Древней Руси и с важнейшими изменениями, которые претерпела устная речь в средневековый период. Затем рассмотрен письменный древнерусский язык.
Письменность на древнерусском языке возникла уже вскоре после появления на Руси книг на старославянском языке. Язык летописей, язык многих художественно-повествовательных произведений (см. стр. 77—80 [подраздел "Язык летописных рассказов и художественно-повествовательных произведений"]), возникших на Руси, существенно отличается от церковнославянского языка обилием слов и форм, свойственных русской народной речи. Вместе с тем в этих произведениях находим и элементы, заимствованные из церковно-книжных сочинений. Летопись и художественно-повествовательные произведения — это та сфера письменности, где народно-разговорные элементы взаимодействовали с церковно-книжными.
Кроме того, существовал еще один вид письменности на древнерусском языке. Он подвергся минимальному влиянию церковнославянского языка. Это тексты юридического содержания — древнейший свод русских законов Русская Правда, а также грамоты — рукописные акты, юридически закрепляющие конкретные деловые соглашения.
При раскопках, проведенных в послевоенные годы в Новгороде, был обнаружен новый вид письменности, неизвестный ранее науке, — грамоты, написанные на бересте. Это деловые записи, подсчеты, документы, а также письма. В настоящее время найдено более 500 грамот. Они относятся к XI—XV вв. Язык этих памятников также почти полностью лишен книжно-славянского влияния.
Рисунок шести-семилетнего мальчика Онфима (Новгородская берестяная грамота XIII в.). На ней нацарапаны начало азбуки и всадник, поражающий врага. Надпись «Онфиме», помещенная рядом с фигурой всадника, свидетельствует о том, что Онфим рисовал «автопортрет»
Церковнославянский язык и древнерусский язык, на котором написаны русские летописи и художественно- повествовательные произведения, обычно рассматриваются лингвистами как литературные языки (или, учитывая их родство и близость, — как два «типа» древнерусского литературного языка: книжно-славянский и народно-литературный). Заметим, что термин литературный язык применительно к русскому языку употребляется в двух значениях: по отношению к национальному русскому языку (т. е. к языку нации) он обозначает обработанную стандартизованную форму языка, обслуживающую все сферы культурной и общественной жизни нации, а применительно к донациональному языку (т. е. к языку народности) — это язык религиозно-философской, исторической, научной и художественно-повествовательной литературы. Донациональный язык деловых документов и частных писем, как не входящий в сферу литературы, обычно не включается и в сферу литературного языка.
В третьей главе рассмотрена история славянизмов в русском языке. Славянизмы — это слова, их значимые части («морфемы») и устойчивые сочетания слов, заимствованные из старославянского или из церковнославянского языков.
Старославянский язык был языком, родственным живому русскому языку, на котором говорила древнерусская народность. Сложившись на южнославянской основе, старославянский язык имел очень много слов (и среди них наиболее употребительных, таких, как земля, вода, домъ, князь, богъ и т. п.), общих с древнерусским языком. Правила склонения, спряжения слов, сочетания слов в предложении в значительной своей части также совпадали. В настоящее время русский может объясниться со славянином (скажем, с болгарином), говорящим на близко-родственном языке, а 900—1000 лет назад славянские языки были еще ближе, чем современные.
Чтобы читателю была ясна степень разницы между древнерусским и старославянским языками, мы перечислим почти все наиболее существенные различия между ними. Многие различия старославянских и русских слов объясняются разными фонетическими (звуковыми) изменениями, пережитыми старославянским и русским языками. Так, в общеславянском языке были сочетания ор, ол, ер, ел между согласными, которые в старославянском языке изменились в ра, ре, ла, ле (неполногласные сочетания), а в древнерусском — в оро, ере, оло (полногласные сочетания); этим и объясняются различия в звучании слов страна и сторона, власть и волость и т. д.
Первые заимствованы из старославянского языка, т. е. являются славянизмами, вторые — исконно русские. Неодинаковыми фонетическими изменениями объясняются и такие соотношения, как старославянские жд, щ — русские ж, ч (в случаях типа чуждый — чужой, мощь — мочь, сравните «мочи нет»), начальные ра, е, ю в соответствии с русскими ро, о, у (равный — ровный, единый — один, юродивый — урод) и др.
В сочетаниях с плавными звуками (т. е. л, р) редуцированные (т. е. ослабленные) звуки ъ и ь (см. стр. 71) между согласными в старославянском языке следовали после плавных (старославянские тръгъ, смрьть), а в русском — перед плавными (древнерусские търгъ, смьрть, из которых получились современные слова торг и смерть). Звуку Ѧ (т. е. носовому е) в конце некоторых форм существительного и прилагательного в древнерусском языке соответствовало окончание ѣ («ять» — особый, утраченный ныне звук, см. стр. 71), например: старославянское из землѧ — древнерусское из землѣ (современное из земли). В окончаниях полных имен прилагательных также имелись некоторые различия: в дательном падеже единственного числа мужского и среднего рода (после твердых согласных) старославянский язык имел окончание -уему (добруему), а древнерусский — -ому (доброму); в местном[5] падеже тех же прилагательных — соответственно -ѣемь и -омь (старославянское добрѣемь — древнерусское добромь); в дательном и местном падежах единственного числа женского рода старославянские прилагательные имели окончание -ѣи (добрѣи), а древнерусские — -ои (доброи). В именительном падеже единственного числа мужского и среднего рода действительных причастий настоящего времени старославянский язык имел окончание -ы (несы), а древнерусский — -а (неса, в современном языке — несущий). Старославянскому окончанию -тъ в третьем лице единственного и множественного числа глаголов настоящего времени в русском языке соответствовало окончание -тъ (старославянское несетъ — древнерусское несеть), а так называемым нестяженным формам имперфекта (имперфект обозначал длительное, иногда повторяющееся действие в прошлом) в русском языке соответствовали стяженные формы (старославянское несѣахъ — древнерусское несяхъ — «я нес»).
Кроме этих звуковых и грамматических различий существовали и различия в лексике (например, старославянским словам истина, выя, свѣдетель соответствуют древнерусские слова правьда, шия—шея, послухъ), в синтаксисе (старославянскому языку свойственны более сложные правила построения предложений, нежели древнерусскому, для которого типичны были простые соединения предложений с помощью союзов и, а и др.) и в составе приставок и суффиксов (из- в соответствии с исконным вы-: избрать — выбрать; пре- — древнерусское пере-: пресечь — пересечь; пред-, например, в представить, сравните предлог перед; раз- — исконное роз-: (раздать, сравните древнерусское роздат; суффиксы причастий -ущий, -ащий (сравните русские -учий, -ачий в словах типа летучий, горючий, сидячий, лежачий).
Таковы основные языковые черты, которыми различались старославянский язык и живая восточнославянская речь. Некоторые из особенностей старославянского языка почти не проникали в памятники, созданные на Руси, другие начали проникать лишь с XIV—XV вв., третьи регулярно встречаются в текстах, написанных на церковнославянском языке, и гораздо менее регулярно в других текстах. Отношение к старославянским языковым особенностям определялось очень многими взаимодействующими между собой причинами. Эти причины, различные для разных сфер устной и письменной речи, будут рассмотрены в процессе описания церковнославянского и древнерусского языков.
1. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК РУССКОЙ РЕДАКЦИИ
Старославянский язык распространялся по Руси двумя путями. Во-первых, на нем велось богослужение еще до официального принятия христианства; об этом, в частности, свидетельствует булла (т. е. грамота, послание) римского папы, написанная между 954 и 972 гг., в которой папа требует, чтобы чехи вели богослужение на латинском языке, а не уподоблялись русским и болгарам, у которых богослужение ведется на славянском языке. Во-вторых, распространение старославянского языка происходило книжным путем: как уже было сказано во введении, русские люди переписывали старославянские книги, а затем стали создавать переводы и оригинальные произведения, стремясь писать на старославянском языке, авторитет которого освящался церковью. В обоих случаях — и в богослужении и в книгах — старославянский язык претерпевал существенные изменения: в него проникали элементы живой русской речи, он превращался в церковнославянский язык русской редакции (или «славенский», как называли его на Руси).
Языки близкие, но разные
В течение всего времени своего бытования на Руси книжный церковнославянский язык отчетливо противопоставлялся в сознании людей живому русскому языку.
Образованные русские люди владели, очевидно, по крайней мере двумя языками — русским и церковнославянским (об этом говорят приписки на полях церковнославянских книг, см. стр. 60, 62). Это были родственные, но все-таки различные языки. Выбор одного из этих языков был обусловлен жанром произведения, а жанры, как говорилось выше, были обусловлены темой, характером изображаемого. В древней письменности средства изображения, как правило, соответствовали тому, что изображается. Возьмем русские летописи. В них мы найдем как тексты, богатые книжно-славянскими элементами, так и тексты, в которых широко представлены народно-разговорные слова и формы. К числу первых относятся отрывки разного объема, а иногда даже целые произведения. Это, во-первых, отрывки из церковно-книжных оригинальных и переводных памятников (например, в «Повести временных лет» встречаем отрывки из «Хроники Георгия Амартола», «Жития Василия Нового», «Поучения о казнях божиих» и др.) или сочинения самих летописцев, написанные по образцу церковно-книжных произведений (таково, например, «Сказание о первых черноризцах», помещенное в «Повести временных лет» под 1074 г., написанное под влиянием патериков); во-вторых, многочисленные биографии — прославления русских князей, ничем не отличающиеся от житий святых, например «Повесть об убийстве Андрея Боголюбского», помещенная в Суздальской летописи под 1175 г., и др.; в-третьих, это религиозно-моралистические комментарии летописца к описываемым событиям: рассказы о военных победах и поражениях, как правило, сопровождаются оценкой события с точки зрения христианской религии. Сами же рассказы написаны на древнерусском языке. Один и тот же автор мог писать то на «славенском» языке, то на русском. Иван Грозный пишет «по-славенски» во всех тех случаях, когда говорит о религии или использует авторитет «священного писания» для подтверждения своих политических воззрений. Обращаясь к светской тематике, он переходит на русский язык.
Те авторы, которые считали необходимым писать «по-славенски» ученые сочинения, философско-религиозные, исторические и другие произведения, в быту изъяснялись совершенно иначе. Достаточно сопоставить любой наудачу взятый отрывок из историко-публицистических сочинений князя А. Курбского и его бытовую записку, чтобы отчетливо представить себе «двуязычие» Курбского, вряд ли существенно отличавшегося в этом отношении от других авторов книжных произведений: «И абие обдираютъ спасительские одежды съ него, и катомъ отдаютъ въ руки святаго мужа, отъ младости въ добродѣтелехъ превозсиявшего, и нага влекутъ изъ церкви, и посаждаютъ на вола опоко [т. е. задом наперед] — окаянныи и скверныи! — и бичуютъ лютѣ, нещадно, тѣло, многими лѣты удрученное отъ поста, водяще по позорищамъ града и мѣста» («История о великом князе Московском», XVI в.); «Да осталися тетратки переплетены, а кожа на нихъ не положена, и вы тѣхъ бога ради не затеряито» (Записка в Печерский монастырь).
Старославянский язык и навыки живой речи
Попытаемся представить себе, какими «лингвистическими» соображениями и нормами руководствовался образованный человек Древней Руси, создавая дошедшие до нас памятники письменности. Если это был церковный памятник, то автор, переводчик или переписчик, в древнейшую эпоху стремился писать его, следуя старославянским образцам. Но в старославянском языке было очень много такого, что или было непонятно русскому читателю (автору), или противоречило тем языковым навыкам, которые сложились у них под влиянием живой русской речи.
Стремление писать по-старославянски выражалось в том, что во всех случаях, когда русский книжник имел возможность выбирать между русским и старославянским средством языка и при этом старославянизм не противоречил свойствам живой русской речи, он выбирал старославянизм.
Возьмем уже известные нам слова с неполногласными сочетаниями. Можно сказать, что их употребление было нормой для языка церковно-книжных памятников, а употребление слов с полногласием было отступлением от этих норм. Имея возможность выбирать между словами типа градъ — городъ (в том случае, если они имели тождественное значение), книжник, стремившийся ориентироваться на старославянские литературные образцы, выбирал градъ и т. п. Эти слова не противоречили его языковым навыкам: сочетание ра между согласными было вполне обычно и для русских слов (трава, братъ и т. п.), унаследованных из общеславянского языка. Подсчеты случаев употребления некоторых распространенных слов с полногласными и неполногласными сочетаниями (глаголов с приставками, пере- и пре-, предлогов передъ и предъ) в памятниках разных эпох показали, что в памятниках религиозно-философского характера эти неполногласные слова составляют от 95 до 100% общего количества слов с неполногласными и полногласными сочетаниями (40, 41). Такое же соотношение свойственно и другим категориям русских и старославянских слов (например, словам с начальными ра-, ла- и ро-, ло-, с приставками из- и вы-; 3, 4) в том случае, если старославянизм не противоречит сложившимся навыкам произношения тех или иных звуков (сравните русские слова радъ, родъ, ладити, ложе).
Церковнославянский язык русской редакции не был только письменным языком. Несомненно, существовала и устная его разновидность. Ведь церковные книги часто читались вслух. И в процессе этого чтения вырабатывались особые нормы русского церковного произношения. Чем же отличалось оно от живого русского произношения? Историки русского языка полагают, что в церковном произношении почти не было таких звуков, которых бы не было в живом бытовом произношении. Исключения немногочисленны. Одно из них составляют, например, мягкие звуки к, г, х, отсутствовавшие в древнерусском языке древнейшей эпохи, но читавшиеся в греческих по происхождению словах типа кивотъ, ангелъ, архиереи, широко представленных в церковных книгах. Правда, некоторые звуки, имевшиеся как в живом, так и в церковном произношении, употреблялись по-разному: в церковном произношении, например, в начале слова были возможны а, е, позднее ю (йу), а в живом — нет, в русских словах в этом положении звучали я (йа), о, у (современные слова единый, юноша, устаревшее агнец и другие — по происхождению славянизмы). Основное же различие между русским бытовым и русским церковным произношением состояло в следующем: звукам бытовой речи, которые произносились в определенных словах, соответствовали в церковном произношении другие звуки, также возможные в бытовой речи, но в других словах. Мы уже поясняли это явление на примере слов с полногласными и неполногласными сочетаниями: звукам оро бытовой речи (например, в слове городъ) в церковном произношении соответствовали звуки ра (в слове градъ), возможные в бытовой речи в других словах (типа братъ и т. п.). Точно так же звуку ч бытовой речи (например, в словах ночь, печера и т. п.) в церковном произношении соответствовали звуки шч, изображавшиеся буквой щ (нощь, пещера), возможные в бытовой речи в словах типа ищу и т. п.
Звуки или сочетания звуков, совершенно чуждые живому русскому произношению (но имевшиеся в тех живых говорах, на основе которых возник старославянский литературный язык), отсутствовали и в русском церковном произношении. Они заменялись звуками русского языка. В древнейших памятниках церковнославянского языка русской редакции, в особенности оригинальных, а не переписанных со старославянских, мы регулярно встречаем написание ж в тех словах, которые в старославянском языке имели сочетание звуков жд. Так, например, русские писцы в XI—XIV вв. чаще всего писали гражанинъ, преже вместо старославянских гражданинъ, прежде, заменяя сочетание жд на ж, но сохраняя старославянское неполногласие ра, ре. Это объясняется тем, что сочетание жд не было свойственно русскому языку в древнейшую эпоху (до падения редуцированных, см. стр. 71) и русские писцы сначала более или менее регулярно заменяли это сочетание при переписывании старославянских книг, а затем ж стало нормой для церковнославянского языка русской редакции XI—XIV вв. Лишь после того как между звуками ж и д в словах типа жьдати, къжьдо перестал произноситься редуцированный звук и возникло «свое» сочетание жд, получило возможность распространения и старославянское сочетание жд, имевшееся в словах типа гражданинъ, прежде и т. п. (Этому способствовала «славянизация» церковных книг и церковного произношения в XIV—XV вв., в период так называемого второго южнославянского влияния, о чем речь пойдет ниже.)
В старославянском языке имелись так называемые носовые звуки о и е, унаследованные из общеславянского языка. Они изображались на письме буквами ѫ («юс большой») и ѧ («юс малый»). В русском языке в XI в. таких звуков уже не было. Об этом свидетельствует тот факт, что в «Остромировом евангелии» 1056—1057 гг. юсы очень часто заменяются буквами у, ю, а, ѧ [йотированное а], которыми обозначались звуки, произносившиеся на месте старославянских носовых звуков. Так, например, форма въвръгѫть в старославянском языке произносилась с о носовым после г, а в древнерусском — с у. Так она и написана в «Остромировом евангелии»: въвъргоуть (сочетанием оу изображался звук у). Правда, многие юсы употреблены еще на своем месте: ведь «Остромирово евангелие» — это памятник, списанный со старославянского оригинала, причем очень хорошими, грамотными писцами (по мнению исследователей, писцов было два). Но не зная, в каких случаях нужно употреблять юсы, русские писцы все чаще и чаще стали заменять их, и юс большой вообще вышел из употребления, а юс малый стал употребляться для обозначения звука а после мягких согласных (видѧть и др.).
Итак, одной из причин, способствовавших проникновению русских элементов (в данном случае звуков) в церковнославянский язык, было несоответствие ряда старославянских элементов нормам живого русского произношения. Кроме того, существовал еще ряд причин, действия которых могли взаимно дополняться и пересекаться. Рассмотрим эти причины уже на примере слов, а не звуков.
Почему русские слова попадали в церковнославянский язык?
Генрих Вильгельм Лудольф — немецкий ученый и путешественник, проживший более года в России (1692—1694 гг.), — писал в своей «Русской грамматике» (1696): «... названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку» (30, стр. 114). Действительно, в языке богослужебных книг (а именно по ним велось обучение грамоте) русский книжник, стремившийся следовать старославянским образцам, не находил средств для выражения многого из того, о чем он хотел написать.
Представим себе такую ситуацию. Русский переводчик «Огласительных поучений Феодора Студита», работавший в конце XI или начале XII в., встретился в греческом тексте с длинным перечнем различных профессий. Славянские книжные названия многих из них переводчику неизвестны (по-видимому, их просто не существовало). Как перевести эти греческие слова? Можно было либо взять слово из живой бытовой речи (если оно имелось), либо изобрести самостоятельно новое слово, копируя структуру греческого слова и используя старославянские корни, приставки или суффиксы, либо, наконец, заимствовать греческое слово. Переводчик успешно использовал все эти пути. И вот в церковнославянском тексте появляются целые серии названий профессий: «...призрить г(с҃)ь на кождо дѣло... Писци мя да расматряють. и не токмо того но и шевци. ли болноприимьци и дверницы. ли здателе и златолѣици. ли иконници. и вязебьници ли печьци. ли конюси. ли слуги, ли съблюстеле. и възбудители. и кандилници. и виноградницы... [господь взирает на каждого человека и его дело... пусть обратят на это внимание писцы и не только они, но и портные, и ухаживающие за больными, и привратники, и строители, и золотых дел мастера, и живописцы, и ткачи, и пекари, и конюхи, и слуги, и надсмотрщики, и будильщики, и лампадчики, и виноградари...]». В этом перечне встречаются слова, взятые, по всей вероятности, из живой речи (конюси, вязебьници), книжные новообразования, созданные, очевидно, переводчиком поучений по образцу греческих (болноприимьци, передающее греч. νοσοκόμοι, златолѣици — греч. χρυσοχόοι) и, непосредственные заимствования из греческого языка (кандилници — греч. κανδηλάριοι). О книжных новообразованиях речь будет идти в следующем разделе, а сейчас мы приведем еще ряд примеров русских слов, проникших в церковнославянские тексты.
Единственным глаголом с русской приставкой пере-, отмеченным в обширном сборнике поучений, носящем название «Пчела» (список XIV—XV вв.), является глагол пересолити. Нормой для этого памятника является употребление глаголов со старославянской приставкой пре- (их там 51, и употреблены они 152 раза). Но для передачи этого конкретно-бытового действия переводчик, очевидно, не нашел в церковнославянском языке подходящего слова (глагола пресолити в памятниках не находим) и употребил глагол, взятый из живой речи: «повары безумны су(т҃), иже пересоливъше брашно (т. е. пищу) и рекуть. много бо соли у на(҃с) е(с)ть».
Другие книжники были в таких случаях более последовательны: они заменяли в русском глаголе полногласную приставку на неполногласную, создавая новый глагол. Так, например, в летописных рассказах на военные темы и, по всей вероятности, в живой речи был употребителен глагол перебродитися — «перейти вброд какую-нибудь водную преграду», например: «Тогда же князь Мьстиславъ Галицькии перебродися Днѣпръ...» («Софийская первая летопись»). Но переводчик «Истории Иудейской войны», по-видимому, избегал употреблять глаголы с приставкой пере- (они в этом огромном памятнике употреблены всего пять раз при 78 глаголах с пре-, употребленных 324 раза). Поэтому, говоря о переходе озера вброд, он заменил в русском глаголе перебродитися приставку пере- на пре-: «въскочи на конь и еха напреди возлѣ край озера, пребродився и внидѣ въ градъ». Получившийся глагол пребродитися является своеобразным «славяно-русизмом»: это слово возникло на русской почве (в памятниках старославянского языка оно отсутствует) и на базе русского слова, но с использованием старославянской неполногласной приставки пре-. Замена полногласия на неполногласие может осуществляться и в корнях слов; так появились в церковнославянских памятниках русской редакции такие слова, как клаколъ (из колоколъ), влатъ (из волотъ — «великан)».
Как видим, русские переводчики иногда использовали различные книжные приемы восполнения недостающих им книжных слов, но это не исключало возможности использования и народно-разговорных слов даже в памятниках, написанных на церковнославянском языке. Исследователи этих памятников обнаружили в них довольно много таких слов. Это русские имена (Ярославъ, Вьсеволодъ, Ростиславъ) и географические названия (Новъгородъ, Берестово, Ростовъ), военные термины (осада, бронистьць — «воин, носящий латы или кольчугу», гробля — «ров, окружающий город», дружина, присъпа «насыпь, вал» и т. п.), названия должностных лиц и профессий (ключьникъ, огородьникъ, посадьникъ — «наместник князя в различных землях», староста, конюхъ), монет, мер веса (гривна, капь, куна, рѣзана), различных предметов быта (кожухъ, ларь, шелкъ) и многие другие народные слова (заморозъ — «время, когда замерзают реки», бересто — «березовая кора», мошница — «кошелек», улица и др.), не имевшие, по-видимому, синонимов-славянизмов.
В тех сравнительно нечастых случаях, когда в памятниках, написанных по-церковнославянски, речь шла о конкретных явлениях реального мира, народно-разговорные слова могли употребляться и в том случае, если они имели церковно-книжный синоним. Так, например, при описании церковного быта в «Уставе Студийском» (XII в.), памятнике, переведенном на церковнославянский язык, вместо сланъ — «солёный» употреблено солонъ («капуста же солона без масла»); переводчик «Хроники Георгия Амартола» употребил слово ягнята, говоря о предмете светской дани: «... и бы(҃с) емля у него дань по вся лѣ(҃т) ягнятъ [и брал у него каждый год в дань ягнят]», в качестве же церковной жертвы фигурировал чаще всего агнець, например: «жреться [т. е. жертвуется] агнець Б҃ии въземляи грѣхы всего мира» («Служебник Варлаама», XII в.[6]).
Русские народно-разговорные слова используются в церковно-книжных памятниках для пояснения тех слов, которые могут быть непонятны русскому читателю. В «Хронике Георгия Амартола» в составе глосс употреблены такие русские слова, как поромъ, перевозъ, мороморянъ, городъ и др. Чаще всего глоссы используются для пояснения малоизвестных старославянских, церковнославянских и греческих слов, но иногда и заимствований из западноевропейских языков; так, например, в «Рязанской кормчей» 1284 г.[7] немецкое шпильманъ поясняется русским словом глумець: «...есть шьпильманъ рекъше глумець [он — шпильман, т. е. забавник, скоморох]».
Естественно, что русские писцы, переписывавшие книги со старославянского оригинала, могли не пояснять незнакомые им слова, а просто заменять на известные. Так они поступали часто и в том случае, если в оригинале встречали слово, употребленное не в том значении, которое оно имело в живой речи. В церковно-книжных памятниках слово воня употреблялось в значении «запах» или «хороший запах», а также — «хорошо пахнущая мазь» (сравните заимствованное из старославянского языка слово благовоние), а в русской бытовой речи воня (позднее — вонь) означало, вероятно, «плохой запах». Поэтому, как показало сопоставление разных рукописей Евангелия (17, стр. 12), слово воня оригинала писцы могли заменять на народно-бытовые слова (масть — «мазь, масло») или на греческие по происхождению ароматы, хризма, мюро (миро). Весьма вероятно, что русские авторы и писцы, писавшие по-церковнославянски, употребляли слова, свойственные живой речи, и из эстетических соображений. С помощью народных слов устранялись случайные тавтологии и нарушения правил орфографии. Употребив какое-нибудь неполногласное слово, автор мог в дальнейшем с целью избежать повторений употребить полногласное (реже — наоборот), демонстрируя тем самым свободное владение разнообразными синонимами. Вот пример из «Жития Феодосия Печерского»: «и се бо видѣ на срачици [т. е. на сорочке] его кръвь сущю. о(т) въгрызения желѣза и раждьгъши ся [т. е. распалившись] гнѣвъмь на нь. и съ яростию въставъши и растьрзавъши сорочицю на немь; по сихъ облечашети [т. е. одевает] и въ мьнишьскую одежю и тако пакы въ всѣхъ служьбахъ искушашети [т. е. экзаменует] и ти тъгда остригы и оболочашети и въ мантию».
Существовали, по-видимому, и чисто орфографические причины, способствовавшие употреблению русских слов в церковно-книжных памятниках (25). Так, употребление многих полногласных слов в «Изборнике 1076 г.», «Житии Феодосия Печерского» и других было, может быть, вызвано необходимостью введения лишней буквы с целью соблюдения норм переноса со строки на строку. Согласно этим нормам, писец должен кончать строку буквой, передающей гласный звук, например, зла/то. Однако последняя буква строки могла выйти на поля рукописи. Чтобы избежать этого, писец употреблял соответствующее полногласное слово; нетрудно заметить, что таким путем можно было соблюсти правила переноса, например, «сребро и зо/лото вина и медове» («Сказание о Борисе и Глебе» по рукописи «Успенского сборника» XII в.).
Как видим, русские писцы считали более допустимым употребление слов бытовой речи в церковно-книжных памятниках, нежели нарушение стилистических и орфографических правил.
Количество русских элементов в памятниках церковнославянского языка колебалось в зависимости от места создания памятников, индивидуальных склонностей их авторов.
Русские авторы, писавшие на севере (главным образом в Новгороде), гораздо свободнее пользовались народной речью в произведениях на церковные темы. Произведения новгородского происхождения сильно отличаются от произведений такого же содержания, возникших на юге. Так, например, язык церковно-правового произведения «Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, епископа Новгородского» 1130—1156 гг. (помещено в «Новгородской кормчей» 1280 г.) гораздо больше подвергся влиянию живой речи, чем язык произведений того же жанра, возникших за пределами Новгорода. В «Вопросах Кирика....» встречаются такие народно-разговорные слова и формы, как выходъ, вышедъ, выплеваше, служаче, смысляче, молоко, молоди, холостъ, перестати, боронити — «запрещать», терезвыи, вередити и др., например: «А иже се на выходъ вышедъ по(п). на обѣдни и на в(ч҃)ернии. въ что цѣловати [это вопрос, а далее следует ответ] ре(ч҃) въ икону, не служаче. цѣловати и людемъ. того бо дѣля [т. е. ради] икона поставлена».
Просто и доступно, используя общеупотребительные слова, пишет новгородский епископ Лука (XI в., список XIV—XV вв.): «Любовь имѣите съ всякымь ч҃лвкмь. А боле съ братиею. Не буди ино на срд҃ци. А ино въ устѣхъ. И подъ братомъ ямы не рыи...» и т. п. Правда, и за пределами Новгорода изредка находились проповедники, вполне допускавшие возможность иногда говорить со своей паствой на близком ей языке. К их числу относятся, например, Серапион Владимирский — русский проповедник XIII в., Алексей, митрополит всея Руси (XIV в.). Вот отрывки из их сочинений: «... о(т) сна въставъ не на молбу [т. е. на молитву] умъ прилагаеши, но како бы кого озлоби(т), лжами перемочи ко(г)». (Серапион Владимирский): «къ ц҃рквному пѣтью будите спѣшьни. утѣкаяся другъ передъ другомъ. якоже иванъ б҃ословъ передъ петромь къ гробу хр(с҃)ву [спешите к церковному пенью, обгоняя друг друга, как Иван Богослов обгонял Петра на пути к гробу Христову]» (Алексей Митрополит).
Количество русских и церковно-книжных языковых элементов в произведениях, возникших на Руси, зависело от индивидуальных склонностей не только их авторов, но писцов, переписывавших эти тексты. Писцы могли как вносить, так и удалять народно-разговорные элементы. Так, например, дошедший до нас список XII в. «Жития Феодосия Печерского» написан двумя писцами, причем у первого писца находим гораздо больше русских элементов, чем у второго, хотя оба написали примерно поровну.
Мы познакомились с основными причинами появления русских народно-разговорных слов и форм в произведениях, написанных на церковнославянском языке.
Конечно, многие употребления русских слов, форм и т. п. в церковнославянских текстах можно объяснить только невнимательностью автора и переписчика. В самом деле, если в церковно-книжном памятнике мы встречаем такое русское слово, наряду с которым имелось равнозначное и широко употребительное старославянское или церковнославянское слово, и при этом русское слово употреблено в таком окружении, в котором обычно употребляются славянизмы, то остается лишь признать, что русское слово случайно «сорвалось с пера», что это описка, допущенная русским писцом под влиянием живой речи, которая окружала его в быту. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда славянизм и синонимичное русское слово близки по форме (т. е. если они различаются лишь одним-двумя звуками: неполногласия и полногласия, слова с начальными а—я, е—о и т. п.). В тексте «Истории Иудейской войны» русский переводчик постоянно употреблял глагол престати — «перестать», например: «престаша от боя; да престануть о(т) рати; да престанеть о(т) стенобитиа; да быша престали о(т) кровопролития» и т. п. — всего 35 употреблений. И только один раз, и то лишь в одном из списков, использован глагол перестати: переставъ о(т) оружиа». Как видим, престати и перестати употреблены совершенно одинаково: в сочетании с близкими по значению словами (в отличие от современного перестать они употреблялись с предлогом от и существительным); во всех случаях говорится об одном и том же — о прекращении сражения. Ясно, что это единственное применение глагола перестати ничем не мотивировано — ни отсутствием старо- или церковнославянского синонима, ни эстетическими соображениями.
Народно-разговорные слова иногда можно встретить даже в цитатах из «священного писания», где их употребление, конечно, никак нельзя мотивировать, например: «убо г҃ь г҃лаше. и беремя мое льгъко есть» («Изборник 1076 г.», цитата из Евангелия), сравните применение славянизма бремя в том же памятнике и в том же окружении: «Г҃у гл҃юшту. ярьмъ мои благъ есть и брѣмя мое льгъко».
В церковнославянских памятниках мы находим не только русские слова, но и формы различных слов с русскими окончаниями, причем если одни окончания встречаются эпизодически (особенно в древнейших памятниках), уступая в количественном отношении старославянским окончаниям, то другие, наоборот, уже с древнейших времен абсолютно преобладают над старославянскими. Так, например, если в форме родительного падежа единственного числа мужского и среднего родов прилагательного окончания -ааго, -яаго и позднее -аго, -яго абсолютно преобладали в церковно-книжных памятниках над русским окончанием -ого, то в форме дательного падежа единственного числа тех же прилагательных русская форма с окончанием -ому к концу XII в. почти полностью вытесняет старославянские окончания -ууму и -уму. Что же касается, например, русских форм творительного падежа единственного числа существительных (селъмь в соответствии со старославянским селомъ) или третьего лица единственного и множественного числа глаголов (береть, беруть в соответствии со старославянским беретъ, берѫтъ), то эти формы почти регулярно употребляются уже в древнейших памятниках церковнославянского языка русской редакции (начиная с «Остромирова евангелия»), заменив собою соответствующие старославянские формы.
С течением времени на церковнославянском языке начинают писать все больше светских сочинений: светские повести, научные труды, например «Грамматика» М. Смотрицкого (XVII в.), публицистику, исторические произведения, такие как «История о великом князе Московском» А. Курбского (XVI в.), «История о Казанском царстве» (XVI в.), Повести «смутного» времени (XVII в.), «Сказание Авраамия Палицына» (XVII в.) и др.). Это способствует еще большему проникновению народно-разговорных элементов в церковнославянский язык, а также появлению в нем заимствований из западноевропейских языков. Начиная с XV в., в произведениях, написанных одним автором, ориентирующимся, несомненно, на церковно-книжные образцы, можно встретить целые отрывки, характерные для иных сфер письменности, — деловых документов, воинских повестей. Авраамий Палицын — русский политический деятель и писатель конца XVI — начала XVII в. — пишет по-церковнославянски. Но отдельные места его «Сказания» ничем не отличаются по характеру языка от деловых документов. Достаточно сопоставить два отрывка, чтобы в этом убедиться.
У Авраамия Палицына:
И посла князь Михаил воевод... за Волгу на перевоз к Николе чюдотворцу в слободу на речку Жабну под литовских людей, чтобы за тое речку не перепустити их.
В деловом памятнике:
и велѣли тѣ(х) нагаиских улусны(х) татарь оберега(т) накре(п҃)ко, что(б) и(х) в Кумыки чере(з) Терекъ реку не перепустить.
(Астраханские акты, отписка 1654 г.)
Такие «нецерковнославянские» отрывки в произведениях, написанных по-церковнославянски, можно встретить лишь в том случае, если речь идет о реальных явлениях русской жизни. В церковной письменности с конца XIV — начала XV в. проходил иной процесс — устранение явлений разговорно-бытовой речи. Происходило это в период так называемого второго южнославянского влияния. Но о нем — в следующем разделе, где речь пойдет об употреблении и развитии средств самого церковнославянского языка.
По книжным образцам
До сих пор мы говорили о русских элементах в церковнославянском языке, т. е. о тех элементах, благодаря которым и выделяется русская редакция этого языка. Церковнославянский язык, несмотря на свое книжное и церковное бытование, не был отгорожен непроницаемой стеной от живой речевой стихии. Однако основу этого языка составляли старославянизмы (наряду с общеславянскими элементами). Русификация церковнославянского языка — это лишь одна из тенденций развития его русской редакции. Другая тенденция состояла в его обогащении и изменении на базе собственных ресурсов.
Церковнославянский язык русской редакции, употреблявшийся в тех литературных жанрах, которые отличались традиционностью и устойчивостью, изменялся медленнее живой речи. Тем не менее и в нем возникали новые слова, фразеологические сочетания, изменялся грамматический строй, произношение. Эти процессы происходили постоянно, но с разной степенью интенсивности. Особенно серьезные качественные изменения произошли в церковнославянском языке в конце XIV и в XV в., в период второго южнославянского влияния (первое южнославянское влияние, как мы знаем, относится к X—XI вв.). Из Болгарии и Сербии в XIV—ХV вв. было перенесено много литературных произведений. В русские города переселяются некоторые выдающиеся южнославянские писатели (болгарин Григорий Цамблак, серб Пахомий Логофет и др.). Подъем национальных и (что вполне естественно для средневековья) религиозных чувств во всех трех странах, боровшихся против иноземных завоевателей (турок и татаро-монголов), нашел отражение в целом ряде произведений, написанных возвышенным, витиеватым, предельно украшенным, восторженным стилем. «Плетение словес» — так сами авторы называли свое творчество.
Второе южнославянское влияние — это сложное и важное явление, имевшее свои политические и философские основы и отразившееся на всех областях духовной культуры. Не останавливаясь на нем подробнее, рекомендуем читателю ознакомиться с научно-популярной книгой академика Д. С. Лихачева «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.)».
Здесь будут рассмотрены основные процессы развития, протекавшие в церковнославянском языке и особенно активизировавшиеся в период второго южнославянского влияния.
Словотворчество
Новые слова в церковнославянском языке создавались главным образом по старославянским образцам. Например, в памятниках старославянского языка употреблялось около 20 глаголов с приставкой предъ- (таких, как предъварити, предълагати, предълежати, предъписати, предърешити, предъставити, предъстати, предъстояти), а общее число глаголов с этой же приставкой, известных из памятников церковнославянского языка русской редакции, превышает это число не менее чем в 10 раз. Старославянские глаголы послужили образцом для многочисленных новообразований книжного характера — как окказиональных, эпизодических (типа предъизложити — «заранее изложить, сообщить», предъображати — «заранее показывать, изображать», предъсияти — «заранее сиять» и др.), так и употребительных (типа предъвидѣти, предъводити, предъположити, предъсѣдѣти, предъшьствовати и т. п.).
В церковно-книжных памятниках мы постоянно встречаемся с такими новообразованиями по старославянским моделям. Особенно богаты ими переводные памятники. Так, упомянутые выше глаголы с приставкой предъ- в памятниках, переведенных с греческого языка, употреблялись для перевода греческих глаголов с приставкой προ- — «пред». Если переводчик встречался в греческом тексте с глаголом, имевшим эту приставку, то он чаще всего или подыскивал глагол с приставкой предъ- из числа имевшихся в церковнославянском языке, или, если отсутствовал такой глагол, создавал его самостоятельно, переводя последовательно все значимые части («морфемы») греческого слова церковнославянскими морфемами. Например, переводчик «Хроники Георгия Амартола», встретившись в греческом тексте с глаголом προδείκνυμι, перевел приставку προ- приставкой предъ-, а глагол δείκνυμι — глаголом показати. В результате получилось книжное новообразование предъпоказати со значением «показать заранее, предсказать»: «И тому будущая предъпоказа» («Хроника Георгия Амартола»). Такой поморфемный перевод иноязычного слова называется калькированием, а слова, возникшие этим путем, — кальками. Особенно часто путем калькирования возникали новые сложные слова, т. е. слова, в составе которых имеется два или более корня, например: златоустыи — греч. χρυϭόϭτομος (χρυϭός — «золото», ϭτόμα — «рот», «уста»), самоубиица — αυτόειρος (αυτός — «сам», сравните автопортрет, автобиография, χειροω — «убивать, уничтожать»), любомудрие — греч. φιλοσοφία (сравните заимствованное из греческого слово философия: φίλος — «любимый», σοφία — «мудрость», сравните женское имя София) и др.
Однако много новых слов можно найти и в оригинальных памятниках, написанных по-церковнославянски на Руси. Такие образования мы встречаем уже в ранних памятниках, например: причастие прѣисъхъшии — «сильно высохший» в «Слове о законе и благодати» Илариона: «Пустѣ бо и прѣисъхши земли нашеи сущи. вънезаапу потече источни(к҃) еуа(г҃)льскыи. напояя всю землю нашу [Когда Земля наша была пустой и совершенно иссохшей (имеется в виду отсутствие «истинной», по представлениям Илариона, христианской религии), внезапно потек евангельский источник и напоил всю землю нашу]». Употребленное в образной, эмоциональной речи, это причастие является одним из ярких стилистических средств.
Особенно велико число подобных новообразований в произведениях, написанных в период второго южнославянского влияния, и в более поздних памятниках, ориентирующихся на усложненный, цветистый стиль «плетения словес». В русских оригинальных произведениях возникает множество сложных слов, включающих два, а иногда и три корня, появляются слова с несколькими приставками старославянского происхождения (воз-, из-, предъ-, пре-). Употребляя такие слова, русские церковные писатели придавали своей речи книжный и «ученый» характер. Кроме того, они давали понять, что описываемое ими явление настолько важно, необычно и возвышенно, что имеющихся в языке слов недостаточно для его «достойного» описания и прославления и поэтому надо создавать новые средства. Литература этого времени полна панегириков. Вот изобилующий сложными словами (как старыми, так и новыми) отрывок из похвалы князю Василию Васильевичу, содержащейся в «Слове избранном на латыню» (около 1461 г.): «Държавою владеющаго на тобѣ богоизбраннаго и боговозлюбленнаго, богопочтеннаго и богопросвѣщеннаго и богославимаго богошественника, правому пути богоуставнаго закона и богомудраго изыскателя святыхъ правилъ, ревнителя о бозѣ и споспѣшника благочестию, истиннаго православия высочайшаго исходатая, благовѣрию богоукрашеннаго и великодержавнаго благовѣрнаго и благочестиваго великаго князя Василия Васильевича, благовѣнчаннаго православию царя всея Руси...» или обширная похвала из «Жития Стефана Пермского» (XV в.), в которой мы видим серию новообразований с несколькими приставками: преизмечтанный, преупещренный и другие: «Многими же похвалами ю [т. е. ее, церковь] похваляю... преукрашену божиею славою, и добродѣтельми преудобрену, и божественными словословии преизмечтанну, и чѳловеческымь спасениемъ преупещренну, и православна лѣпотою преодѣну». В оригинальных произведениях этой эпохи встречаем такие новообразования, как хвалословие, многоразумие, доброглашение, многоплачие, нищекръмие, злоначинатель, христианогонитель, крѣпкодушныи, превозрастати, превозсияти, преобрадоватися, сребролюбствовати и т. п. Многие из этих новообразований были словами-однодневками, не вышедшими за пределы тех произведений, где они были употреблены. Однако большое количество подобного рода сложных и производных слов стало широко употребляться и впоследствии закрепилось и за пределами церковнославянского языка. К числу таких слов относятся, по-видимому, могущество, имущество, преимущество, суеверие, рукоплесканье, вероломство, первоначальный, предъвозвестить, предъвосхитить, предъопределить, предъпочитать, предъшествовать, подобострастный, гостеприимство, тлетворный и др.
Как видим, результаты процессов, происходивших в церковнославянском языке, нашли отражение и в словарном составе современного русского языка. Более того, церковнославянские слова, вошедшие в современный язык, зачастую являются образцом для новых слов, возникающих в современной книжной речи. Вот примеры таких новообразований — глаголов с приставкой предъ- (предсуществовать, преднайти, предслышать), употребленных в современных научных трудах и в поэзии, но не встретившихся ни в древних памятниках, ни в более поздней литературе: «... в языке нет ни идей, ни звуков, предсуществующих системе» (Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики); «преднайденный опыт и личный опыт грамматиста так или иначе взаимодействовали» (В. Г. Адмони. Основы теории грамматики);
Все непременным чередом идет, Двадцатый век наводит свой порядок, Подрагивает, словно самолет, Предслыша небо серебром лопаток. (Б. Ахмадуллина. Моя родословная)В области грамматики церковнославянский язык был довольно консервативен: его система склонения и спряжения изменялась медленно и незначительно. Те немногие формы, которые довольно рано вышли из употребления (например, так называемый супин — особая форма глагола, имеющая значение цели, и др.), были искусственно восстановлены в период второго южнославянского влияния. Если в лексике возникали главным образом новые книжные образования, то в области грамматики книжный оттенок приобретали уже существовавшие старые формы. Дело в том, что к XIII—XIV вв. в живой речи (см. стр. 71) были утрачены многие грамматические формы (например, формы двойственного числа, аориста, имперфекта), а в церковнославянском языке они искусственно сохранялись. Ясно, что когда стали говорить зналъ или зналъ есмь, а в церковных книгах продолжали писать знахъ, то форма знахъ стала восприниматься как книжная, чего не могло быть тогда, когда форма знахъ употреблялась и в живой речи, и в церковнославянском языке. В данном случае специфически книжная, церковнославянская форма знахъ восходит не к старославянской, а к общеславянской форме, бывшей ранее стилистически нейтральной. Заметим, что такие явления иногда имели место и в лексике: общеславянские слова око, уста и другие приобретали книжный характер благодаря тому, что они сохранились в церковнославянском языке, будучи вытесненными из живой речи словами глаза, губы.
Изменения имели место и в церковном произношении, а также в орфографии церковно-книжных памятников. На славянском юге, а затем и на Руси началась правка церковных книг с целью их унификации. Элементы живой народной речи заменялись книжными, южнославянскими. Часть этих изменений имела большое значение для развития русского литературного языка: именно в период второго южнославянского влияния закрепились в церковнославянском языке, а затем и за его пределами произношение и написание жд вместо русского ж в словах типа невежда (сравните русское невежа), гражданинъ (русское горожанинъ), прежде и очень многих других, начальное ю (вместо русского у) в словах типа юноша, юность, юдоль, юг, юродивый, а также в корнях слов с приставками (современное слово союз образовано с помощью приставки со- и корня -юз-, сравните узы). В живой речи еще в XII—XIII вв. произошло исчезновение редуцированных звуков (ъ и ь) в определенном положении (см. стр. 71). Однако в церковном произношении существовала тенденция употреблять о на месте ъ в том положении, где в живой речи уже никакого звука не было; например, в живой речи говорили сдвинуть, а в церковной — содвинути или содвигнути и т. п. Благодаря этому в некоторых словах (или их частях) закрепляется это «церковное» о. Так произошло, например, со многими словами с приставками во-, со-, воз- (вопросъ, соборъ, совѣтъ, востокъ и т. п.). Приставка со- в церковнославянском языке даже получает особое значение, отсутствующее у приставки с-, — значение совместности: собеседовати —«совместно беседовать», соболѣзновати — «совместно страдать» (этот глагол образован от глагола болѣзновати — «страдать, печалиться»), соединити, соревнование, сообщество и т. п. (сравните новообразования современного языка: сопереживать, сотворчество и др.).
Наряду с появлением новых церковнославянских форм расширялось употребление старых (неполногласных слов вместо полногласных, слов с щ вместо слов с ч и т. п.).
Правка церковных книг проводилась и позднее — в период реформ патриарха Никона (1605—1681 гг.). В процессе этой правки были, например, изменены некоторые формы канонических (т. е. церковно узаконенных) имен. Так, форма Никола была заменена на Николай, употребляющуюся в русском литературном языке в настоящее время; противники Никона — старообрядцы сохранили в своем обиходе форму Никола, употребляющуюся и сейчас в просторечии.
Как видим, в современном русском языке сохранились результаты той правки церковных книг, которую проводили русские книжники XIV—XVII вв. Однако некоторые исправления были чисто орфографическими. Они не соответствовали ни церковному, ни живому произношению и вскоре были устранены. К числу таких орфографических новшеств, введенных было в период второго южнославянского влияния, относится восстановление буквы юс большой (Ѫ) для обозначения звука у, написания ръ, лъ, рь, ль в словах типа влъна, тръгъ, прьвыи (вместо вълна, търгъ, пьрвыи), употребление буквы а после гласных вместо ѧ (добраа вместо добраѧ).
Книжная риторика
Мы рассмотрели некоторые изменения, происшедшие в церковнославянском языке русской редакции. Многие из этих изменений были связаны с особенностями стиля церковно-книжных произведений — возвышенного, зачастую эмоционального и в то же время подчиненного строгим требованиям литературного этикета. Читатель должен был восхищаться красотой и величием церковно- книжной речи, как восхищался он красотой и величием церковной архитектуры или живописи. Стены храмов украшались фресками, лепными орнаментами. Церковно-книжная речь тоже имела свои фрески и орнаменты — разнообразные риторические приемы. Наиболее авторитетным литературным источником таких приемов были греческие тексты и церковнославянские переводы с греческого. Некоторые черты стиля произведений, написанных по-церковнославянски на Руси, будут рассмотрены в этом разделе.
Стиль памятника во многом обусловлен его содержанием. В религиозно-философских произведениях абстрактные моралистические рассуждения превалировали над сюжетными рассказами. Последние использовались чаще всего лишь для иллюстрации какой-либо моралистической сентенции. Обыденное, земное, конкретное постоянно сопоставлялось с вечным, небесным, абстрактным. Эта «двуплановость» средневекового мировоззрения определяет основную особенность стиля религиозно-философских произведений — его метафоричность.
Напомним, что метафора — это употребление слова или выражения в переносном значении на основании сходства, аналогии (сравните современные примеры метафор: чуткий камыш, говор волн, шелковые ресницы). Средневековая метафора (преводъ — «перенос», как называется она в памятниках) построена чаще всего на сходстве материальных явлений с духовными (или, по средневековой терминологии, несдушного, т. е. не имеющего душу, неодушевленного, и сдушного). Духовное становилось конкретней и понятней благодаря сопоставлению с обыденным, материальным.
Набор метафор, использовавшихся в произведениях, написанных по-церковнославянски, довольно ограничен. Авторы не искали новых, неожиданных аналогий (что характерно для литературы нового времени), а пользовались готовыми метафорами, известными главным образом из переводных книг Ветхого и Нового завета, а также из произведений «отцов церкви». Вот эти наиболее употребительные книжные метафоры: христианство, «книжное учение» — солнце, свет, тепло или весна, а также источник воды; безбожие, ересь — тьма, холод, зима; жизнь — море; бедствия, волнения — буря, волны; судьба человека — корабль; бог, князь, царь — кормчий; ум, сердце, душа — земля; благие мысли, добродетели — проросшее семя, плоды; злые мысли — терние, плевел (т. е. сорняк); учитель, глава церкви — сеятель или пастырь; верующие — стадо; лжеучитель или дьявол — волк; чистый, целомудренный, кроткий человек — голубь, горлица, «ластовица»; человек с возвышенными мыслями — орел; храбрый, сильный человек (иногда также жестокий или злой) — лев; судьба — чаша и др. (1). Эти немногие метафоры постоянно повторяются в церковно-книжных произведениях. Приведем лишь несколько примеров. Митрополит Иларион так говорит об отказе от языческой веры («бесослужения») и принятии христианства: «Тма бѣсослужения погибе и с҃лнце еув҃нгльское землю нашю осия» («Слово, о законе и благодати»). Та же тема у Кирилла Туровского получает несколько иное словесное оформление: «Ныне зима грѣховная покаяниемь престала есть (т. е. перестала, прекратилась) и ледъ невѣрия богоразумиемь растаяся; зима убо язычьскаго кумирослужения апостольскымъ учениемъ и Христовою вѣрою престала есть, ледъ же Фомина невѣрия показаниемь Христовъ ребръ растаяся. Днесь весна красуеться, оживляющи земное естьство...» («Слово в новую неделю по пасце», XII в., по рукописи XIII в.).
Церковно-книжные произведения заполнены такими метафорическими выражениями, как житииское море, море страстей, душевная лодия, бездна греховная, пристанище (т. е. пристань) покаяния, буря мыслена, струя православия, дождь благочестия, знои неверия, брашно (пиво, семя) духовное, бразды сердечныя, бразды покаяния, семя веры, семя благочестия, щит веры, броня правды, шлем спасения, мечь духовный, смертная чаша, струпи душевные, душевный домъ, огонь духовный и т. п.
Встречаются даже такие выражения, как лопата веры, мотыка молитвъ, которые сейчас воспринимаются как неудачно-комические. Особым обилием книжных метафор, иногда следующих непрерывно друг за другом, отличаются произведения эпохи второго южнославянского влияния.
На сближении материального и духовного чаще всего построены и сравнения. Цель этих сравнений — наглядное выявление сущности духовного. Поэтому наряду с простыми сравнениями (например: «яко же отъ лиця змиина тако бѣжи отъ грѣха». «Изборник 1076 г.») часто встречаются довольно сложные сравнения, когда ситуация духовного мира сопоставляется с похожей ситуацией мира материального. Вот два таких сравнения: «яко же и градъ бестѣны [т. е. без стены] удобь прѣятъ бываеть ратьными [т. е. легко захватывается войсками], тако же бо и д҃ша не огражена молитвами, скоро плѣнима есть отъ сотоны» («Изборник, 1076 г.»); «яко же бо въ темнѣ пещерѣ свѣща просвѣщаеть тако и м҃лтва и псалтыря в д҃шю вшедши всяку мракоту грѣховную о(т)гонить о(т) д҃ш(а)» (Приписка на Псалтыри 1296 г.). Перед нами сравнение сходных ситуаций, т. е. ряда явлений и действий, сходным образом связанных между собой. В первом примере сравниваются душа и город; молитва и стена; пленение души и захват города; сатана и ратные (т. е. войска неприятеля); во втором примере — душа и пещера; молитва, псалтырь и свеча; грех и темнота (сравните метафорическое выражение мракота греховная); отгонять грех и освещать. Такие сложные сравнения — специфика возвышенного стиля средневековья. Писатели эпохи второго южнославянского влияния зачастую выстраивали целые серии сравнений.
Постоянное использование метафор и метафорических сравнений способствовало тому, что переносные значения закреплялись за многими словами церковнославянского языка. Так, если вы внимательно прочтете два только что приведенных примера, то поймете, откуда у глаголов оградить и просвещать, означавших «обнести оградой» и «направить лучи света на кого- или что-нибудь», появились новые переносные значения. Но о развитии новых значений у слов, заимствованных русским языком из церковнославянского, речь пойдет в третьей главе. А пока мы продолжим рассмотрение тех литературных средств, которыми пользовались авторы церковно-книжных произведений, созданных на Руси.
Одним из таких средств было повторение слов, связанных между собой по значению или по форме (звучанию, написанию).
Церковнославянский язык был богат синонимами. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что одно и то же греческое слово зачастую передавалось целым рядом славянских слов, близких по значению. Например, греческое существительное έννοια в разных местах «Хроники Георгия Амартола» переведено следующими словами: домыслъ, домышление, замышление, мысль, помыслъ, размышление, разумъ, разумѣние, смыслъ, умъ, чувьствие (23, стр. 228). Русские авторы и переводчики использовали и пополняли синонимическое богатство церковнославянского языка. В церковно-книжных произведениях нередко встречаются целые серии синонимов, следующих друг за другом, например: «...кротость бо я [их, т. е. праведников] доправи [т. е. направила] и съмѣрение же и благъ съмыслъ. покорение и любы и добросьрдие. милостыни же и миръ къ вьсѣмъ малыимъ же и великыимъ» («Изборник 1076 г.»); «...зѣло желаше и велми хотяше еже шествовати къ Перми» («Житие Стефана Пермского») и др. Нередко следовали друг за другом синонимичные метафоры: «Тебе [т. е. тебя, речь идет о богородице] Х҃ву ластовицу и красьну гърълицу и непорочьную б҃жию голубицу» («Минея служебная», 1095—1097 гг.[8]), а также синонимичные сравнения: «...младенца в утробѣ носящи, яко нѣкое съкровище многоцѣнное, и яко драгый камень, и яко чюдный бисеръ, яко съсуд избранъ» («Житие Сергия Чудотворца», написанное Епифанием Премудрым в XV в.). Образность, содержащаяся в метафоре или сравнении, усиливается здесь их повторением.
Нередко в одном ряду с синонимами следовали слова, отличающиеся по значению друг от друга, но означающие разновидности какого-либо более общего понятия. Так, стремясь подчеркнуть многообразие и полезность деятельности епископа Стефана Пермского, автор его жития Епифаний Премудрый перечисляет двадцать существительных со значением «лица-благодетеля»: «Единъ тотъ былъ у насъ епископъ, то же былъ намъ законодавець и законоположникъ, то же креститель, и апостолъ, и проповѣдникъ, и благовѣстникъ, и исповѣдникъ, святитель, учитель, чиститель, посѣтитель [т. е. тот, кто навещает страдающих, покровитель], правитель, исцѣлитель, архиереи, стражевожь [руководитель, защитник], пастырь, наставникъ, сказатель, отецъ, епископъ». Как видно из этого примера, такие перечни могут оживляться рифмовкой: за сериейслов на -никъ следует серия слов на -тель. Часто близкие по значению слова попарно объединяются (обычно с помощью союза и). Такие объединения можно встретить как в составе длинных перечней, так и вне их: «...и много подвизався на добродѣтель, постомъ и молитвою, чистотою и смирениемъ, въздержаниемь и трезвѣниемъ, терпѣниемъ и безлобиемъ, послушаниемъ же и любовию» («Житие Стефана Пермского»); «да уведять вси, яко самого господа промысломъ и волею, того пречистыя матере молитвою и хотѣниемъ создася и свершися боголѣпная и великая церькы святыя богородица печерьская» («Киево-Печерский патерик», XIII в., список 1406 г.) и т. п.
Нередко в текстах сближаются слова, частично совпадающие по составу морфем или просто близкие по звучанию: «...печаль прият мя и жалость поят мя» («Житие Сергия Чудотворца»), «простота без пестроты» (там же). Такие слова называются паронимами, а их стилистическое использование — парономазией (от греч. παρα- «возле, вблизи», ονομάζω — «называю»).
Одним из видов парономазии является этимологическая фигура — риторический прием, заключающийся в повторении этимологически (т. е. по происхождению) родственных слов. Этот прием часто используется, например, в «Огласительных поучениях Феодора Студита». Это один из первых памятников, переведенных на Руси с греческого языка (в конце XI — начале XII в.). Переводчик этого памятника успешно воспроизводил риторические приемы греческого текста, зачастую самостоятельно создавая новые средства их передачи. Так, например, только в тексте «Поучений», но зато целых двадцать раз встретился глагол премолитися, который употребляется только в сочетании с глаголом молитися:молитеся и премолитеся (так Феодор Студит призывал своих слушателей); в греческом тексте чаще всего этому сочетанию соответствовал глагол εύχομαι — «обращаться с просьбами, молиться» в сочетании с глаголом υπερεύχομαι, образованным от первого глагола с помощью усилительной приставки υπερ-. По образцу глагола υπερεύχομαι переводчик и образовал глагол премолитися (υπερ — пре-; εύχομαι — молитися).
Изредка и в современной речи используется этот прием, например; пошлость пошлого человека, шутки шутить и др.; сравните также библейские по происхождению выражения кесарево кесарю, смертию смерть поправ и др. Конечно, такое «масляное масло» оправдано только в том случае, если служит средством выразительности. В древности этот прием был одним из самых распространенных. Приведем еще несколько примеров из разных памятников XI—XV вв.: дѣлъмь дѣлатель, златослове и златоусте, горя вѣрою правовѣрия, видимое видение, свѣтильникъ свѣтлыи, божьствьными блистании блистая, умьртвивъша съмьрть, хвалить же похвальными гласы, злозамышленное умышление, скорообразнымъ образомъ, смиренномудростью умудряшеся, обновляху обновлениемъ, падениемъ падоша, устрашистеся страхомъ, запрещением запретить, неустроеннаа построити, исповѣдника ли тя исповѣдаю и т. п.
Другим видом парономазии, употреблявшимся в церковнославянских текстах, является так называемый полиптот (греч. πολυ- «много», πτωτικός — «падежный») — риторический прием, заключающийся в употреблении одного и того же слова в разных падежах: лицьмь же к лицу; яко ка свѣтильницѣ свѣтильникъ; избьрана съ избьраными (примеры из «Минеи 1095—1097 гг.»).
Все эти риторические приемы были призваны не только продемонстрировать искусство автора или переводчика. Повторение слов, близких по значению, вновь и вновь возвращало читателя к основному предмету речи, к тому общему понятию, которое лежало в основе значений всех повторяющихся слов. Тем самым демонстрировалась сложность, многоплановость этого понятия, утверждалась его важность, возвышенность.
Отделка звуковой стороны речи была рассчитана прежде всего на устное восприятие текста. Не следует забывать, что поучительно-риторические произведения читались их авторами в присутствии многих слушателей. В частности, знаменитое «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона — образец высокого ораторского искусства XI в., — очевидно, было произнесено как проповедь в Киеве перед князем Ярославом и его приближенными. Минеи читались во время богослужения. Несомненно, что многие произведения воздействовали на слушателя не только своим смыслом, но и своей внешней отделкой, и прежде всего звуковой стороной и интонацией.
В церковно-книжных сочинениях — независимо от того, предназначались ли они для устного чтения или нет — постоянны такие элементы ораторского искусства, как призывы и вопросы, обращенные к читателю, и авторские восклицания, выражающие радость, восторг, преклонение или горе. Известный русский церковный оратор и публицист Серапион Владимирский, бывший епископом в г. Владимире в 1274—1275 гг., так обращается к своей пастве: «Почюдимъ [т. е. подивимся], братие, человѣколюбье бога нашего. Како ны приводитъ к себе? кыми ли словесы не наказаеть [т. е. поучает] насъ? кыми ли запрѣщении не запрѣти намъ?» («Слово третье»). Вот восторженное обращение, адресованное князьям — святым Борису и Глебу и одновременно — гробу и церкви, где были положены их тела: «О блаженая убо гроба (это форма двойственного числа существительного гробъ) приимъши телеси ваю [т. е. ваши, Бориса, и Глеба] чьстьнѣи акы съкровище мъногоцѣньно бл҃женая ц҃ркы в неи же положенѣ быста рацѣ [т. е. гробницы] ваю стѣи имущи блженѣи телеси ваю. о христова угодьника» («Сказание о Борисе и Глебе», конец XI или начало XII в.).
Наряду с разного рода перечислениями, в которых слова следовали друг за другом, в церковнославянских текстах очень часто применялось нанизывание предложений однотипной конструкции. Эти предложения (простые и сложные) чаще всего имели равное число членов (подлежащих, сказуемых и т. д.), причем в каждом предложении эти члены следовали друг за другом в одном и том же порядке; к тому же каждый член предложения так или иначе «перекликался» (т. е. был связан по значению или по форме) с соответствующим членом всех других предложений: подлежащее с подлежащим, сказуемое со сказуемым и т. д. Перекликались чаще всего слова, означающие разновидности какого-нибудь более общего понятия, синонимы, антонимы (т. е. слова, противоположные по значению), а также просто тождественные слова. Конечно, встречались и нарушения этой строгой схемы, иногда включались «лишние» слова, но основа ее сохранялась.
Рассмотрим ряд примеров. В церковно-книжных произведениях постоянно противопоставляются такие понятия, как добро и зло, высокое и низкое, духовное и материальное, жизнь и смерть, причем текст организуется таким образом, чтобы эти противопоставления были максимально отчетливыми:
добро | творящтяя | чьсти
и зъло | творяштимъ | запрѣщаи
«Изборник 1076 г.»[9]
В этих однотипных по структуре предложениях отчетливо противопоставлены друг другу антонимы чьстити и запрѣщати, добро и зло; это противопоставление особенно ярко выделяется на фоне повторяющихся форм причастия глагола mвopumu. Вот еще подобные примеры:
буди | пониженъ | | главою
| высокъ же | | умъмь
очи | имъя | въ | земли
умьнѣи | же | въ |нб҃си
уста | | | сътиштена
а срд҃чьная | въину (т. е. всегда)|къ б҃у| въпиюшта
«Изборник 1076 г.»
Вкупѣ | жихъ | съ | тобою
вкупѣ и | умру | съ | тобою
уность | не отъиде | отъ | насъ
а старость | не постиже | | насъ
«Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», XV в.
Нередко автор несколько раз говорит об одном и том же, но употребляет при этом различные слова; создается так называемая стилистическая симметрия:
възишти | кыимь | путьмь | идоша
и | коею | стьзею | текоша
«Изборник 1076 г.»
Часто однотипные предложения соединяются воедино с помощью одного слова, которое повторяется в каждом из них, и при этом в одном и том же месте:
Страньно | твое | зачатие
cтраньно | твое | рожьство
страньнъ | твои | исходъ, д҃во
cтраньно | вънутрь | црк҃ви жилище
cтраньна | твоя | вся
«Минея 1095—1097 гг.»
Стилистические повторы могут завершаться противопоставлением повторяющегося слова его антониму:
никто | же убо | буди | непослушливъ.
никто | же | буди | ропотникъ.
никто | же | буди | шепотникъ.
никто | же | буди | клеветникъ.
никто | же | буди | дерзъ.
никто | же | буди | лжесловець.
никто | же | буди | смѣхотворець.
никто | же | буди | ревностр(҃с)тьникъ.
никто | же | буди | завистотворець...
но вси | твердѣ | вся | изрядная б҃ия творяще.
«Огласительные поучения Феодора Студита»
Повторение начальных слов, звуков или грамматических конструкций в сходных по строению отрезках речи называется анафорой (от греч. αναφορά, первоначальное значение которого — «вынесение наверх»). Используя этот прием, авторы получали возможность подчеркнуть, выделить, сопоставить или противопоставить важные для них понятия. Близость или противоположность значений сопоставляемых слов, параллелизм, сходство в строении предложений соответствовали параллелизму, сходству или контрасту самих понятий. Конец и начало каждого предложения перекликались друг с другом, обрамляли каждое предложение, фиксировали его границы, иногда ограничивали его размер. В тексте возникал своеобразный ритм. Хотя этот ритм очень далек от современных стихов (в частности, русских), тем не менее многие ученые считают возможным говорить о древнем несиллабическом стихе (т. е. имеющем различное число слогов в строках) на церковнославянском языке (38, стр. 1—5). Начала строк в таких стихах отмечаются «перекликающимися» словами; эти слова часто выражают обращение к слушателю или читателю и стоят в форме повелительного наклонения или в звательной форме. В конце строк нередко (но далеко не всегда) стоят слова с одинаковыми суффиксами или окончаниями (так называемая грамматическая рифма). Наиболее отчетливо эти элементы церковнославянского стиха представлены в акафистах — особых хвалебных песнопениях в честь Христа, богородицы и святых, например:
Радуйся, убогим скорое воздвижение, Радуйся, скорбящим быстрое промышление...Такого рода стихи восходят к Библии. Их можно найти и в русских оригинальных произведениях «высоких» жанров, например в «Слове о законе и благодати» Илариона, который обращается к князю Владимиру с такими словами:
Въстани, о честнаа главо, от гроба твоего, Въстани, отряси сонъ! Нѣси бо умерлъ, нъ спиши до обыцааго всѣмъ въстаниа, Въстани, нѣси умерлъ ... и. т. д. (38, стр. 4).На этом мы закончим рассмотрение риторических приемов книжного происхождения.
Параллельно книжно-библейской поэтике существовала и развивалась народно-фольклорная поэтика, оказавшая определенное влияние и на произведения, написанные по-церковнославянски. Так, в «Сказании о Борисе и Глебе» встречается народная метафора «смерть человека [почитаемого, любимого] — заход солнца». Борис, оплакивая смерть отца, восклицает: «Како заиде, свѣте мои». Библейским образом смерти было затмение (а не заход) солнца. Чаще встречались народно-поэтические средства в историко-повествовательных произведениях, возникших уже в эпоху Московской Руси, таких как «История о Казанском царстве» (XVI в.), посвященная взятию русскими Казани; к народной поэзии восходит, например, сравнение воинов с орлами («рустии же вои яко орли... полетоваху; воевода аки орел похища собе сладок лов, мчаше царицу»), а сильного войска с тучей: «придоша ... яко грозныя тучи с великим громом» (1, стр. 37, 84). Но, конечно, нормой для произведений, написанных на церковнославянском языке (особенно для религиозно-философских, дидактических и т. п.), было использование поэтических средств книжно-библейского происхождения. Фольклорная образность широко использовалась в светской литературе (см. следующую главу).
Итак, мы в общих чертах познакомились с тем, что представлял собой церковнославянский язык русской редакции. Широко употребляясь не только в церковном обиходе, но и в сфере образования и культуры, он активно обогащался и развивался. С течением времени русская редакция церковнославянского языка достигла такого высокого уровня развития, что стала рассматриваться как основа единого литературного языка русских, болгар и сербов. Об этом свидетельствует ряд высказываний болгарских и сербских литературных деятелей XV—XVIII вв. Так, сербо-болгарский ученый Константин Костенческий (конец XIV — начало XV в.) в своем «Сказании о славянских письменах» отдает предпочтение «тончайшему и краснейшему русскому языку» (имея в виду церковнославянский язык русской редакции). Известный ученый и общественный деятель, хорват по национальности, Юрий Крижанич (около 1618—1683 гг.) полагал, что «... тот наш язык, которым мы книги пишем и на котором ведем богослужение, называется славенским (словинским), в то время как его истинным названием должно быть русский» (39, стр. 7, 8).
Однако начиная со второй половины XVI в. сфера употребления церковнославянского языка постепенно сужается. В демократических низах общества все шире распространяется литература на древнерусском языке. Развивается и обогащается деловая речь. Все более светскими становятся образование и наука. Существенные сдвиги в общественной жизни, происшедшие на рубеже средневековья и нового времени, вызвали серьезные изменения и в языке. Начинают вырабатываться нормы единого национального языка, в формировании которого церковно-славянский язык сыграл огромную роль. Церковнославянские элементы, особенно лексические и синтаксические, вошли в состав русского национального литературного языка. Однако церковнославянское наследие было использовано далеко не в полном объеме: даже в наиболее книжных стилях не были использованы устаревшие и малоупотребительные славянизмы. Зато закрепились такие элементы речи, которых, как писал М. В. Ломоносов, «нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, которой, пока, лишь» (34, стр. 17). Несмотря на то что новые произведения и новые списки на церковнославянском языке появлялись в течение XVII, XVIII и даже в начале XIX в., его употребление все больше ограничивается. Он превращается в церковный язык.
2. ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК
Древнерусским языком называют язык восточных славян, выделившихся из общеславянского единства в VII—VIII вв. н. э. и существовавших как единая народность до XIII—XIV вв. Затем древнерусская народность постепенно разделилась на три народности — русскую (великорусскую), украинскую и белорусскую. Язык образовавшейся русской народности также называют древнерусским языком. Таким образом, этот термин применяется к языку, существовавшему в течение почти целого тысячелетия (с VII—VIII вв. до XVII в.) и претерпевшему за этот период существенные изменения. Язык восточных славян, существовавший до их разделения на три народности, называют также восточнославянским (или общевосточнославянским).
В данной главе мы расскажем об основных явлениях, свойственных древнерусскому языку в его устной и письменной форме, и об изменениях, которые он претерпел на протяжении своей многовековой истории. При этом мы рассмотрим и взаимодействие древнерусского языка с церковнославянским языком.
Устная речь Древней Руси
У читателя естественно возникает вопрос: можно ли вообще судить об устной речи, которая звучала, скажем, 700—900 лет назад? Конечно, о том, как говорил человек Древней Руси, мы знаем значительно меньше, чем о том, как он писал: ведь сохранилось очень много письменных памятников. Но в этих памятниках нашла отражение (иногда очень опосредствованное) и устная речь. Лингвисты стремятся вскрыть, реконструировать эту устную речь, скрытую за письменным текстом. Эта реконструкция осложняется тем, что между письменной и устной речью существовали (и сейчас существуют) значительные различия.
Орфография, как известно, часто далеко не полностью отражает то, что реально произносится. В настоящее время мы пишем, например, вода, пруд, а произносим вада, прут и т. п. Расхождения между письмом и устной речью существовали и в древнерусскую эпоху. На эти расхождения обратил внимание Г. В. Лудольф. Он писал в своей «Русской грамматике»: «... Большинство русских, чтобы не казаться неучами, пишут слова не так, как произносят, а так, как они должны писаться по правилам славянской грамматики, например, пишут сегодня, а произносят севодни» (30, стр. 114).
Речь книжная и речь разговорная
Дело, однако, не только в условности, традиционности орфографии. Разговорная речь отличается от книжной и по составу употребляемых слов и грамматических форм, по построению предложения. Об одном и том же часто пишут и говорят по-разному. В современной научной работе, например, напишут: «Этот вопрос нуждается в серьезном дополнительном изучении», а в беседе о том же самом скажут так: «Об этом надо еще хорошенько подумать». Вторая фраза так же неуместна в научной работе, как первая — в беседе.
Приведем похожие примеры из древней письменности. Многие жития святых отличались книжностью, возвышенностью языка. Однако наряду с этими житиями, сохранившимися, как правило, в сборниках церковного содержания, существовали более «простые» описания жизни тех же святых, сохранившиеся в летописи. Сопоставление этих жизнеописаний зачастую очень показательно. В «Житии Феодосия Печерского», дошедшем до нас в составе «Успенского сборника» (XII в.), а также в «Киево-Печерском патерике»[10] (XIII в.), предсмертная воля Феодосия выражена в таком литературно обработанном монологе: «и о семьже молю вы и заклинаю, да въ неи же есмь одежи нынѣ вѣ тои да положите мя тако въ пещерѣ идеже постьныя дни прѣбываахъ. ни же омываите убогаго моего тѣла [вот о чем я прошу вас и заклинаю; в той же самой одежде, которая на мне сейчас, положите меня в пещере, где я пребывал в дни поста; и не омывайте убогого моего тела...]». В летописи же (под 1074 г.) речь Феодосия более кратка и проста: «в ночь похороните тѣло мое».
Еще один аналогичный пример, на этот раз из более позднего памятника. В конце XV в. в Новгороде было создано «Житие Михаила Клопского». Язык этого жития, как и многих других памятников новгородской литературы, близок к живой речи. В XVI в. житие было существенно переделано, вернее, переписано по-церковнославянски боярином Василием Тучковым. Вот как выглядит в этих двух редакциях речь князя Дмитрия Юрьевича Шемяки.
Редакция XV в.: «Михайлушко! Бегаю своей отчины, збили меня с великого княжения».
Редакция XVI в. (тучковская): «Отче, моли бога о мне, яко да паки восприиму царствия скыфьтры: согнан бо есмь от своея отчины, великого княжения Московского! [Отче, моли бога обо мне, да снова возьму царский скипетр: я изгнан из своей вотчины, великого княжества Московского!]».
Вместо употребленного в редакции XV в. типично разговорного обращения Михайлушко (с суффиксом -ушко, характерным для живой народной речи) в тучковской редакции находим книжную звательную форму отче (из живой русской речи и прежде всего из северных говоров звательная форма на протяжении истории языка была утрачена). Развившимся в живой речи формам прошедшего времени глагола (збили) и винительного падежа личного местоимения (меня) соответствует у Тучкова книжный оборот согнан есмь, а вместо живой русской формы своей в тучковской редакции представлена книжная (старославянская по происхождению) форма своея. Кроме того, вторая речь по сравнению с первой расширена за счет книжных слов (паки, скыфьтр, восприиму); слово царствие содержит книжный суффикс -ствие.
Эти примеры иллюстрируют два вида речей, зафиксированных в древнерусских памятниках, — литературно обработанные и разговорно-бытовые. Последние и являются важным источником сведений о разговорной речи наших предков, на которой мы ниже остановимся подробнее. Но сначала несколько слов о книжных, литературно обработанных речах. Это специально написанные произведения ораторского искусства, вложенные автором в уста действующих лиц с целью их возвышения, прославления. Так древний писатель создавал образ «идеального героя». Эти речи сочинены в строгом соответствии с требованиями «литературного этикета» (29, стр. 84—108). В обращении к богу, например, неуместны были элементы бытовой, разговорной речи, зато широко представлены книжно-литературные слова и обороты. Например, Епифаний Премудрый вложил в уста Стефана Пермского такую молитву: «Боже и господи, иже премудрости наставниче и смыслудавче, несмысленым казателю и нищим заступниче: утверди и вразуми сердце мое и дай же ми слово, отчее слово, да тя прославлю в векы веком [боже и господи, премудрости наставник, дающий разум, просветитель неразумных и заступник нищих, утверди и вразуми сердце мое и дай мне слово, отчее слово, чтобы я прославил тебя во веки веков]» («Житие Стефана Пермского»). Эта речь сознательно литературно обработана. Об этом свидетельствуют, например, уже знакомые нам повторения близких по смыслу или тождественных слов (боже и господи; слово, отчее слово), нанизывание однотипных синтаксических конструкций (...наставниче и смыслудавче.., казателю... и заступниче...). Автор жития, несомненно, заимствует эту молитву из книжных источников: ее начало почти полностью повторяет начало молитвы, приписываемой Владимиру Мономаху и находящейся в более древнем памятнике — Лаврентьевской летописи под 1096 г.
Условные, трафаретные речи находим и в летописях: по воле летописца различные русские князья в сходных ситуациях (перед смертью, перед отправлением в поход) произносят речи, сходные между собой по форме и по содержанию.
Такие «олитературенные» монологи дают представление об ораторском искусстве средневековья, но не о живой бытовой речи. Однако в древних памятниках мы находим и записи речей совершенно иного характера — конкретных по содержанию и простых по форме. По записям речей в древних памятниках можно судить об устной речи, выработавшейся в крупнейших городских центрах (речь сельского населения в письменности почти не отразилась).
Население древнего Киева было смешанным по составу: в столицу древнерусского государства стекались представители разных племен. Поэтому еще до возникновения письменности там, вероятно, начала складываться особая форма устной разговорной речи, в которой сглаживались различия отдельных сельских говоров. Такая форма речи носит название койне (от греч. κοινή — «общий»). Этим термином называют особую разновидность языка, служащую средством общения людей, говорящих на разных диалектах или на разных языках.
В киевском койне вырабатывалась хозяйственная, военная и юридическая терминология, нашедшая широкое отражение в летописях и других памятниках, возникших в разных местах Древней Руси. Воспроизводя бытовую устную речь своего времени, древний писатель стремился дать предельно достоверную картину действительности. Не абстрактно-моралистические рассуждения, а конкретные факты, призывы к конкретным действиям составляют содержание «неолитературенных» речей. Вот примеры, взятые из древнейших русских летописей: «ре(ч)ему Волга... погребъ мя. иди же яможе хочеши [сказала ему Ольга...: «Когда похоронишь меня, иди куда хочешь»]» («Повесть временных лет»); «и посла Игорь к Лаврови конюшого своего. река ему перееди на ону сторону [и послал Игорь к Лавру конюха своего передать ему: «переезжай на ту сторону»]» (Киевская летопись).
Эти речи просты по форме и состоят почти сплошь из слов или форм, возникших у восточных славян: ямо, хочеши, выжену, волость, переиму, перееди, сторону. В речах только одной «Повести временных лет» отмечено очень много слов с полногласием: бесперестани, отъ берега, бороти, боротися, володѣти, волость, воробьи, ворогъ, вороти, воротися, голова, городъ, деревяными лъжицами, колодникъ, дружину молотшюю, оборонили, осоромять тя, паволоки, паруса паволочити, перевороти, перевеземся, передатися, переими, переступати, переяти, поити переди, полонъ, порози, середа земли, в сорочкѣ, сторона, в сторожѣхъ, схоронити, холопы, хоромовъ рубити, череви, черево, черес реку. Интересно, что, употребляя в прямой речи русское полногласное слово, древнерусский писатель нередко рядом, в авторском тексте, мог употребить соответствующее старославянское неполногласное, например: «и ре(ч҃) Володимеръ. се не добро еже малъ городъ около Киева... и поча нарубати мужѣ лучьшиѣ. о(т) Словень и о(т) Кривичь. и о(т) Чюди. и о(т) Вятичь. и о(т) сихъ насели грады [И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов около Киева» ... и начал набирать мужей лучших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города]» («Повесть временных лет»). Подобного рода примеры говорят о том, что писавший считал русские слова более уместными в прямой речи, нежели старославянские, которые допустимы в авторском тексте.
Памятники письменности донесли до нас не только отдельные реплики, но и живой древнерусский диалог: «И нача гл҃ти С҃тополкъ. останися на с҃токъ [сокращение слова святокъ] и ре(҃ч) Василко. не могу остати бр(а)те, уже есмъ повелѣлъ товарваомъ [описка вместо товаромъ] поити переди. Дв҃дъ же сѣдяше акы нѣмъ. и ре(҃ч) С҃тополкъ да заутрокаи брате. и обѣщася Василко заутрокати. и ре(҃ч) С҃тополкъ посѣдита вы сдѣ. а язъ лѣзу наряжю... и посѣдѣвъ Д҃вдъ мало ре(҃ч) кде е(҃с) бра(҃т). Они же рѣша ему стоить на сѣне(҃х). и вставъ Д҃вдъ ре(҃ч) азъ иду по нь. а ты брате посѣди [И заговорил Святополк: «Останься на праздник». И сказал Василько: «Не могу остаться, брат: я уже приказал обозу идти вперед». Давыд же сидел, точно немой. И сказал Святополк: «Хоть позавтракай, брат». И обещался Василько завтракать. И сказал Святополк: «Посидите вы здесь, а я пойду распоряжусь»... И, немного посидев, Давыд сказал: «Где брат»? Они же ответили ему: «Стоит на сенях». И, встав, Давыд сказал: «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди»]» («Повесть временных лет»). Это отрывок из знаменитого рассказа об ослеплении Василька Теребовльского его братьями Святополком и Давыдом (1097 г.). Рассказ очень конкретен и драматичен; приведенный разговор между тремя братьями предшествует ослеплению и своей предельной достоверностью, реалистичностью усиливает напряженность и трагичность ситуации.
Бытовые речи вообще были одним из элементов реалистичности древнерусской литературы. Уже в древнейших летописях находим мы взятые из живой народной речи пословицы и поговорки. Так, вспоминая об аварах («обрах») — вымершем кочевом народе тюркского происхождения, летописец пишет: «и есть притъча в Руси и до сего дне погибоша аки обрѣ [И есть поговорка на Руси до сего дня: «Погибли как обры»]» («Повесть временных лет»). В том же памятнике, в рассказе о событиях 945 г., сообщается, что древляне, узнав, что Игорь повторно собирается взять с них дань, говорят: «аще ся въвадить волкъ в овцѣ, то выносить все стадо, аще не убьють его [Если повадится волк к овцам, то перетаскает все стадо, пока не убьют его]». В Галицкой летописи приводятся слова сотского Микулы, сказанные князю Даниилу, который уходит в поход против венгров: «не погнетши [т. е. не задавив, уморив] пчелъ. меду не ѣдать».
Письмо от Бориса к Настасье (Новгородская берестяная грамота конца XIV — начала XV в). Текст грамоты: «От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице забыле»
Конечно, памятники сохранили для нас далеко не все свойства и явления устной речи. Ничего не знаем мы, например, о ее интонации. Передавая реально звучавшую речь, писатель, несомненно, упорядочивал ее, делал более стройной и правильной, удалял из нее многие оживляющие элементы непосредственности, разговорности. Эти элементы в большей степени сохранились в тех случаях, когда писавшие вообще не стремились создать какого-либо сочинения, а просто фиксировали свои мысли, чувства, потребности и т. п. Таких памятников, особенно древнейших (XI—XIV вв.), сохранилось немного. Это главным образом записки или письма бытового характера, которые никто не стремился сохранить. Тем интереснее их данные. Бытовую речь древних новгородцев сохранили для нас записки и письма XI—XV вв., написанные на бересте. Житель древнего Новгорода по имени Григша пишет к Есифу: «Поклонъ отъ грикши къ есифу. приславъ онанья. мол [далее текст испорчен] язъ ему отъвѣчалъ, не реклъ ми есифъ варити перевары ни на кого и онъ прислалъ къ федосьи вари ты пивъ сѣдишь на безатьщинѣ не варишь жито [Поклон от Григши к Есифу. Онания, прислав (по- видимому, слугу) сказал:... Я ему отвечал: «Не говорил мне Есиф варить перевары (т. е. напиток из ячменя) ни для кого». И он прислал к Федосье (и приказал): «Вари ты пиво; владеешь беззадьщиной (т. е. выморочным имением), а не варишь ячмень»]» (Новгородская грамота на бересте, № 3). Надо полагать, что автор письма довольно точно воспроизвел то, что он мог бы сказать в бытовом разговоре. Речь предельно проста: краткие предложения следуют друг за другом (вари... сѣдишь... не варишь...), не связываясь друг с другом союзами. Такое построение свойственно разговорной речи.
Отзвуки живой речи встречаем мы иногда в надписях на стенах старинных зданий, предметов или на полях объемистых рукописей, написанных по-церковнославянски. Устав от долгого переписывания, писец испытывает желание сообщить кому-нибудь о своем состоянии, но, не имея, по-видимому, собеседника, изливает свои чувства на полях рукописи — так, как он сделал бы это устно: «охъ зноино» — находим мы на полях «Шестоднева»[11] XIV в.; «охъ тощьно» — на полях «Пролога»[12] XIV в.; «Охо охо охо дрѣмлет ми ся [т. е. дремлется мне]», — сообщает между делом писец «Служебника» XIII в.; «охъ охъ голова мя болить не могу писати а уже нощь лязмы [т. е. ляжем] спати», — вторит ему писец «Пролога» первой четверти XIV в.; та же жалоба — в приписке на «Ирмологии»[13] 1344 г.: «о г҃(с)и помози г҃(с)и поспѣши дремота непримъньная. и в семь рядке, помѣшахся [т. е. ошибся в этой строчке].
Писцы весьма непринужденно сообщают о самых различных вещах, но чаще всего о том, что они собираются делать в ближайшее время, о времени суток или о состоянии своего пера: «поити на вечернюю» («Шестоднев», XIV в.); «поехати пить въ зряковичи» (там же); «поехати на гору къ ст҃ѣ б҃ци молитися о свое(҃м) сп҃сении» (там же); «полести мытъся» (там же); «поити на заутрѣнюю» («Пролог», первая четверть XIV в.); «уже нощь... тьмно» (там же); «уже поздъно» («Пролог», XIV в.); «уже д҃нь успе. а нощь пришла есть» (там же); «нощь успѣ а д҃нь приближися» («Паремийник»,[14] XIV—XVвв.); «погыбель перья сего» («Ирмологий», 1344 г.).
Надпись и рисунок на стене киевского Софийского собора, сделанные в середине XII в. На рисунке изображен, no-видимому, какой-то молодой княжич
В «Прологе» первой четверти XIV в. находим такое весьма непосредственное высказывание: «како ли не обьестися исто (т. е. наверное) поставлять кисель с молокомь». Основной текст, находящийся на том же листе, что и эта приписка, написан по-церковнославянски и содержит «Слово о исходе души и о восходе на небеса». Вот отрывок из этого сочинения: «И аще покаялася будеть. то избавится о(т) нихъ. и много запинания истязания д(҃ш)и от бѣсовъ идущи до н(҃б)си. посемь зависти ярости. гнѣва и гърдыни. срамословия и непокорьства. лихвы срѣбролюбия пьяньства. злопоминания. злопомысльния. чародѣяния потворъ. обьядения братоненавидиния. убииства тадбы. не(м҃)лсрдия [И если покается (душа), то избавится от них (от бесов) и от многих препятствий, чинимых бесами, и истязаний души, идущей на небеса, а также от зависти, ярости, гнева и гордыни, срамословия и непокорства, сребролюбия, пьянства, злопамятства и злых мыслей, чародейства, колдовства, объядения, братоненавистничества, убийства, воровства, немилосердия]». Очевидно, упоминание в числе грехов «объядения» и вызвало опасение впасть в этот грех.
Как видим, писцы, писавшие или переписывавшие рукописи на церковнославянском языке, оставили на полях своих рукописей замечательные своей непосредственностью записи бытовой древнерусской речи.
Славянизмы в разговорной речи
Изучение записей устной речи, имеющихся в памятниках, а также произведений устного народного творчества и современных народных говоров показывает, что старославянский и церковнославянский языки влияли на устную речь. Крупнейший историк русского языка А. А. Шахматов даже полагал, что «все лица, прошедшие школы, основывавшиеся на Руси в XI веке», говорили на «древнеболгарском (т. е. на старославянском. — И. У.) языке» (49, стр. 82). Трудно, однако, предположить, что, получив образование, русский книжник переставал в устном общении употреблять тот живой древнерусский язык, с которым он поминутно сталкивался в быту. Очевидно, книжное образование сказывалось в использовании определенного количества славянизмов в речи. Известный исследователь древнерусской литературы А. С. Орлов писал: «Русские литературные произведения Киевской Руси, собранные в огромном большинстве в летописи, по языку, надо думать, были близки к устной речи тогдашнего культурного христианизированного общества, речи, так сказать, нормативной для „образованного мира“. Нет неожиданного в том, что в этой речи уже освоены были некоторые церковнославянизмы» (22, стр. 43).
Серебряная чаша черниговского князя Владимира Давыдовича. Надпись гласит: «А се чара княжа Володимирова Давыдовча, кто из нее пьет, тому на здоровье, а хваля бога своего осподина великого князя»
Читая книги на церковнославянском языке, слушая богослужение, образованный русский человек не мог не усваивать некоторые славянизмы. Кроме того, есть все основания полагать, что ряд слов проник в древнерусскую речь устным путем из древнеболгарского языка (на основе которого и возник книжно-литературный старославянский язык) в процессе непосредственного общения с болгарами, возможно, еще до принятия христианства. А. А. Шахматов относил к числу таких слов плащ, овощ, товарищ, виноград, сладкий, плен, шлем, время, вред, врач, срам, нрав, власть, страна, странник, праздник, влага, облако, область, храбрый, среда, средний, вещь и др.
Через болгарское посредство устным путем в разговорную речь могли проникнуть такие греческие по происхождению слова, как кровать, коромысло, полаты, терем, парус, уксус и др. Устные заимствования, как правило, обозначают понятия светского характера.
О том, какие славянизмы употреблялись в устной речи в древнейший период, мы можем судить по записям речей, сохранившихся в древнейших русских летописях, созданных в XI—XIV вв. («Новгородской цервой летописи», «Повести временных лет», Суздальской, Киевской, Галицкой и Волынской летописях). Если определенный славянизм встречается (и притом регулярно!) в записях речей в окружении слов и форм, свойственных русской разговорной речи, то можно считать, что он реально употреблялся в повседневной речи рассматриваемого периода. Таким путем установлено, например, что почти из 400 глаголов со старославянской приставкой пре-, отмеченных в самых разнообразных памятниках, написанных на древнерусском языке или на церковнославянском языке русской редакции, в живой речи в княжеско-дружинной среде XI—XIII вв. употреблялось лишь пять глаголов: пребыти, предати, предатися, прельстити и преступити. Лишь эти глаголы регулярно встречаются в древнейших русских летописях в записях «неолитературенных» речей, например: «оже ны ся не прѣдасте дамы вы Половцемъ на полонъ... [если нам не сдадитесь, отдадим вас половцам в плен]» (Киевская летопись); «иди в Божьскыи. и прѣбуди же тамо» (Киевская летопись). Характерно, что именно эти глаголы, как показали подсчеты, чаще других глаголов с приставкой пре- употребляются в церковно-книжных памятниках. В устную речь, таким образом, проникали лишь те славянизмы, которые чаще всего встречались при чтении богословских книг и повторялись во время церковной службы. Лишь постоянное повторение, напоминание делало их составной частью активного словарного запаса древнерусского образованного человека.
Об этом свидетельствуют и другие факты. В речах «Повести временных лет» отмечены лишь те слова с неполногласными сочетаниями, которые очень часто употребляются в книжных памятниках: брашно («пища»), владыка, власть, возвращюся, врагъ, вражии, врата, глава («голова»), глаголати, гладъ («голод»), градъ («город»), злато, зракъ, не посрамимъ, предати, предатися, предъ людми градьскыми, предъ богомь, преже, не сдравити, срамъ, страна, престолъ, пречистая богородица, пребывати и некоторые другие (24). Широко употребительные славянизмы типа град, млад встречаются и в произведениях древнего русского народного творчества; в частности, в древних былинах постоянно встречаются такие сочетания слов, как Киев-град, Добрыня Никитич млад, злато-серебро, златоверхий терем, златорогий тур, а также неполногласные слова безвременье, Владимир, вран, врата, град, глава, глас, злаченый, младой, облака, отвратить, преставиться, срам, средний, страна, храбрый, чрево (2, стр. 12). Славянизмы могли употребляться в повседневной речи в составе устойчивых выражений, типичных для церковнославянского языка. Таковы, например, сочетания господи накажи а смерти не предаи, отъвѣчати предъ богомъ, пречистая богородица и другие, неоднократно отмеченные в составе речей в древнейших русских летописях: «И рѣше боляре и людье... аще ли неправо гл҃а Д҃вдъ. да прииметь месть от б҃а и отвѣчае(҃т) пре(҃д) Б҃мь [И сказали бояре и люди: «...если же неправду сказал Давыд, то пусть примет месть от бога и отвечает перед богом»]» («Повесть временных лет»).
Некоторые устойчивые выражения церковного происхождения настолько часто употреблялись в живой речи, что стали восприниматься как ее неотъемлемая часть. Например, выражение господи помилуй известный деятель раскола протопоп Аввакум (около 1621—1682 гг.) характеризует как факт «природного» русского языка. Столь же прочно вошли в повседневную речь выражения бога ради, бог даст, боже мой и т. п. Некоторые из таких штампов употреблялись автоматически и так часто, что их составные части перестали осознаваться и слились в одно целое. Такая судьба постигла, например, сочетание спаси бог, бывшее обычным выражением благодарности и слившееся затем в спасибо (утрата конечного г как раз и свидетельствует о том, что в спасибо уже не выделяются части бывшего словосочетания).
С течением времени круг славянизмов, регулярно используемых в живой речи, расширяется медленно. Материалы памятников XV—XVII вв. показывают, например, что из числа глаголов с приставкой пре- в речи продолжали употребляться лишь все те же пять глаголов, что и в предшествующую эпоху. Записи живой устной речи, произведенные иностранцами, включают опять-таки наиболее привычные славянизмы. Так, в «Парижском словаре московитов» 1586 г. находим лишь слова владыка и злат, в дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618—1619) — благо, блажить, бранить, воскресенье, воскреснуть, враг, время, ладья, немощь, пещера, помощь, праздникъ, прапоръ, разробление (так!), сладкий, храмъ; в диалогах, записанных Лудольфом, — аще (в цитате из «священного писания»), благословить, благочестие, браниться, власть, воскресение, возлюбить, возмочь, вознестись, воспитать, время, глава, древо, здравствуи, младенецъ, напраздно, облакъ, отвержетъся, понравити ся, похранить, праздникъ, праздность, пребывать, предавать, прежде, премудрость, проклажаться («прохлаждаться»), разбоиникъ, разуменъ, сладокъ, сласти, смиренномудрие, согласовать, сотворить, среда, средний, странна («страна»), товарищь, умрети, хранить.
Новый приток славянизмов в литературу в XV—XVII вв., связанный со вторым южнославянским влиянием, отразился, несомненно, и на живой речи. Обучение грамоте велось по «исправленным» церковным книгам, многое из них выучивалось наизусть и оставалось в устной речи. Так следует объяснить уже известное нам распространение в XV—XVII вв. произношение жд вместо ж, начальных е, ю вместо о, у в словах типа Рождество, заблуждаться, рассуждать, понуждать, надежда, одежда, Елена, юноша, юг и т. п. В некоторых словах книжного происхождения устанавливается произношение фрикативного г (см. стр. 73): господи, благо, благословить, благодать, благодарить, богатый и другие, что было связано, возможно, с литературной деятельностью в Москве в XVII в. украинских и белорусских книжников (Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и др.).
Славянизмы, конечно, попадали прежде всего в речь тех людей, которые получили книжное образование. Речь священника или князя, очевидно, отличалась в этом отношении от речи представителя городских низов, а речь последнего в свою очередь — от речи крестьянина. Так, исследования показали, что в речи высших слоев киевского общества было больше славянизмов, нежели в речи низших слоев (24). В некоторых случаях, возможно, летописец сознательно стремился показать различия в речах представителей разных социальных слоев общества. Описывая людей, угоняемых в 1093 г. половцами в плен, летописец пишет: «нази ходяще и боси ногы имуще сбодены тернье(҃м): со слезами отвѣщеваху другъ къ другу г҃люще. азъ бѣхъ сего города. и други. а язъ сея вси [голые шли и босые, с ногами, израненными тернием, со слезами отвечали друг другу, говоря: «Я — из этого города», а другой — «Я из этого села»]» («Повесть временных лет»). Может быть, не случайно в речи горожанина летописец употребил старославянское местоимение азъ, а в речи сельского жителя — народно-разговорное язъ (изменившееся впоследствии в я).
Социальные и культурные различия между людьми отразились и на устной речи периода Московской Руси. Памятники сохранили для нас диалоги и монологи на книжные темы, позволяющие судить о беседах книжно образованных людей. В их речи сравнительно много славянизмов. Вот отрывки из полемического произведения «Прения с греками о вере» (XVII в.), написанного Арсением Сухановым: «И Кирил де, то свѣдав, укрывался в дальних словянах, что нынѣ живутъ под цесарем, и там де преставился»; «престани от помышления своего [т. е. оставь свою мысль], еже носити тебѣ на главѣ своей бѣлый клобук».
Говоря о существовании у русских двух языков — «славянского» (т. е. церковнославянского) и русского, Генрих Вильгельм Лудольф сообщал в «Русской грамматике»: «Чем более ученым кто-нибудь хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи» (30, стр. 113). Сам Лудольф дал примеры рассуждений на религиозные темы, довольно богатых славянизмами, но имеющих и разговорные элементы. Надо полагать, что в XVII в. можно было слышать, например, такие монологи: «Спаситель скажетъ: аще кто хощетъ по мнѣ ити да отвержетъ ся себе. Что то, отвержетъ ся себе? Отложить плотские похоти и мирскую любовь, и только попечися о богоугодномъ житии, си речъ: что бы мы по примеру Спасителя нашево всегда жили, въ смиренномудрии въ любви, и въ чистотѣ [Спаситель говорит: «Тот, кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя». Что это значит — «отречется от себя»? Оставит плотские похоти и мирскую любовь и будет заботиться только о богоугодной жизни, т. е. чтобы мы всегда жили по примеру спасителя нашего, в смирении, мудрости, в любви и в чистоте]». Перед нами разъяснение «своими словами» евангельской заповеди. Естественно, что такая тема не могла быть выражена без элементов церковнославянского языка (аще, хощетъ, отвержетъ ся, богоугодный, житие, смиренномудрие). И, однако, мы имеем дело здесь, по-видимому, с реальной, живой «церковно-бытовой» речью, а не с церковнославянским языком. Об этом говорит и сравнительно простой синтаксис высказывания, и элементы живой речи: сказати, чтобы, нашево.
Известный советский языковед Б. А. Ларин, издавший «Грамматику» Лудольфа, показал, что Лудольф записал образцы речи разных слоев русского общества XVII в. Так, по мнению Б. А. Ларина, в «высших и наиболее просвещенных кругах московского населения» усвоил Лудольф такие фразы, как «напразно попечетъ ся, как Вышнои не благословитъ»; «кажетъ ся мнѣ, что онъ не учонъ»; «по моему мнѣнию то болново ослабляетъ»; «скажутъ, что пригожие женщини во францускои землѣ»; «то великое утешение мнѣ было о чужихъ земляхъ бесѣдовать»; на среду высшего и среднего купечества и тогдашней «технической интеллигенции» — крупнейших мастеров, специалистов указывают такие, например, фразы: «по тои ценѣ продаватъ не могу»; «много я издержалъ на етую работу, а жаль мнѣ, что деньги не въ мошнѣ держалъ»; «то ихъ убычеи (т. е. обычай), что лутче ты платишъ, то хуже служаютъ»; от дворовых слуг были записаны такие фразы: «ты меня здвора (т. е. со двора) послалъ, не могу два дѣла въдругъ зделатъ»: «я бежалъ будъто бешенна собака», «въ передъ ленивъ не буду» (30, стр. 36—38).
Если же мы обратимся, например, к произведениям протопопа Аввакума (вторая половина XVII в.), то найдем там элементы крестьянского просторечия — и не только в прямой речи, но и в авторском тексте. Вот как многострадальный Аввакум описывает свое возвращение из сибирской ссылки: «Пять недель по лду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки; а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошедей не смеем, а за лошедми итти не поспеем, голодные и томные [т. е. утомленные] люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нее набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка-государыня, прости!» А протопопица кричит: «Что ты, батко, меня задавил?» Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».
Как видим, письменность сохранила для нас образцы речи разных слоев населения Московской Руси. Славянизмы в разной степени использовались в их речи. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что они проникли во все ее разновидности — вплоть до сельских народных говоров. Так, в говорах первой половины нашего века зафиксировано довольно много неполногласных слов, проникших в них, по-видимому, гораздо раньше. Вот некоторые из этих слов: благо, благой, блажной, блажить, брашно, брань, владать, враг, вред, время, здравствуй, зрачный, младшей, помраченье, праздник, прах, сладкий, средний, средство («лекарство»), срам, странный, потреба, проклажаться, хранить и др. (53, стр. 113—118). Нетрудно видеть, что большая часть приведенных слов встречалась в записях устной речи с древнейшей поры, а также в произведениях народного творчества.
Таким образом, разные источники указывают на один и тот же сравнительно небольшой круг славянизмов, усвоенных устной речью. Эти славянизмы, утратившие в значительной степени свой книжный характер, могли употребляться в речи в соседстве с исконно русскими словами. Вот летописные примеры употребления в одном и том же высказывании слов с полногласными и неполногласными сочетаниями: «пережьду и ѣще мало время» (Суздальская летопись); «братья же рекоша ему а поѣдьмы въ свою волость. мало перепочивше опять възвратимъся» (там же).
Как показывают записи устной речи в древних памятниках, церковнославянский язык оказывал на нее определенное влияние. Однако в устную речь попадали лишь те славянизмы, которые были наиболее распространены в письменных памятниках, причем количество славянизмов в устной речи зависело от степени книжной начитанности говорившего.
Важнейшие изменения в разговорной речи
Записи речей, случайные реплики далеко не единственный и даже, пожалуй, не основной источник наших сведений о разговорной речи Древней Руси. Основные фонетические и грамматические явления, свойственные живой речи (т. е. ее «каркас»), выясняются путем изучения всех памятников, написанных или переписанных на Руси, в том числе и памятников церковнославянского языка русской редакции (последние, как мы уже знаем, отражают некоторые явления, свойственные восточнославянской речи и не свойственные старославянскому языку). Явления, вышедшие из употребления в литературном языке, могут сохраниться в современных народных говорах, изучение которых также позволяет судить о народной речи прошлого.
Сопоставительное исследование данных памятников и современных народных говоров позволило языковедам выяснить существенные изменения, происшедшие в живой древнерусской разговорной речи на протяжении многих веков. Рассмотрим кратко эти изменения.
Важнейшим изменением в фонетике было закончившееся в XII—XIII вв. так называемое падение редуцированных, т. е. очень кратких звуков, изображавшихся на письме буквами ъ (звук, средний между о и ы) и ь (средний между е и и). В одном положении они исчезали (например, вместо къто, зъвати стали говорить кто, звати и т. п.), а в другом — переходили соответственно в о или е (например, сънъ изменилось в сон, дьнь — в день и др.). Изменился и ряд других звуков и их сочетаний. Так, звук ѣ, близкий к дифтонгу[15] ие, перешел в е (в украинском языке — в и); различна судьба ѣ в современных говорах, в некоторых из них ѣ сохранился в качестве особого звука. Шипящие (ж, ш), а также ц из мягких стали твердыми, сочетания гы, кы, хы (гыбель, кыслыи, хытрыи) изменились в ги, ки, хи.
В области склонения имен существительных произошло уподобление одних типов склонения другим по признаку рода и образование благодаря этому немногих основных образцов склонения (например, слова типа стол, конь, сын, гость, камень, склонявшиеся по-разному, теперь образуют один тип склонения слов мужского рода с двумя подтипами — «твердым» и «мягким»).
Важнейшим изменением в системе форм глагола был выход из употребления к концу XIII — началу XIV в. нескольких форм прошедшего времени (аориста, имперфекта) и образование на базе перфекта одной формы прошедшего времени (писал, читал и т. п.). Эти и многие другие изменения, происшедшие в живой речи, составляют предмет особых наук — исторической фонетики и исторической грамматики русского языка.
Несомненно, что в речи разных районов Древней Руси существовали различия. Перечисленные нами изменения в фонетике и грамматике происходили не всюду одинаково (так, например, падение редуцированных произошло на юге несколько раньше, чем на севере). Наиболее древние памятники фиксируют сравнительно мало черт, закрепленных только за какой-нибудь одной территорией (например, так называемое цоканье[16] отражается в новгородских памятниках уже с XI в.). Письменность распространялась из Киева, и поэтому язык киевских памятников, во многом отражавший киевское койне, влиял на речь других городов. Культура восточнославянских племен, вошедших в состав Киевского государства, была едина. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что христианство довольно быстро распространилось по Руси и летописец конца XI в. уже представлял себе всю русскую землю крещеной. Киевский диалект был воспринят (главным образом среди грамотного населения, а грамотность в городах была, по-видимому, широко распространена) как общерусская норма правильной речи. Конечно, и в киевский диалект проникали элементы языка других территорий. Так, например, северные слова вѣкша или вѣкшица («белка»), пърѣ («парус») встречаются в киевском памятнике — «Повести временных лет». С юго-востока проникло к киевлянам заимствованное из древних тюркских языков слово лошадь: его употребил Владимир Мономах в речи на Долобском совещании князей в 1103 г.: «половчинъ... лошадь его [т. е. смерда] поиметь [половчин... лошадь его возмет]». В то же время киевские слова, естественно, попадали в речь других местностей. Так, киевское название белки вѣверица отмечено в севернорусских памятниках; слово лошадь из Киева перешло в более северные области, где раньше употреблялось лишь слово конь, и т. п.
Однако с течением времени в памятниках разных территорий попадается все больше специфически местных черт. Это свидетельствует о том, что диалектные различия в устной речи начинают увеличиваться. Знакомый с историей читатель, очевидно, догадывается о причинах этого явления: наступил период феодальной раздробленности, а затем татаро-монгольского господства. Ослабление политических и культурных связей между разными местностями способствовало сохранению и увеличению местных различий в речи. Памятники XIII—XIV вв. сохранили довольно много местных, не общерусских явлений устной речи. Назовем некоторые из них. Новгородские говоры наряду с уже упомянутым цоканьем характеризовались, например, такими звуковыми явлениями: звук г произносился так, как в современном литературном языке, т. е. как мгновенный, «взрывной» звук, в южных говорах ему соответствовал длительный «фрикативный»[17] г; в новгородских и псковских древних рукописях встречается сочетание жг в словах типа дожгь (сравните дождь): пригважгаема (сравните пригвождаема) и т. п. Псковским говорам, кроме того, было свойственно смешение с и ш, а также з и ж (здати, вешна, жимою, носаше; сравните ждати, весна, зимою, ношаше); употребление сочетаний кл, гл в соответствии с л в других говорах (привегли, сравните привели, ёгла, сравните ель) и т. п. Древние южные и юго-западные говоры, кроме фрикативного г, отличались, например, произношением звука у вместо в (узять, унук, усе, сравните взять, внук, все); в юго-западных (галицко-волынских) памятниках встречается сочетание жч в словах типа дожчь («дождь»); о произношении написаний жг на севере и жч на юго-западе — в словах типа дожгь (дожчь) существуют разные предположения. Известны диалектные различия и в словарном составе. Так, на юго-западе были распространены, например, такие слова, как багно — «болото»; болонье (оболонье, болонь, оболонь) — «низменное поречье», «луг»; глей — «глина», «ил»; пуща — «большой лес» и др.; на юге: рѣнь — «крупный песок», черевикъ — «башмак» и др., на севере и северо-западе: буй — «возвышенное место», възвод (взводье) — «подъем воды в реке вследствие сильного ветра»; голомя — «открытое море, водное пространство вдали от берегов», губа — «залив», рьль — «заливной луг», пожьня — «сенокосное угодье» и другие слова (45, стр. 94).
Постепенное накопление диалектных различий явилось причиной образования трех восточнославянских языков — русского (великорусского), украинского и белорусского. Как нетрудно заметить, южные (а также и юго-западные) древние диалектные черты во многом соответствуют особенностям украинского и белорусского языков. Великорусская народность и ее язык складываются на северо-востоке Руси XIII—XIV вв., причем особая роль в выработке единого, «общеобластного» языка принадлежала Москве, которая со второй четверти XIV в. стала политическим и культурным центром русской земли. В состав Московского княжества входит целый ряд других княжеств, и в XV в. создается сильное государство — Московская Русь.
Формирование языка великорусской народности сопровождается серьезными изменениями в грамматическом строе и словарном составе живого народного языка. Перечислим важнейшие из этих изменений.
Грамматический строй постепенно принимает вид, очень близкий к современному: окончательно выходят из употребления аорист и имперфект, форма двойственного числа (т. е. форма, указывающая, что речь идет о двух предметах, например: рукама и ногама, сравните современные руками и ногами); краткие прилагательные в функции определения заменяются полными (вместо каменъ теремъ стали говорить только каменный теремъ); утрачивается форма звательного падежа (отче, господине); появляется форма именительного падежа множественного числа с окончанием -а (города вместо городи); появляются формы типа рукѣ, ногѣ, сохѣ вместо руцѣ, нозѣ, сосѣ; сочетания -ый, -ий (например, в окончаниях прилагательных) заменяются на -ой, -ей (простый, сам третий изменяются в простой, сам третей) и т. п. Вышли из употребления некоторые очень употребительные слова: например, око, перст, речи́, глаголати, имати, зрѣти вытесняются словами глаз, палец, сказать, говорить, брать, смотреть; вместо союзов и союзных слов яко, да (дабы), иже, аще, оже и других распространяются что, чтобы, который, если и др.
Все эти изменения происходили в живой разговорной речи Московской Руси. Приведем примеры записей этой речи, произведенных в XVII в. уже известным нам Лудольфом (курсивом выделим те новообразования, о которых шла речь в предшествующих абзацах): «Онъ самъ мнѣ сказалъ что сѣстра ево за тебя замужь вышла; говорятъ что тамъ страшно холодно; поди ныне и смотри естли портнои мастиръ здѣлалъ мою шубу; смотри за рѣкою продажная ли дрова тамъ; пособи мнѣ роздѣвать сапоги и повиси ихъ что бы завтра сухие были; хъ которои немочи ты склоненъ; есть такихъ, которие въ одном пиру пропиютъ что во всемъ году нажили; море не люблю, естли сухимъ путемъ поѣду не утону». Фразы эти в переводе не нуждаются: они очень близки современной бытовой речи.
Языковеды, изучавшие разговорный язык Московской Руси (А. А. Шахматов, Б. А. Ларин), полагали, что и в XIV, и в XV вв. там еще не существовало какого-либо «общеобластного языка» — койне. В Москве, находившейся на границе северных и южных говоров, одни говорили по-севернорусски, другие — по-южнорусски. Однако в XVI в. постепенно вырабатываются нормы московской разговорной речи, в которой нашли отражение как северно-великорусские, так и южно-великорусские явления. Например, многие особенности согласных звуков были унаследованы от северных говоров, а гласных — от южных. Поэтому в Москве нормой стало произношение г взрывного (см. стр. 73). Это северная черта. Но другая северная черта — оканье[18] — в Москве не сохранилась: там стали «акать». Севернорусскими по происхождению были, например, такие явления речи: произношение т твердого в окончании третьего лица единственного и множественного числа глаголов (идет, идут, сравните южные идеть, идуть), произношение звука в в окончании родительного падежа единственного числа прилагательных и местоимений мужского и среднего рода (тово, доброво, сравните южные того, доброго — с г фрикативным).
Разговорная речь города Москвы, естественно, проникала в письменность, и прежде всего — в деловые документы, создававшиеся в московских «приказах». Некоторые из этих документов представляли собой нечто вроде современных протоколов: в них должно быть записано то, что кто-то выразил устно. Это так называемые расспросные речи (т. е. протоколы допросов) или записи рассказов («сказок») о различных происшествиях, о быте и нравах других народов. Приведем пример из расспросной речи москвича Т. В. Редькина (август 1671 г.): «А в роспросе сказал августа де въ I м числѣ в обѣзде своем ѣздил поутру и после обѣда осматривал караулов и дому и у Никиты сторожа поутру изба топилас а в полдни на дворе печь на квасы топилас же и он Тимофѣи в тои печи огонь стрелцам велѣл залит потому что та печь блиско ево Микитиных хором».
Правда, писцы, боясь прослыть неграмотными, сглаживали многие неправильности и просто разговорные черты живой речи. Они стремились следовать правилам письменной речи. Между прочим, этим они отличаются от иностранцев, не ставивших перед собой такой задачи при записи древнерусской речи (а иногда не знавших этих правил). Поэтому в иностранных источниках можно найти явления разговорной речи, которым трудно было проникнуть в записи русских писцов; таковы, например, безличные и неполные предложения, которые мы находим в «Парижском словаре московитов» 1586 г.: «борзо-ль нам обѣдать? ужинать-ли нам? любо-ли тебѣ то сдѣлать? куды дарога?» и т. п.
Авторитет Москвы в государстве был высок. Он распространялся и на ее речь. Получая документ из московского приказа, жители других местностей не только руководствовались его содержанием, но и воспринимали его язык. Развитие экономических и политических отношений способствовало распространению московской устной речи по территории Московской Руси. Все это и явилось причиной того, что говор города Москвы лег в основу формировавшегося на протяжении ряда столетий (со второй половины XVI до первой половины XIX в.) русского национального языка.
Древнерусский язык в письменности
Систему славянского письма, пришедшую на Русь с юга в X в., русские люди стали использовать не только для того, чтобы создавать произведения по образцу церковных книг, но и для того, чтобы записывать и комментировать реальные исторические события (зачастую в художественной форме), описывать свои путешествия, фиксировать на письме свои законы, вести частную переписку. Летописный рассказ, воинская повесть, художественно-повествовательные произведения, свод законов Русская Правда, многочисленные грамоты и т. п. — все это наполнено (в отличие от церковнославянских памятников) разнообразными словами и формами живой восточнославянской народной речи.
Уже говорилось, что в крупных городах русского государства (прежде всего в Киеве, позднее в Москве) вырабатывалось так называемое койне, на котором говорили грамотные люди. В письменности они употребляли либо церковнославянский язык, либо (если это допускал предмет повествования) то койне, на котором они говорили, но, естественно, в обработанном, упорядоченном и «окнижненном» виде, как того и требует всякая письменная речь в отличие от устной. Уже в койне, как мы знаем, проникло известное число славянизмов. В письменной речи, возникавшей на основе этого койне, их было больше. Количество и состав славянизмов в произведении во многом зависели от его содержания. С этой точки зрения светскую письменность обычно делят на две группы. К первой из них относят летописные рассказы и различные повествовательные произведения. В этих произведениях древнерусская народная речь сочеталась и взаимодействовала со славянизмами. Ко второй группе принадлежат памятники делового характера. Здесь славянизмы представлены крайне скупо.
Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности.
Язык летописных рассказов и художественно-повествовательных произведений
Вероятно, уже при Владимире Святославиче (978—1015 гг.) на Руси начали вестись записи важнейших исторических событий. Затем эти отдельные записи объединялись в своды. Кроме того, в своды включались различные народные сказания, такие, как рассказ о мести Ольги древлянам, так называемая Корсунская легенда, рассказ о поединке русского юноши с печенегом, легенда о белгородском киселе и др. Древнейшим из дошедших до нас сводов является «Повесть временных лет», составленная в начале XII в. монахом Нестором в Киево-Печерском монастыре. Язык летописи, посвященной реальным историческим событиям, очень сильно отличается от церковно-славянского языка. Он богат элементами живой народной речи. Наряду с восточнославянскими элементами (и, естественно, с общеславянскими) мы находим в летописи слова, выражения, фонетические и грамматические явления, заимствованные из старославянского и церковнославянского языков. Это естественно: летописи велись грамотными людьми (в том числе монахами при монастырях), знакомыми с книгами, написанными по-церковнославянски.
Прочитайте внимательно приведенный ниже отрывок из «Повести временных лет». Это начало известной легенды о белгородском киселе: «Володимеру же шедшю Новугороду по верховьниѣ воѣ [т. е. за воинами, которые находились в верхних, северных, по отношению к Киеву землях] на Печенѣгы. бѣ бо рать велика бес перестани. В се же время увѣдѣша Печенѣзи. яко князя нѣту. и придоша и сташа около Бѣлагорода. и не дадяху вылѣсти из города. и бы(҃с) [т. е. был] гладъ великъ в городѣ. и не бѣ лзѣ Володимеру помочи. не бѣ бо вои у него. Печенѣгъ же множьство много. и удолжися остоя [т. е. затянулась осада] в городѣ. и бѣ гладъ великъ. и створиша вѣче в городѣ. и рѣша се уже хочемъ померети о(т) глада. а о(҃т) князя помочи нѣту...».
Нетрудно убедиться в том, что этот отрывок написан не по-церковнославянски. В самом деле, текст прост по синтаксической структуре: преобладают простые предложения, соединенные союзом и. Употреблено много восточнославянских слов и форм: бес перестани, вылѣсти из города, помочи, хочемъ померети и др. Другие слова являются общеславянскими, т. е. они в равной мере свойственны и русскому и церковнославянскому языкам (шедшю, великъ, придоша, сташа и др.). Наконец, есть и старославянские по происхождению слова (время, гладъ) и синтаксические обороты (так называемый дательный самостоятельный[19]): «Володимеру же шедшю Новугороду» (т. е. «Когда Владимир пошел к Новгороду...»).
Народно-разговорные элементы и славянизмы находим и в художественно-повествовательных произведениях, таких, как сочинения Владимира Мономаха (конец XI — начало XII в.), «Слово о полку Игореве» (конец XII в.), «Девгениево деяние» (перевод на древнерусский язык византийского романа X в., сделанный в XII—XIII вв.), «Моление Даниила Заточника» (послание некоего Даниила к князю Ярославу Всеволодовичу, написанное в первой четверти XIII в.), «Слово о погибели Русской земли» (небольшое произведение XIII — начала XIV в., представляющее собой, по-видимому, только вступление к «Житию Александра Невского» или к какому-то несохранившемуся произведению), «Задонщина» — повесть конца XIV или начала XV в. о Куликовской битве, сочинения Афанасия Никитина (XV в), Ивана Грозного (XVI в.), Ивана Пересветова (XVI в.), Григория Котошихина (XVII в.), Арсения Суханова (XVII в.), «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков», сатирические произведения XVII в. и т. п.
Во всех этих произведениях мы находим не только те русские фонетические (зафиксированные в письменности) и грамматические явления, которые закрепились уже в памятниках церковнославянского языка русской редакции (см. стр. 19, 20, 34), но и значительное число таких явлений живой русской речи, которые или полностью отсутствуют в памятниках церковнославянского языка, или представлены там эпизодически.
При чтении многих летописей мы постоянно встречаем, например, слова с полногласными сочетаниями, с приставкой вы- пространственного значения, например, выити (вместо старославянской из-, например, изити), крайне редкие в церковно-книжных памятниках. Подсчеты показали (4, 41), что, скажем, глаголы с приставками пере- и вы- в рассказах многих летописей встречаются чаще, чем глаголы с пре- и из- (и только в наиболее книжных по языку летописях типа Галицкой — немногим реже). Владимир Мономах в своих произведениях использует полногласия чаще, чем неполногласия (если не считать цитат из священного писания). То же относится и к произведениям таких русских авторов XV—XVII вв., как Афанасий Никитин, Иван Пересветов, Григорий Котошихин и др. Если славянизмы ограниченно употреблялись в летописях и художественно-повествовательных произведениях, то естественно поставить вопрос о том, чем объяснялось их употребление и каков их состав. Что заставляло авторов предпочесть славянизм русскому слову или, наоборот, русское слово славянизму? Об этом и пойдет речь в следующем разделе.
Соединение разговорного и книжного
Исследование языка русских летописей и художественно-повествовательных произведений показало, что в них употреблялись те самые славянизмы, которые в церковных книгах встречались наиболее часто. Круг этих славянизмов был несколько шире, чем в устной речи. Наиболее употребительная церковно-книжная лексика, чаще всего встречавшаяся при чтении и постоянно повторявшаяся во время церковной службы, входила в активный словарный запас русских людей.
Так, уже в «Повести временных лет» употребительны такие славянизмы, как азъ, брань («битва»), владѣти, власть, влѣчи, врагъ, врата, вредъ, время, възвратитися, гладъ, градъ, единыи, нравъ, область, предати, предатися, прельстити, преступити, работати, смрадъ, срамь, храбръ, хранити и др. (42).
С древнейших времен начинает вырабатываться определенный и довольно ограниченный круг славянизмов, которые все более прочно входят в русскую письменную речь. Многие из этих слов постепенно теряют свою высокую, книжную окраску, перестают отличаться от исконно русских, стилистически «нейтральных» слов, начинают употребляться рядом с ними в одном и том же тексте, лишенном какой-либо литературной отделки. Вот пример такого употребления, взятый из «Хожения за три моря» Афанасия Никитина: «Весна же у нихъ стала съ Покрова святыя богородица; а празднують шиху Аладину и веснѣ двѣ недѣли по Покровѣ, а празднують 8 дни...». В этом простом и по форме и по содержанию тексте дважды употреблен полностью освоенный славянизм праздновати, не имеющий книжной окраски в современном русском языке. Сравнив между собой приводимые ниже два предложения из «Новгородской первой летописи», легко убедиться, что некоторые славянизмы (в данном случае изгнати) можно было использовать так же, как и синонимичные русские слова (в данном случае выгнати):
Въ лѣ(҃т) (1154) изгнаша новъгородици кн҃зя яросла(҃в) ... и въведоша Ростислава.
В то же лѣ(т) выгнаша изяславича новгородци Ярослава. а Ростиславича Роман посадиша.
Однако возможность такого сходного употребления славянизмов и русских слов не означала, что они могли всегда заменять друг друга. Если в церковнославянском языке существовали устойчивые нормы употребления слов, то в древнерусском языке сложно взаимодействовали и переплетались разнообразные причины, влиявшие на выбор славянизма или народно-разговорного элемента. Степень книжности языка светских произведений была различной. Сравнивая, например, тексты разных русских летописей, можно заметить, что у одних летописцев рассказ сильно «окнижнен», а у других — весьма незначительно. Если сопоставить с этой точки зрения шесть древнейших русских летописей, то окажется, что наиболее богаты славянизмами рассказы из «Повести временных лет» (памятника, разнообразного по составу, возникшего на основании многих источников) и Галицкой летописи (памятника, основная часть которого написана одним летописцем). Рассказы Новгородской, Суздальской, Киевской и Волынской летописей значительно более просты по изложению и содержат меньше славянизмов. Летописцы, создававшие эти «некнижные» летописи, имея возможность выбора между русским словом и славянизмом, довольно последовательно предпочитали русское. Вот два отрывка, написанных такими летописцами: «князь же Всеволодь здумавь с братьею своею и с дружиною. води ихъ в роту [т. е. привел их к клятве, к присяге] в Половьцьскую. поима ихъ поиде к Великому городу. и приде князь к городу. и перешедъ Черемисанъ... наряди полкы» (Суздальская летопись); «и поидоша вси и полѣзоша ко заборо(҃л)мъ [т. е. к городским стенам, укреплениям] и бьяхуся крѣпко обои. и в то веремя приде весть Лвови князю. оже рать идеть на нь велика. и повелѣ перестати о(т) боя [т. е. прекратить бой]» (Волынская летопись). Простота синтаксического построения, регулярное употребление общеславянских или русских слов (например, городъ, переити, заборола, малоупотребительное даже в летописи веремя) соответствуют конкретности, документальности таких рассказов.
Их авторы иногда даже сами как бы превращали славянизм в русское слово, так, например, славянизм мраморяныи в некоторых рассказах переделан в мороморяныи (т. е. неполногласное сочетание ра было заменено на полногласное оро).
Однако и в таких рассказах могли употребляться хорошо известные славянизмы типа время, възвратитися. И тем не менее русская основа этих рассказов несомненна.
Аналогичные примеры можно найти и в литературе более позднего периода. Вот отрывок из уже упоминавшегося «Хожения за три моря» Афанасия Никитина: «И тутъ есть Индѣйская страна, и люди ходять нагы всѣ, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены, а всѣ ходят брюхаты, дѣти родять на всякий годъ, а детей у нихъ много...».
Но даже обратившись к произведениям тех авторов, которые больше заботились о литературности, книжности своих сочинений, мы увидим, что язык многих из этих произведений очень существенно отличается от церковнославянского. Приведем пример из Галицкой летописи: «Ростиславъ... пѣшцѣ же остави противу враго(҃м) гра(҃д). стрѣщи вратъ. да не изиидуть на помощь Данилу. и не исѣкуть праковъ [т. е. не разобьют стенобитные орудия]. Ростислав же исполчився преиде дебрь глубокую... крѣпко копьем же изломившимся. яко о(т) грома трѣсновение бы(҃с) и о(т) обоихъ же мнози падше с кони и умроша. инии уязвени быша о(т) крѣпости ударения копѣиного». Этот пример показывает, что книжная отделка таких рассказов была довольно ограниченна и своеобразна. Если авторам было хорошо известно как старославянское, так и русское слово (градъ — городъ, изити — выити и т. п.), то они регулярно употребляли старославянское. Но эти славянизмы соседствовали с типично летописной русской фразеологией и народно-разговорными словами.
Аналогичную книжную отделку можно найти и в произведениях более позднего периода. Их авторы стремились совместить книжность языка с его доступностью: эта литература предназначалась для читателей, прошедших лишь начальный этап книжного образования. К таким произведениям относятся, например, возникшие в XVII в. «Повесть о Карпе Сутулове», «Сказание о куре и лисице» и некоторые другие. Так, в «Повести о Карпе Сутулове» нет ни одного слова с полногласием, местоимение азъ употреблено 31 раз, а язъ или я — ни разу. Часто, хотя и не столь последовательно и не совсем правильно, используются утратившиеся из живой речи формы аориста и имперфекта на -ша, -ше (повелеша, отвещаше), книжные формы причастий, синтаксический оборот дательный самостоятельный и т. п. Но вся эта книжность, представлявшая собой только собрание наиболее употребительных штампов церковной литературы, выглядела довольно поверхностно на фоне таких разговорно-просторечных явлений, как вытти, в одных, рублев, дай (наряду с книжным даждъ), и в составе простых по структуре предложений, например: «И в то же время прииде ко вратом поп, отец ея духовны, по приказу ея, и принесе ей с собою денег двести рублев и начал толкатися во врата, она же скоро возре в окошко и восплеска рукама своима».
Лаврентьевский список летописи 1377 г.
Авторы светской литературы всегда предпочитали употребить народно-разговорное слово в том случае, если книжный образец был малоупотребителен и поэтому ощущался бы в произведении как чрезмерно книжное, инородное явление. Стремление писать в одном и том же книжном ключе ограничивалось сложившимися в древнерусском языке определенной эпохи нормами употребления слов. Например, в рассказе о событиях 1254 г. уже упоминавшийся галицкий летописец рассказывает о том, как воины искали дерево и солому, чтобы поджечь город. Дерево и солома могли быть названы как с помощью неполногласных славянизмов древо и слама, так и с помощью полногласных русских слов дерево и солома. Галицкий летописец всегда последовательно ориентировался на книжные образцы, но в этом рассказе он употребил рядом с неполногласным словом древо полногласную форму солома: «искахуть бо вои ѣздяще сѣмо и сѣмо [т. е. туда и сюда], дрѣва и соломы што бы приврещи [т. е. бросить] граду». Дело в том, что слово древо было хорошо известно и автору и читателям, а слово слама было малоупотребительным, оно изредка встречалось лишь в церковных памятниках, но было слишком книжным даже для автора — любителя книжных слов. Так же объясняются и многие другие подобные случаи совместного употребления славянизмов и народно-разговорных слов в памятниках древнерусского языка, в том числе и особенно неожиданное на первый взгляд сочетание в одном контексте слов с синонимичными и близкими по форме русскими и старославянскими словообразовательными элементами, например глаголов с приставками пре- и пере- в рассказе из «Новгородской первой летописи»: «тъгда же мьстисла(҃в) перебродяся днѣпрь. пръиде... на сторожи [т. е. к передовым отрядам] татарьскыя». Для перебродитися отсутствовал книжный образец с приставкой пре-, а глагол преити широко употреблялся в памятниках церковнославянского языка. Лишь наиболее последовательные авторы и писцы проводят такую отделку текста, при которой заменяют разговорные морфемы на книжные, и возникают искусственно-книжные образования типа пребродитися, превозитися (см. стр. 28, 29).
Наряду с авторами, писавшими в одном стилистическом ключе, имелись и такие, которые зачастую чередовали русское слово и славянизм, стремясь избежать повторений. Один и тот же предмет назывался по-разному. Свое знание как живого народного языка, так и церковнославянского многие русские книжники использовали в целях литературной отделки своих сочинений. Примеры чередований синонимичных русских слов и славянизмов (чаще всего полногласных и неполногласных слов) имеются в памятниках разного времени: «и ста Володимеръ на сеи сторонѣ. а Печенѣзи на онои, и не смяху си на ону страну. ни они на сю страну» («Повесть временных лет»); «а на полуденной [т. е. южной] стѣнѣ ворота зовутся сионския, большия же. Тѣми враты идти токмо къ сионской церкви, а иной большой дороги къ тѣмъ воротамъ ни откуду нѣтъ, понеже пришли съ обѣихъ странъ овраги великие; да отъ тѣхъ же сионскихъ вратъ внизъ къ Юдоли плачевной близь святая святыхъ есть воротца не велики...» (Арсений Суханов. «Проскинитарий», XVII в.; отрывок из описания Иерусалима). А вот пример чередования старославянского по происхождению условного союза аще с русским буде: «аще меня задушат и ты причти [т. е. приравняй] мя с Филипом митрополитом Московским; аще зарѣжутъ, и ты причти мя з Захариею пророкомъ; а буде в воду посадятъ, и ты яко Стефана Пермского свободишь мя» («Житие протопопа Аввакума», XVII в.).
Использование славянизмов в древнерусском языке было связано с содержанием того, о чем шла речь в произведении. Изложение событий светской жизни было тесно переплетено с религиозной идеологией: многие летописные рассказы создавались в религиозно-назидательных целях, многие светские лица возводились в ранг святых и т. п. И естественно, что как только автор заговаривал на религиозные темы, он обращался к тем средствам языка, которые ему уже были хорошо известны из церковных книг. Если речь шла, скажем, о перенесении тел святых, то почти всегда употреблялись глаголы с приставкой пре- (в окружении других славянизмов), например: «и створше праздникъ праздноваша свѣтло. и преложита я [т. е. их, Бориса и Глеба] в новую црк҃вь» («Повесть временных лет»); если речь шла об избрании епископа или настоятеля монастыря, то, как правило, использовался старославянский глагол избьрати, а не русский выбьрати (4, стр. 171), например: «б҃жиею же волею избранъ бы(҃с) Иванъ пискупъ» (Галицкая летопись); когда Арсений Суханов в своем «Проскинитарии» говорит о переходе «юдоли плачевной» (долины вблизи Иерусалима), он употребляет глагол преити, говоря же о переходе ничем не примечательного гребня горы, он использует глагол переити. Сравните:
и соидутся обои, прешедъ Юдоль плачевную на одну дорогу в Вифанию и на Иорданъ...
а перешедъ гребень, стали на высокомъ мѣстѳ межъ горъ, на лужку.
Славянизмы нередко используются в составе устойчивых словосочетаний, сложившихся в церковнославянском языке, например: предъ богомь и предъ ч҃лвкы, вышьнии градъ и др. Эти словосочетания часто представляют собой перифразы[20]; так, о смерти писали: «д҃ша своя предаша в руцѣ б҃у» (Галицкая летопись), о сожжении: «огневи предаша» (там же). Устойчивые выражения типа на предълежащая възвратимъся или на предъреченая взидемъ, очень употребительные в церковно-книжных памятниках, используются тогда, когда авторы переходят к продолжению прерванного описания.
Естественно, что славянизмами богаты торжественные, эмоциональные описания, в которых речь идет о предметах, вызывающих восхищение или уважение: «мѣсто же то красно вѣдѣниемь. и устроено различными хоромы ц҃ркви же бяше в немь предивна красотою сияющи. тѣм же [т. е. поэтому] угодно бъ(҃с) [вместо бысть, т. е. было] князю пребывати в нем» (Волынская летопись).
В современном языке многие славянизмы используются и для того, чтобы вызвать ироническое, насмешливое отношение к чему-либо. При этом часто выступают целые сочетания слов из книг «священного писания». Некогда они звучали возвышенно, торжественно, но постепенно, с изменением отношения к религии, стали звучать иронически: «Сначала меня поразило, особенно после Берлина, полное отсутствие просящих нищих. Думал, «во человецех благоволение». Оказалось другое» (В. Маяковский. Париж). Библейское выражение во человецех благоволение (т. е. среди людей полное благополучие) употреблено явно не всерьез, а в шутку. В письменности Древней Руси, конечно, такого использования «священного писания» мы не встретим. Отношение к религии было иным, да и ирония средневековым произведениям мало свойственна. Но в XVII в. появляется сатирическая литература, распространявшаяся, по-видимому, в среде, далекой от духовенства. И вот здесь мы впервые встречаемся с использованием славянизмов в качестве средства пародии на церковную литературу. Одно из сатирических произведений, возникших в эту эпоху, было направлено против пьянства. Оно имело красноречивое заглавие «Служба кабаку» и пародировало текст из «Служебной Минеи». Сопоставьте эти два текста:
Благоугоден богови быв и возлюбен бысть, и живый посреди грешник преставися, восхищен бысть, да не злоба изменит разума его или лесть прельстит душу его, рачение бо злое губит добрая, и желание похоти променяет ум незлобив.
«Служебная Минея»
Благоугоден пьяницам быв, живый посреде трезвых преставлен бысть жалством, восхищен бысть и с ярыжными на воровстве уловлен бысть, да злоба покрыет разум его и лесть пьянства превратит душу его. Рачение бо злое губит добрая, и желание похоти прелагает его в ров погибели.
«Служба кабаку»
Итак, мы кратко остановились на том, что вызывает употребление славянизмов в тех произведениях, язык которых существенно отличается от церковнославянского языка.
Избирательное использование славянизмов сочеталось в летописных и художественно-повествовательных произведениях с широким применением разговорно-бытовой лексики и фразеологии, не свойственной церковно-славянскому языку. Эта лексика различна по происхождению: здесь и некоторые слова, унаследованные из общеславянского языка, и образования восточнославянской эпохи, и устные заимствования (из греческого языка, из тюркских языков и др.). Все эти слова попали в письменные памятники не книжным путем, а из живой речи. К числу таких слов, употреблявшихся уже в древнейших русских летописях и обозначавших различные предметы и явления повседневного быта, относятся, например, борона, молотити, огородъ, гридь («воин, княжеский телохранитель»), конюхъ, лошадь, боровъ, лебеда, комузъ (т. е. «кумыс, напиток половцев», заимствовано из тюркских языков), борть («лесной улей»), деревня, погостъ («усадьба, поселок, место остановки князей во время объездов земель; место около церкви и кладбища»), теремъ, хоромъ («дом, строение»), порогъ, вѣжа («шатер, кибитка; башня»); гридьница — «помещение для княжеских телохранителей», бѣла («белка»), куна («куница; денежная единица»), перевѣсъ («большая сеть для ловли птиц и зверей, которая перевешивалась с одного шеста на другой или с одного дерева на другое»), перевѣсище («место, где устраивались перевесы»), коврига и др. Там же встречаем большое число устойчивых сочетаний, возникших в русской княжеско-дружинной среде и регулярно употреблявшихся разными летописцами. Вот некоторые из таких сочетаний: держати русскую землю («управлять русской землей»), сѣдѣти на столѣ (т. е. на княжеском престоле) дѣда своего и отца своего; ести хлѣбъ дѣдинъ («княжить в наследственной отчине»), въѣха со славою и честью великою, бишася крѣпко, поможе богъ, творити миръ («заключать мир»), прити (или ити) въ сторожѣхъ («прийти с передовым отрядом»), сложити голову, на свою голову, показати путь («изгнать»), ятися по дань («согласиться платить дань»), на щитъ дати («въдати) или възяти («в добычу отдать или взять»), сѣсти на щитѣ («сдаться»), възяти городъ копиемь, лови дѣяти («охотиться») и др. В состав таких русских словосочетаний изредка проникают хорошо известные славянизмы; так, описание отступления под натиском врага, как правило, вызывает употребление в летописном рассказе глагола движения с русским предлогом передъ или со славянизмом предъ: «Саксини и Половци възбѣгоша... пере(҃д) татары» (Суздальская летопись); «...побѣгнуша предъ угры» («Повесть временных лет»).
В более позднее время в повествовательных и публицистических произведениях начинают применять те выражения, которые сложились в «приказном» языке Московской Руси (см. стр. 103, 104). Например, сатирическая «Повесть о Ерше Ершовиче» начинается челобитной, в которой точно воспроизводятся многие языковые особенности этого вида деловой письменности. Сравните:
Жалоба, господа, нам на злого человека, на Ерша Щетинника, и на ябедника.
«Повесть о Ерше Ершовиче»
а нас, крестиян ваших, перебили и переграбили
«Повесть о Ерше Ершовиче»
Жалоба гсдрь намъ на саседа своего на Стефана Купреянова.
«Московская деловая и бытовая письменность XVII в.». М., 1968; Челобитная 1649 г..
и на(҃с), г(҃с)дрь в улусе переимали и переграбили многи(҃х)
«Акты Астраханской воеводской избы», рукопись; Челобитная 1634 г.
Литературным и публицистическим произведениям зачастую придается форма деловых документов — челобитных (таковы челобитные Ивана Пересветова), войсковых донесений (такова «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» XVII в., написанная в форме донесения царю Михаилу Федоровичу), а в сатирической литературе XVII в. встречается и пародирование различных жанров деловой письменности (например, в «Калязинской челобитной», в «Сказании о роскошном житии и веселии», в «Лечебнике на иноземцев»).
Книжные и фольклорные художественные средства
В художественно-повествовательной литературе сочетались не только церковнославянские и древнерусские элементы языка, но и книжные и народные художественные средства.
Народно-поэтические произведения (песни, сказки, былины, сказания и др.) создавались на Руси еще в дописьменную, языческую эпоху. Когда же появилась письменность и стали возникать оригинальные русские сочинения, в них нашли отражение фольклорные мотивы. Как уже говорилось, фольклорное происхождение имеют многие сказания, включенные в состав «Повести временных лет». И в дальнейшем, на протяжении всего периода своего существования, древнерусская литература использует идеи и художественные средства народной поэзии в сочетании с традиционными, книжными. Элементы фольклорной и книжной поэтики (метафоры, сравнения, эпитеты и др.) в разной степени отражены в таких произведениях, как летописные рассказы, сочинения Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Задонщина», позднее в «Повестях об Азове», в «Повести о Горе-Злочастии» и др.
Многие метафоры и сравнения, с которыми мы встречаемся в этих произведениях, построены на аналогиях, взятых из русской устной поэзии или из окружающей жизни (прежде всего из мира природы) и не используемых в церковно-книжных произведениях. Таково, например, сопоставление князя, воина с соколом. Источник этого образа можно усматривать как в бытовых картинах соколиной охоты, так и в народной поэзии, где соколом часто называют юношу — милого, жениха или брата (1, стр. 78). Вот несколько примеров. В «Повести временных лет» в рассказе о событиях 1097 г. говорится о полках, которые «сбиша угры акы в мячь. яко се соколъ сбиваеть галицѣ [сбили венгров в кучу, как вот сокол сбивает галок]». Всем памятны такие метафоры «Слова о полку Игореве», как далече заиде соколъ [т. е. Игорь], птиць бья, — къ морю; се бо два сокола [т. е. Игорь и Всеволод] слътъста съ отня стола злата и др. Образ молодца — сокола, использованный в полуфольклорной «Повести о Горе-Злочастии», взят из народных песен о горе. Сравните:
Полетел молодец ясным соколом А Горе за ним белым кречетом. «Повесть о Горе-Злочастии» Он летит ясным соколом А горюшко вслед черным вороном. Народная песня о гореИз народной поэзии был взят и ряд других метафор и сравнений. Например, враги и вообще все «темные силы» сопоставляются чаще всего с воронами, галками, гусями, лебедями: «чръныи воронъ, поганыи Половчине» («Слово о полку Игореве»), «ни черному ворону ни поганому Мамаю» («Задонщина»), «Горе... учало над молодцом граяти, что злая ворона над соколом» («Повесть о Горе-Злочастии»). В «Задонщине» так изображаются татары: «гуси возгоготаша.., лебеди крилы въсплескаша». Жадный и сильный человек сравнивается с волком, мужественный и сильный — с туром, быстрый и сильный — с орлом: «рѣша же древляне... бяше бо мужь твои аки волкъ. восхищая и грабя» [Сказали же древляне: «...Муж твой, как волк, похищал и грабил»]» («Повесть временных лет»); «и облизахутся на на(҃с) акы волци стояще» («Автобиография Владимира Мономаха»); «Камо [т. е. куда] туръ поскочаше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежать поганыя головы Половецкыя» («Слово о полку Игореве»). Роман Галицкий «прехожаше землю ихъ [врагов] яко и орелъ. храборъ бо бѣ яко и туръ» (Галицкая летопись). Смерть метафорически изображается как заход солнца, битва — как пашня, посев или пир, стрелы — как дождь, стрельба — как гром и молния, например: «плакахуся по немь [князе Владимире Васильковиче] лѣпшии мужи Володимерьстии рекуче... уже бо сл҃нце наше заиде (Волынская летопись); «Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна: тугою [т. е. печалью] взыдоша по Рускои земли» («Слово о полку Игореве»); «мечющимъ же пращамъ и стрѣламъ яко дожду идущу на гра(҃д) ихъ» (Галицкая летопись); «И после того в полкех их почела быти стрелба пушечная и мушкетная великая: как есть стала гроза великая над нами страшная, бутто гром велик и молния страшная ото облака бывает с небеси» («Повесть об азовском осадном сидении донских казаков»).
К народной поэзии восходят и так называемые отрицательные сравнения и метафоры, например: «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ [т. е. не к добру] бяхуть посѣяни, посѣяни костьми Рускихъ сыновъ» («Слово о полку Игореве»); «то ти не орли слѣтошася, съѣхалися вси князи русския» («Задонщина»), «не стук стучить, ни гром гремит, стучить сильная рать... гремят удальцы рускыя золочеными доспехы, черлеными щиты» (там же); сравните отрывок из былины:
Не гром гремит, не стук стучит, Говорит тут Илюшка своему батюшке...Фольклорное происхождение имеют такие эпитеты, как синее море, чистое поле, зелена трава, студеная роса, серые волки, борзые комони, шизый орел, красные девы, стрелы каленые, кровавые раны («Слово о полку Игореве»), зверь лютый, сокол дюжии, шелом златыи, злато сухое, струны златые («Девгениево деяние»), горы крутые, холмы высокие, дубравы чистые, князья грозные, бояре честные («Слово о погибели Русской земли»), зелено вино, под буйну голову, белы ноги («Повесть о Горе-Злочастии») и др.
Встречаются в древнерусских произведениях и фольклорные сочетания двух слов, близких по значению и связанных между собой без помощи союзов, например: цари-царевичи, короли-королевичи («Девгениево деяние»); не думай украсти-ограбити и обмануть-солгать; в ногах у него лежат лапотки-отопочки [т. е. стоптанные лапти]; и все гости на пиру пьяны-веселы («Повесть о Горе-Злочастии»).
В некоторых художественных произведениях, созданных на Руси, звучат ритмы народной поэзии. Если внимательно присмотреться к ритму многих сказок, пословиц, поговорок, загадок, свадебных приговоров, то можно обнаружить, что он довольно строго организован: каждая строка имеет четыре ударения — слабое, сильное, затем снова слабое и снова сильное; после первого сильного ударения происходит смена («перелом») интонации; полустроки («колоны») часто сходны по своей синтаксической структуре, а последние слова строк или полустрок обычно рифмуются; первая полустрока иногда может отсутствовать. Такую организацию речи называют сказовым стихом (38, стр. 6). Вот отрывок из свадебного приговора, написанного сказовым стихом:
Ехать бы нам /путем дорогою, Чистыми полями, /быстрыми снегами, Крутыми горами, /быстрыми реками, Черными грязями, /зелеными лугами, шелковыми травами.А теперь сопоставьте этот отрывок с началом «Слова о погибели Русской земли»:
О свѣтло свѣтлая /и украсно украшена /земля Руськая! И многыми красотами /удивлена еси: Озеры многыми /удивлена еси, Рѣками и кладязьми /мѣсточестьными,[21] Горами крутыми, /холми высокыми, Дубравоми чистыми, /польми дивными, Звѣрьми разлычьными, /птицами бещислеными, Городы великыми, /селы дивными, Винограды обителными,[22] /домы церковьными И князьми грозными, /бояры честными, /вельможами многами.Несомненно, вы обнаружили сходство между двумя приведенными отрывками не только в ритмике, но и в образах. Это сходство не случайно: автор «Слова о погибели Русской земли» испытывал влияние древних фольклорных произведений (38, стр. 11—13).
Ритмику, близкую к фольклорной, можно обнаружить и в ряде других древнерусских произведений («Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Повесть о Горе-Злочастии» и др.).
Итак, народная поэзия была одним из источников художественных средств древнерусской литературы.
Вместе с тем эта литература использовала и средства книжной риторики, присущие произведениям, написанным по-церковнославянски. Однако средства книжной риторики применяются здесь не столь активно, как в церковно-книжной литературе. Это объясняется как большей конкретностью, документальностью повествования, так и широким употреблением средств народной поэзии. Кроме того, чаще встречаются те книжные образы, которые наиболее близки бытовым и народно-поэтическим образам. Так, используется сравнение человека с орлом, но не для того, чтобы показать силу и быстроту героя; с высотой полета орла сравнивается возвышенность мыслей человека: «и бых паря мыслию своею, аки орел по воздуху» («Моление Даниила Заточника»). Сеяние и жатва символизируют не битву, а приобщение к христианству: «...якоже бо се нѣкто землю разорить. другыи же насѣеть. ини же пожинають и ядять пищю бескудну. тако и сь. оць бо сего [речь идет о Ярославе Мудром] Володимеръ землю взора и умячи [правильно: умягчи] рекше кр҃щньемь просвѣтивъ. сь же насѣя книжными словесы ср(҃д)ца вѣрны(҃х) людии. а мы пожинаемъ ученье приемлюще книжное [Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, а третьи пожинают и едят пищу неоскудевающую, так и здесь. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещеньем просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение получая книжное]» («Повесть временных лет»).
Влияние церковно-книжной традиции на произведения древнерусской литературы сказалось и в употреблении метафорических выражений, построенных на сопоставлении материального и духовного, например: урва ми сердечное корение («Девгениево деяние»); скача, славию, по мыслену древу («Слово о полку Игореве»); сладость словесная; сосуд сердечный; обрати тучю милости твоея на землю худости моея («Моление Даниила Заточника»); душа... брашна духовнаго желает; зима еретическая; семя словеси божия; лоза преподобия; стебель страдания; нива сердца (различные сочинения протопопа Аввакума). В то же время в сатире XVII в. мы находим и пародии на эти выражения. Вот примеры из известной уже нам «Службы кабаку»; оружие пьянства (сравните церковные выражения оружие веры, оружие божие и т. п.), шлем дурости (сравните шлем суд нелицемерен, шлем упования), щит наготы (сравните щит непоборим преподобье, щит веры и т. п.).
В произведениях, написанных по-древнерусски, находим такие риторические приемы, как стилистическая симметрия: «Вострубим убо, братие, аки в златокованную трубу, въ разумъ ума своего и начнемъ бити в сребреныя арганы воизвѣстие мудрости» («Моление Даниила Заточника»); параллельные по структуре предложения, содержащие сопоставление или противопоставление:
Богат мужь возглаголет — вси молчатъ и слово его до облак вознесутъ; а убогъ мужь возглаголет, то вси на него воскликнут. «Моление Даниила Заточника»;парные сочетания: туга и тоска, свычая и обычая, рѣки и озера («Слово о полку Игореве»); восклицания: «О многострст(҃с)тныи и печалны азъ» («Письмо Владимира Мономаха к Олегу Святославичу») и др.
В отдельных произведениях можно обнаружить отрывки, написанные стихом, свойственным ряду церковно-книжных сочинений (см. стр. 50, 51). Ритм церковно-книжного стиха слышится в мольбах Даниила Заточника (38, стр. 14—15):
Княже мои, господине! Яви ми зракъ лица своего, Яко гласъ твои сладокъ, и образ твои красенъ; Мед истачають устнѣ твои, И послание твое аки раи с плодом. Но егда веселишися многими брашны, А мене помяни, сух хлѣбъ ядуща, Или пиеши сладкое питие, А мене помяни, теплу воду пиюща от мѣста незавѣтрена; Егда лежиши на мяккых постелях под собольими одѣялы, А мене помяни, под единым платом лежаща и зимою умирающа, И каплями дождевыми аки стрѣлами сердце пронизающе.Там же, где автор «Моления» переходит от просьб к поучениям, мы встречаемся с народным сказовым стихом:
Какъ в утелъ мѣх лити, /такъ безумнаго учити; Псомъ бо и свиниамъ /не надобѣ злато, ни сребро, Ни безумному /драгии словеса; Ни мертвеца росмѣшити /ни безумнаго наказати.Художественные средства, рассмотренные в данном разделе, в разной степени использовались в сочинениях, написанных на древнерусском языке. Некоторые из этих сочинений почти полностью лишены художественной отделки; авторы их стремятся лишь к строгой фиксации событий. Таковы многие (но не все) летописные рассказы, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина и др. Некоторые авторы, наоборот, явно ставили перед собой не только задачу зафиксировать факт, но и создать образную картину или использовать средства художественной выразительности для того, чтобы сделать свою речь более красочной или убедительной. Таковы авторы «Слова о полку Игореве», «Слова о погибели Русской земли», «Задонщины», Владимир Мономах, Даниил Заточник и др.
Вместе с тем в течение всего средневекового периода на Руси существовала письменность чисто делового назначения.
Деловой язык Древней Руси
Деловые документы возникли на Руси вскоре после появления письменности. Историки русского языка полагают, что многие законы древнерусского государства сложились и закрепились в устной форме в дописьменный период, а в письменности был зафиксирован готовый, обработанный устный текст этих законов. В посольских, договорных, воинских речах до появления письменности были выработаны, очевидно, деловые термины и устойчивые выражения. Существованием этой устной деловой традиции объясняется, по-видимому, тот факт, что на язык русских деловых памятников не оказали влияния церковно-юридические памятники, такие как «Закон судный людем» и «Номоканон»[23] Иоанна Схоластика, переведенные с греческого языка на старославянский еще в IX в. и довольно широко распространенные на Руси.
Устное право не позднее XI в. нашло письменное закрепление в Русской Правде — своде феодальных законов Киевской Руси XI—XII вв. Краткая редакция этого памятника возникла в XI в. и сохранилась в списках XV в., а Пространная редакция возникла на столетие позже — в XII в., но известна в более раннем списке 1280 г. (в составе «Новгородской кормчей»].
В Русской Правде излагались основные законы Киевской Руси, а отдельные факты юридического характера (передача имущества, завещания, договорные обязательства и т. п.) закреплялись специальными грамотами. От эпохи Киевской Руси сохранилось немного грамот («Грамота князя Мстислава Юрьеву монастырю», 1130 г., «Духовная Варлаама Хутынскому монастырю», около 1192 г. и др.). Грамоты XIII—XIV вв. более многочисленны; древнейшая из смоленских грамот относится к 1229 г., из новгородских — примерно к 1263 г., древнейшие из сохранившихся московских, тверских, рязанских и южнорусских грамот относятся к XIV в.
Особенно широко деловая письменность была развита в Московской Руси. В XV—XVI вв. на основе московского говора развился деловой («приказный») язык Московской Руси, сформировавшийся главным образом в московских «приказах» (т. е. в учреждениях, ведавших отдельными отраслями государственного управления). Явления делового языка предшествующей эпохи объединились в приказном языке с новыми явлениями, заимствованными из живой народной речи или возникшими в нем самом. На приказном языке писались государственные и юридические акты, а также письма московских великих князей, посольские донесения, географические и исторические сочинения, лечебники, поваренные книги и т. п. К числу важнейших памятников московского приказного языка относятся, например, «Судебник» Ивана III 1497 г., «Судебник» Ивана Грозного 1550 г., «Уложение» Алексея Михайловича 1649 г. и др.
Язык деловых документов как Киевской, так и Московской Руси отличается от языка летописной и художественно-повествовательной литературы, во-первых, крайне ограниченным использованием славянизмов; во-вторых, специфическими терминами, устойчивыми сочетаниями слов и синтаксическими явлениями; в-третьих, почти полным отсутствием каких-либо приемов литературной отделки; последние появляются только в самых поздних деловых памятниках Древней Руси. Рассмотрим эти три отличительных свойства делового языка.
Результаты подсчетов свидетельствуют, что славянизмы — такое же редкое явление в деловых памятниках, как народно-разговорные, восточнославянские слова и выражения — в памятниках церковно-книжных (3, 4, 40, 41). Те, кто писали или переписывали деловые документы, довольно часто предпочитали русские слова и формы славянизмам. В краткой редакции Русской Правды, например, находим: голова, борода, холопъ, хоромъ, корова, коровии, солодъ, борошно, передѣ, переореть, перетесъ (а не глава, брада и т п.); роба. лодья, вывести, оже, одину и другие восточнославянские слова, имевшие синонимы в церковно-книжных памятниках. Вместе с тем встречаются и единичные славянизмы: предъ, въ среду, хощеть, единъ, разбои, изымати, аще.
Все славянизмы, представленные в деловой речи, входят в тот круг «обрусевших» славянизмов, которые наиболее часто использовались и в церковно-книжных памятниках. О степени употребительности славянизмов в деловой письменности говорят, например, такие факты: почти в тысяче грамот, сохранившихся в списках XI—XIV вв., зафиксировано лишь три глагола с приставкой пре- (пребывати, пребыти, преставитися) и два глагола с приставкой из- (избьрати и изидти), причем именно эти глаголы наиболее употребительны (по сравнению с другими глаголами с пре- и из-) в церковно-книжных памятниках.
В каких же случаях в деловых памятниках употребляются славянизмы?
Русская деловая речь создает свои штампы, свою устойчивую фразеологию, в составе которой иногда используются наиболее распространенные славянизмы. Возможно также, что писцы, работавшие в русских княжеских канцеляриях домонгольской эпохи, употребляли устойчивые формулы, сложившиеся в языке болгарских царских канцелярий. Очень многие из древних русских грамот начинаются одной и той же формулой: се азъ (т. е. вот я), в которой употреблено старославянское местоимение. Так начинается уже известная нам грамота Мстислава 1130 г.: «Се азъ мьстиславъ володимирь с҃нъ...» и т. д. Грамоты могут начинаться и другими распространенными книжными выражениями или славянизмами, например: «во имя отца и сына и святаго духа»; «во имя святые живоначальные троицы отца и сына и святаго духа»; «благословение отъ владыкы» и др. Славянизмы представлены и в таких устойчивых сочетаниях, употребительных в деловой речи, как предъ богомь, предъ княземь, преступити крестное цѣлование, рабъ божии, божею милостию и пречистое его богоматери, съ божьею помощью, общимь совѣтомь, блаженныя памяти... при царѣ, богомь хранимыя своея державы и др. (одновременно употреблялись и русские се язъ, передъ богомь, передъ княземь, переступити крестное цѣлование и др.).
В устойчивых сочетаниях, употребительных в приказном языке Московской Руси, отразились даже отдельные результаты орфографических изменений периода второго южнославянского влияния (например, сочетание всеа Руси вместо всеѣ Руси или всея Руси), а также некоторые архаические формы слов, вышедшие из употребления в живой речи (а на то послуси; по сроцѣ при наличии в живой речи форм послухи, по срокѣ).
Список «Уложения царя Алексея Михайловича» XVII в.
Своего рода «штампом» деловой речи является сложное предложение с придаточным условия. В сводах законов, таких, как Русская Правда, различные «Судебники», «Уложение» 1649 г., эти предложения очень употребительны. В придаточных предложениях условия, которые в сводах законов обычно следуют перед главными, могут применяться разнообразные условные союзы. Большинство этих союзов русские, однако часто употребляется и старославянский союз аще. Этот союз мы встречаем в краткой редакции Русской Правды: «аще ли кто кого ударить батогомъ, либо жердью, либо пястью, или чашею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 гривнѣ; аще сего не постигнуть, то платити ему, то ту конець [если кто ударит кого-либо палкой, жердью, рукой, чашей, рогом или мечом, то он платит 12 гривен; если потерпевший не настигнет его и не отомстит, то виновный платит штраф, и этим дело кончается]»; в древних грамотах: «аще кто деревомь ударить чл҃вка до кръви. полуторы гр҃вны [т. е. гривны] серебра, аще ударить по лицю или за волосы иметь. или батогомь шибеть. платити безъ четвьрти гр҃вна серебра...» («Торговый договор Смоленска с Ригою и готским берегом», 1229 г., список конца XIII в., рижская редакция) и в более поздней деловой письменности. В то же время в деловых памятниках широко представлены русские условные союзы аже, оже, позднее — буде (из глагола будеть) и другие, например: «аже ударить мечемь а не утнеть на см҃рть. то. ҃г҃. гр҃вны. а самому гр҃вна за рану, оже лѣчебное, потънеть ли на см҃рть. то вира [если кто-нибудь ударит мечом другого, но не насмерть, то он платит три гривны, а пострадавшему за рану гривна на лечение. Если же убьет насмерть, то платит виру]» (Русская Правда, Пространная редакция).
Вне штампов славянизмы появляются чаще всего в тех местах деловых документов, которые так или иначе связаны с религиозными мотивами, например в том случае, если речь шла о необходимости соблюдения церковных правил, о «божьей каре» за различные преступления: «гнев божий есть, посылается от руки божия на тех, иже ходят накриве к роте [т. е. принимают ложную присягу], да поженет [т. е. уничтожит] пламен их, и душа предастся огню неугасимому» («Уложение» 1649 г.).
Вместе с тем полностью освоенные русским языком славянизмы (типа время, владѣти, впредь, преже) могли быть употреблены в любом месте делового документа. Вот примеры употребления такого рода славянизмов: «Что дѣеть(҃с). по временомъ. то отиде по временомъ» («Торговый договор Смоленска с Ригою и готским берегом», по списку 1297—1300 гг.; в списке 1229 г. того же договора употреблено русское веремя); «да и впредь будетъ у них... (рядом употреблено полногласное впередь) которые земли пропашутъ они впередь...» («Уложение» 1649 г.).
Степень книжности деловых памятников неодинакова. Документы, создававшиеся в верхах государства, отличались большей книжностью. Так, грамоты великих и удельных князей, позднее царские грамоты по сравнению с другими деловыми документами богаче славянизмами: эти грамоты писались людьми, получившими книжное образование, которые придавали деловой речи легкую, но ощутимую книжную окраску; вот отрывок из жалованной грамоты великого князя Василия Михайловича и нескольких тверских удельных князей (1361—1365 гг.): «дали есмы сю милостыню [т. е. дар, подарок] церкви святое богородици отрочью монастырю, на память преставльшимъся от сего житья роду нашему».
Язык деловой письменности всегда отличался особыми, только ему свойственными чертами. Уже в древнейших деловых памятниках XI—XIV вв. мы обнаруживаем разнообразные деловые термины. Так, в грамоте Мстислава 1130 г. читаем: «...повелѣлъ есмь с҃ну своему Всеволоду о(т)дати буицѣ [это название села] с҃тму георгиеви [т. е. Новгородскому Юрьеву монастырю] съ данию и съ вирами и съ продажами». Здесь мы встречаемся с уже вполне устоявшимися деловыми терминами вира, продажа — виды штрафов за различные преступления.
Развитая система юридической и общественно-политической терминологии представлена в Русской Правде. Вот некоторые из терминов, употребленных в этом памятнике: изгои — «князь, не имеющий наследственного права на великокняжеский трон», послухъ — «свидетель, который что-либо слышал», видокъ — «свидетель, который что-либо видел», тать — «вор, преступник», головникъ — «убийца» (сравните уголовное преступление), огнищанинъ — «богатый, знатный человек, владелец дома», мужь — «свободный человек», отрокъ — «младший дружинник», тиунъ — «управляющий», особая должность при князьях, боярах и епископах, рядовичь — «служащий по договору» (сравните рядъ — «договор, условие»), закупъ — «работник, нанимавшийся на определенный срок за плату, которую он получал заранее», мыто — «пошлина», потокъ — «уничтожение; изгнание», добытокъ — «приумноженное имущество», розграбежь — «конфискация имущества», клепати — «обвинять» и т. п. С течением времени деловая терминология существенно пополняется. Так, в документах XV—XVII вв. впервые появляются такие слова, как волокита — «задержка, проволочка», допросъ и распросъ — оба в значениях «судебный опрос обвиняемых и свидетелей» и «акт, протокол судебного опроса», пропись и припись — «подтвердительная запись дьяка на указе, грамоте», выпись — «извлечение из более обширного акта», сказка — «объяснение, дача показаний», явка — «устное или письменное заявление о преступлении», записка — «протоколирование, запись при допросе во время суда», справка — «сверка, получение нужных сведений», отписка — «докладная записка представителя местной власти, направленная в высшую инстанцию», челобитная — «письменное прошение, жалоба», пожилое — «плата за пользование двором», тягль — «пошлина», ищеа — «истец», недельщикъ — «судебный чиновник, пристав», целовальникъ — «целовавший крест, присягавший» и очень многие другие (11, 28).
Некоторые слова в деловой речи получают новые значения, не свойственные им за ее пределами. Так, глагол вылѣзти в Русской Правде несколько раз употребляется в значении «явиться в качестве свидетеля»: «Оже выбьють зубъ... а люди вылѣзуть. то. 12 грвнѣ продаже [т. е. 12 гривен штрафа]» (Пространная редакция). Слово дело, имевшее значение «деятельность, поступок» и другие, в юридических памятниках с XIV в. начинает употребляться в значении «спор, тяжба, судебный процесс»: «И в розбое, и в поличномъ, и в татбѣ, и во всякихъ дѣлехъ вѣдаетъ самъ Петръ митрополитъ единъ, или кому прикажетъ» («Ярлык хана Узбека митрополиту Петру», 1315 г.); слово бумага в деловой речи XVI в. получило значение «документ, акт» (в других памятниках оно употреблялось с XV в. в значениях «хлопчатобумажная ткань» и «материал для письма»); слово черный, употреблявшееся со значением цвета, в документах XVII в. отмечено со значением «черновой» (например, черная челобитная) (52, стр. 182) и др.
Наряду с новыми словами или новыми значениями в деловой речи в изобилии возникали составные термины, включавшие несколько слов. Так, уже в ранних деловых документах (XI—XIV вв.) находим такие сочетания: ити ротѣ — «принимать присягу»; правьда дати (или дати правьду) — «относиться справедливо»; «оправдать»; «удовлетворить судом»; правьда възяти — «добиться права», «пользоваться правами»; коньчати (доконьчати) миръ — «заключать мир»; миръ дьржати — «соблюдать мир»; чинити вѣдомо (знаемо, знаменито, свѣдомо) — «извещать, давать знать, объявлять»; бессудная грамота — «грамота, даваемая без суда» и другие виды грамот; отъѣздьная («отдаленные») волости, мѣста; безъ пакости — «без препятствия»; безъ перевода — «без пересмотра дела; без изменения, без замедления»; се купи («вот купил» — в начале купчей грамоты); се заложи («вот заложил» — в начале закладной грамоты) и др. Вот некоторые примеры употребления этих сочетаний: «ротѣ шьдъ, свою правду възмуть» («Мирная грамота новгородцев с немцами», 1199 г.); «Се азъ князь Олександръ и сынъ мои Дмитрии... докончахомъ миръ с посломь нѣмьцкымь» («Договорная грамота, заключающая в себе условия восстановления мира Новгорода с немцами», 1262 или 1263 г.); «А сии миръ держати безъ льсти и безъ хытрости» («Договорная грамота великого князя Тверского Михаила Ярославича с Новгородом», 1318 г.); «Мы, великии князь Витовтъ, чинимъ знаемо симъ нашимъ листомъ, кто на него узритъ или услышить, чтучи» («Грамота великого князя Витовта князю Андрею Василу», 1382 г.); «А посломъ Новгородьскымъ и Новгородьцемъ ѣздити сквозѣ Михаилову волость безъ пакости» («Договорная грамота великого князя Юрия с великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и с Новгородом», 1318 г.). Большое количество устойчивых сочетаний возникает в приказном языке Московской Руси, например: дать очную ставку; слушать судное дело; расправа чинить; живота (т. е. жизни) не дати, казнити смертною казнию; лезти на поле (с кем-либо) — «выходить на судебный поединок (очевидно, взято из военной терминологии); доправить деньги; приложить руку; судьи съезжии — «судьи, съехавшиеся для суда»; записные книги — «книги, содержащие акты о скреплении сделок»; переписные книги — «книги, содержащие опись имущества после смерти владельца или в целях обложения»; расспросные речи; заручная челобитная — «челобитная, содержащая поручительство за кого-либо»; земский староста; пошлинные деньги; служилые люди; торговые люди; таможенный сбор; волостной крестьянин и др.
Отметим еще некоторые языковые явления (из области словообразования и синтаксиса), особенно часто встречающиеся в деловых памятниках.
В документах эпохи Московской Руси, направленных какому-нибудь вышестоящему лицу, было принято употреблять с уменьшительными суффиксами свое имя, а также имена тех лиц или названия тех предметов, которые писавший старался представить незначительными, несущественными, не достойными уважения: «Црю гсдрю и великому кнзю Михаилу Феодоровичю всеа Руси бьет, челом холоп твои Ивашка княз Ондрѣевъ снъ Голицын» («Челобитная князя И. А. Голицына», 3 июня 1625 г.); «а меня холопа твоего и женишку мою убил до полусмерти» («Челобитная жителя Тверской слободы П. Гаврилова», 22 апреля 1634 г.); «шол я халопъ твои от заутрѣни к себѣ къ дворишьку» («Челобитная кадашевца Ф. М. Реброва», 21 апреля 1635 г.).
Характерной особенностью языка деловых памятников является очень частое применение глаголов несовершенного вида с суффиксом -ивать (-ывать). Такие образования находим уже в ранних грамотах: «а грамоты ти кн҃же не посуживати [т. е. не отменять]» («Договорная грамота Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем», 1264 или 1265 г.); «а лихихъ бы есте людии не слуша(л)и хто иметь васъ сваживати» («Духовная грамота великого князя Симеона Гордого», 1353 г.). Но особенно типичны такие глаголы для приказного языка Московской Руси, где они употребляются чаще всего в форме прошедшего времени и с отрицанием: «я холоп твои ево ондрѣева двора не зажигивал и зажеч никому не веливал» («Челобитная стрелецкого головы П. Красного», 7 июня 1633 г.); «своихъ помѣстей не мьнивали; онъ своей вотчины никому не продавывал; ничего къ нему тотъ холопъ не принашивал» (все примеры из «Уложения» 1649 г.) и др.
В синтаксисе деловой речи, как уже говорилось, большое место занимали условные придаточные предложения. В приказном языке Московской Руси старые условные союзы (старославянское аще, русские оже, аже) постепенно уступают место новым союзам, возникшим из полнозначных слов. Так, если в Русской Правде господствуют аще, оже и аже, то в «Уложении» 1649 г. условные придаточные предложения регулярно начинаются словами а будетъ («а будетъ кто умышлениемъ и измѣною городъ зажжеть...»), союзом а («а кому лучится стояти...») или словом будетъ («будетъ кто какимъ умышлениемъ...») (48, стр. 136—137).
С древнейших пор для деловой речи типично нанизывание предложений с помощью соединительных союзов а, и, да, например: «а даръ имати тобе о(т) техъ волостии. а бес посадника тобе волостии не раздавати. а кому раздаялъ волости. братъ твои александръ. или дмитрии. съ новгородци. тобе техъ волостии без вины не лишати» («Договорная грамота Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем», 1264 или 1265 г.); повторение союзов и предлогов перед каждым из однородных членов предложения: «а сю грамоту пи(с҃)лъ есмь пере(҃д) своими о҃ци. пере(҃д) вл҃дкою володимерьскимъ перед(҃ъ) олексѣемъ пере(҃д) вл҃дкою переяславьскимъ офонасеемъ. пере(҃д) вл҃дкою коломеньскимъ офонасьемъ. пере(҃д) архимандритомъ петромъ. пере(҃д) архимандритомъ пере(҃д) филимономъ. пере(҃д) своимъ о҃цемъ д҃шевнымъ попомъ евсевьемъ» («Духовная грамота великого князя Симеона Гордого», 1353 г.), а также ряд других синтаксических явлений (6).
Некоторыми специфическими синтаксическими особенностями отличался приказной язык Московской Руси, например, в нем было чрезвычайно широко распространено употребление названия лица после местоимения: «служил я холоп твои прежним гсдремъ и тебѣ гсдрю тритцат пят лѣтъ» («Челобитная сторожа Мастерской палаты И. Тимофеева», 30 мая 1638 г.).
Таковы вкратце некоторые основные черты языка деловых документов Древней Руси.
В XVI и особенно в XVII в. деловая речь оказывает все большее влияние на художественную литературу (см. стр. 89). В то же время в деловых документах начинают использоваться некоторые художественные средства. Так, в грамотах XVII в. встречается рифмованная неритмическая речь, например: а вамъ о томъ не вчуже по бозѣ ревновати, что за свою вѣру и за все православное крестьянство стояти и своя страны отъ иноплеменных свобожати; богоотступники литовские люди и съ ними руские воры, государевы измѣнники... села и волости и деревни воюютъ, и церкви божии разоряютъ, и образы колупаютъ, и окладъ и кузнь [т. е. оковку] снимаютъ, и православную вѣру попираютъ.
В документах того же времени можно отметить и повторение синонимов: им в свою землю ехати безо всякого задержания и зацепки; и мы... молили и просили, и радели и промышляли;... и то делается нераденьем, небреженьем вашим; обыскивати накрепко, не боясь и не страшася никого ни в чем; было многое их челобитье, что они вконец оскудали и разорились (15, стр. 212—214).
Используя эти и некоторые другие приемы, авторы грамот, очевидно, стремились усилить эмоциональность речи с тем, чтобы побудить читавшего к определенным действиям, убедить его в чем-то.
Эти элементы художественной речи — довольно редкое явление в деловых документах. В целом их язык очень конкретен и традиционен. И тем не менее начавшееся взаимопроникновение художественной и деловой речи явилось одним из тех явлений, в результате которых уже в новое время были постепенно выработаны нормы русского национального языка.
3. СЛАВЯНИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Как известно, в русский язык вошло значительное число слов из старославянского и церковнославянского языков. Какова была их судьба, подверглись ли они каким-нибудь изменениям и в чем причины этих изменений? Остановимся главным образом на некоторых примерах из истории слов, почти не касаясь других сторон языка (грамматических форм, синтаксических конструкций, словообразовательных элементов, фразеологических выражений).
Чем определялась судьба славянизмов в русском языке?
Многие славянизмы прочно «вросли» в древнерусский язык уже с древнейших времен. Некоторые из них настолько прочно закрепились в русском языке, что стали соединяться с русскими суффиксами и приставками. Так, глагол перебраниваться возник путем соединения славянизма бранитися с русской приставкой пере- и русским суффиксом -ива-, в глаголе обезвреживать представлен корень со старославянским неполногласием, но русским ж (вместо старославянского жд), а также русский суффикс -ива- и т. п. Довольно много славянизмов закрепилось в русском языке, несмотря на то что в живой речи были русские слова, имевшие то же самое значение. Славянизм благо, например, очень рано вытеснил из употребления русское слово болого (этот корень сохранился, правда, в названии города Бологое). Слово болого — «добро» отмечено в очень немногих древних памятниках, например в Русской Правде: «...ему болого дѣлъ [т. е. делал] и хоронилъ товаръ его».
Аналогично сложилась история, например, таких слов, как работа — робота, жребий — жеребий, мрак — морок, смрад — смород (корень сохранился в названии ягоды смородина — исконно: «ягода, имеющая смород, т. е. запах»), сладкий — солодкий (сравните солод), овощь — овочъ, пещера — печера, прельстити — перельстити и др. Уже после XIV—XV вв. в русской письменности, а затем и в устной речи закрепились такие слова, как вождь, одежда, нужда, жажда, юноша, юдоль и другие, вытеснив из литературного языка русские вожь, одежа, нужа, жажа, уноша, удоль.
Многие славянизмы вообще не имели русского синонима, т. е. называли такие понятия, для выражения которых в живых говорах, по-видимому, не было слов.
В древнерусский язык из греческого языка через старославянский проникли слова, связанные с христианской религией, например; адъ — греч. άδης (1. Аид — властитель подземного царства; 2. ад); амвонъ («возвышение перед алтарем в церкви для чтения, пения и проповеди») — греч. άμβων; аминь или аминъ («так; да будет так; истинно», употреблялось в конце молитв и поучений — греч. αμήν; ангелъ — греч. άγγελος — «вестник»; апостолъ — греч. απόστολος — «посол»; архимандритъ — греч. αρχιμανδρίτης; евангелие — греч. ευαγγέλιον, собственно, «благовестие»; епископъ — греч. επίσκοπος; икона — греч. εικών — «изображение»; монастырь — греч. μοναστήριον и др. В старо- и церковнославянском языках возникли многие слова с абстрактным или религиозным значением, также не имевшие синонимов в живой древнерусской речи, например: беззаконие, безбожьныи, благовѣрьныи, благовѣщати, благодарити — первоначально «одарять благом (добром)», благодать, благонравие, благословити, боголюбивыи, велеречивыи, великолѣпие, владыка, възбранити, вьсенощьныи, добродѣтель, животворьныи, злословие, предърещи, пренебрещи, преобразити, преодолѣти, препиратися, претворити, преумъножити, распяти и др. Многие из таких слов образованы по модели греческих слов. Например, беззаконие в переводных памятниках обычно передает греческое ανομία — «беззаконие; отсутствие законов», образованное от слова νόμος — «обычай», «закон» с помощью отрицательной приставки α- и суффикса с абстрактным значением -ία. Так же образовано и славянское беззаконие: корень слова νόμος передан корнем -закон-, приставка α- — приставкой без-, а суффикс -ία — суффиксом -ие. Старославянским словом благовѣщати переводилось обычно греческое ευαγγελιζεσϑαι — сложное слово, состоящее из ευ- — «хорошо», переданное славянским благо, и αγγελιζεσϑαι, переданное славянским вѣщати.
Отсутствие конкуренции со стороны русских синонимов облегчало постепенное вхождение этих слов в светские жанры. Так, например, глагол преодолѣти представлен в воинской повести: «Благовѣрный же князь Федоръ Юрьевичь резанской посмѣяся и рече царю: «...Аще насъ приодолѣеши [описка вместо преодолѣеши], то и женами нашими владѣти начнеши» («Повесть о разорении Батыем Рязани в 1237 г.»). Интересно, что многие славянизмы, вошедшие в русский язык, сначала были недостаточно понятны. Такие славянизмы мы встречаем в древних словарях среди «неразумных на разум» слов и выражений. Там они пояснялись более понятными словами. Так, например, в одном новгородском словаре XV в. слово качьство поясняется так: «естество, каковому есть», количьство — «мера есть колика»; своиство — «кто имать что особно»; смерчь — «облакъ дъждевенъ» и др. (8, стр. 82).
Можно было бы привести еще очень много примеров славянизмов, закрепившихся в разное время в русском литературном языке. Вместе с тем значительное число славянизмов, употреблявшихся в течение длительного времени в светской литературе, в конечном счете вышло из употребления. Победой русского слова закончилась конкуренция таких слов, как злато — золото, влас — волос, брег — берег, глад — голод, врата — ворота, град — город, драгой — дорогой, блато — болото, нощь — ночь, есень — осень, елень — олень, езеро — озеро, пребити — перебити, преити — переити, аще — если и др. Правда в некоторых случаях сферы употребления синонимичных славянизмов и русизмов были настолько различны, что никакого взаимодействия между ними не было. Например, глагол пребити применялся только в церковно-книжных памятниках (главным образом при описании распятия Иисуса), а глагол перебити — только в светских и в живой речи. В то же время члены таких пар, как градъ — городъ, брегъ — берегъ, долгое время употреблялись в одних и тех же памятниках, даже в одном и том же контексте: «поидоша через мост в город; града ж того некто житель везе рвом в баню отца своего мыти» («Повесть о Шемякином суде», XVII в.). Слова типа градъ, злато, древо, брег, врата и т. д. окончательно вышли из употребления довольно поздно — во второй половине XIX в., а в поэзии отмечены и еще позже. Корни этих слов зачастую сохраняются в составе производных и сложных слов: Ленинград, безбрежный, обезглавить, древонасаждение.
Многие славянизмы, выйдя из употребления, сохранились лишь в соединении с другими словами в составе так называемых устойчивых сочетаний. Например, слово преткновение, образованное от глагола претъкнутися — «споткнуться», сохранилось лишь в составе устойчивого сочетания камень преткновения, заимствованного из Библии и означающего «помеха, затруднение, на которое наталкивается кто-нибудь в каком-нибудь деле». Вот еще несколько сочетаний, в составе которых имеются вышедшие из свободного употребления славянизмы: глас вопиющего в пустыне; древо познания добра и зла; денно и нощно; власть предержащая. Все эти сочетания возникли тогда, когда слова преткновение, глас, древо, предержати и т. п. еще не были устаревшими. Постепенно эти слова перестали применяться, но некоторые их сочетания с другими словами вследствие частого повторения закрепились в языке. В составе таких сочетаний и сохранились славянизмы.
Как видим, многие из славянизмов закрепились в литературном языке в качестве окаменевших остатков некогда живых и активных образований. Вот еще примеры такого рода слов. В старо- и церковнославянском языках глаголы с приставками из- и пре- были довольно многочисленны и составляли продуктивные словообразовательные типы, по образцу которых активно создавались новые слова. Можно сказать, что эти глаголы входили в словообразовательную систему старославянского и церковнославянского языков как ее равноправные и активные элементы. В русском литературном языке эти глаголы, во-первых, не столь многочисленны, и, во-вторых, непродуктивны, т. е. не служат образцом для возникновения новых слов, а следовательно, не являются равноправными и активными членами словообразовательной системы. Это изолированные остатки некогда живых и продуктивных рядов слов. Те значения, которые выражали эти глаголы в старославянском языке, в русском языке выражаются с помощью приставок пере- и вы-. Глаголы с этими приставками составляют продуктивные словообразовательные типы, по образцу которых возникают новые слова.
Один из крупнейших языковедов конца XIX — начала XX в. Фердинанд де Соссюр писал о причинах сохранения или утраты языковых элементов: «Сохранение данной формы может объясняться прямо противоположными причинами: полнейшей изоляцией или же принадлежностью к определенной системе, неприкосновенной в своих основных частях и постоянно приходящей ей на помощь»[24]. Во многих случаях формами, сохранившимися благодаря изоляции, выходу из системы, являются славянизмы, а формами, сохранившимися благодаря принадлежности к живой, действующей системе, — русские языковые элементы. Возможны, однако, и противоположные явления. В русском литературном языке прочно закрепились суффиксы причастий -ущий, -ющий, -ащий, -ящий (текущий, лежащий и т. п.), заимствованные из старославянского языка. Соответствующие русские суффиксы -учий, -ючий, -ачий, -ячий, первоначально употреблявшиеся в причастиях, постепенно сузили сферу своего применения. Сохранившиеся немногочисленные образования с этими суффиксами изменили свое значение: вместо значения причастия они стали выражать значение склонности к тому действию, которое названо мотивирующим глаголом: текучий, лежачий, колючий, ходячий и т. п. Конечно, причастия, несомненно, более продуктивный и системный факт, чем прилагательные типа текучий, лежачий. Естественно, возникает вопрос, почему в одних случаях победил славянизм, а в других — русское слово?
Причину сохранения только что рассмотренных старославянских суффиксов причастий следует, по-видимому, усматривать в том, что в старо- и церковнославянских текстах причастия употреблялись гораздо чаще, чем в древнерусских. Это происходило потому, что причастия использовались для перевода очень употребительных греческих причастий, а также в различных сложных синтаксических конструкциях, более свойственных старославянским и церковнославянским текстам, чем древнерусским.
В судьбе славянизмов в русском языке решающую роль играло их значение. Поскольку судьбу славянизма, как нам известно, во многом определяла частота его применения в церковно-книжных памятниках, естественно, что слова абстрактного значения или слова, по значению тесно связанные с церковной тематикой, побеждали синонимичное русское слово, если оно имелось (сравните благо, прельстить, время и др.). Столь же естественно, что слова, означающие конкретные предметы и физические действия, легче закрепляются в русской форме (так закрепились глаголы движения, а также, например, солома, а не слама; дорога, а не драга; болото, а не блато и т. п.). Но это наиболее массовое правило знает немало исключений, которые показывают, что для объяснения судьбы слова в языке недостаточно общих предварительных соображений, а необходимо конкретное изучение сферы распространения и контекстов употребления слова в языке разных памятников. Исходя лишь из значений славянизма и русского слова трудно было бы ответить на вопрос, почему, например, в паре глаголов прекреститися — перекреститися, означающих церковно-ритуальное действие, сохранился русский глагол, а славянизм вышел из употребления. Глагол прекреститися не вышел за пределы книжных текстов, так как вне их, в описаниях церковного быта, близких к разговорной речи, был употребителен глагол перекреститися. Вот отрывок из «Чиновника» (описания церковных обрядов) патриарха Иоакима (1674—1677): «патриархъ, перекрестя рукою трижды новорожденного младенца, говоритъ отрицательные молитвы». Таким образом, в судьбе глаголов прекреститися — перекреститися решающую роль сыграл тот факт, что описание церковного быта велось не по-церковнославянски, а по-древнерусски. Такого рода конкретные факторы часто определяют судьбу славянизмов в русском литературном языке.
Однако главными факторами являются, во-первых, частота употребления славянизма в церковнославянском языке, определяемая его значением, во-вторых, наличие или отсутствие русского синонима. Но существовал еще и третий фактор — наличие или отсутствие условий для изменения значения славянизма. Если славянизм изменяет свое значение, то он перестает быть синонимичным русскому слову, а это способствует сохранению славянизма в русском языке.
Как славянизмы изменяют свое значение?
Изменения значений слов весьма разнообразны и индивидуальны. И тем не менее в языкознании намечены основные тенденции, закономерности этих изменений.
Некоторые из этих закономерностей свойственны и славянизмам.
Количественные изменения переходят в качественные
Одна из важных закономерностей изменений в языке состоит в том, что наиболее частое, типичное использование постепенно становится единственно возможным. Таким путем изменяют свое значение очень многие славянизмы. Количественные изменения в их употреблении способствуют серьезным качественным изменениям. При этом на основе конкретных значений слов очень часто развиваются абстрактные.
От конкретного к абстрактному
Сопоставляя такие современные слова, как краткий и короткий, здравый и здоровый, власть и волость, преступить и переступить, рождать и рожать, участие и участок, совратить и своротить, равный и ровный, пристанище и пристань, избрать и выбрать, свергнуть и сбросить и многие другие, мы замечаем, что они различаются по значению. Иногда, правда, есть и нечто общее в значениях этих слов, например, можно сказать краткая речь и короткая речь; однако можно сказать короткие волосы, но нельзя сказать краткие волосы. Чем же объясняется различие в их значениях?
Славянизмы краткыи, здравыи и другие употреблялись в древней письменности главным образом в церковно-книжных текстах, а соответствующие исконно русские слова — в светских. Как нам уже известно, в церковно-книжных памятниках религиозно-моралистические рассуждения преобладали над сюжетными рассказами; для светских памятников типично конкретное, динамическое описание. Поэтому естественно, что, например, слово краткыи сочеталось главным образом со словами абстрактно-духовного характера (врѣмя, житие, жизнь, животъ — «жизнь», вѣкъ, лѣто, царьствие, постъ, слово, глаголъ, бесѣда, молитва и т. п.), а слово короткыи — со словами, обозначающими конкретные предметы. Первоначально краткыи означало то же самое, что и короткыи: в древних памятниках имеются единичные примеры употребления этого слова с названиями конкретных предметов: краткая одежда, власы кратки. Однако наиболее типичные употребления слова краткыи постепенно стали единственно возможными: оно стало сочетаться только со словами абстрактно-духовного характера, а сочетания его с названиями конкретных предметов стали невозможными. Слово изменило свое значение, и причина этого в особенностях употребления слов в церковно-книжных памятниках. А эти особенности обусловлены содержанием данных памятников. С изменившимся значением слово прочно вошло в русский язык.
Подобными причинами объясняется изменение значений и других славянизмов. Глагол преступити, например, первоначально означавший то же, что и переступити, в подавляющем большинстве случаев употреблялся переносно — в сочетании со словами заповѣдь, законъ, уставъ, завѣтъ, повѣление, предание, клятва, обѣщание, обѣтъ и т. п. Такие сочетания были очень распространены в религиозной литературе. С течением времени глагол стал восприниматься как нечто неотделимое от этих слов. В сочетании со словами — названиями конкретных предметов (например, преступити порогъ) он встречался редко: содержание церковно-книжных памятников не способствовало частому употреблению этих сочетаний. Такое ограничение сочетаемости глагола и явилось причиной изменения его значения. Он стал означать «совершить дурной поступок, нарушить нормы поведения, закон и т. п.». Это изменение отразилось и в словах преступление, преступный и преступник, образованных от этого глагола.
Глагол пресечи в отличие от русского пересечи сочетался преимущественно с названиями отрицательных действий (например, пресечи лихоимьство, грѣхъ и т. п.), а глагол прервати в отличие от русского перервати — названиями нематериальных явлений. Это и было причиной того, что сейчас можно сказать пресечь злоупотребление, но не пресечь дорогу (сравните пересечь дорогу); прервать разговор, но не прервать нитку (сравните перервать нитку).
Переносные употребления были наиболее типичны и для глагола презьрѣти. Исконным прямым значением этого глагола было «смотреть (посмотреть) мимо чего-либо», например: «идеть... презря и не видя лежащихъ... больны(х)» («16 слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского», по списку XIV в.). Оно складывалось из значений составляющих это слово частей: глагола зърѣти — «смотреть» и приставки пре-, имевшей в данном глаголе значение «через, мимо». Однако применения глагола в этом значении были единичными. Абсолютно преобладали его употребления в значении «не обращать (обратить) внимания на что-либо». При этом глагол мог означать, во-первых, оставление без внимания порока, греха, прощение их [например: «милует же всѣ(х)... и презри(т) грѣхи чл҃вѣкъ кающи(х)ся» («Житие Варлаама и Иоасафа», по списку XIV—XV вв.); любопытно, что так же изменялось значение польского глагола przebaczyć — «простить, извинить», образованного от глагола baczyć (сравните украинское бачити — «видеть») и приставки prze]; во-вторых, невнимательное, недружелюбное отношение к кому- или чему-либо, например: «и житье се лестное (т. е. обманчивое, лживое) презрѣша а вѣчное възлюбиша» («Поучение о посте», Сборник Троицкий, конец XIV в.). Современное значение восходит к употреблению второго типа; аналогично развивалось значение слова ненавидеть (от видеть, как презреть от зреть).
Развитие переносных значений свойственно многим славянизмам. Не имея возможности подробно рассматривать другие примеры, приведем лишь несколько слов, указав их первоначальные значения. Славянизм обязать обозначал то же, что обвязать; отвергнуть — то же, что отбросить; отвлечь — то же, что оттащить; исказить — то же, что испортить; погрязнуть — то же, что погрузиться, утонуть; глагол подражать, родственный слову драга — «дорога», первоначально означал «идти за кем-либо той же дорогой»; оградить значило то же, что огородить; просветить — то же, что осветить, и т. п.
«Трафарет ситуации» и семантическое «заражение»
Авторы церковно-книжных произведений строго следовали требованиям литературного этикета. Одним из этих требований был так называемый «трафарет ситуации».
Это явление, описанное известным советским историком древнерусской литературы академиком Д. С. Лихачевым, заключается в том, что, во-первых, сюжеты, ситуации создаются такими, каковы они должны быть согласно традиционным представлениям о морали, этике и т. п. (или просто заимствуются из Библии), и, во-вторых, в том, что определенные выражения и определенный стиль изложения подбираются к соответствующим ситуациям (29, стр. 92). В церковно-книжных памятниках постоянно повторяются одни и те же, преимущественно библейские, сюжеты и образы, которые описываются одними и теми же словами. И это вызывает изменение значений данных слов. Как развилось, например, значение слова предать — «изменнически выдать»? Большая часть употреблений этого глагола (около 2/3 из более чем 1000 просмотренных нами), означавшего первоначально просто «передать», связана с отрицательными ситуациями: лицо передается врагу, мучителю, на смерть, поругание и т. п. В этих контекстах глагол выступает в сочетаниях: предати врагу, противну (т. е. противнику), иноплеменьникомъ, мучителю, катомъ («палачам»), стражемь, поганомъ, въ руки недостоиныхъ и т. п.; мукамъ, страсти, казни, бѣдамъ, на убииство и т. п. Эта передача во многих случаях сопровождалась предательством: чаще всего повторялся евангельский сюжет о предателе Иуде. Эти наиболее частые употребления и явились истоком современного значения слова предать — «изменнически выдать». Однако первоначальное значение («передать») сохранялось до XIV в., а возможно, и позже. На это указывают тексты, в которых глагол означает конкретное физическое действие — передачу предмета из рук в руки, например: предати брашьно (т. е. еду). Иуда тоже совершил передачу, т. е. выдал, передал Христа иудейским «книжникам и фарисеям», но эта передача сопровождалась изменой, обманом, предательством, сравните, например: «и с҃нъ чл҃вчь предан(ь) будеть архиерѣемь и книжнико(м)» («Пандекты Никона Черногорца», по списку XIV в»., цитата из Евангелия). В этих ситуациях происходит одновременно и передача и предательство, но по аналогии с ними появляются такие употребления глагола, для которых существенным остается лишь факт предательства, а о факте передачи ничего не сообщается; например: «аще послеши сла к Дареви (т. е. посла к царю Дарию) предаст тя» («Александрия», список XV–XVI вв.). Здесь мы стоим у истоков современного значения слова. Однако должно было пройти несколько столетий, прежде чем это употребление превратилось в самостоятельное значение слова современного языка. В современном языке глагол предать означает «изменнически выдать». В древнейший же период слово предати в отличие от современного предать самостоятельно, без поддержки окружающих слов не выражало отрицательной оценки действия. Но все дело в том, что в положительных ситуациях глагол употреблялся неизмеримо реже, чем в отрицательных. И постепенно глагол стал восприниматься как одно из средств изображения только отрицательных ситуаций, т. е. элементы общего значения контекста вошли в состав элементов значения глагола, и положительные употребления стали невозможны. Интересно, что ряд других глаголов (преимущественно славянизмов) изменяет свою сочетаемость аналогично глаголу предати. Так, например, установлено, что в XVII—XVIII вв. ряд глаголов сочетался главным образом со словами отрицательного значения: впасть или ввести — в грех, скорбь, уныние, презрение, искушение, обман, слабость, своевольство и т. п.; подвергнуть — презрению, осмеянию, пренебрежению, осуждению, испытанию, искушению, тиранству, ввергнуть — в ад, темницу, тьму кромешную, геену огненную, в мучение, в трепет, в безумие, в уныние, в заблуждение; причинить — зло, скуку, досаду, обиду, вред, печаль, огорчение, болезнь, изнеможение, смерть, разорение; нанести — скорбь. печаль, ужас, обиду, вред, несчастье, беду, зло, раны, бесчестье и т. п. (46).
Точно так же, как и в случае с глаголом предать, некоторое время встречались редкие случаи употребления указанных глаголов с существительными положительного или нейтрального значения, например: подвергнуть переменам; причинить — блаженство, выгоду, пользу, веселие, удовольствие; впасть в восторг, но постепенно такие сочетания перестали быть возможными. Единственно возможным стало их употребление в тех сочетаниях, которые ранее были наиболее частыми. Сначала, следовательно, в сочетаемости слова происходят чисто количественные изменения: слово начинает чаще всего сочетаться с ограниченной группой слов, близких между собой по значению; затем это количественное изменение переходит в качественное: слово начинает сочетаться только с этой группой слов и перестает сочетаться с другими словами. Окружение слова становится замкнутым, конечным, иногда ограничивается одним-двумя словами; так, например, местоимение никои (никыи) употребляется только в выражениях никоим образом, ни в коем случае (при неограниченной сочетаемости синонимического местоимения никакой); глагол преминуть — только с отрицанием не; слово одр, означавшее то же, что и кровать, употребляется главным образом в сочетании смертный одр (сравните аналогичную специализацию значения слова останки, ранее означавшего то же, что и остатки). Это традиционная, стилистическая ограниченность возможностей сочетаемости слова, которая уменьшает количество тех слов, которые могли бы сочетаться со словом, если бы сочетаемость определялась только его значением.
Ограничение лексической сочетаемости свойственно прежде всего книжной лексике, среди которой преобладают славянизмы. Народно-разговорные слова, представленные в иных жанрах, нежели славянизмы, — в летописном рассказе, светских повестях, деловой письменности и т. п. связаны с иной стилистической сферой — конкретным, динамическим описанием. Это не стимулировало широкого развития переносных значений и устойчивых формул у слов типа передать, переступить, короткий, хотя и то и другое полностью не исключено (сравните, например, формулу переступити крьстьное цѣлование, употребления типа переступить закон, перервать разговор). Эти формулы и употребления, однако, не поддержаны такой традицией, как церковно-книжные формулы и употребления, и поэтому не являются настолько сильными, чтобы устранить возможность применения слова в исконном значении.
В изменениях значений славянизмов отражаются многие идеи и образы, свойственные христианской философской литературе. Так, церковное представление о ничтожности, смертности материального и величии, бессмертии духовного отразилось в истории слова прахъ, заимствованного из старославянского языка. Первоначально старославянское прахъ, как и русское порохъ, означало любое сыпучее вещество (пыль, пепел и т. п.). Однако для церковно-книжных памятников было типично употребление слова прахъ по отношению к останкам человека, например: «приникахомъ бо и къ гробу всегда... что убо тамо видѣхомъ бра(҃т)е... не попелъ [т. е. пепел] ли и прахъ» («Огласительные поучения Феодора Студита»). Иные употребления слова (в значениях «пыль», «порошок») постепенно уступают место этому наиболее типичному употреблению (сравните «мир его праху» и т. п.). Русское порохъ употреблялось в иных жанрах (его фиксации в церковно-книжных памятниках единичны), называя чаще всего пыль, а также порошок (обычно лекарственный). С XVII в. в деловой письменности это слово стало употребляться преимущественно для называния сыпучей взрывчатой смеси, передав свои первичные значения другим словам (пыль, порошок).
И слово предать, и слово прах получили свои новые значения сходным путем — путем так называемого семантического «заражения» (французское contagion). Этот образный термин введен французским ученым М. Бреалем (51, стр. 206). Явление семантического «заражения» состоит в том, что постоянное, типизированное употребление слова для изображения одной и той же ситуации, в одном и том же словесном окружении (контексте) приводит к тому, что другие, более редкие употребления становятся невозможными. Слово получает в языке то значение, которое оно раньте выражало совместно с другими словами контекста. Оно получает значение этого контекста, «заражается» значением от контекста.
Путем семантического «заражения» изменяли свои значения многие славянизмы. Это очень важный процесс в истории литературного языка. Мы рассмотрим его подробнее на примерах еще трех славянизмов. Речь пойдет о глаголах с приставкой пре-: превзойти, превознести и преставиться.
В истории этих слов очень много общего. Все они первоначально означали перемещение в пространстве: превъзити — «высоко взойти», превъзнести — «высоко вознести», преставитися — «переместиться». В современном языке превзойти означает «оказаться выше, сильнее, значительнее в каком-нибудь отношении», превознести — «очень высоко оценить, слишком расхвалить», преставиться — «умереть». Как же произошло изменение их значений?
Глагол превъзити употреблялся обычно для передачи древнегреческого глагола υπερβαίνω — 1) «переходить, переступать, пересекать»; 2) «превосходить, превышать».
Прямое (первое) значение этого греческого слова слагалось из значений его частей: приставка υπερ- соответствует старославянской приставке пре-, а глагол βαίνω означает «шагать, ходить, восходить, подниматься». На основе прямого возникло переносное значение греческого глагола «перегнать кого-либо в чем-либо, превзойти». Славянский глагол превъзити (превъсходити) соответствует как структуре греческого глагола, так и его значениям: в старославянских памятниках и в церковно-книжных памятниках, возникших на Руси, он употреблялся в двух значениях: 1) «перейти, переходить», 2) «превзойти, превосходить». Употребления в прямом значении были чрезвычайно редки: в большом количестве памятников можно найти лишь два-три случая такого употребления; например: «Не можеть о(т)нудь прѣвъзити на вышьнее н҃бо [Никак не может перейти на высшее небо; в греческом тексте: υπερβηναι «перейти»]» («Ефремовская кормчая», XII в.). Сравните употребление этого глагола в Псалтыри, часто цитируемой древнерусскими авторами: «моихъ грѣховъ множьство превзидоша главу мою [моих грехов множество превысило голову мою]» («Ярославский сборник», XIII в.). Абсолютно преобладало употребление глагола превъзити для обозначения превосходства в чем- либо, например: «превзитивсѣ(х) добродѣтелию [превзойти всех добродетелью]» («Киево-Печерский патерик»); «злоба ихъ превзиде содому и гомору» («Палея», список 1406 г.).
Постепенно наиболее частое и типичное для церковно-книжных памятников употребление становится единственно возможным.
Глагол превознести (превозносить) употреблялся для перевода греческого глагола υπερυψόω — «высоко возносить» (приставка υπερ- переводилась пре-, а глагол υψόω — възносити). В буквальном смысле — «высоко поднять» — он употреблялся крайне редко, например: «Сѣдъ же убо царь на престолѣ высоцѣ же и превъзнесенѣ [Сел царь на престоле высоком и высоко вознесенном]» («Житие Варлаама и Иоасафа»). Обычным было переносное употребление глагола — «высоко вознести на словах, в мыслях; восхвалить», например: «Възвелича тя сама цесарица мати господня и превъзнесе [Возвеличила тебя сама царица мать божья и восхвалила (превознесла)]» («Киево-Печерский патерик»). Впоследствии наиболее частое применение слова превратилось в его единственное значение.
Глагол преставитися, образованный от глагола преставити присоединением возвратного местоимения ся — «себя», означал первоначально «переместиться с одного места на другое, переставить себя». Однако чаще всего глагол преставитися употреблялся для обозначения лишь одного перемещения — «из этого мира в мир иной». В памятниках он постоянно использования в таких сочетаниях: преставитися — отъ cвѣma, отъ жития, к богу, въ вѣчьную жизнь, в бесконечную жизнь, на истиньныи животъ (на истинную жизнь), отъ врѣменьныхъ на вѣчная (т. е. от временного к вечному), к животу бесстрастья (к жизни без страданий) и т. п.
Лишь в очень редких случаях глагол называл какие-либо иные перемещения.
Такие употребления отмечены в наиболее древних памятниках; так в «Изборнике Святослава», 1076 г. читаем: «Аш(т)е бо съ мудрыими чл҃вкы бесѣдующе скоро въ обрызы [описка вместо в образы] ихъ прѣставимъся [Если будем беседовать с мудрыми людьми, то скоро станем на них похожими (буквально перейдем, «переставим себя» в их образы)]». Однако типизированное применение слова — обозначение смерти — постепенно стало единственно возможным: глагол стал обозначать не «переместиться», а «умереть». Глагол преставити, от которого образован преставитися, также мог употребляться для обозначения смерти, например: «Нъ б҃а дѣля не повѣдаи никому же о мне дондѣже о(҃т) земьля б҃ъ преставитъ мя [Но бога ради не поведай никому обо мне до тех пор, пока бог не удалит меня с земли (буквально «пока бог от земли не переставит меня»)]» («Пролог», 1383 г.). Однако такие употребления глагола преставити были чрезвычайно редки. Этим и следует объяснить тот факт, что глагол преставити не получил значения «умертвить»; он мог, как и русский переставити, обозначать любое перемещение.
Итак, развитие значений глаголов превзойти, превознести и преставиться протекало следующим образом: в первичном, прямом значении глаголы применялись редко, типичным было употребление глаголов во вторичных значениях. Это наиболее частое использование в контексте стало единственным значением глаголов.
Как видим, во всех рассмотренных случаях типизация употреблений славянизмов вызывала сдвиги в их значениях. А сама типизация вызвана причиной, находящейся вне языка, — развитием церковно-книжных жанров с их специфическими особенностями употребления слов.
Калькирование
Перечисленные явления (стандартизация, типизация употребления, ограничение сочетаемости, «заражение» от контекста) — главные, но не единственные причины изменения значений славянизмов.
Некоторые славянизмы получили новые значения только под влиянием тех греческих слов, для перевода которых они обычно применялись. Таково, например, слово гражданинъ. Чем объяснить развитие у этого слова значения «подданный государства, член общества»? Ведь оно образовано от слова градъ («город») и должно было бы, подобно русскому слову горожанинъ, обозначать жителя города. Дело в том, что в памятниках старославянского и церковнославянского языков слово гражданинъ постоянно употреблялось для перевода древнегреческого слова πολίτης, которое обозначало как жителя города, так и подданного государства. Это слово было образовано от греческого πόλις — «город-государство». Как известно, древнегреческие города («полисы») представляли собой государственные объединения. Поэтому горожанин, член городской общины, был одновременно и гражданином, т. е. подданным определенного государства. Славянизм гражданинъ заимствовал (или, как принято говорить, калькировал) значение греческого πολίτης. Долгое время слово гражданинъ употреблялось в двух значениях:
1) «житель города», например: «Володимеръ же обьстоя [т. е. осаждал] градъ. изнемогаху въ градѣ людье. и (реч҃) Володимеръ къ гражаномъ...» («Повесть временных лет»);
2) «житель, подданный государства», например: «и шедъ прилѣпися единому гражанину страны тоя» («Златая цепь», сборник сочинений отцов церкви, список XIV в., это цитата из Евангелия, однако во многих списках Евангелия в этом месте употребляется слово житель). Но «встретившись» в русском языке со словом горожанинъ, имевшим только одно значение — «житель города», славянизм гражданинъ постепенно закрепился только в том значении, которое его отличало от русского слова. Почему же горожанинъ не получило значения «подданный государства»? Ответ очень прост: оно не могло калькировать значение греческого πολίτης, так как вообще не употреблялось в памятниках, переведенных с древнегреческого языка: переводы, как уже говорилось, делались на церковнославянский язык, в котором это исконно русское слово отсутствовало.
Сходным образом изменялись значения славянизма глава. Как и гражданинъ, это слово сохранило то значение, которое было взято у греческого слова и которым оно отличалось от русского голова. Греческое слово κεφαλή имело значение не только «голова как часть тела», но и «верх, край» и употреблялось для обозначения начала сочинения или его раздела. Так же стало употребляться и слово глава.
В новой сфере — с новым значением
До сих пор мы рассматривали изменение значений славянизмов в пределах церковнославянского языка. За его пределами (в русском литературном языке, живых народных говорах) слово укреплялось с изменившимся значением.
Однако нередки случаи изменения значения славянизма уже в новой сфере. Эти изменения часто бывают очень существенны. Иногда слово приобретает значение, противоположное тому, которое оно имело ранее. Так произошло, например, со славянизмами предыдущий и блаженный.
Предыдущий — форма действительного причастия настоящего времени глагола предъити, заимствованного из старославянского языка. Значение глагола предъити, употреблявшегося почти исключительно в церковно-книжных памятниках, первоначально сложилось из его частей: ити — «идти», предъ — «вперед, перед». Например: «предъидущемъ преподъбьныимъ чьрноризьцемъ съ свѣщами. а по нихъ диякони [впереди шли черноризцы (монахи) со свечами, а за ними дьяконы]» («Сказание о Борисе и Глебе»). Как видим, исконным значением глагола предъити было конкретное действие — движение в пространстве. Впоследствии, еще в церковнославянском языке, глагол предъити изменил это значение. На основе прежнего «идти впереди в пространстве» возникло «идти, следовать впереди во времени». В значении «будущий, грядущий» употреблялась преимущественно причастная форма предъидущии, например: «И на прѣдъидущю времени правителя о(т)падъ помысла стра(с)тию ять будеть [Тот, кто в будущем уйдет от господина, будет охвачен духовным страданием]» («Рязанская кормчая», 1284 г.). В таком значении форма предъидущии постоянно употреблялась в церковно-книжных памятниках вплоть до XVII—XVIII вв. Однако в этот период шел процесс распада церковнославянского языка, на котором писались церковно-книжные памятники. Слова, наиболее в них употребительные, выходили за пределы церковнославянского языка, проникали в светскую письменность. Этот процесс коснулся и причастия предъидущии, гораздо более употребительного, чем другие формы глагола предъити, которые так и не вышли за пределы церковно-книжной письменности. Но в новой языковой сфере предъидущии было осмыслено не как «следующий впереди настоящего момента, в будущем», а как «следовавший перед, до настоящего момента, т. е. в прошлом». Значение «впереди», таким образом, в церковных жанрах осмыслялось как «после, потом, в будущем», а в светских жанрах — «до, раньше, в прошлом».
Таким образом, в светских жанрах письменности церковно-книжное слово предъидущии получило новое значение, в котором оно употребляется и в современном русском языке.
Слово блаженныи, употреблявшееся ранее исключительно в церковном обиходе, попав в народный язык, было переосмыслено и получило новое значение. В своем исконном значении — «невозмутимо счастливый» — слово употреблялось для называния святых. К их числу причислялись и юродивые: церковь поощряла юродивых — людей, добровольно, во имя веры, ставших нищими и бродягами, принявших вид безумных. «Блажени нищии духом, яко тех есть царство небесное», — сказано в Евангелии. Однако не у всех юродивые вызывали почтение: в народе зачастую относились к ним отрицательно, ибо их вид и поведение не вызывали симпатии. Отношение к человеку отразилось и в названии этого человека: слово блаженныи получило значение «глуповатый, чудаковатый». С ним связаны такие слова, как блажь, блажить (36).
Славянизмы, имевшие положительное или нейтральное значение в церковнославянском языке, часто получают неодобрительную или ироническую окраску за его пределами. Слово разглагольствовати, например, возникшее в церковнославянском языке, по-видимому, не ранее XVI—XVII вв., первоначально означало просто «много говорить»[25], например: «И паки двонадесятолѣтный [речь идет о Христе] в томъ же храмѣ разглагольствоваше среди мудрыхъ учителей» («Проскинитарий» Арсения Каллуды; переведен с греческого языка в 1686 г.). За пределами церковнославянского языка этот глагол стал иронически употребляться в значении «говорить много, бессодержательно и высокопарно». Первые такие употребления отмечены лишь в памятниках XVIII в., например: «Мужикъ... началъ было кой что еще разглагольствовать, но сапожникъ, который былъ, как говорится, себѣ на умѣ, пресѣкъ его балы [т. е. пустую, бессодержательную речь]» («Веселый и шутливый Меландр». М., 1789 — сборник коротких рассказов, перевод с латинского). Возможно, в живой речи ироническое употребление глагола разглагольствовать встречалось и ранее.
Сходным образом в новой сфере в разное время были переосмыслены такие славянизмы, как прохлаждаться (первоначально «становиться холоднее»), пресловутый (первоначально «знаменитый, славный», без иронического оттенка), пресмыкаться (первоначально «ползать») и др.
В краткой брошюре мы не можем коснуться многих вопросов, связанных с судьбой славянизмов в русском языке. Мы стремились лишь показать, что пути славянизмов в русском языке весьма многообразны, как многообразны причины их закрепления или утраты, а также изменения их значений.
Приведенные примеры показывают, что старославянский и церковнославянский языки сыграли важную роль в обогащении русской лексики, в особенности ее книжного и абстрактного слоя. Церковнославянская письменность, будучи важным фактором образованности и культуры, оказывала влияние на светские жанры письменности. Русский язык гораздо богаче славянизмами, чем другие восточнославянские языки — украинский и белорусский, на формирование которых церковнославянская традиция оказала значительно меньшее влияние. В украинских и белорусских областях отбор славянизмов производился даже в религиозных жанрах. Там существовали книги «священного писания», переведенные на язык, близкий к живой народной речи. В этих книгах встречаются лишь очень немногие славянизмы — такие, которые прочно укрепились в разговорном языке. На русском языке в средневековый период таких книг не было. В истории русского литературного языка отбор славянизмов был очень длительным и многообразным процессом, протекавшим не только в средневековый период, но и в новое время, в период формирования языка русской нации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Языковая ситуация на Руси в период средневековья, как видим, была своеобразна: существовали два близкородственных языка — церковнославянский и древнерусский. Двуязычие — нередкое явление для феодальной эпохи. В Западной Европе наряду с местными языками в качестве международного письменного языка, особенно распространенного в религиозной литературе, выступала латынь, которая гораздо сильнее отличалась от многих западноевропейских языков, чем церковнославянский язык от древнерусского. Ту же роль, что и латынь, играл классический арабский язык в мусульманских странах.
Роль старославянского и церковнославянского языков в истории русского языка очень велика. Обогащение русского языка славянизмами способствовало развитию всех его сторон — лексики, словообразования, синтаксиса, морфологии. Вместе с тем, как подчеркивалось в брошюре, на протяжении всего средневекового периода в древнерусской устной и письменной речи весьма избирательно использовались средства церковнославянского языка. Ведь церковнославянский язык никогда не употреблялся в качестве разговорного. Будучи широко распространен в сфере письменности, он не охватывал ее целиком. Существовали разнообразные художественно-повествовательные произведения, свободные от норм церковнославянского языка, не говоря уже о деловых документах и частной переписке. Авторы художественно-повествовательных произведений использовали русские слова и формы отнюдь не потому, что не знали церковнославянских: те, кто употреблял слова городъ, золото и т. п., наверняка знали широко распространенные славянизмы градъ, злато и тем не менее сознательно употребляли в письменности русские слова (наряду со славянизмами). Результаты взаимодействия церковнославянских и русских языковых элементов бывали различны: иногда побеждало русское слово (или форма), иногда церковнославянское. О причинах этого различия говорилось в третьей главе.
Естественно, что славянизмы в составе русского языка всегда существовали наряду с исконными элементами, восходящими к общеславянскому языку, новообразованиями древнерусской эпохи, а также заимствованиями.
Если в Древней Руси было два языка — церковнославянский и древнерусский, то почему сейчас существует единый русский литературный язык и в каком отношении он находится к древнерусскому и церковнославянскому? Чтобы полностью ответить на этот вопрос, надо обратиться к истории устного и письменного языка России с XVIII по XX в., к истории языка России нового времени — эпохе формирования русской нации и развития русского национального языка. Мы же ограничились описанием языка Древней Руси. Отметим лишь, что соотношение книжного и народного было неодинаково в различных жанрах письменности нового времени у разных писателей. Русский литературный язык совершенствовался и стабилизировался в произведениях М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира, А. П. Сумарокова, Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина. В этот период продолжался начавшийся уже в древнерусском языке процесс урегулирования отношений между элементами разговорной речи и церковнославянского языка. Именно в новое время окончательно определилась судьба членов таких пар, как блато — болото, град — город, злато — золото, брег — берег, нощь — ночь и т. п. (14, 47), завершилось размежевание значений слов типа прервать — перервать, оградить — огородить. Многие славянизмы получили новые, «мирские» значения. Заимствованные слова, широким потоком влившиеся в язык эпохи Петра I, затем подверглись постепенному отбору: часть их быстро вышла из употребления (аттенция — «внимание», консидерация — «уважение», эстима — «почтение», офрировать — «предложить» и т. п.), но другие сохранились до настоящего времени (администратор, бухгалтер, министр, верфь, физика, материя, тротуар, дуэт, конфисковать, претендовать, афишировать и др.). Словарный состав языка обогащается словами (иногда созданными по модели иноязычных слов), относящимися к самым различным областям общественной жизни и культуры: будущность, изобретательность, образованный, влюбленность, вольнодумство, картинный, отношение, первоклассный, промышленность, личность, взыскательность; предрассудок (калька с франц. prejuge), предмет (лат. objectum), вменяемость (франц. imputabilite), влияние (франц. influence), изысканный (франц. recherche) и др. В повседневном литературном употреблении постепенно закреплялись бывшие просторечные слова и выражения (потакать, невмочь, исподтишка, ломать голову, куры не клюют, повесить нос и др.), а также некоторые элементы деловой речи (учинить, дело, бумага, таможенный осмотр и др.).
Церковнославянский язык, как уже говорилось, постепенно ограничивал сферу своего применения в письменности. Этому существенно способствовало «обмирщение» общественной жизни и культуры в эпоху Петра I. В дальнейшем все сильнее чувствуется осторожное и внимательное отношение к употреблению архаичных славянизмов в литературных произведениях. М. В. Ломоносов в своей стилистической теории исключал «весьма обветшалые славенские речения» даже из «высокого штиля». Особенно решительно ограничили использование славянизмов Н. М. Карамзин, ориентировавшийся на разговорный язык высших кругов общества, а затем А. С. Пушкин, которому удалось дать такие образцы соединения славянизмов с народно-разговорными элементами, которые оказали решающее влияние на выработку устойчивых норм русского национального литературного языка.
Ученые и писатели XVIII и XIX вв., как правило, рассматривали «славенский» язык как нечто отличное от русского литературного языка. Они говорили об использовании элементов «славенского» языка в русском литературном языке, но никогда (если не считать «архаистов» вроде А. С. Шишкова и его единомышленников) не отождествляли русский литературный язык с церковнославянским. Приведем лишь высказывания А. А. Бестужева-Марлинского и А. С. Пушкина.
«Язык славенский служит теперь для нас арсеналом: берем оттуда меч и шлем, но уже под кольчугой не одеваем героев своих бычачьей кожею, а в охабни рядимся только в маскарад. Употребляем звучные слова, например, вертоград, ланиты, десница (позднее и они вышли из употребления. — И. У.), но оставляем червям старины семо и овамо, говяда и тому подобное» (А. А. Бестужев-Марлинский. Замечания на критику... «Сын отечества», 1822, № 20).
«Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать да лобжет мя лобзанием вместо цалуй меня etc.» (А. С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург, 1833—1834).
В новое время двуязычие было постепенно ликвидировано. Передав русскому языку значительную часть своего богатства, церковнославянский язык замкнулся в церковных рамках. Русский литературный язык использовал это богатство, так же как и разнообразные просторечные и народно-диалектные элементы. В пушкинскую эпоху был завершен процесс формирования русского национального литературного языка, в своей основе сохранившегося до наших дней.
ЛИТЕРАТУРА
В список включаются все работы, на которые имеются ссылки в книге, а также ряд других важнейших работ по истории русского языка.
1. Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.
2. Алексеев Н. Н. Неполногласная лексика в былинах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Псковиздат, 1951.
3. Белозерцев Г. И. О соотношении элементов книжного и народного языка в памятниках XV—ХVІІ вв. (на материале глаголов с приставками вы- и из- выделительного значения) // Лексикология и словообразование древнерусского языка. М., 1966.
4. Белозерцев Г. И. Соотношение глагольных образований с приставками вы- и из- выделительного значения в древнерусских памятниках XI—XIV вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.
5. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Изд. 2-е, доп. М., 1965.
6. Борковский В. И. Синтаксис древнерусских грамот (простое предложение). Изд. Львовск. гос. ун-та, 1949.
7. Виноградов В. В. Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. // Вопросы языкознания. 1969. № 6.
8. Виноградов В. В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // «Исследования по славянскому языкознанию». М., 1961.
9. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка ХVІІ—ХІХ вв. М., 1938.
10. Винокур Г. О. Русский язык. Исторический очерк // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
11. Волков С. С. Развитие административно-деловой терминологии в начале XVII века (по документам «Слова и дела») // Начальный этап формирования русского национального языка. Изд. ЛГУ, 1961.
12. Горшков А. И. История русского литературного языка. М., 1969.
13. Гранстрем Е. Э. О происхождении глаголической азбуки // Труды отдела древнерусской литературы. Институт русской литературы, т. XI. М.; Л., 1955.
14. Гpayдина Л. К. Количественные изменения в употреблении неполногласных слов в русской поэзии второй половины XIX в. // Лексикографический сборник, вып. V. М., 1962.
15. Данилов В. В. Некоторые приемы художественной речи в грамотах и других документах Русского государства XVII в. // Труды отдела древнерусской литературы. Институт русской литературы, т. XI. М.; Л., 1955.
16. Дурново Н. Введение в историю русского языка, ч. I. Брно, 1927.
17. Жуковская Л. П. Лексические варианты в древних славянских рукописях // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.
18. Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. М., 1959.
19. Жуковская Л. П. Сколько книг было в Древней Руси? // Русская речь. 1971. № 1.
20. История культуры Древней Руси, т. 1—2. М.; Л., 1948—1951.
21. История СССР, т. 1, 2. М., 1966.
22. История русской литературы, т. I. М.; Л., 1941.
23. Истрин В. М. «Хроника Георгия Амартола» в древнем славяно-русском переводе, II. Пг., 1922.
24. Кандаурова Т. Н. Полногласная и неполногласная лексика в прямой речи летописи // Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. М., 1968.
25. Кандаурова Т. Н. Случаи орфографической обусловленности слов с полногласиями в памятниках XI—XIV вв. //Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. М., 1968.
26. Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря Древней России. М.; Л., 1937.
27. Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963.
28. Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962.
29. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.
30. Лудольф Генрих Вильгельм. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. / переиздание, перевод, вступительная статья и примечания Б. А. Ларина. Л., 1937.
31. Львов А. С. Еще раз о древнейшей русской надписи из Гнездова // Известия Академии наук СССР, серия литературы и языка, 1971, т. XXX, вып. 1.
32. Мжельская О. С. Судебник 1497 года и Псковская судная грамота // Начальный этап формирования русского национального языка. Изд. ЛГУ, 1961.
33. Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946.
34. Русские писатели о языке. Хрестоматия. Л., 1954.
35. Селищев А. М. О языке Русской Правды в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1957. № 4.
36. Смирнова О. И. Один случай энантиосемии // Лексикология и словообразование древнерусского языка. М., 1966.
37. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 1. СПб., 1893; т. 2. СПб., 1895; т. 3. СПб., 1903.
38. Тарановский К. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI—XIII вв. // American contributions of the VI International congress of slavists. The Hague, 1968.
39. Толстой H. И. Роль древнеславянского языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв. // Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962.
40. Улуханов И. С. Предлоги предъ—передъ в русском языке XI— XVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.
41. Улуханов И. С. Славянизмы и народно-разговорные слова в памятниках древнерусского языка XI—XIV вв. (глаголы с приставками пре-, пере- и предъ-) // Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М., 1969.
42. Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949.
43. Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.
44. Филин Ф. П. У истоков русского языка // Русская речь. 1968. №2.
45. Филин Ф. П. Языки-братья // Русская речь. 1970. № 5.
46. Филиппова В. М. Развитие глагольной фразеологии в русском литературном языке XVIII в. (Устойчивые глагольно-именные сочетания) // Русская литературная речь в XVIII веке. Фразеологизмы. Неологизмы. Каламбуры. М., 1968.
47. Цейтлин Р. М. Из истории употребления неполногласных слов-вариантов в русской художественной речи конца XVIII — начала XIX века // Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху. М., 1964.
48. Черных П. Я. Язык Уложения 1649 г. М., 1953.
49. Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка, ч. I. Пг., 1916.
50. Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.
51. Шмелев Д. Я. Очерки по семасиологии русского языка. М. 1964.
52. Шмелева И. Я. Торговая терминология XVI века (по материалам Торговой книги) // Начальный этап формирования русского национального языка. Изд. ЛГУ, 1961.
53. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953.
54. Янин В. Л. Я послал тебе бересту... Изд-во МГУ, 1965.
Примечания
1
Вот как понимает эту форму маленький мальчик, герой повести В. Каверина «Неизвестный друг»: «Все цари (изображенные на гимназическом похвальном листе. — И. У.)... ездили умирать в какую-то «Бозу»: почти под каждым портретом было написано «Почил в Бозе» тогда-то».
(обратно)2
Цитаты из древних памятников даются в упрощенной орфографии. Из письменных знаков, отсутствующих в современном алфавите, сохраняются лишь буква ѣ и знак «титло», ставившийся над сокращенно написанным словом, например: ҃б҃ословъ вместо богословъ, гл҃ати вместо глаголати — «говорить». Буквы, стоящие в древнем памятнике над строкой, вносятся в строку и ставятся в скобки. Знаки препинания древней рукописи опускаются в том случае, если они затрудняют понимание текста. Если текст цитируется по изданию, в котором уже произведено упрощение орфографии рукописи, то сохраняется орфография издания.
(обратно)3
Цифры, стоящие в скобках, здесь и далее означают номер по списку литературы, помещенному в конце книги.
(обратно)4
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 314.
(обратно)5
Форма местного падежа выражала значения, в основном соответствующие значениям современного предложного падежа.
(обратно)6
«Служебник» — книга, предназначенная для ведения церковной службы.
(обратно)7
«Кормчая книга» — это свод различных церковных правил.
(обратно)8
«Служебная Минея» (греч. μηνιαίος — «месячный») — это церковные сборники жизнеописаний святых, сказаний и поучений, изложенных в порядке дней каждого месяца.
(обратно)9
В приводимых здесь и ниже (на стр. 50, 51) примерах мы располагаем соотносительные слова одно под другим.
(обратно)10
Слово патерик восходит к греческому слову πατήρ — «отец» (сравнитѳ русское наименование патерика — «отечник») и означает сборник церковно-религиозного содержания, состоящий из рассказов о подвижнической жизни церковных деятелей («святых отцов»).
(обратно)11
«Шестоднев» в данном случае — богослужебная книга со службами на каждый день недели; «Шестодневом» называют также собрание произведений христианской литературы, разъясняющих и комментирующих библейский рассказ о сотворении мира в шесть дней.
(обратно)12
«Пролог» — это сборник кратких житий святых, поучений; назидательных рассказов, размещенных в порядке церковного календаря.
(обратно)13
«Ирмологий» — книга, содержащая церковные песнопения на всенощной (ирмосы).
(обратно)14
«Паремийник» — книга, содержащая в себе паремии — отрывки из Ветхого или Нового завета, читаемые на вечернем богослужении (главным образом накануне праздников).
(обратно)15
Дифтонг — сочетание двух гласных звуков в одном слоге.
(обратно)16
Цоканье — это неразличение ц и ч, совпадение их в ц: цыстый или цистый вместо чистый; цасто или цясто вместо часто и т. п.
(обратно)17
Фрикативный согласный — это звук, получающийся в результате трения выдыхаемого воздуха при неполном сближении органов речи (в русском литературном языке фрикативными согласными являются ф, с, х).
(обратно)18
Оканье — различение гласных звуков о и а в безударных слогах, аканье — неразличение гласных звуков о и а в безударных слогах. Так, в современном литературном языке произносят вада́, гара́ (хотя под ударением в других формах у этих слов звучит о — вод, гор), а в северных говорах — вода́, гора́.
(обратно)19
Дательный самостоятельный — синтаксическая конструкция, состоящая из причастия и существительного, стоящих в дательном падеже. Причастие обозначает действие, а существительное — того, кто это действие совершает. Дательный самостоятельный чаще всего соответствует по значению придаточному предложению времени.
(обратно)20
Перифраза — выражение, являющееся описательной, распространенной передачей другого выражения или слова.
(обратно)21
Т. е. почитаемыми в определенных местностях.
(обратно)22
Т. е. садами монастырскими.
(обратно)23
Номоканоны (от греческих слов, означающих «закон» и «правило») — сборники правил внутреннего распорядка православной церкви, а также положений, относящихся к различным сторонам быта. Древнейший из номоканонов, приписываемый константинопольскому монаху Иоанну Схоластику (VI в.), был составлен в Византии.
(обратно)24
Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933, стр. 160.
(обратно)25
Слово разглагольствовать напоминает нам о старом, исчезнувшем значении слова глагол. В современном языке глагол — это часть речи, а раньше оно имело значение «слово, речь»: «Глаголом жги сердца людей» (А. С. Пушкин).
(обратно)
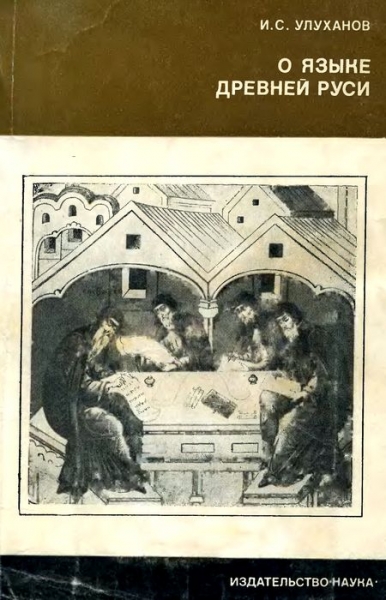

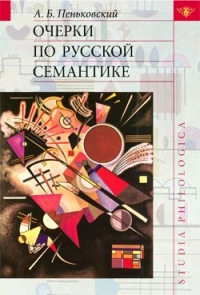
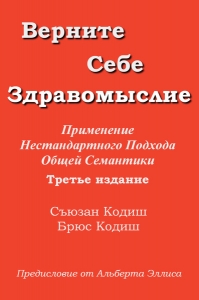
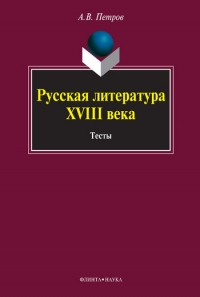

Комментарии к книге «О языке Древней Руси», Игорь Степанович Улуханов
Всего 0 комментариев