Игорь Николаевич Сухих Структура и смысл: Теория литературы для всех
© И. Сухих, 2016
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
333 слова-объяснения
Эта книга написана быстро (хотя и с большими перерывами), но придумывалась/продумывалась едва ли не всю мою филологическую жизнь.
Обычные, традиционные «Теории литературы» и «Поэтики» тяготеют к двум полюсам: бессистемной свалке разных проблем от Аристотеля до Дерриды, в которой мучительно роются перед экзаменом сдающие предмет студенты, или же четкому изложению определенной теоретической концепции (образцом здесь может служить до сих пор переиздающаяся формалистская «Теория литературы. Поэтика» Б. В. Томашевского).
Место «Практической поэтики» – в золотой середине. Мне хотелось реализовать идею поэтики до метода, дать системное описание элементов и уровней художественного текста, какими они представляются как профессиональному, так и обычному читательскому восприятию.
И кто сказал, что о жанре или фабуле надо писать скучно?
Филологию называют службой понимания. Понимание текстов, тем более великих, может быть не менее увлекательной задачей, чем занимательные психология или физика.
Замечательное определение своей версии поэтики дал итальянский сказочник Дж. Родари – «Грамматика фантазии». Понимающая грамматика не подрезает крылья фантазии, а восхищается ее полетом. Но, в отличие от беспредметных междометий, может эту фантазию объяснить.
Классик ленинизма, опираясь на старика Гегеля, когда-то развернул диалектическую теорию стакана. Стакан – не просто «стеклянный цилиндр» и «инструмент для питья»; он может стать «инструментом для бросания», пресс-папье, «помещением для пойманной бабочки», наконец, «предметом с художественной резьбой или рисунком».
Хотелось бы, чтобы книжка походила на этот стакан.
У нее несколько адресов.
Коллегам-филологам предоставляется возможность оспорить сказанное, продолжить вечную сказку про сюжет и смысл целого.
Студентам – наконец-то разобраться в материале и подготовиться к экзамену.
Школьным учителям – узнать, на каком фундаменте строятся учебники, по которым они работают.
Начинающим авторам – убедиться, что рекламные обещания «истории на миллион долларов» и «ста способов стать известным писателем» – типичная ловушка для простаков. (Научить сочинению таких историй невозможно, но вот понять, как они устроены, – вполне.)
Наконец, все еще самой многочисленной аудитории галактики Гутенберга, просто читателям, – понять, чем отличаются стоящие рядом на полке в книжном магазине тома с завлекательными обложками и стоит ли тратить на них свои кровные.
В разделе «Иллюстрации» помещены статьи, в которых отдельные вопросы и проблемы рассматриваются более детально. Это – заметки на полях «Практической поэтики».
06.06.2016
I. Практическая поэтика
Произведение – текст – система – структура
Предмет, c которым имеет дело теория (а также история) литературы, определить не так просто. В старой эстетике он обозначался как произведение (литературное произведение, художественное произведение), специфика которого раскрывалась с помощью понятия художественный образ.
В разнообразии его трактовок был общий знаменатель. Определение образа восходит к идеям немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля, перенесенным в русскую эстетику В. Г. Белинским. «Искусство есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах (выделено автором. – И. С.).
В развитии этого определения заключается вся теория искусства: его сущность, его разделение на роды, равно как условия и сущность каждого рода»[1].
Конкретизируя понятие образа, философы и эстетики говорят о взаимодействии, взаимопроникновении, диалектике отражения действительности и отношения к ней творца, конкретного и общего, познания и оценки, чувственного, наглядного и умозрительного, определенности и многозначности и т. п.
В таком широком понимании образ отождествляется с произведением в целом, хотя распространены и более конкретные употребления: образ как метафора или другой троп, образ как персонаж, литературный герой.
В ХIХ веке в эстетике часто использовались биологические понятия, поэтому образ понимали как живой организм: органическое единство формы и содержания. Однако ХХ век сменил познавательные ориентиры и аналогии. На смену органическим пришли механические, технические метафоры и аналогии.
Теоретики-формалисты, отрицая всякую метафизику, философское обоснование художественного творчества и «содержание» вообще, свели произведение к специфической функции языка:
«Поэзия есть язык в его эстетической функции.
Таким образом, предметом науки о литературе является не литература, а литературность, то есть то, что делает данное произведение литературным произведением. <…> Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать „прием“ своим единственным „героем“»[2].
Существенным для формальной теории литературы стало представление о «делании» произведения («Как сделана „Шинель“», «Как сделан „Дон Кихот“»).
Почти параллельное возникновение семиотики как общей науки о знаковых системах тоже привело к существенным эстетическим преобразованиям. Наиболее распространенным, отодвинувшим в сторону категории произведения, образа и даже языка в его лингвистической сущности стало понятие текста, определяемое через доминирующее в этой дисциплине понятие знак.
Наиболее простое и точное определение текста дал М. М. Бахтин: «Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления. <…> Если понимать текст широко – как всякий связный знаковый комплекс, то и искусствоведение (музыковедение, теория и история изобразительных искусств) имеет дело с текстами (произведениями искусства)»[3].
С ним можно соотнести столь же краткое и точное определение Ю. М. Лотмана: «Художественный текст – сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые»[4]. В традициях тартуской семиотической школы искусство, и литература в частности, понималось как вторичная знаковая система. В качестве первой, исходной семиотической системы рассматривался язык.
Для корректного, логически обоснованного разговора о литературном произведении необходимо обращение не только к семиотике, но и к нескольким элементарным понятиям системной теории.
Согласно одному из создателей общей теории систем Л. Берталанфи, система – это комплекс взаимодействующих элементов.
Элементы – простые, далее неразложимые элементы системы (подобные фонемам в системе языка).
Сложная система, как правило, обладает иерархической структурой, то есть делится на несколько уровней, объединяющих комплексы однородных элементов. К такому типу систем можно отнести и художественный текст. Структура – уровень – элемент – таковы будут координаты нашего рассмотрения разных литературных систем.
Логика изложения теории литературы в значительной степени зависит и от того, какую систему мы примем за «единицу» изложения и анализа.
В свое время русский психолог Л. С. Выготский призывал «к замене анализа, разлагающего сложное психологическое целое на составные элементы и вследствие этого теряющего в процессе разложения целого на элементы подлежащие объяснению свойства, присущие целому как целому, анализом, расчленяющим сложное целое на далее неразложимые единицы, сохраняющие в наипростейшем виде свойства, присущие целому как известному единству»[5].
Единицей, главным предметом наших размышлений и построений, будет отдельное произведение (точнее, его максимально приближенная к реальности модель), мы будем заниматься подробным рассмотрением его структуры, взаимосвязи его уровней (иногда их называют сферами) и элементов.
Этот главный раздел предваряется и завершается разговором о других, более крупных единицах, без которых понимание конкретного произведения оказывается недостаточным: структура искусства, структура литературы, структура литературного процесса. Однако сначала нужно договориться о структуре самой науки о литературе и месте в ней теории литературы и поэтики.
Структура литературоведения От службы понимания до риторики кроссовок
Разговор о структуре литературоведения стоит начать с другого, более общего и древнего понятия. Как утверждают историки античности, слова филология (в переводе с греческого – любовь к слову, любословие) и филолог впервые встречаются у древнегреческого философа Платона (427–347 гг. до н. э.). Круг их значений широк. Первоначально филология означала «охоту к участию в философских беседах, произнесению философских речей», а филолог, соответственно, – «друга философских бесед».
Однако у одного из таких философов-филологов встречается фрагмент: «Алексид говорит, что вино… делает всех, кто пьет его в большом количестве, филологами». Замечательный филолог-классик советской эпохи А. И. Доватур забавно-перифрастически объяснял его смысл: «Принимая во внимание семантическое развитие слова „филология“ и контекст, который говорит о культурной атмосфере застольных бесед, мы должны под „филологами“ понимать людей, с удовольствием ведущих беседы на научные темы»[6].
С эпохи эллинизма филология дистанцируется от философии и становится более скромным, но важным занятием: техникой и методикой объяснения, комментирования (а позднее – издания) древних текстов, признаваемых образцовыми, классическими. Так понятая филология – психологическая предпосылка и источник всех последующих способов исследования словесных произведений.
«Филология есть служба понимания» (С. С. Аверинцев)[7].
«Филология велит знать и понимать все, и в этом ее великое назначение в истории человеческой культуры» (Г. О. Винокур)[8].
В Новое время (обычно этот процесс датируют первой половиной ХIХ века) «единство филологии как науки оказалось взорвано во всех измерениях; она осталась жить уже не как наука, но как научный принцип»[9]. На развалинах филологии возникают две основные научные дисциплины, по традиции существующие в рамках филологического факультета, – лингвистика и литературоведение. Они различаются как по предмету, так и по методу.
Лингвистика (языкознание) – наука о разнообразных аспектах языка: его структуре (фонетика, грамматика, лексика, синтаксис), историческом развитии (церковнославянский, русский язык ХVIII века, современный русский язык), способах функционирования (устная и письменная речь, диалекты и жаргоны). Литературные тексты – лишь часть общего поля лингвистики (В. В. Виноградов определял эту область как «теорию художественной речи»).
Литературоведение изначально имеет дело не просто с письменными, но с художественными текстами (хотя это понятие – одно из самых сложных и спорных, к чему мы еще вернемся). Оно не может обойтись без обращения к языковым аспектам произведения, но не может и свестись к ним. Литературоведение занимается способами превращения слова в образ, текста – в художественный мир.
За два последних столетия литературоведение превратилось в комплекс разнообразных дисциплин, пережило смену часто конфликтовавших между собой методов исследования.
Проще начать с характеристики так называемых вспомогательных литературоведческих дисциплин. Они непосредственно вырастают из филологической практики и призваны предоставить материал для дальнейшего литературоведческого исследования в наиболее удобной и корректной форме. Вспомогательными эти дисциплины, впрочем, называются условно. В них заключена важная часть филологической работы. Им посвятили жизнь многие крупные ученые-филологи.
Если представить филологическое исследование в систематически-упорядоченном виде, начинается оно в области текстологии. Текстология (от лат. textus – ткань, связь <слов> и греч. λόγος – слово, наука) – область филологии, задачей которой является изучение текста как памятника: выявление рукописей, их датировка и атрибуция (определение авторства), объяснение их смысла (интерпретация и комментирование).
Главная цель текстолога – корректная подготовка рукописи или уже публиковавшегося текста к изданию. Ключевые понятия текстологии – последняя авторская воля и основной (канонический) текст. Текстолог исходит из очевидных соображений: пока писатель работает над текстом, он по каким-то причинам его не удовлетворяет. Следовательно, последнюю авторскую волю фиксирует хронологически самая поздняя рукопись или издание. Поэтому, определив ее и после тщательного изучения исправив неточности и опечатки прежних изданий, восстановив цензорские и редакторские искажения, мы получим основной текст, отвечающий последней авторской воле.
Однако эта простая логическая формула в конкретном применении, на практике, наталкивается на множество исторических сложностей. Автор может оставить несколько рукописей, так и не доведя работу до конца, а может, напротив, издать текст в нескольких вариантах, где поздний очевидно уступает раннему. Цензурные и редакторские искажения бывает трудно восстановить, потому что первоначальная рукопись исчезла. Даже исторические изменения графики и орфографии ставят текстолога перед трудной проблемой. Издавать ли Ломоносова, Державина или даже Пушкина со всеми особенностями орфографии и пунктуации их времени (такие издания называются дипломатическими) или перевести их в привычный для нас вид, тем самым все-таки изменив особенности текста?
Серьезная работа над текстами, как правило, проводится в так называемых академических изданиях. Работа над ними обычно занимает десятилетия. Академический Пушкин в 16 томах (24 книгах) выходил тринадцать лет (1937–1949). Близкое к академическому 90-томное издание Л. Н. Толстого издавалось тридцать лет (1928–1958).
Еще сложнее обстоит дело с писателями-классиками ХХ века. В академическое издание М. Горького включены только его художественные произведения, но продолжается работа над томами публицистики и писем. Из задуманного к столетнему юбилею А. А. Блока двадцатитомного издания за тридцать пять лет (1980–2015) удалось подготовить всего семь томов, и окончание этого предприятия теряется во мгле будущего. Новое академическое двадцатитомное собрание сочинений А. С. Пушкина ограничивается пока тремя томами: специалистов, умеющих легко читать пушкинский почерк, очень мало. Так что работы текстологам хватит еще на много десятилетий.
Однако текстологию подстерегает опасность с другой стороны. Появление компьютера принципиально изменило разные области культуры. Рукопись в эпоху электронных средств фиксации становится раритетом, заменяясь компьютерным файлом, в котором результаты предшествующей работы вроде бы уничтожены. Чем будут заниматься текстологи будущего и сохранится ли эта квалификация?
В ответе на этот вопрос современный вольный филолог-архивист (А. Л. Соболев) полон оптимизма: «Это будет ужасно интересно! Во-первых, тщательнейшему анализу будет подвергнут жесткий диск компьютера, потому что сначала он будет полностью скопирован, потом аккуратно будут смотреть… Ты же понимаешь, как удаляется файл: истребляется упоминание о нем, грубо говоря, из оглавления, сам-то файл остается, пока занятое им место не понадобилось для чего-то другого. Потом будут восстанавливаться вот эти секторы на жестком диске, которые не заполнены, но где было что-то, восстанавливаться куски убитых файлов. Это будет получаться такая матрица, как будто там лист бумаги, по которому выстрелили дробью. И это можно будет как-то пытаться реконструировать. Когда все сладкое будет вынуто из жесткого диска, можно будет перейти к почте – все исходящие, все входящие, все черновики. <…> За много-много лет смотрим истории его <писателя> поиска в интернете, что он искал, на какие сайты ходил. Смотрим эти сайты, какой у него круг чтения. После этого переходим к его социальным сетям»[10].
Оканчивается эта филологическая фантазия иронически: архивист будущего должен будет заняться также писательской банковской карточкой, записями с камер наблюдения в его подъезде и данными его автомобиля. (Можно ли представить, чтобы творец ходил пешком – «как Чехов»?)
Пока же филологам на много лет хватит текстов и рукописей предшествующих эпох.
Вспомогательными дисциплинами по отношению к вспомогательной текстологии являются палеография и источниковедение.
Палеография (от греч. palaios – древний и grapho – пишу) – наука об орудиях, средствах и способах письма. Эти практические знания позволяют филологу и историку решить три важные задачи: определить место и время создания рукописи и по возможности атрибутировать ее, то есть определить автора.
Палеографические знания особенно необходимы исследователям ранних, допечатных этапов развития литературы. Большинство текстов этого времени (их обычно называют памятниками) анонимны и дошли до нас в списках более позднего времени. Без палеографического исследования невозможно ни издание памятника, ни включение его в историко-литературный контекст.
Однако знание особенностей почерка писателей изучаемой эпохи необходимо и филологу Нового времени. Найденная в архиве анонимная рукопись на основании особенностей почерка может быть атрибутирована писателю или публицисту и включена в собрание его сочинений. Для текстов, которые приписываются данному автору предположительно, в академических собраниях существует специальный раздел Dubia (лат. сомнительное).
Источниковедение – вспомогательная дисциплина, занимающаяся исследованием и классификацией источников. Для источниковедения, как и вообще для филологического анализа, важно разграничение собственно источника и пособия. Предмет исследования – это текст-источник. Другие же, часто очень многочисленные тексты, позволяющие этот текст издать, интерпретировать, – пособия.
В зависимости от цели и предмета исследования источники и пособия могут меняться местами. Для исследователя творчества Пушкина статьи В. Г. Белинского, безусловно, пособия. Однако для историка критики они превращаются в источник, а пособиями становятся сочинения и письма Пушкина, содержащие немногочисленные суждения о критике, которого поэт тоже читал и даже собирался (но не успел) пригласить в журнал.
Последним звеном в цепи вспомогательных дисциплин оказывается библиография – выявление, учет и описание разнообразных источников и пособий для изучения данного автора, эпохи, национальной литературы. В зависимости от предмета выделяют общие и персональные библиографии (включающие материалы об одном писателе). С хронологической точки зрения библиографии разделяются на текущие (постоянный учет материалов за какой-то относительно небольшой промежуток времени – неделю, месяц, год) и ретроспективные (охватывающие десятилетия или даже столетия). Наконец, по широте привлекаемого материала библиографии могут быть выборочные, рекомендательные и регистрационные, максимально полные, рассчитанные прежде всего на специалистов.
В докомпьютерную эпоху библиографии составлялись либо научными учреждениями, либо энтузиастами в течение десятилетий. В них было трудно восполнить пропуски или исправить ошибки, потому что переизданий этих адресованных узкому кругу специалистов пособий, как правило, не предпринималось. Электронные средства принципиально изменили условия и методы библиографической работы. Размещенные в Интернете старые библиографии или составленные новые становятся классическими примерами гипертекста, который легко уточняется, продолжается, объединяется с другими. Перевод фондов крупнейших библиотек в электронную форму уже активно идет и рано или поздно завершится. Это значительно облегчит предварительную библиографическую работу, но в чем-то и усложнит ее. Обращаясь к какой-то значительной теме, творчеству старого и хорошо изученного писателя, исследователь должен будет предпринимать особые усилия, чтобы не захлебнуться в обилии материалов. Не случайно и в докомпьютерную эпоху появлялись библиографии второй степени, библиографии библиографий[11].
Таким образом, цепь вспомогательных дисциплин – источниковедение и палеография, текстология, библиография – в совокупности обеспечивает изучение текста как текста, его внешних, формальных сторон.
Задача основных дисциплин, к рассмотрению которых мы переходим, – изучение текста как произведения в его уже не только внешних, формальных, но и внутренних, содержательных аспектах.
Наиболее распространенной является трехчленная классификация основных литературоведческих дисциплин: «Л<итературоведение> включает в себя ряд взаимосвязанных разделов: методологию и теорию литературы; историю литературы; литературную критику»[12].
Однако статус критики в этой триаде неоднозначен. Наряду с пониманием критики как части науки о литературе существуют еще две точки зрения.
Критика – не наука, а что-то иное, принципиально вненаучное, не имеющее отношения к строгому анализу. На этой позиции стоял замечательный филолог М. Л. Гаспаров: «Говорят, что царю Птолемею показалось трудным многотомное сочинение Евклида, и он спросил, нет ли более простого учебника. Евклид ответил: „В геометрии нет царских путей“. Но в филологии царский путь есть, и называется он: критика. Критика не в расширительном смысле „всякое литературоведение“, а в узком: та отрасль, которая занимается не выяснением, „что“, „как“ и „откуда“, а оценкой „хорошо“ или „плохо“. То есть устанавливает литературные репутации. Это не наука о литературе, а литература о литературе»[13].
Сходным образом рассуждают многие критики эссеистического толка – от Ю. И. Айхенвальда и К. И. Чуковского до современных журналистов. «Критика как литература» – название книги Б. И. Бурсова (1976).
Однако с подобной точкой зрения резко спорят многие «настоящие» авторы стихов и романов, выталкивая критику за пределы художественного творчества.
«Сколько можно спорить о литкритике? Литература она или нет? Писатели критики или не писатели? А ведь просто все. Искусствоведы, пишущие о живописи, скульптуре, архитектуре, не пытаются даже выдавать себя за живописцев или скульпторов. Чем от них литкритики отличаются?»[14]
Таким образом, мы получаем полный набор противоречащих друг другу утверждений, антиномический квадрат. «Критика – наука. – Критика – не наука. – Критика – литература. – Критика – не литература».
Решение состоит в том, чтобы выйти за пределы оппозиции «литература – наука», признать критику третьим элементом, областью, видом литературной деятельности, располагающимся на границах между собственно литературой и наукой, понятием и образом.
Критика при таком понимании – и то и другое, но, можно сказать, – ни то ни другое. Она – хамелеон, принимающий разную окраску, форму в зависимости от того, откуда мы ее обозреваем.
При взгляде «от литературы» отчетливо виден ее логический каркас, метаязык, объединяющий ее с наукой о литературе (при всей специфической научности самого литературоведения). Поэтому возникает вопрос: а где же здесь сюжет, персонажи, движение образа? Его заменяет развертывание мысли.
При взгляде «от науки», напротив, бросается в глаза субъективность, оценочность критики, а также стилистическая свобода, необязательная и даже чуждая собственно научному дискурсу. Любой прием и элемент поэтики – от тропа до образа-маски подставного автора, от «чужого слова» до монтажной композиции – можно проиллюстрировать на примере критики, хотя, конечно, они будут иметь служебный характер, нанизываясь на логическую структуру.
Исходную оппозицию «литература – критика» можно определить так: Художественная литература – создание и движение мира. Критика – движение мысли о мире.
Четко обозначить положение критики на гуманитарной карте, ее границы c соседними областями позволяют два сравнения. Историк литературы А. И. Белецкий в рабочих записях прибегает к кулинарной метафоре: «Писатель – повар, критик – дегустатор, литературовед – исследователь химического состава пищи, ее реакции на организм и т. д.»[15].
В записных книжках Сергея Довлатова возникает географическое сравнение: «Критика – часть литературы. Филология – косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри, филолог – с ближайшей колокольни»[16].
В терминологии М. М. Бахтина критика и филолога-литературоведа можно противопоставить как реализующих по отношению к тексту позиции диалогичности и вненаходимости (которая, конечно, относительна, ведь любой строгий литературовед – сначала читатель и потому не может совсем избавиться от эмоционального, оценочного, «критического» отношения к предмету своего исследования).
Определив особый статус критики, мы можем четко противопоставить друг другу две основные области литературоведения на основе синхронного и диахронного подходов к исследуемому материалу.
Задача теории литературы – исследование общих закономерностей литературного творчества и литературного произведения, а также формирование системы понятий, метаязыка, на котором об этом можно говорить.
История литературы, используя теоретические понятия и термины, изучает процесс конкретного литературного развития – эволюцию писателя, развитие национальной и даже мировой литературы (идею мировой литературы выдвинул в конце ХVIII века И. В. Гёте).
Обращаясь к теории литературы, мы добираемся наконец до поэтики. В разнообразных ее определениях можно увидеть доминанту, смысловое ядро.
В отличие от общей теории литературы, рассматривающей эстетические, психологические, философские вопросы (соотношение литературы и действительности, природа вымысла, психология творческого процесса, проблема формы и содержания и пр.), поэтика как часть теории литературы занимается конкретными текстами (в том широком понимании, которое обосновано во введении) и их ближайшим контекстом.
Задача поэтики – исследование приемов, способов, механизмов связности, «конструкции художественных произведений» (Б. В. Томашевский), в которой выявляются движение, динамика смыслов.
В зависимости от того, с какой точки зрения изучается эта конструкция, выделяют:
– частную (описательную) поэтику, ориентированную преимущественно на анализ конкретного произведения;
– общую поэтику, претендующую на полное, системное описание разнообразных литературных «конструкций»;
– историческую поэтику, перебрасывающую мостик от теории к истории, исследующую движение «конструкций» и отдельных их элементов во времени[17].
Определенным этапом исторической поэтики можно считать так называемую нормативную поэтику. Существовавшая еще в античности (древнейшая «Поэтика» Аристотеля относится к этому типу), она стала особенно влиятельной и весомой в эпоху классицизма. Нормативная поэтика задает правила создания «правильных» художественных текстов, четко видит отступления от этих правил и карает за них. В ней соединяются элементы как общей, так и частной поэтики.
Однако дальнейшее развитие литературы показало, что правила создаются не поэтиками, а художниками, в поэтике они только осознаются. Поэтому нормативные поэтики потеряли свое значение и свой научный статус, оставаясь, однако, важной частью формирования направлений и школ, входя в программные выступления, литературные манифесты.
Смысл, о котором говорилось чуть выше, формируется автором текста и должен быть воспринят читателем. Близкой к поэтике дисциплиной, занимавшейся сходными вопросами – способами выражения смысла, организацией нехудожественных, причем прозаических, текстов, – была риторика.
Традиционная риторика слагалась из пяти основных частей, представляющих этапы создания и произнесения устного текста: нахождение или изобретение материала для речи; его расположение; словесное выражение; запоминание; произнесение. Легко заметить, что три первых элемента риторики соотносятся с теоретическими понятиями темы, композиции и стиля.
«Риторика и поэтика слагаются в общую теорию литературы»[18], – не случайно утверждал Б. В. Томашевский.
Отталкиваясь от схемы эстетической коммуникации, можно построить таблицу, в которой выявляется место поэтики среди других способов анализа и интерпретации литературного произведения.
При этом элементы, «щепотки» поэтики, наблюдения над конструкцией присутствуют и в историко-литературном, и в функциональном изучении, и даже в социологии литературы.
В ХХ веке границы эстетического раздвинулись, перестали жестко связываться с категорией вымысла. «Для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязательна организация – отбор и творческое сочетание элементов, отраженных и преображенных словом. В документальном контексте, воспринимаемом эстетически, жизненный факт в самом своем выражении испытывает глубокие превращения. Речь идет не о стилистических украшениях и внешней образности. Слова могут остаться неукрашенными, нагими, как говорил Пушкин, но в них должно возникнуть качество художественного образа»[19], – замечала Л. Я. Гинзбург, создавшая теорию «промежуточной литературы», документальной прозы.
Соответственно, расширились и границы поэтики. Появились исследования о поэтике бытового поведения (Ю. М. Лотман). Книга об А. П. Чехове называется «Поэтика раздражения» (Е. Д. Толстая), о М. М. Зощенко – «Поэтика недоверия» (А. К. Жолковский). Часто в таком расширенном понимании поэтику заменяет риторика. Предметами исследования могут быть риторика мифа, риторика поступка (М. М. Бахтин), риторика истории, риторика восторга и даже риторика кроссовок.
С поэтикой (будем все-таки пользоваться этим термином) мы сталкиваемся всюду, где можем увидеть в тексте (в широком смысле как «всяком связном знаковом комплексе») не просто семантическую, но одновременно выразительную структуру, предполагающую взаимопроникновение объективного значения и индивидуального смысла.
Поэтому можно говорить о поэтике «Войны и мира», школьного учебника (понятно, что далеко не каждого), бытового поведения и даже выбора и ношения кроссовок, но нельзя – о поэтике пчелиного танца или, скажем, летних гроз и закатов. В явлениях природы или проявлениях инстинкта, даже полных красоты и своеобразия, не предполагается индивидуально формируемого человеческого смысла.
Задача практической поэтики не в том, чтобы научить создавать художественные тексты (эпоха нормативных поэтик прошла, хотя рекламные брошюры о сочинении бестселлеров по-прежнему популярны и востребованы), но в том, чтобы предложить непротиворечивое, системное, наглядное описание их строения, «конструкции» и тем самым облегчить разговор о произведении. Занимающие много места в традиционных «Теориях литературы» и «Введениях в литературоведение» вопросы об эстетических категориях, форме и содержании, подражании, природе вымысла и пр. оставлены в стороне. Речь пойдет лишь об эмпирике художественного (а отчасти и нехудожественного) произведения, о тех феноменах, структурных уровнях и элементах, которые непосредственно связаны со значением и смыслом.
Подобное знание может послужить и конкретным практическим умениям – от умения сочинить простой стихотворный поздравительный текст до умения читать тексты человеческого поведения и истории. Все остальное зависит от желания, упорства и таланта.
Заглавие этой книги, как легко заметить, ориентировано на классическую, многократно переизданную и только что процитированную работу Б. В. Томашевского «Теория литературы. Поэтика»[20]. Хотя автор утверждал, что книга представляет собой объективное описание, его «Теория литературы» – в ее экстралингвистическом разделе «Тематика» – отражала по преимуществу формальную точку зрения (в трактовке мотива, сюжета и фабулы, персонажа и пр.).
Однако наряду с формальной, психологической (и психоаналитической), социологической, структуральной и пр. возможна, с нашей точки зрения, поэтика до метода: системное описание феноменов художественного текста, какими они представляются профессиональному читательскому восприятию, по возможности очищенное от методологических предпосылок и проекций. Описываемые далее уровни и элементы могут быть использованы (и практически используются) в любой «методологической» поэтике.
Структура искусства За и подле в глобальной деревне
Литература как система в качестве единицы другого, более высокого, уровня существует в системе искусств. Первоначальные попытки осмысления этой системы, классификации искусств относятся еще к античной эстетике и теории литературы, но имеют живописный, метафорический характер.
Согласно греческой мифологии, на горах Парнас или Геликон у Кастальского ключа бог красоты Аполлон весной и летом водил хороводы с девятью музами, дочерями Зевса и богини памяти Мнемозины, олицетворявшими разные искусства.
В эту семью включались Каллиопа (эпическая поэзия), Эвтерпа (лирика), Эрато (любовная поэзия), Полигимния (священные гимны), Мельпомена (трагедия), Талия (комедия), Терпсихора (танец), Клио (история), Урания (астрономия).
Легко заметить, что большинство муз отвечали за литературу и вырастающие из нее театральное и песенное искусство. Но среди них отсутствовали покровительницы пластических искусств. Зато были представлены музы истории и даже астрономии, которые сегодня никак нельзя счесть изящными искусствами. Однако эта мифологическая конструкция сохраняла значение тысячелетия. Возникшее в конце ХХ века кино некоторое время (да иногда и сейчас) высокопарно называли десятой музой, присоединяя к прежним девяти.
Более рациональная, но все-таки поэтическая система строилась на уравнивании, отождествлении разных искусств.
«Живопись – немая музыка, а поэзия – говорящая живопись», – метафорически сформулировал греческий поэт Симонид Кеосский (556–469 гг. до н. э.). (Это выражение дошло до нас благодаря Плутарху.)
«Среди моих бумаг я нашел листок, – сказал Гёте, – где я называю зодчество „застывшей музыкой“. Право, это неплохо сказано. Настроение, создаваемое зодчеством, сродни воздействию музыки»[21]. Сходное сравнение встречается и у философа Ф. Шеллинга («Философия искусства», 1842).
Более строгие принципы классификации предложил младший современник Гёте, немецкий драматург и мыслитель Г. Э. Лессинг, в этапной для искусствоведения работе «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). Также опираясь на опыт античного искусства, Лессинг сравнил изображение одной и той же мифологической сцены из троянского цикла (гибель жреца Лаокоона, по воле Зевса вместе с сыновьями удушенного змеями) в скульптуре и «Энеиде» Вергилия. Вывод его противоречил традиционным представлениям: поэзия и живопись (пластические искусства вообще) не сходны, а противоположны по предмету и способам воспроизведения: «Предметы, которые сами по себе или части которых сосуществуют друг подле друга, называются телами. Следовательно, тела с их видимыми свойствами и составляют предмет живописи.
Предметы, которые сами по себе или части которых следуют одни за другими (выделено автором. – И. С.), называются действиями. Итак, действия составляют предмет поэзии»[22].
Из этого принципиального наблюдения (с которым и сегодня согласны далеко не все) вырастает классификация искусств по материалу (а точнее, по способам существования и восприятия художественного образа), постепенно принявшая трехчленный и двухуровневый характер.
По обозначенному Лессингом принципу выделяют группы пространственных искусств, образы в которых строятся из элементов (тел), располагающихся друг подле друга, и временны́х искусств, изображающих следующие друг за другом действия. Однако Мельпомена, Талия и Терпсихора отвечали за искусства, объединяющие эту оппозицию. Так возникает третья группа пространственно-временных (или синтетических) искусств, образы которых существуют и воспринимаются одновременно в пространственном и временном аспектах.
Внутри этих групп используется и другой принцип классификации, основанный на специфике языка каждого искусства, на способности его в той или иной форме воспроизводить, отражать действительность.
Мы практически всегда можем сказать, что изображено на данной картине (если речь идет о классической, фигуративной живописи) или о чем рассказывает этот роман. Ответить же на вопрос, что изображает архитектурный памятник (например, находящиеся в Петербурге по соседству Исаакиевский собор и комплекс Адмиралтейства), не так просто.
Аналогично обстоит дело и с музыкой. Так называемые программные произведения («Времена года» П. И. Чайковского), во-первых, все-таки периферийны в музыкальном творчестве, во-вторых, изобразительны условно: не зная программы, мы вряд ли сможем визуализировать, угадать ее (если, конечно, речь не идет об элементарных звукоподражаниях вроде звона колокольчика или птичьего пения). Точно так же обстоит дело и с синтетическими искусствами. В драматическом спектакле или в кино актеры воспроизводят внехудожественные, бытовые движения и поведение людей. В балете перед нами – особый, условный язык танца, подчеркнутый и соответствующими внебытовыми сценическими костюмами.
Таким образом, внутри трех выделенных групп необходимо различать изобразительные (в широком смысле) и неизобразительные (выразительные, экспрессивные) искусства. Первые в большей степени способны воспроизводить внешнюю реальность, «подражать» ей. Вторые – говорят о ней на условном, абстрактном языке и более выражают, чем изображают.
Взаимоотношения между разными видами искусства можно представить в следующей таблице.
Достаточно четко проводятся границы между видами, оказавшимися в одной классификационной ячейке. Живопись и скульптура различаются как двухмерное и трехмерное изобразительные искусства. В случае кино и театра к этому признаку добавляется другой: условность пространства и безусловность времени в трехмерной коробке сцены – безусловность пространства и условность времени (создаваемая монтажом) на двухмерном полотне экрана. Конечно, в современном искусстве существуют произведения, использующие прием монтажного столкновения времен в театре и, напротив, обнажающие условность, «театральность» пространства, в котором развертывается действие, в кино. Однако их экспериментальность подтверждает объективность эстетической границы, требующей особых усилий для ее преодоления.
Долгое время – практически два тысячелетия – литература занимала в семье муз особое место, что подчеркивается даже заголовком разнообразных пособий по эстетике: «Литература и другие искусства». В отличие от тоже временно́й музыки, она представляла мир наглядно, конкретно, в узнаваемых чертах, процессах и персонажах. Однако эта наглядность была динамична и не столь конкретна, как изобразительность живописи и скульптуры, что открывало простор воображению, служило причиной бесконечности интерпретаций классических произведений.
«Поэзия есть высший род искусства. Всякое другое искусство более или менее стеснено и ограничено в своей творческой деятельности тем материалом, посредством которого она проявляется. <…> Живописи доступен весь человек – даже внутренний мир его духа; но и живопись ограничивается схвачиванием одного момента явления. Музыка по преимуществу выразительница внутреннего мира души; но выражаемые ею идеи неотделимы от звуков, а звуки, много говоря душе, ничего не выговаривают ясно и определенно уму. Поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое есть и звук, и картина, и определенное, ясно выговоренное представление. Посему поэзия заключает в себе все элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих искусств. Поэзия представляет собою всю целость искусства, всю его организацию и, объемля собою все его стороны, заключает в себе ясно и определенно все его различия»[23], – четко формулировал точку зрения классической эстетики В. Г. Белинский.
Сходным образом спустя почти столетие рассуждал на более специальном, уже, в сущности, семиотическом языке философ Г. Г. Шпет: «Реальная ценность словесного знака, как знака, состоит в том, что это – знак всеобщий, универсальный. И этой особенности слово не теряет, когда становится предметом художественной культуры. Оно допускает наиболее полный перевод с любой другой системы знаков. Но не обратно: нет такой другой системы знаков, на которую можно было бы перевести слово хотя бы с относительною адекватностью. <…> Из универсальности слова проистекает доступность художественным формам всего действительного и возможного содержания человеческого опыта и замысла. Даже то, что сознательно или бессознательно ищет освобождения от его всепокоряющей власти и непреклонной воли властвовать над человеком, как и то, что игнорирует более чем инструментальную природу слова, может быть все-таки вовлечено в его художественные формы выражения. Научные теории, технические достижения и научения, разговоры лишенных досуга людей, коммерческая реклама, газетный пситтацизм <бессмысленная речь, похожая на механическое повторение слов попугаем> и наивное неразумие, – все прагматическое может стать предметом литературы и словесного искусства, может найти в художественном слове свое художественно предопределенное место. Не только в своей литературной сути, но и как ходячие применения все словесные создания, даже устраняемые из предмета литературоведения, могут занять свое место в литературе как ее законный объект и таким образом все-таки вернуться в литературоведение. Может быть, величию и захвату этой идеи более соответствовал бы иной, несловесный знак, но в распоряжении земного человека его нет»[24].
К середине ХХ века показалось, что такой несловесный знак появился: картинка, изображение – сначала на полотне киноэкрана (кино, как мы помним, первоначально называли десятой музой), затем – на экране телевизора и компьютера.
Канадский культуролог Маршалл Маклюэн с оптимистическим энтузиазмом провозгласил «конец галактики Гутенберга»: «Человеческий род теперь существует в условиях „глобальной деревни“. <…> Вместо того чтобы превратиться в колоссальную Александрийскую библиотеку, мир стал компьютером, электронным мозгом…»[25]
«Сообщение такого средства коммуникации, как кино, – это сообщение о переходе от линейных соединений к конфигурациям. <…> Мы возвращаемся к инклюзивной форме иконического образа. <…> Место Гутенберговых структурных допущений заняла новая мозаичная форма телевизионного образа»[26].
С торжеством не только телевизионных, но и компьютерных средств общения, с резким расширением культурного поля «картинки» разговоры о скорой смерти привычной книги приобрели апокалипсический характер. Но сколько времени займет этот процесс и какие формы он примет, остается пока неясным.
«Опасность для книги заключается не в электронном методе подачи информации, а в том, что теряется понимание, зачем, собственно говоря, нужна длительная последовательность в изложении мыслей, когда смысл можно уложить в не связанные между собой линейно кластеры. Словарь с короткими, ссылающимися одна на другую статьями – вот бумажная книга будущего. Текст будущего – короткий и рубленый, вроде реплик в „ЖЖ“ или „Твиттере“. <…> Интернет и другие электронные коммуникации сами по себе еще не враждебны книжной культуре, на что обращал внимание Умберто Эко, когда говорил, что, вопреки пророчеству Маклюэна, Интернет – это прежде всего мир текстов, и он возвращает нас в галактику Гутенберга. <…> Но сегодня конфликт возникает не между текстом и образом, а внутри мира текстов и мира образов – между режимом погружения в один информационный поток и режимом постоянного переключения между разными такими потоками. Угрозу книге представляет не отказ от текста как такового, а отказ от длинного, целостного и линейно выстроенного текста. То же самое происходит и в мире образов, где фильму противостоит клип»[27].
Однако слово наносит ответный удар, не только возвращаясь в электронную деревню в виде коротких, фрагментарных, клиповых текстов. Оно сохраняет свои позиции в кино и на телеэкране. Сценарий, особенно многосерийного телефильма, имеет словесную форму, его определяет не живописная динамика, а «говорящие головы». Кроме того, удачные экранизации возвращают интерес к литературному оригиналу.
Продолжают существовать и сюжетная живопись, и (в меньшей степени) программная музыка. И в балете, чтобы быть понятными, по-прежнему прибегают к либретто как особому словесному жанру.
Даже столь далекие от классической живописи инсталляции тоже, как правило, включают словесное описание, то есть не могут до конца избавиться от Гутенбергова «проклятия».
«В истории нашего вида, в истории „сапиенса“, книга – феномен антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса. <…> Хотя бы уже по одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надежным противоядием от каких бы то ни было – известных и будущих – попыток тотального, массового подхода к решению проблем человеческого существования. Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.
Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью: если же преступление это совершает нация – она платит за это своей историей»[28].
Даже если эта апология литературы исторически обречена и прежняя словесная культура – в том числе филология – исчезнет практически на наших глазах, задача людей книги – защищать ее до последнего патрона (текста, слова).
Последним читателем неизбежно будет филолог.
Структура литературы В словесном лабиринте
Литературные роды Репортаж, стенограмма, дневник
Проблема классификации неизбежно встает перед любой наукой, имеющей дело с разнообразием объектов. Точной, строгой обычно считается классификация, проведенная по какому-то одному признаку, в противном случае один и тот же объект может оказаться в разных выделенных группах.
В эссе великого библиотекаря и писателя-экспериментатора Х. Л. Борхеса воспроизводится описание животных в китайской энциклопедии «Небесная империя благодетельных знаний». «На ее древних страницах написано, что животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) издали похожих на мух»[29].
В этой, конечно, пародийной классификации, где каждая новая группа выделяется по новому логическому признаку, Борхес демонстрирует как своеобразие мышления в разных культурах (проблемой ментальности, национального образа мира много занимается современная культурология), так и реальные трудности, встающие перед систематизатором трудноуловимых явлений духовной культуры. Неудовлетворительная, абсурдная с логической точки зрения классификация тем не менее может сложиться исторически, обладать определенной объясняющей силой, так что исследователю приходится пользоваться и ею.
Борхесовская пародия имеет прямое отношение к проблеме литературных родов и жанров. «В учении о жанрах к вопросу приходится подходить описательно и логическую классификацию заменять служебной, подсобной, учитывая лишь удобство распределения материала в определенных рамках»[30], – заметил Б. В. Томашевский. Сходную принципиальную беспринципность и практическое удобство усматривал и В. Я. Пропп в классификации фольклорной сказки. Впрочем, логика помогает нам и в таких случаях: в выявлении интерференционных полей и осмыслении противоречивых явлений.
«Если это и безумие, в нем есть система», – утверждает Полоний в шекспировском «Гамлете». Не формальная, а конкретная, учитывающая особенности объекта классификация позволяет увидеть в исторически сложившемся жанровом «безумии» некоторую системность.
Уже античные мыслители применили к литературным текстам трехчленное деление. Сократ в «Государстве» Платона описывает три рода поэзии и мифотворчества: один весь целиком складывается из подражания (трагедия и комедия); другой состоит из высказываний самого поэта (преимущественно дифирамбы), третий использует оба этих приема, то есть автор приводит чужие речи, а в промежутках между ними выступает от своего лица, повествует (эпическая поэзия и многие другие виды)[31].
В «Поэтике» Аристотеля также различаются три способа подражания: «Ибо подражать можно одному и тому же одними и теми же средствами, но так, что или <а) автор> то ведет повествование <со стороны>, то становится кем-то иным, как Гомер, или <б) все время остается> самим собой и не меняется, или <в) выводит> всех подражаемых <в виде лиц> действующих и деятельных»[32].
Философское обоснование подобному членению придал в 1820-е годы Гегель, определив литературные роды с точки зрения взаимоотношения категорий субъекта и объекта и расположив их в соответствии со своим любимым принципом триады.
Эпическая поэзия, по Гегелю, воспроизводит «событие, в котором суть дела раскрывается сама по себе, а поэт отступает на второй план».
«Другую, обратную эпической поэзии, сторону образует лирика. Содержание ее – все субъективное, внутренний мир, размышляющая и чувствующая душа, которая не переходит к действиям, а задерживается у себя в качестве внутренней жизни и потому в качестве единственной формы и окончательной цели может брать для себя словесное самовыражение субъекта».
Драматическая поэзия соединяет предыдущие «способы изобретения» в новую целостность. «Здесь, как и в эпосе, перед нами широко развернуто действие с его борьбой и исходом. <…> Однако действие это проходит перед нашим внутренним взором не только в своей внешней форме как нечто реально происходившее в прошлом и оживающее только в рассказе, но мы видим его перед собою, как оно свершается особой волей, проистекая из нравственности или безнравственности индивидуальных характеров, которые благодаря этому становятся средоточием всего в лирическом смысле <…>. Эта объективность, идущая от субъекта, и это субъективное, которое изображается в своей реализации и объективной значимости, есть дух в его целостности; будучи действием, он определяет форму и содержание драматической поэзии»[33].
В начале 1840-х годов гегельянскую трактовку, с некоторым упрощением и схематизацией, воспроизвел в русской эстетике и критике В. Г. Белинский, благодаря которому проблема получила четкую формулировку – «Разделение поэзии на роды и виды» (заглавие статьи-трактата, 1841).
Объективное, внешнее событие, о котором рассказывается, повествуется; субъективное, внутреннее чувство, переживание, которое высказывается, изливается; наконец, внешне-внутреннее действие, представленное в форме непосредственных человеческих столкновений, – таковы, пожалуй, краткие формулы эпического, лирического и драматического родов.
Или еще короче: эпос – повествование о событии, драма – изображение действия, лирика – выражение переживания.
Эти разграничения литературных родов в XX веке были подвергнуты сомнению с разных сторон[34].
С одной стороны, радикальные теоретики (Б. Кроче, А. И. Белецкий) вообще отрицали необходимость родового членения, будто бы препятствующего подлинному пониманию литературного произведения. С другой – регулярны попытки расширить трехчленную типологию за счет дидактической поэзии, сатиры, романа как эпоса Нового времени или заменить понятие рода иными категориями (модусы Н. Фрая).
На этом фоне предпринимаются разноплановые усилия найти дополнительные аргументы в защиту традиционной классификационной схемы. Литературные роды связывали с изображенным временем (эпос – прошлое; лирика – настоящее; драма – будущее; иногда лирику и драму меняют местами), с лингвистическими категориями лица (лирика – первое; драма – второе; эпос – третье лицо), со спецификой говорящего субъекта (индивидуализированный, соотнесенный с автором – в лирике; неопределенный, растворенный в изображенном мире – в эпосе; объективированный, включенный в изображенный мир – в драме), с психологическими свойствами личности (лирика – эмоциональная сфера, эпос – образная сфера, драма – логическая сфера).
Сама многочисленность подобных попыток и стойкость трехчленной классификации свидетельствуют о том, что она опирается на какие-то фундаментальные свойства словесного, литературного образа. Поэтому, хотя теоретики и в середине XX века считали «неизвестным, являются ли эти три категории основополагающими»[35], Гёте еще в конце XVIII века не сомневался: «Есть только три подлинно природные формы поэтического искусства – форма ясного повествования, форма энтузиастического волнения и форма личного действия – эпос, лирика, драма»[36]. И Белинский в 1841 году, завершая разделение поэзии на роды и виды, настаивал: «Вот все роды поэзии. Их только три, и больше нет и быть не может»[37].
Обосновать определение природные формы, кажется, позволяет соотнесение литературных родов с речевыми жанрами, с формами обыденной речевой деятельности, из которых в конце концов и вырастает художественная литература.
Представим, что нам необходимо рассказать о каком-то факте, случае, «событии бытия», включающем и речевое общение участвующих в этом событии персонажей. В какой форме это возможно сделать?
Во-первых, в виде отчета, рассказа внешнего, стороннего наблюдателя, включающего и характеристику места – времени, и фразы – разговоры участников, и комментарии самого рассказчика.
Во-вторых, в форме максимально объективированной, фиксирующей лишь слова и реакции участников события. Роль наблюдателя сведется здесь к записи и внешней организации получившегося текста.
В-третьих, можно передать слово одному из участников события бытия, представить его монолог, его точку зрения, которая, конечно же, будет существенно отличаться от позиции стороннего наблюдателя особой включенностью в ситуацию, внутренним знанием, субъективностью, эмоциональностью.
Речевыми жанрами-прообразами этих схематичных моделей окажутся: репортаж – стенограмма (в современной культурной ситуации эту модель можно обозначить как «принцип телекамеры») – интимный дневник[38]. Дополнить эту триаду еще одним принципиальным жанром-моделью, кажется, невозможно. Другие позиции и точки зрения сведутся к комбинации описанных.
Проецируя эти речевые жанры-модели в область художественного творчества, мы получаем эпос, драму и лирику как природные формы, то есть уходящие корнями в природу речевого общения, словесного изображения и осмысления мира и человека.
Эпос, драму и лирику, таким образом, логично различать по набору признаков, которые можно свести в таблицу.
Табличное представление соотношений между литературными родами позволяет увидеть причины трудностей одноплановой, чисто логической классификации. Три литературных рода образуют несколько пересекающихся оппозиций.
По предмету изображения объективные эпос и драма противоположны субъективной лирике.
По речевой форме монологические эпос и лирику можно противопоставить диалогической драме.
По изображенному времени одноплановые драма с ее линейным временем действия и лирика с ассоциативным временем переживания противоположны временному контрапункту эпоса, где рассказ о событии обязательно сочетается с событием рассказывания.
В зависимости от того, какой признак мы выберем, родовая триада образует новую комбинацию. Но набор признаков позволяет достаточно четко разграничить литературные роды как некие теоретические модели, архетипы, что, однако, не избавляет нас от осмысления сложных пограничных явлений, о чем еще пойдет речь.
Последнюю колонку нашей таблицы можно развернуть, предложив еще одну схему различения рода со стороны воспринимающего сознания читателя-реципиента.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что литературные роды – не реальность словесного искусства, а некие принципы, архетипы, достаточно абстрактные теоретические модели. Эпос, драму и лирику нельзя взять в руки и прочитать. Каждый род реализуется в более конкретных структурно-содержательных формах, которые принято называть литературными жанрами.
Литературные жанры Тексты в клетке
Своеобразие русской литературоведческой терминологии в том, что она складывалась стихийно в течение нескольких столетий и включает античный фонд (почти все понятия стиховедения), заимствования из французского, немецкого, английского языков и собственно русские образования. Определения эпоса, драмы и лирики как родов не общепризнанны. Некоторые теоретики, апеллируя к этимологии (фр. genre – «род»), называют описанные группы литературных текстов жанрами. В других случаях предлагается такая классификационная триада: род – вид – жанр (на виды поэтические роды разделял, как мы помним, Белинский). Наконец, еще в одном традиционном употреблении два последних термина меняются местами и схема приобретает такой вид: род – жанр – жанровая разновидность. На нее мы и будем опираться в дальнейших разграничениях, иногда используя – в целях стилистического удобства – вместо последнего термина его синонимические варианты вид или жанровая форма.
Понятие рода, как мы уже заметили, достаточно абстрактно. Литературные роды (для тех, кто соглашается с их существованием) оказываются тремя огромными «логическими мешками», куда ссыпается бесконечное множество произведений мировой литературы от Гомера до наших дней – текстов объемом от нескольких строчек (или даже в одну строку!) до нескольких тысяч страниц.
Жанр – более конкретная и ключевая, главная классификационная ячейка внутри каждого рода, позволяющая перейти от абстрактного принципа к реальности отдельного текста. Слова «эпос» мы практически никогда не встречаем на обложке или титульном листе книги, термины «роман» или «рассказ» – типичные подзаголовки литературных произведений.
Но теоретическое понятие и термин «жанр», пожалуй, еще более многозначны, чем «эпос». «…Самым больным разделом теории композиции является учение о жанрах. Под богатой номенклатурой здесь скрывается полная бессистемность. Сказывается она и в определении жанра, и в классификации, и в описании. Под „жанром“ подразумевается сейчас любая группа произведений, объединенных безразлично каким признаком»[39], – замечал Б. И. Ярхо еще в 1936 году.
Для Б. В. Томашевского жанр был «сферой тяготения к одному центру», «некой точкой, вокруг которой группируются отдельные произведения. Эти произведения могут и в большей степени приближаться к этому абсолютному типу жанра, и удаляться от него. Где предел, после которого произведение перестает принадлежать к данному жанру, – определить довольно трудно»[40].
Подобному, идущему от формализма, эстетическому релятивизму М. М. Бахтин и теоретики его круга противопоставили онтологическое, фундаментально-объективистское определение жанра.
«Жанр – это отстоявшаяся типологически устойчивая форма целого высказывания, устойчивый тип построения целого»[41].
«…Исходить поэтика должна именно из жанра. Ведь жанр есть типическая форма целого произведения, целого высказывания.
Реально произведение лишь в форме определенного жанра. Конструктивное значение каждого элемента может быть понято лишь в связи с жанром»[42], – на четверть века раньше сформулировано в книге, авторство которой часто приписывают М. М. Бахтину.
Жанровая структура (типическая форма, модель) конкретизирует родовые признаки произведения и ориентирована на литературный контекст, связана с предшествующими текстами того же рода и ряда.
Жанр, следовательно, феномен контекстуальный. Имея дело с единичным текстом, мы ничего не сможем сказать о его жанровой природе.
Корни большинства литературных жанров восходят к жанрам фольклорным или же к ранним стадиям развития литературы. Писатель в литературе Нового времени жанр обычно не создает, а застает. Даже если рождение нового жанра удается более или менее точно зафиксировать и датировать, он обычно в значительной степени опирается на близкие жанры-предшественники.
Таким образом, если литературные роды являются «логическими мешками», постоянными принципами, фиксируют тождественность литературы в ее связях с внешним миром через категории субъекта и объекта, жанры оказываются «сосудами», механизмами литературной преемственности: они связывают, сшивают, объединяют разные литературные эпохи. Именно поэтому М. М. Бахтин называл жанры «великими реальностями литературы», «представителями творческой памяти в процессе литературного развития», определяя их как «некие твердые формы для отливки художественного опыта», «формы видения и осмысления определенных сторон мира»[43].
«Художник должен научиться видеть действительность глазами жанра»[44].
Для писателя, следовательно, жанр – исходная структура, модель письма, реализуемая или имманентно преодолеваемая в процессе творчества. Для читателя жанр – формула узнавания, зафиксированная в подзаголовке, серийном заглавии и оформлении, предшествующем опыте знакомства с произведениями этого автора. Для исследователя жанр – одна из самых важных категорий, позволяющая выйти за пределы конкретного текста, представить картину развития литературы.
Прежде всего необходимо условиться о нескольких важных принципах, которые нам придется принять в качестве аксиом.
Во-первых, Ц. Тодоров постулирует «существование, с одной стороны, исторических жанров, с другой – теоретических жанров. Первые суть результат наблюдений над реальной литературой, вторые – результат теоретической дедукции»[45]. Из сходного противопоставления отдельного произведения и абсолютного жанра, центра, точки как некой теоретической абстракции исходил, как мы видели выше, Томашевский.
Методом исследования жанра в первом аспекте становится классификация как «индуктивный прием работы с эмпирическим материалом», во втором – типология, то есть описание «отдельных текстов, трактуемых как образцы, эталоны, примеры (можно было бы добавить: «модели». – И. С.) данного ряда»[46].
«Во-вторых, – продолжает Тодоров, – среди теоретических жанров можно провести дополнительное разграничение, выделив элементарные и сложные жанры. Первые определяются наличием или отсутствием одного-единственного свойства <…> вторые – сосуществованием нескольких свойств»[47].
Наконец, в-третьих, важно отличать, по формулировке Б. И. Ярхо, определители жанра, «которые наличествуют во всех произведениях данного жанра и комбинация коих необходима и достаточна, чтобы отличить данный жанр от других», от сопутствующих признаков, «не входящих в определение жанра, но присутствующих у большинства представителей жанра»[48]. У простых жанров, следовательно, должен быть единственный признак-определитель, выделение сложных происходит на основании нескольких определителей, исторические жанры, как правило, наряду с определителями должны содержать разнообразные сопутствующие признаки.
Обзор конкретных литературных жанров естественно и логично начать с эпоса.
Эпические жанры По ступенькам повествования
В эссе «Проза и муза (Перемирие)», входящем в цикл «Битва», возникший как осмысление собственной работы над романом «Пушкинский дом», А. Битов упрекает филологов в поспешном уходе от проблемы жанра, крайне приблизительном представлении о предмете исследования, предпочтении конкретных описаний общим соображениям: «Не говорим ли мы лишь о различии по цвету алмаза от изумруда, все еще не имея в себе даже такой степени обобщения, как что то и то – камни. <…> То, что само собой разумеется, чаще нам просто еще неизвестно. <…> Иначе с чего бы несерьезным показался бы вопрос об объеме произведения? И так и этак определяют жанр, но никак не вернутся к самому простому и изначальному способу описания – по объему».
Исходя из критерия объема, Битов противопоставляет рассказ как текст (не обязательно в реальности, но – в принципе), созданный «враз, одним духом, за один „присест“», «из одной точки состояния духа», и роман, в котором «неизбежно меняется сам автор» и «неизбежны отношения автора с героем и набегающим текстом»[49].
В дневниковых записях Л. Я. Гинзбург есть забавный и поучительный филологический анекдот: «Тихонов (известный в те годы поэт Н. Тихонов. – И. С.) проводит вступительные испытания на Курсах техники речи. Приходят ребята от станка. Одного из ребят спрашивают:
– Что такое рассказ?
– ?
– Вы можете сказать, какая разница между рассказом и романом?
– В рассказе любви нет…
– Помилуйте! Мало ли рассказов, где любовь есть!
– Ну да, но в рассказе любовь короткая.
Тихонов говорит: отличное определение»[50].
Писательское ощущение изнутри текста и читательская формула узнавания в данном случае совпадают. Исходной характеристикой теоретических эпических жанров оказывается объем.
Разграничение большой и малой эпической формы не является, вообще говоря, новостью для поэтики. Но ему действительно редко придают принципиальный, осознанный и конструктивный характер, соединяя, логически смешивая признак объема с другими критериями и признаками.
Между тем роман и рассказ можно считать простыми теоретическими жанрами, противопоставленными, согласно критерию Ц. Тодорова, только по одному признаку – объему. Хотя этому признаку необходимо придать не чисто количественный, но и еще и некоторый дополнительный, качественный смысл.
Внешне отличить малый жанр от большого, кажется, можно просто на глаз, по количеству страниц. Сразу, за один «присест» автор способен написать, согласно А. Битову, не более трех десятков страниц. Произведение, превышающее сотню страниц стандартного набора, уже может претендовать на статус романа (таковы в русской литературе компактные романы Тургенева или, скажем, современные романы М. Кундеры).
Но в литературной практике мы встречаемся с многостраничными циклами и книгами рассказов, объединенными по какому-то признаку (персонажи, место действия), которые тем не менее никто не считает романами («Конармия» И. Бабеля). С другой стороны, и заглавие В. М. Гаршина «Очень коротенький роман» можно понять только фигурально: ни один литературовед или читатель не станет рассматривать пятистраничный текст наряду с романами.
Признак объема, следовательно, не просто формален, но обусловливает внутренние, структурные свойства исходных эпических жанров. Вспомним еще раз: «в рассказе любовь короткая». В малом жанре должны быть «коротки» все «изобразительные» структурные элементы: локальная тема, ограниченный круг персонажей, одна ситуация или событие, лапидарно описанные место и время. В романе все эти элементы тяготеют к расширению, экстенсивности.
По-иному представлено в этих жанрах и событие рассказывания, повествовательное время. Оно даже в большей степени определяет специфику жанра. Рассказ может быть посвящен не одному локальному конфликту и событию, а охватывать всю человеческую жизнь или бо́льшую ее часть (как чеховский «Ионыч»), но изображена она будет в особом повествовательном ракурсе.
Пушкин в письме А. А. Бестужеву (конец мая – начало июня 1825 года) советует бросить писать «быстрые повести с романтическими переходами» (ясно, что речь идет о каком-то малом жанре. – И. С.) и обратиться к роману. «Роман требует болтовни (здесь и ранее выделено автором. – И. С.); высказывай все начисто»[51].
Применяя несколько иную терминологию, сходную оппозицию формулирует теоретик 1930-х годов: «Новелла, если можно так выразиться, демонстрирует противоречие, в то время как роман раскрывает его со всей широтой и обстоятельностью»[52].
Обращаясь к аналогии с живописью, можно сравнить малый жанр с графическим наброском, эскизом, а роман – с завершенной жанровой картиной, где четко выстроены и тщательно прописаны сюжет, композиция, колорит. Даже если в основе того и другого одна тема (событие), результаты будут существенно отличаться друг от друга.
Это сравнение, конечно, условно: малый жанр – не эскиз для романа (хотя формалисты считали, что большая повествовательная форма возникает путем циклизации, нанизывания новелл), а самостоятельная эпическая форма с особым, отличным от романа, генезисом и историей.
Другие эпические жанры можно определить уже как сложные: они выводятся из простых путем привлечения дополнительных признаков и оппозиций.
В цитате из И. А. Виноградова появилось определение «новелла». Часто этот термин рассматривают как излишний – напрасно придуманную формалистами терминологическую вариацию рассказа: «Это различие наименований часто вводило в заблуждение исследователей, которые стремились рассматривать новеллу и рассказ и пр. как особые самостоятельные виды и определять присущие им особенности. <…> На самом деле <…> основные композиционные их особенности – способ изображения в них человека – функционально совпадают, и найти принципиальное различие между ними нельзя»[53].
«Учитывая многовековую судьбу малой формы эпического рода, следует признать, что нет типологически значимых жанровых показателей, позволяющих разграничить новеллу и рассказ по отношению друг к другу»[54].
Если оставаться в рамках оппозиции большой и малой эпических форм, различие между этими жанрами действительно будет незаметно. Но стоит ввести дополнительный признак – характер изображенного события, – и терминологическая вариация превратится в понятийное различие.
Определив рассказ как обыкновенную историю, мы, естественно, можем обозначить новеллу как необыкновенную историю, не выходящую, однако, за рамки широко понимаемой нормы (буквально итальянское novella и означает «новость»)[55].
В чеховском «Припадке» тонкий, ранимый студент Васильев, с редким «талантом человеческим», впервые попадает в публичный дом. Его потрясает обыденность тамошней атмосферы и пошлость обитательниц этого заведения. Ночью с ним случается припадок, становящийся основным событием (и заглавием) чеховского произведения.
Тематическая основа мопассановского «В порту» внешне сходна: вернувшийся из плавания моряк тоже приходит в публичный дом, проводит ночь с одной из женщин – и лишь утром узнает в ней свою сестру.
Формулы узнавания рассказа Чехова и новеллы Мопассана существенно отличаются. Обыкновенная история нравственного потрясения при столкновении с обыденным злом четко противопоставляется необыкновенной истории невольного кровосмешения, инцеста и внезапного (вдруг!) его открытия (более строгое определение рассказа и новеллы будет дано позднее, при определении разных видов действия).
Еще один малый жанр – сказка – в таком случае определяется как фантастическая история, открыто и откровенно нарушающая нормы правдоподобия. Сказка – произведение волшебного, авантюрного или бытового характера, с установкой на вымысел, – говорят фольклористы. Причем в каждой из обозначенных разновидностей сказки норма правдоподобия оказывается различной, но самоценной.
Басню можно уже противопоставить сказке и определить как условную историю с установкой на назидательность, дидактизм, аллегоризм, моральное поучение. Фольклорные истоки, прозаическая или стихотворная форма, наличие в качестве персонажей животных окажутся сопутствующими признаками сказки и басни[56].
Наконец, очерк обычно противопоставляется рассказу как реальная история, малый прозаический жанр с установкой на сугубую достоверность, невыдуманность, подлинность. В зависимости от признания этой установки, тургеневские «Записки охотника» определяются то как книга рассказов, то как цикл очерков. Хроникальная, как правило, последовательность событий, наличие рассказчика, прямой публицистический вывод опять-таки являются сопутствующими признаками, но не определителями жанра.
Такова типология, исходные теоретические модели малых эпических жанров.
С большими эпическими жанрами дело обстоит проще. Они могут быть определены набором признаков, но на основании бинарной оппозиции: эпопея – роман.
Эпопея (терминологически этот жанр обозначают еще как эпическая поэма, героический эпос или просто эпос, отождествляя – и не без основания – род и жанр) исторически предшествует роману и является одним из древнейших литературных жанров, корни которого уходят в фольклор. Роман исторически сменяет эпопею, возникая (по наиболее распространенным представлениям) лишь в литературе Нового времени, в ХVI веке (так называемые античный и средневековый романы – явления иной жанровой природы).
Поэтому Гегель назвал роман «современной буржуазной эпопеей», обозначив философскую границу между ним и древним эпосом: «Здесь, с одной стороны, вновь выступает во всей полноте богатство и многосторонность интересов, состояний, характеров, жизненных условий, широкий фон целостного мира, а также эпическое изображение событий. Но здесь отсутствует изначально поэтическое состояние мира, из которого вырастает настоящий эпос. Роман в современном смысле предполагает уже прозаически упорядоченную действительность…»[57]
Белинский в «Разделении поэзии на роды и виды» детализировал эту характеристику, обозначив некоторые принципиальные жанровые признаки-определители: «Эпопея нашего времени есть роман. В романе – все родовые и существенные признаки эпоса, с тою только разницею, что в романе господствуют иные элементы и иной колорит. Здесь уже не мифические размеры героической жизни, не колоссальные фигуры героев, здесь не действуют боги: но здесь идеализируются и подводятся под общий итог явления обыкновенной прозаической жизни»[58].
Из современных теоретиков наиболее глубокое описание эпопеи и романа, а также роли романа в литературе Нового времени дал М. М. Бахтин: «Эпопея как определенный жанр характеризуется тремя конститутивными чертами: 1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, „абсолютное прошлое“, по терминологии Гёте и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 3) эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца (автора и его слушателей), абсолютной эпической дистанцией»[59].
Конститутивными чертами романа оказываются, соответственно: 1) «незавершенное настоящее», современная действительность, «жизнь без начала и конца» как предмет изображения; 2) личный опыт автора, использование им разнообразных устных и письменных свидетельств, сплавленных, организованных на основе свободного вымысла как источник романа; 3) индивидуальный, фамильярный контакт с этим незавершенным настоящим, движение автора «в поле изображаемого мира», позволяющее ему оценивать изображаемое в разных архитектонических формах, «пророчить факты, предсказывать и влиять на реальное будущее, будущее автора и читателей», – как авторская позиция.
Эти признаки могут быть дополнены и некоторыми другими: боги, герои, богатыри как герои эпопеи – частный, обыкновенный человек как типический герой романа; монолитность, односоставность эпического слова (высокий стиль) – романные диалогизм и разноречие[60]; особый статус эпопеи (высокий жанр) – низкая поначалу репутация романа как жанра легкого, развлекательного.
Сопутствующими признаками эпопеи и романа оказываются стихотворная или прозаическая форма (Пушкин, задумывая «роман в стихах», должен был оговаривать «дьявольскую разницу» между ним и прозаическим романом), отсутствие или наличие имени автора (большинство древних эпопей анонимны, даже существование Гомера вызывает у историков литературы сомнения), завершенность, целостность («Илиада») или фрагментарность (русские былины).
Продуктивные эпохи развития эпопеи – древность и Средневековье, когда относительная целостность национальной жизни и жизни отдельного человека еще не была подорвана общественными, социальными противоречиями и психологическими конфликтами между людьми и внутри личности. Эпопея как жанр могла опираться лишь на образ мира, сделанного «из одного куска» (Бахтин), где национальное еще четко не противопоставлялось государственному, личное – общему, вымысел – реальности, поступок – слову, чувство – мысли.
В Новое время – эпоху складывания национальных государств, общественных и классовых конфликтов, великих географических открытий и опытной науки, гуманистического прославления личности, противопоставленной универсуму, – корни эпопеи как жанра оказываются подорванными. «Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще „Илиада“ наряду с печатным станком и тем более типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появлением печатного станка?»[61] – задавал риторические вопросы К. Маркс.
Попытки возродить эпопею в этих условиях («Россиада» М. Хераскова, 1779) успеха не имели. Напротив, популярным становится возникший еще в древности жанр ирои-комической поэмы – рассказа о низких, «романных» героях языком эпической поэмы. Единственным большим эпическим жанром остается роман. Впрочем, в XIX и XX веках эпопея отчасти берет реванш, возрождаясь как жанровая разновидность романа (об этом пойдет речь несколько позднее).
В русской эстетической традиции и литературной практике со времен Средневековья существовал еще один термин для обозначения эпического, повествовательного жанра. «Повесть временных лет» – называется древнейший памятник русской литературы. Ей наследовали многочисленные воинские повести, нравоучительные повести, более поздние сатирические повести XVII века.
В данном случае мы встречаемся с примером типичной эстетической омонимии. Жанр «Повести временных лет» историки литературы определяют как летопись, в других древних памятниках под шапкой повести обнаруживаются жанры исторической хроники, жития, сказки, новеллы. Древнерусская повесть была скорее ближе к понятию эпоса: рассказ о каком-то важном или примечательном событии, история, повествование.
Жанровый смысл термину попытались придать лишь в ХIХ веке. Н. И. Надеждин относил повесть к «категории романа» и разграничивал жанры опять-таки по количественному признаку: «Она <повесть> есть и должна быть не что иное, как одушевленный рассказ происшествий, поэтическое представление жизни. От романа она отличается только объемом. Там жизнь представляется в обширной галерее картин; здесь в тесных рамах одного сокращенного очерка. Коротко сказать, повесть не что иное, как – роман в миниатюре!»[62]
В другой рецензии Надеждин проводил ту же границу уже на содержательном уровне, определяя повесть как «эскиз, схватывающий мимолетом одну черту с великой картины жизни – краткий эпизод из беспредельного романа судеб человеческих»[63].
Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» называет это определение прекрасным и продолжает: «Это очень верно; да, повесть – распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа»[64].
В «Разделении поэзии на роды и виды» повторено: «Повесть есть тот же роман, только в меньшем объеме, который уславливается сущностию и объемом самого содержания»[65].
С другой стороны, в то же самое время, что и Белинский, Пушкин в рецензии на книгу Н. Павлова «Три повести» называет аналогичные тексты «занимательными рассказами», а своей книге, включающей произведения малого жанра, дает заглавие «Повести Белкина».
Повесть, таким образом, в русской традиции определилась как средний эпический жанр, колеблющийся между романом и рассказом. Она одновременно «глава, вырванная из романа» и растянутый, превысивший привычный объем, но написанный «из одного состояния духа» рассказ.
«Стремление растянуть единое состояние, необходимое для написания более обширного (чем рассказ. – И. С.) произведения, знакомо каждому пишущему. <…> Скажем, на неделю, с помощью всевозможных исключений и ограничений можно сохранить („растянуть“) состояние, принципиально адекватное первому дню. Такая максимальная возможность определит нам такой жанр, как повесть»[66].
Формальный объем повести, следовательно, лежит где-то между тридцатью и ста страницами. Пользуясь предшествующими разграничениями между романом и рассказом, можно увидеть в этом жанре более конкретные структурные признаки-определители.
Рассказ о событии и событие рассказывания, событийное время и время повествования в большом и малом жанрах чаще всего гармонируют друг с другом: рассказ и новелла быстро и коротко говорят о немногом, роман «выбалтывает» до конца множество событий и персонажей. Событийное время повести, как правило, интенсивно, локально, как в малых жанрах, а повествовательное время стремится к романной широте, подробности, предметной и психологической обстоятельности. Поскольку специфическим для эпоса как литературного рода является второй аспект, важнее формула узнавания повести именно как малого романа, а не растянутого рассказа. Именно поэтому жанровые разновидности романа и повести в принципе совпадают (о чем еще пойдет речь чуть позднее).
Поэма – еще один средний эпический жанр, который можно определить как стихотворный повествовательный рассказ, стихотворную повесть («петербургская повесть» – жанровый подзаголовок пушкинского «Медного всадника»).
Описанную систему теоретических эпических жанров можно представить в виде следующей схемы.
Жанровые разновидности романа Литературное «все»
Большинство малых эпических жанров не имеют общепринятых жанровых разновидностей. Третья ступень типологической классификации у них отсутствует. От жанра мы сразу переходим к специфике индивидуального творчества или конкретного произведения (басни Крылова, «южные поэмы» Пушкина, повесть Чехова «Степь» и т. п.).
Лишь сказка как теоретический жанр имеет свои жанровые разновидности, исторически сложившиеся еще на фольклорной стадии, и перешедшие в литературу жанровые формы (именно поэтому мы и включаем ее в систему литературных эпических жанров, в отличие от легенды, былички, не получивших широкого распространения в индивидуальном творчестве). Общепринятая жанровая классификация сказки такова: волшебная сказка; бытовая сказка; сказка о животных. Иногда к ним добавляют авантюрную сказку, а также так называемую кумулятивную сказку.
Легко убедиться, что такая классификация логически уязвима, напоминая приведенную в начале этой главы китайскую классификацию Борхеса. Две первые разновидности определяются по тематике (или характеру вымысла), сказка о животных – по типичным для жанра персонажам, авантюрная – по особенностям фабулы. Животные как персонажи имеются почти в каждой волшебной сказке. Бытовая и авантюрная сказки могут быть близки по характеру действия.
Однако практически такая классификация работает, с опорой на нее составляются сказочные указатели и антологии. Пушкинские «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказка о попе и работнике его Балде» легко разграничиваются и отличаются друг от друга по многим признакам именно потому, что они принадлежат к разным жанровым формам.
Из жанровых разновидностей сказки (на ее фольклорной стадии) наиболее четко определена и изучена волшебная сказка, потому что В. Я. Проппу в книге «Морфология сказки» (1928) удалось описать ее структурный инвариант, выявить лежащую в ее основе композиционную схему[67]. Первоначальное авторское заглавие, измененное редактором, включало определение не жанра, а жанровой разновидности: «Морфология волшебной сказки»[68]. В позднейшем послесловии (1966) Пропп мечтал: «Книга с таким заглавием («Морфология сказки». – И. С.) могла бы стать в один ряд с этюдами типа „Морфология заговора“, „Морфология басни“, „Морфология комедии“ и т. д.»[69]. Сам исследователь аналогичным образом изучил лишь структуру кумулятивной сказки. Его программа до сих пор остается нереализованной.
Единственным жанром, порождающим все новые и новые жанровые формы, оказывается в литературе Нового времени роман.
Количество определений жанровых разновидностей романа исчисляется десятками. Нет никакой возможности свести их в какую-то единую систему. Задача заключается лишь в том, чтобы систематизировать принципы, согласно которым они даются.
Первый принцип, порождающий наиболее важную жанровую серию, можно обозначить как структурный. В зависимости от того, какой элемент романного построения выходит на первый план, становится доминантой, можно говорить о романе авантюрном, приключенческом (доминантой которого является действие), бытовом (изображение обыденной жизни, хроника, противоположная авантюре), психологическом (внутренняя жизнь персонажа), социально-психологическом (объединение двух предшествующих видов в развернутой, детализированной картине жизни), философском (идея как доминанта) и романе-эпопее (в котором уже три предшествующих вида, взаимно переплетаясь, создают картину общенациональной жизни, образ мира, напоминающий старую эпопею).
Наиболее известный исторический вариант авантюрного романа (и исторически первичная форма романа Нового времени вообще) носит название плутовского романа. Его герой – ловкач, пройдоха, плут (исп. пикаро), обычно человек из социальных низов (бродяга, слуга, разорившийся дворянин), претерпевающий разнообразные превратности судьбы и в конце жизни достигающий относительного успеха. Роман часто строился как рассказ от первого лица, длинная (в принципе – бесконечная) история приключений центрального персонажа, что позволяло автору дать широкую, панорамную, живописную, но внешнюю, поверхностную картину современной действительности. Таким образом, и предмет (современность, а не абсолютное прошлое), и персонаж (не герой-богатырь, а скорее антигерой), и способ повествования (позиция участника и очевидца, а не безличный взгляд сверху) плутовского романа оказались противопоставлены эпопее, тем самым четко обозначив основные структурные признаки эпоса Нового времени.
Плутовской роман возник сначала в Испании (анонимная «Жизнь Ласарильо, его невзгоды и приключения», 1554; «Жизнеописание плута Гусмана де Альфараче» М. Алемана, в 2 т., 1599–1604), потом культивировался в Германии, Франции и других европейских странах («Симплициссимус» Г. Я. Гриммельсгаузена, 1676; «История Жиль Блаза из Сантильяны» А. Р. Лесажа, 1715–1735), а в начале ХIХ века появился в русской литературе («Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Т. Нарежного, 1813). Исходную схему плутовского романа использовал в «Мертвых душах» Н. В. Гоголь. В литературе XX века жанр (отчасти как стилизация) представлен «Двенадцатью стульями» И. Ильфа и Е. Петрова (1929) и неоконченными «Приключениями авантюриста Феликса Круля» Т. Манна (1910, 1954).
Стоит писателю остановить колесо приключений, свернуть с большой дороги в дворянскую усадьбу или маленький городок, как мы попадаем в жанровое пространство социально-бытового (нравоописательного) романа. Предмет его – жизнь какой-то сравнительно небольшой человеческой общности (семьи и пр.). Обычный прием повествования – хроника, которая может быть связана с жизнеописанием какого-то центрального персонажа, изображаемого во внешнем, биографическом аспекте. Наибольшее распространение и известность получил английский бытовой роман ХVIII века («История Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга, 1749; «Путешествие Хамфри Клинкера» Т. Д. Смоллетта, 1771). В русской литературе бытовой роман возникает в начале ХIХ века (уже упомянутый Нарежный, Ф. В. Булгарин) и проходит через все столетие (П. Д. Боборыкин, А. В. Амфитеатров). Вообще, бытовой роман (в форме так называемой беллетристики), вырастающий из прямого наблюдения, очеркового исследования жизни, определяет литературный фон последних трех столетий.
Параллельно с бытовым в литературе ХVIII века развивается психологический роман («Манон Леско» А. Прево, 1731; «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, 1761; «Страдания молодого Вертера» И. В. Гёте, 1774), доминантой которого становится изображение противоречий – человека и мира, личности и социума, людей между собой, – становящихся внутренними элементами человеческой личности. Этот тип романа, в сущности, открывает и вскрывает «внутреннего человека», делает объектом изображения и исследования пространство человеческого сознания. В России традиция психологического романа начинается с «Героя нашего времени» Лермонтова (1840).
Социально-психологический роман ХIХ века изображает, представляет многостороннюю, целостную, без видимых пропусков, картину жизни. Именно к нему прежде всего применимо определение Ф. Энгельса, данное реализму: правдивое (в других переводах – верное) воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах[70].
В сущности, об этой жанровой разновидности говорил Пушкин: «В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании»[71].
К этому типу романа обычно применяют метафорические определения зеркало, поставленное на большой дороге, сокращенная вселенная и т. п. Крупнейшие европейские романисты во Франции (О. де Бальзак, Стендаль, Э. Золя), Англии (Ч. Диккенс, У. Теккерей), России (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров) работали именно в жанре социально-психологического романа, создавая его индивидуальные варианты.
За пределами социально-психологической традиции из больших русских писателей оказывается Достоевский (особенно в поздних романах, так называемом пятикнижии). Его «инородность» чувствовали уже чуткие современники, и, напротив, попытки подойти к роману Достоевского как к обычному социально-психологическому роману (статья Д. Писарева «Борьба за жизнь» о «Преступлении и наказании») обнаруживали глубокое противоречие с интенциями художественного мира.
Специфику романа Достоевского хорошо передает пародийное рассуждение Тургенева, записанное сыном другого знаменитого русского писателя: «Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе, у Жюль Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем, у Достоевского через каждые две страницы его герои – в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает»[72].
В суждении Тургенева сказалась не только личная неприязнь (между писателями существовали сложные отношения, одно исследование о них называлось «История одной вражды»), но и глубинное различие творческих принципов. Социально-психологический романист (Тургенев вошел в русскую литературу с репутацией образцового создателя традиционного европейского романа, по отношению к которому жанровые формы Лермонтова, Гоголя, Толстого в разной степени эксцентричны) с глубоким недоверием и удивлением обнаруживает у Достоевского совсем иные творческие установки – обратное общее место. Примечательно, что Тургенев одновременно апеллирует к действительности (этого не бывает) и сравнивает Достоевского не с собой или Толстым, а с фантастом Жюлем Верном (даже он в изображении человеческой психологии оказывается простым рассказчиком).
Достоевский и сам осознавал это глубинное различие: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня составляет самую сущность действительного»[73].
Д. С. Лихачев в недавнее время, по сути дела, повторил тургеневское наблюдение, меняя знак оценки: «Если под психологией разуметь науку, изучающую закономерности душевной жизни, то Достоевский – самый непсихологический писатель из всех существующих. Ему нужна не психология, а любая возможность освободиться от нее»[74].
Достоевский оказывается создателем новой жанровой разновидности – философского, или идеологического, романа. Философский роман (в ХVIII – первой половине ХIХ века ему непосредственно предшествовали философские повести Вольтера и некоторые романы немецких романтиков) не подчиняется закономерностям обыденной психологии в изображении персонажа и не стремится стать типической картиной времени, исторической эпохи. Герой рассматривается здесь как мыслитель, носитель какой-то жизненной философии. Все романное построение становится реализацией этой идеи, ее проверкой на прочность. В качестве философствующего, размышляющего субъекта может выступать как сам писатель или близкий ему герой-протагонист (в таком случае мы имеем так называемый социально-идеологический роман), так и несколько равноправных персонажей-идеологов, спор между которыми, большой диалог, так и остается незавершенным (М. М. Бахтин называл такой роман полифоническим и связывал его рождение с именем Достоевского).
Параллельно с Достоевским новую жанровую форму создает в 1860-е годы Л. Толстой. Когда «Война и мир» была закончена, Толстой написал статью-послесловие «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“», в которой полемически заявил, что русские вообще не умеют писать романов (подразумевалось: традиционных психологических или социально-психологических романов), и определил свое произведение прежде всего по отрицательным признакам: «Что такое „Война и мир“? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось»[75].
Это отрицательное определение сделал позитивным Н. Н. Страхов: «Можно сказать, что руководящая мысль произведения – идея героической жизни. <…> Художник дал нам новую, русскую формулу героической жизни. <…> Это – действительно неслыханное явление – эпопея в современных формах искусства»[76]. Его, в сущности, поддержал и Толстой, не раз впоследствии сравнивая свое создание с «Илиадой».
Позднее термин роман-эпопея стал общепризнанным, но ощущение известной уникальности жанра, на которой настаивал его создатель, в общем сохранилось. Если все другие жанровые формы романа имели в ХХ веке непрерывную линию развития, то роман-эпопея остается «штучным», единичным созданием. Для его возникновения необходимо сочетание слишком многих объективных и субъективных предпосылок.
В сущности, единственным общепризнанным образцом жанра в русской литературе прошлого века оказался «Тихий Дон» М. А. Шолохова. Можно говорить о поэме-эпопее А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Многие другие романы – претенденты на эпический статус не выдержали проверки временем, оказавшись в лучшем случае просто социально-психологическими романами (иногда к таким произведениям применяют особый термин – панорамный роман). Таким образом, в отличие от других жанровых разновидностей, роман-эпопея – не только структурная, но и ценностная характеристика. За этой формой сохраняется высокий иерархический статус, характерный для древнего эпоса.
Логику развертывания романного жанра можно представить как захват новых жизненных пространств, расширение эстетического объекта, усложнение и трансформации исходной структуры: начиная с события, основополагающей категории эпического рода, роман осваивает сначала его внешнюю, динамическую сторону, приключение (авантюрный), потом – статическое, повторяющееся, обыденно-житейское бывание[77] (бытовой), затем углубляется в героя (психологический), объединяет, синтезирует все эти принципы (социально-психологический), перешагивает через героя, более четко транспонируя, проявляя через него идею, авторскую мысль (философский), наконец, отчасти возвращается к своей родовой природе, создает новый синтез, где герои и автор становятся частями грандиозного События бытия (роман-эпопея).
Четкое структурное различение жанровых разновидностей романа не является, однако, общепринятым и сочетается с многочисленными жанровыми определениями по иным признакам.
М. М. Бахтин, один из крупнейших исследователей романа в ХХ веке, его поэт и апологет, в законченной, но погибшей в военные годы книге «Роман воспитания и его значение в истории реализма»[78] в основу своей самой подробной классификации положил «принцип построения образа главного героя». С этой точки зрения Бахтин различал:
– роман странствований («Герой – движущаяся в пространстве точка, лишенная существенных характеристик и не находящаяся сама по себе в центре внимания романиста»);
– роман испытания («Это самая распространенная романная разновидность в европейской литературе. К ней относится значительное большинство всей романной продукции. Мир этого романа – арена испытаний и борьбы героя, события, приключения, пробный камень для героя. Герой всегда дан как готовый и неизменный. Все качества его даны с самого начала и на протяжении романа лишь проверяются и испытываются»);
– роман биографический или автобиографический (он определялся по пяти признакам: построение сюжета на типических особенностях всякого жизненного пути – рождение, детство, годы учения и т. д.; отсутствие подлинного становления героя, замещаемого перечислением заслуг либо категорией счастья/несчастья; появление биографического времени, членимого по длительным периодам – возрастам и пр.; введение в роман окружающего мира уже не как абстрактного фона, а как исторической реальности; характеристика героя «как положительными, так и отрицательными чертами», которые, однако, носят «твердый, готовый характер»);
– роман становления, роман воспитания («В противоположность статическому единству здесь дается динамическое единство образа героя. Сам герой, его характер становятся переменной величиной в формуле этого романа. Изменение самого героя приобретает сюжетное значение…»).
Последняя разновидность разделялась на целых пять типов, лишь последнему из которых, роману воспитания в узком смысле слова, и была посвящена книга («В нем становление человека дается в неразрывной связи с историческим временем»).
Однако в самой этой типологии есть совпадающие определения (биографический роман оказывается одновременно и третьей жанровой разновидностью, и третьим типом романа становления), Бахтин легко переходит к иным классификационным принципам (готический роман, роман барокко, реалистический роман, героический роман), так что главным предметом размышления для него в этой работе оказывается не строгая жанровая система, а меняющиеся принципы изображения героя.
В написанном одновременно с книгой о романе воспитания большом исследовании «Формы времени и хронотопа в романе»[79] дается иная жанровая типология, лишь отчасти совпадающая с описанной. Здесь в рамках античного романа выделены авантюрный роман испытания («Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Дафнис и Хлоя» Лонга), авантюрно-бытовой роман («Сатирикон» Петрония, «Золотой осел» Апулея), биографический роман (с важной оговоркой, что такого романа античность не создала, поэтому вместо него дается «краткий обзор автобиографических и биографических форм», как бы замещающих роман), небольшая главка посвящена рыцарскому авантюрному роману, а затем подробно анализируется «раблезианский хронотоп», его фольклорные основы (Рабле Бахтин посвятит отдельную книгу) – без точной видовой квалификации «Гаргантюа и Пантагрюэля». В этой нестрогой типологии прежний принцип построения образа героя сочетается с хронологическим (античный роман) и персональным (роман Рабле) признаками.
В переработанном варианте главной книги Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» на первых же страницах четвертой главы «Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений Достоевского» дается – без специальных определений – еще одна номенклатура видов романа: биографический, социально-психологический, бытовой, семейный роман; авантюрный роман, старый роман приключений, роман-фельетон, бульварный роман[80]. Структурные, тематические, оценочные признаки свободно совмещаются в этом ряду.
Определение полифонический роман (в отличие от более распространенных терминов идеологический или философский) оказывается не столько видовой, сколько индивидуальной характеристикой романа Достоевского (Бахтин настаивал на уникальности созданного Достоевским жанра, полемизировал с расширенным употреблением термина и так и не привел других примеров полифонического романа).
Роман был не предметом, а исходной точкой мышления Бахтина. Его, в сущности, интересовал не узко понятый жанр, а судьба и образ человека в проблематичном, незавершенном, «романизированном» мире. «Одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и его положения. Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности. <…> Человек до конца не воплотим в существующую социально-историческую плоть. Нет форм, которые могли бы до конца воплотить все его человеческие возможности и требования, в которых он мог бы исчерпать себя весь до последнего слова, как трагический или эпический герои, которые он мог бы наполнить до краев и в то же время не переплескиваться через края их. Всегда остается нереализованный избыток человечности, всегда остается нужда в будущем и необходимое место для этого будущего. Все существующие одежды тесны (и, следовательно, в какой-то мере комичны на человеке)»[81].
По персонажному признаку (в более узком, конкретном, чем у Бахтина, смысле) выделяются уже известные нам плутовской и рыцарский роман, а также существовавший в русской литературе 1860-х годов роман о новых людях (определение возникло из подзаголовка романа Чернышевского «Что делать?») и противостоящий ему антинигилистический роман («Некуда» Лескова, «Взбаламученное море» Писемского, «Бесы» Достоевского).
Довольно часто жанровые разновидности романа определяются по культурно-хронологическому признаку, который (в зависимости от эпохи) конкретизируется принадлежностью романа к соответствующему литературному направлению. Четко проведенный принцип дает следующую видовую серию: античный, средневековый, ренессансный, барочный, просветительский, сентиментальный (или сентименталистский), романтический, реалистический, натуралистический, символистский, соцреалистический (от «социалистический реализм»), модернистский, постмодернистский роман.
Временной признак в чистом виде позволяет выделить, с одной стороны, исторический (изображение прошлого), с другой – фантастический роман (картина будущего). Соответствующая для них точка отсчета – современность – в качестве жанрового определения, как правило, не используется, потому что к современности обращено большинство романных видов.
Современности в ее социальном варианте противопоставлены утопический роман (системное описание более совершенного, чем настоящий, мира) и роман-антиутопия (минус-утопия, роман-предупреждение – изображение пугающих последствий социального развития общества). Доминантой фантастического романа, впрочем, можно считать не хронологический признак, а характер вымысла, тогда он встанет в один ряд с жизнеподобным, бытовым романом, как оппозиция ему.
Историческими жанрами, конкретизацией авантюрного романа как теоретического жанра, оказываются приключенческий и детективный (от англ. detective – сыщик) романы. В первом случае сюжетной основой романа становится чистое приключение, перипетия, позволяющая романисту продемонстрировать героические свойства персонажей-протагонистов, а также развернуть панорамную картину экзотического мира (приключение, как и в плутовском романе, связано с мотивом путешествия, бесконечного движения), вторая жанровая разновидность связана с разгадкой, логическим распутыванием какой-то загадки (в основе детектива чаще всего преступление и его раскрытие).
Некоторые романные жанры возникают и, следовательно, описываются не серийно, а как индивидуальные варианты, противопоставленные всему романному массиву или значительной его части.
Особая форма газетной публикации романов короткими относительно самостоятельными фрагментами породила термин роман-фельетон (так публиковались произведения преимущественно массовых жанров – детективы, приключенческий роман).
Попытки объяснить своеобразие романа Дж. Джойса «Улисс» (1922) привели к возникновению понятия «поток сознания» (заимствованного у психолога У. Джемса). Структурной основой этой жанровой разновидности стал внутренний монолог (или монологи) одного или нескольких персонажей, создающий резко субъективированный, часто нуждающийся в расшифровке образ романной реальности. Постепенно термин стал обозначать не один текст, а жанровую разновидность романа, очень существенную для ХХ века (М. Пруст, В. Вулф, У. Фолкнер), истоки которой, однако, находят у Л. Толстого и даже Л. Стерна. (Аналогичной, как мы видели, была судьба термина «полифонический роман». Заимствованный М. М. Бахтиным из музыкальной эстетики, он стал формулой узнавания для романов Достоевского и лишь постепенно приобрел более широкий смысл.)
В 1950–1960-е годы французские теоретики и практики придумали новый роман, или антироман («Изменение» М. Бютора, 1957; «Золотые плоды» Н. Саррот, 1963). Этот жанр противопоставлялся всей прежней практике романа и призван был разрушить, отменить его традиционные структурные признаки: героя, сюжет, четкий образ пространства и времени. Однако быстро выяснилось, что «новый роман» (его иногда рассматривают как одну из форм романа «потока сознания») не отменил и заменил «старый», а стал еще одной, очередной его жанровой разновидностью.
По признаку эмоциональной доминанты, реализованного в романной структуре пафоса выделяют юмористический, сатирический, героико-романтический роман.
Самую большую и противоречивую группу жанровых форм создает, однако, тематический признак. Именно по нему выделяют любовный, семейный, эротический, военный, политический, географический, готический (роман тайн и ужасов), шпионский, морской и т. д. и т. п. роман.
Такой тип романа непосредственно связан уже с чисто функциональным определением жанра, как текста, включенного в издательскую серию и рассчитанного на конкретный тип читателя. Так, формами любовного романа оказываются розовый роман, дамский роман, женский роман (сентиментальная любовная история со счастливым концом), формулой узнавания которых становится именно серийная принадлежность (имя автора для этого жанра столь же несущественно, как и для фольклорного текста)[82]. Аналогично обстоит дело с черным романом (жанровая разновидность детектива), целью которого становится создание атмосферы страха, поэтому внимание здесь обычно переключается на преступника, а сюжет строится не на разгадке преступления, а на преследовании, погоне.
Авторитетность романного жанра, его главенство в литературе двух последних веков приводит к тому, что термин роман появляется в заглавии или подзаголовке самых разных текстов, не имеющих прямого отношения к литературе как искусству художественного вымысла: роман-эссе, роман-исследование, документальный роман, роман без вранья… Критик может даже лекции В. Набокова о русской литературе назвать настоящим романом.
Но и в таком случае понятие оказывается не совсем бессмысленным. Даже при очень широком, в сущности, метафорическом употреблении оно обозначает литературный контекст произведения и позволяет тем самым понять и интерпретировать его на фоне других (скажем, увидеть отличие лекций Набокова от обычных «профессорских» лекций).
Структурные определения (авантюрный или психологический роман) оказываются для исследователя намного содержательнее тематических (шпионский или морской роман) или функциональных (черный или дамский роман). Но для издателя и читателя простые формульные жанры[83] становятся важным способом ориентации в мире литературы.
Сложность типологии и классификации романа заключается в его способности к бесконечным трансформациям. Разнообразие признаков и оснований классификации позволяет увидеть, что трехчленная схема род – жанр – жанровая разновидность для романа оказывается недостаточной. Приходится дополнительно говорить о типических разновидностях, жанровых формах и т. п. Если авантюрный или психологический роман – это жанровые разновидности или виды, то детектив или роман «потока сознания» оказываются уже следующей, четвертой ступенью классификации, а черный роман как разновидность детектива – пятой.
Возможно, при попытках более строгой систематизации романного жанра придется вернуться к старой идее Б. И. Ярхо, предлагавшего в работе «по градации жанров» использовать естественно-научную терминологию (хотя пока она выглядит непривычно): вид, род, отряд, семейство и т. д.[84]
Но и в таком случае схематическое изображение жанровой типологии романа будет напоминать скорее не логическое дерево вариантов, а виноградную гроздь. Тем не менее любой, даже самый формальный, признак включает данное произведение в какое-то множество, организует вокруг него литературный контекст и тем самым позволяет применить сравнение, которое Б. И. Ярхо считал в литературоведении «основным актом логического доказательства».
Драматические жанры От трагедии до беспредела
Стандартный объем традиционной драмы зависит не столько от специфики литературного рода, сколько от возможности его театрального воплощения. В принципе, действие в настоящем времени, диалоги и монологи можно длить так же долго, как романное повествование. Но драм, по объему сопоставимых с романами, практически не существует.
Вызывающе длинная первая чеховская пьеса, рукопись которой дошла до нас без первой страницы и, следовательно, без заглавия (обычно ее именуют «Безотцовщина» или «Платонов»), равная по объему «Чайке», «Дяде Ване» и «Вишневому саду», вместе взятым, при жизни автора так и не была поставлена, а впоследствии при сценической реализации, как правило, сокращалась.
Объем традиционной драмы – 50–80 страниц – в эпическом роде сопоставим с повестью. В эти границы должно поместиться любое содержание – как длинная любовь, так и любовь короткая. Поэтому эпический критерий объема к драматическому тексту почти неприменим (об исключениях будет сказано позднее). Исторически драматические жанры возникли и долгое время развивались на иной основе.
С осмысления и определения драматических жанров, в сущности, начинается европейская поэтика. Уже цитированный трактат Аристотеля «Об искусстве поэзии» в значительной части посвящен теории драмы. Аристотель дает определения двух главных драматических жанров, история которых, следовательно, исчисляется тысячелетиями.
Знаменитое аристотелевское определение трагедии таково: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему <определенный> объем, <производимое> речью, услащенной по-разному в различных ее частях, <производимое> в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей»[85].
О другом, противоположном трагедии, драматическом жанре шла речь в несохранившейся части «Поэтики». В дошедшем до нас фрагменте его определение только намечено: «Комедия… есть подражание <людям> худшим, хотя и не во всей их подлости: ведь смешное есть <лишь> часть безобразного. В самом деле, смешное есть некоторая ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное…»[86]
Если не принимать во внимание родовое определение (подражание действию), иерархическую форму мышления (важное действие – худшие люди), а также сопутствующие признаки (услащенная речь), признак-определитель трагедии и комедии оказывается простым и очевидным – эмоциональный тон, эмоциональная доминанта (в старых поэтиках называемая пафосом), воплощенная автором и призванная определенным образом воздействовать на читателя (зрителя): страх, сострадание и очищение (катарсис) – в трагедии, смех – в комедии.
Из этого основного противопоставления (слезы – смех) вытекают более конкретные признаки каждого жанра.
Центральными героями трагедии, персонажами-протагонистами, избираются обычно сильные, мощные характеры.
Их высокий социальный статус можно считать гиперболой их внутренней масштабности. «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая и судьба народная»[87].
Герои вступают в конфликт между собой, совершают некое роковое действие или раздираемы внутренними противоречиями, приводящими в финале к их гибели. Причем эта гибель – не простая случайность, а закономерный итог: «Изначальный трагизм состоит именно в том, что в такой коллизии обе стороны противоположности, взятые в отдельности, оправданны, однако достигнуть истинного положительного смысла своих целей и характеров они могут, лишь отрицая другую столь же правомерную силу и нарушая ее целостность, а потому они в такой же мере оказываются виновными именно благодаря своей нравственности»[88].
Трагическая гибель героя должна вызвать сострадание к нему, потрясти зрителя, произвести в нем катарсис, очищение, которое и оказывается целью трагедии (существует множество трактовок этого лишь однажды употребленного Аристотелем термина – от философско-эстетических до медицинских).
Тремя главными, наиболее значительными эпохами трагического творчества обычно считают высокую античность (V век до н. э. – Эсхил, Софокл, Еврипид), английское Возрождение (конец ХVI – начало ХVII века – У. Шекспир и его современники) и французский классицизм (середина ХVII века – П. Корнель, Ж. Расин).
В эти три эпохи трагедия, конечно, имела исторические и индивидуальные различия, но вряд ли можно было говорить о ее видах. «Эдип-царь» (ок. 425 до н. э.) Софокла, «Гамлет» (1601) Шекспира и «Федра» (1677) Расина составляют единый теоретический жанр именно в силу обобщенности, абстрактности, большой условности всех основных структурных элементов – от стихотворного языка до мифологической или исторически-условной фабулы.
«Из всех сочинений самые неправдоподобные (invraisemblance) сочинения драматические, а из сочинений драматических – трагедии, ибо зритель должен забыть, по большей части, время, место, язык; должен усилием воображения согласиться в известном наречии – к стихам, к вымыслам»[89], – замечал Пушкин, воюя в эпоху «Бориса Годунова» с условным требованием правдоподобия и классицистским правилом трех единств – места, времени и действия.
Масштабность задач трагедии как драматического жанра вела к тому, что в разные эпохи ей, наряду с эпопеей, отводилось высшее место в жанровой иерархии. С античности до эпохи классицизма трагедия считалась высоким жанром. Комедия, напротив, многие столетия воспринималась как низкий жанр, не потрясающий и очищающий, а развлекающий зрителя.
Комедия практически всегда рассматривалась в зависимости от трагедии, в противопоставлении ей. Помимо основного признака эмоционального тона (смех, а не слезы), комедия в качестве сопутствующих признаков отличалась статусом персонажа («Такая же разница и между трагедией и комедией – одна стремится подражать худшим, другая – лучшим людям, нежели нынешние»[90]) и формой завершения, типом финала (благополучная, счастливая, а не печальная развязка). За счет своего положения комедия всегда оказывалась ближе к современности и национальной проблематике и, следовательно, в видовом отношении многообразнее трагедии.
В «Словаре театра» П. Пави[91], наиболее полном справочнике по теории и истории европейского театра, – только два жанровых термина, относящихся к трагедии (статья трагедия политическая отсылает к тем же Корнелю и Расину), зато видам комедии посвящено больше двадцати статей.
Наиболее принципиальное противопоставление проходит по линии действие – персонаж. В зависимости от этого признака как структурной доминанты выделяют комедию положений и комедию характеров.
В первом случае движущей силой драматического действия является само действие, фабула с перипетиями, тайнами и загадками, комической путаницей (прием qui pro quo, квипрокво, когда одного персонажа принимают за другого), словесной игрой, неожиданной концовкой. К этому виду относятся комедии древнеримского драматурга Плавта («Близнецы»/«Менехмы», конец III – начало II в. до н. э.), У. Шекспира («Комедия ошибок», 1592–1593, «Много шума из ничего», 1598–1599), Мольера («Плутни Скапена», 1670).
Терминологическими вариациями комедии положений оказываются комедия интриги, комедия ситуаций, хорошо сделанная пьеса («Стакан воды» Э. Скриба, 1840; ему приписывают и сам этот термин).
Национальными вариантами, историческими формами комедии положений можно считать итальянские commedia dell’ arte, комедию масок, оказавшую влияние на К. Гольдони и К. Гоцци, противостоящую ей commedia erudita, ученую комедию («Мандрагора» Н. Макиавелли, 1518), а также испанскую комедию плаща и шпаги (некоторые комедии Л. де Вега, Кальдерона).
Использование гротескных, грубых комических приемов, часто связанных с народной карнавальной культурой, характерно для фарса, который, следовательно, тоже можно понимать как еще один исторический вариант комедии положений, ее малую форму (близкое фарсу понятие – бурлеск).
Другая малая форма комедии положений – водевиль (короткая, обычно одноактная пьеса с песнями и танцевальными номерами). «Да! водевиль есть вещь, а прочее все – гиль», – заявляет в «Горе от ума» грибоедовский Репетилов. Лишь у Чехова водевиль меняет свою структурную доминанту: он избавляется от музыки и превращается, сохраняя фабульные перипетии, в короткую комедию характеров («Свадьба», «Предложение», «Медведь»).
В XX веке своеобразной трансформацией комедии положений стала комедия идей, в которой фабула становится способом парадоксального заострения, исследования какой-то философской, идеологической, моральной концепции или системы. К этой разновидности принадлежат комедии ирландца Б. Шоу, польского драматурга С. Мрожека.
Комедия характеров выводит на первый план персонажа. Действие в таком случае замедляется, фабула приобретает не самодостаточный, а служебный характер, вопрос «Чем же все закончится?» заменяется для читателя или зрителя вопросом «Что это за человек?». В этом смысле шекспировский «Венецианский купец» (1596–1597) противостоит «Комедии ошибок», а мольеровские «Тартюф, или Обманщик» (1664), «Дон Жуан, или Каменный гость» (1665) – «Плутням Скапена». Комедиями характеров являются, в сущности, все значительные русские комедии ХVIII – ХIХ веков – «Недоросль» и «Бригадир» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, многочисленные комедии Островского.
Историческими формами комедии характеров оказываются так называемая комедия темпераментов, «сложившаяся в эпоху Шекспира и Бена Джонсона и исходящая из представлений, основанных на медицинской концепции четырех темпераментов, регулирующих человеческое поведение» (П. Пави), и комедия нравов – «этюд о поведении человека в обществе, о классовых различиях, разнице среды и характеров» (П. Пави).
Другие разновидности комедии выделяют по иным признакам, и, следовательно, они, как и в случае с видами романа, так или иначе накладываются на исходное противопоставление действия и персонажа.
Связь жанра с эпохой дает комедию античную, ренессансную, барочную, классицистическую, реалистическую и т. д.
Введение внутрь жанра иерархической шкалы позволяет говорить о высокой и низкой комедии (низкой, естественно, оказываются комедия положений, фарс и пр., высокой – разные формы комедии характеров). Социальная конкретизация «низкого» позволяет дифференцировать бульварную (буржуазную) и салонную комедии.
Рассмотрение комедийного текста в аспекте других архитектонических форм или дифференциация самой категории комического приводит к образованию таких жанровых разновидностей, как легкая (использующая разнообразные формы юмора; легкой комедией называют в том числе водевиль), сатирическая, сентиментальная (слезливая), лирическая, героическая комедия.
«Героическая комедия ведет к столкновению персонажей высокого звания в действии, завершающемся счастливой развязкой, в котором „не возникает угрозы, вызывающей у зрителя сострадание или ужас“ (Корнель). <…> Трагедия становится героической комедией, когда священное и трагическое уступает место психологии и буржуазному компромиссу» (П. Пави).
Героическая комедия оказывается, таким образом, на самой границе между двумя главными драматическими жанрами. Осознание и эстетическое освоение этой границы приводят к принципиальной перестройке всей жанровой системы драмы.
В рассуждении-трактате Д. Дидро о собственной пьесе «Побочный сын», тоже написанном в форме диалога, один из персонажей размышляет: «В каждом моральном явлении различаются середина и две крайности. Казалось бы, что, так как всякое драматическое произведение есть моральный объект, – в нем должны быть средний жанр и два крайних жанра. Последние у нас есть: комедия и трагедия. Но человек не всегда бывает в горе или в радости. Существует, следовательно, некоторое расстояние, разделяющее комический и трагический жанры»[92]. Заполнить это расстояние была призвана домашняя (буржуазная) трагедия (или мещанская драма).
Смена социального статуса героя и среды, в которой развивается конфликт, подчеркнутая новым определением трагедии, была видимым изменением более глубокой перестройки: формированием новой структурной доминанты, нового признака-определителя, который, впрочем, может быть обозначен лишь как отрицание предшествующего – отмена прежнего эмоционального тона.
Особенностью «классических» драматических жанров, отраженной в их определении, была изначальная заданность архитектонического завершения и всего эмоционального строя пьесы. И автор в процессе сочинения, и читатель-зритель в момент ее восприятия, даже не представляя конкретного содержания, тем не менее знали самое главное – тип катарсиса, который можно ожидать от данной драмы. Смех и слезы были изначальной рамкой-ограничением драматического писателя, даже если он (как Шекспир в «Гамлете») пытался внутри пьесы размыть эту границу. Теоретическое осознание мещанской трагедии и опыты ее практического создания означали не только резкое сближение драматического рода с современностью (романизацию драмы), но и бо́льшую свободу драматического писателя в освещении избранного конфликта. Архитектоническое завершение, эмоциональный тон пьесы становились не жанровым требованием, а индивидуальным творческим выбором.
Постепенно за этим новым, возникшим в XVIII веке, драматическим жанром укрепилось название драмы в узком смысле слова, просто драмы. Родовое и жанровое определения далеко не случайно совпали. Дело в том, что, возникнув столь поздно, новый жанр захватил едва ли не все драматическое пространство, сыграв роль узурпирующего власть самозванца, подброшенного кукушонка, выталкивающего из гнезда настоящих, родных детей. Драма в узком смысле слова довольно быстро отодвинула на периферию драматического рода трагедию (уже в ХIХ веке их пишется очень мало) и существенно потеснила комедию, освоив ее тематическое содержание и большинство жанровых разновидностей.
Прежняя оппозиция трагедия – комедия с сильным, маркированным первым членом сменилась иной: драма – комедия, где маркированной оказалась уже драма. Комедию теперь стало возможно понимать как одну из жанровых разновидностей драмы, как драму с четко обозначенной, проведенной через всю пьесу комической доминантой.
Термин драма, в сущности, стал обозначать только одно – сочинение, написанное в драматической форме. Эмоциональная доминанта перестала быть жанровым определением и стала, как действие и персонажи, результатом индивидуального авторского решения. Драматический писатель получил возможность, как автор романа или новеллы, чередовать смех и слезы в различных пропорциях, избирать любой, включая самые сложные, тип архитектонического завершения пьесы.
Соответственно, жанровые классификации драмы начали напоминать аналогичные классификации романа: драма историческая (трилогия А. К. Толстого), бытовая (многие пьесы не-комедии Островского), психологическая (пьесы Чехова), героическая («Нашествие» Л. Леонова), интеллектуальная (Л. Пиранделло, Б. Шоу), детективная («Мышеловка» А. Кристи), романтическая («Маскарад» Лермонтова), реалистическая (те же пьесы Островского и Чехова), символистская (пьесы А. Блока), экспрессионистская (большинство драматических сочинений Л. Андреева) и т. п.
В некоторых работах перечисляются десятки жанровых видов, включая такие экзотические, как драма – «внутренний монолог», драма-комедия или документальная драма[93]. Однако признаки-определители видов (эмоциональный тон, тематика, время, литературное направление) все время меняются, «наезжают» друг на друга, выделяемые группы жанров многократно пересекаются, следовательно, такая классификация не имеет сколько-нибудь практического смысла.
Кроме перечисленных ранее, исторически сложившихся определений (психологическая, романтическая и т. п. драма), заслуживают внимания некоторые пограничные, имеющие собственную линию развития драматические формы.
Мелодрама (буквально поющаяся драма; первоначально – пьеса, в которой действующие лица говорили под музыку, а не пели, как в опере) – жанровая разновидность драмы в узком смысле слова, с острой фабулой, строящейся на внезапных поворотах, тайнах и узнаваниях, четко противопоставленными друг другу персонажами-масками (герой, злодей, страдающая героиня), форсированной, преувеличенной эмоциональностью (С. Д. Балухатый считал основным эстетическим заданием мелодрамы «вызывание чистых и ярких эмоций»[94]), однозначным моральным выводом-поучением.
«Мелодрама – завершение, невольная пародийная форма классицистической трагедии, в которой максимально выделены героические, сентиментальные и трагические стороны, умножены неожиданные развязки, узнавания и трагические комментарии героев. Повествовательная структура незыблема: любовь, предательство, приносящее несчастье, торжество добродетели, кара и награда, преследование как „стержень интриги“» (П. Пави).
Тяготение к сценическим эффектам, постоянные, переходящие из пьесы в пьесу персонажи, облегчающие актерам сценическое решение образа, сделали мелодраму одним из главных, архетипических жанров «дорежиссерского» театра ХIХ века. В соответствии с театральными амплуа мелодрамы обычно набирались провинциальные труппы: инженю (молодая героиня); первый любовник; предатель, злодей; благородный отец; шут, комик и т. п.
Трагикомедия, истоки которой восходят к античности (впервые так охарактеризовал свою пьесу Плавт в прологе к «Амфитриону»), первоначально была смешанным жанром, но, как и комедия, «отсчитывалась» от трагедии. Персонажи ее относились к низшим слоям общества, драматическое действие не заканчивалось катастрофой и гибелью героя, в языке сочетались возвышенность и обыденность, прозаичность. Но в драматургии Нового времени, после угасания классической трагедии, когда социальный статус персонажа становится несущественным для определения жанра, а язык, как и в романе, включает все разноречие действительности, трагикомедия практически становится одной из жанровых разновидностей драмы.
Трагикомедия – это форма, основанная на сознательном и резком контрасте драматических и комических сцен, где авторской задачей, художественной установкой становится сам принцип контраста (этой подчеркнутостью контрастов трагикомедия напоминает мелодраму, но она имеет более оригинальный и интеллектуальный характер). Трагикомедия (терминологические вариации – черная, мрачная комедия, трагифарс) создает образ мрачной, противоречивой, безысходной реальности, выходом из которой становится не освобождающий катарсис, а горький смех. Она становится популярным жанром ХХ века («Стулья» Э. Ионеско, М. Фриш, Ф. Дюрренматт, С. Мрожек). В русской литературе ХIХ века замечательные образцы жанра принадлежат А. В. Сухово-Кобылину («Дело» и «Смерть Тарелкина»), в ХХ веке – Н. Э. Эрдману («Самоубийца»), М. А. Булгакову («Бег»), А. В. Вампилову («Провинциальные анекдоты»).
Однако чаще всего драматург ХХ века сочиняет просто пьесу, драму, сцены, эмоциональная доминанта которых определяется в процессе чтения или просмотра спектакля. Подзаголовок (там, где он присутствует) становится не столько обозначением жанра и вида, как в старой драме, сколько частью авторского замысла, драматической структуры, игры с реципиентом.
Драматическая хроника, повествование для театра, роман для театра, драматическая фантазия, явь и сновидения в двух частях, драма в трех снах, маленькая пьеса для воспоминаний, комната смеха для одинокого пенсионера (это не заглавие пьесы, а ее подзаголовок!), тихая пьеса для импровизации, балет в темноте, опера первого дня – таковы почти наугад выхваченные из альманахов и сборников подзаголовки пьес русских драматургов 1990-х годов.
Интересно, что в них тоже присутствуют повторы. Однако в данном случае речь идет не о создании нового драматического вида сна или балета, а о клишированности, формульности мышления, которая обнаруживается при установке на сугубую оригинальность.
Беспредел в двух действиях с антрактом-катарактом, предназначенный только для сумасшедших, – самый экзотический подзаголовок из встреченных нами в современной драматургии. Так что жанровую разновидность «беспредела» при желании тоже можно ввести в какую-нибудь классификацию.
Но лучше этого не делать, а постараться понять специфику написанного или поставленного с помощью более привычных понятий.
Область драматического искусства по-прежнему располагается в пределах между слезами и смехом.
Лирические жанры «О! Вы!», «Увы…» и «Ах…»
Лирический род представляет наиболее сложную проблему для жанровой систематизации. Прихотливость и многообразие лирических образов, краткость текстов, стихотворная (как правило) форма, разнообразие национальных традиций препятствуют выявлению одного, даже самого простого, признака, каким в эпосе оказался признак объема, а в драме – эмоциональная доминанта. Основания лирической классификации изначально оказываются различными. Поэтому во всеобъемлющих эстетических построениях лирические жанры, как правило, систематизировались по разным признакам, а не выстраивались в единую линию.
В гегелевской «Эстетике» среди «видов лирики в собственном смысле слова» сначала выделены те, в которых «субъект устраняет частные особенности своего чувствования и представления, погружаясь во всеобщее созерцание бога или богов» (дифирамбы, гимны, псалмы), потом те, в которых «субъективность поэта… уже выделена сама по себе» (оды, песни), наконец, те, в которых «непосредственность восприятия и высказывания снимается… рефлексией» (сонеты, секстины, элегии, послания и т. п.).
Отдельно говорится о жанрах, изображающих «эпическое событие» в форме «повествования», основной тон, способ восприятия и чувства субъекта, настроение которых, однако, остаются лирическими (героические песня, романс, баллада, эпиграмма, стихотворение на случай). Кроме того, Гегель считает, что современная ему поэзия (Шиллер) преодолевает различие жанров, синтезирует «восторженное чувство и всеобъемлющее рассуждение»[95].
Белинский в «Разделении поэзии на роды и виды», в сущности, воспроизводит эту классификацию, также принимая за основу «отношения субъекта к общему содержанию, которое он берет для своего произведения», но расширяя номенклатуру жанров за счет сонета, стансов, послания, сатиры, думы (большинство жанров вводятся без точного определения). Кроме того, он специально выделяет «многоразличные стихотворения, которые трудно даже и назвать особенным именем. Вот они, вместе с песнею, составляют исключительную лирику нашего времени». Введение понятия стихотворения как бы снимает, отменяет прежнюю жанровую систему.
Современные теоретики, отказываясь от гегелевского принципа соотношения субъекта и объекта, пытаются найти новые основания лирической классификации, дать определения «эмпирических „образцовых“ типов» (Г. Маркевич), используя лишь в качестве подсобной старую, историческую номенклатуру жанров.
В результате возникают: тематическая классификация, простая и удобная, но вряд ли удовлетворительная, оставляющая в стороне многие «смешанные» произведения (любовная, гражданская, философская и пейзажная лирика); классификация по типу возможной рецептивной реакции читателя (медитативная, размышляющая и суггестивная, внушающая поэзия); классификация по лирической модальности (описательная лирика, лирика-призыв, песенная лирика); функциональная классификация (личная; медиальная, обращенная к другому лицу; ситуативная лирика) и т. п.[96]
Не отказываясь от старых терминов и понятий, за которыми – долгая история, попробуем прояснить признаки, на основании которых традиционно, даже без специальной теоретической рефлексии, выделялся тот или иной жанр.
Таких исходных признаков, в отличие от изначального жанрового членения эпоса или драмы, оказывается не один, а по крайней мере четыре.
Первый – эмоциональный тон, эмоциональная доминанта, характер воплощенной в лирическом произведении эмоции.
На этом основании выделяются ода (воспевание предмета, лица или события, восторженное отношение к нему), идиллия (воплощение чувства безмятежного созерцания, гармонии; в античной литературе, наряду с эклогой, рассматривалась как часть буколической, пастушеской поэзии), элегия (грусть, печаль, жалоба как предмет поэтического воплощения), сатира и эпиграмма как малая сатира (жанры с комической, смеховой доминантой в разных вариантах – от юмора и тонкой насмешки до сатирического отрицания и сарказма).
Изначальная тематика (изображение безмятежной жизни пастухов и пастушек в идиллии), функция (эпиграмма в дословном переводе с греческого означает надпись; первоначально она имитировала посвятительные надписи, надписи на могилах, эпитафии, поучения, любовные и сатирические обращения и лишь потом стала жанром комическим), стихотворный размер (так называемый элегический дистих в элегии и той же эпиграмме, одическое десятистишие четырехстопного ямба в русской оде) оказываются для этих жанров сопутствующими признаками.
П. Валери остроумно определял лирику как «развернутое восклицание», словесно реализованное междометие, «попытку представить либо восстановить средствами артикулированной речи то единое или же многое, которое смутно силятся выразить крики, слезы, ласки, поцелуи, вздохи и т. д.»[97].
Если применить этот прием к классификации жанров по тону, то формулой оды можно считать риторически-восторженное восклицание «О! Вы!», элегии – тихое и горькое сожаление «Увы…», сатиры и эпиграммы – язвительное обращение «А вы!» («А вы, надменные потомки!»), идиллии – восхищенное и благоговеющее «Ах…».
Эмоциональные лирические жанры имеют свои исторические варианты. Разновидностями оды в античной литературе были гимн (торжественная песнь в честь богов и героев) и дифирамб (персональный гимн богу Дионису). Позднее оба термина приобрели обобщенный смысл, фактически став синонимическими вариантами «оды».
В русской литературной традиции ХVIII века ода стала ведущим жанром, породив (конечно, с опорой на предшествующую традицию) несколько жанровых форм. М. В. Ломоносов делил свои оды на похвальные (в честь важных событий в жизни коронованных особ и военных побед: «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года») и духовные (переложения псалмов, философские размышления, в том числе знаменитое «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 1743). В. В. Капнист добавлял к ним оды нравоучительные, элегические и анакреонтические, в большинстве своем – подражания Горацию («Ода на твердость духа», «Ода на смерть сына», «Беззаботность»). В этих жанровых разновидностях риторический пафос оды понижался, она сближалась с другими лирическими жанрами, включая разнообразный бытовой материал (особенно характерны в этом отношении оды Державина).
Позднее, в пушкинскую эпоху, наступило время расцвета и экспансии элегии, также дифференцировавшейся на несколько жанровых форм в зависимости от предмета меланхолических размышлений. На фоне традиционных любовной и кладбищенской («Сельское кладбище» В. Жуковского, перевод из Т. Грея) элегии возникают историческая («Умирающий Тасс» К. Батюшкова), политическая («Андрей Шенье» Пушкина), философская («Осень» Е. Баратынского) и даже сатирическая (как сочетание элегии с сатирой, элегию-инвективу обычно определяют «Думу» Лермонтова).
Второй признак-определитель лирических жанров – функциональный. По функции выделяются такие распространенные жанры, как послание (лирическое произведение, обращенное, адресованное кому-то, в том числе мадригал, любовно-комплиментарное стихотворение), эпиграмма (в старом античном смысле слова – как надпись, в том числе эпитафия – надгробная надпись), песня (вначале – лирическое сочинение, предназначенное для пения, впоследствии – не обязательно поющееся, но сохраняющее песенную структуру и интонацию), имеющая в средневековой лирике свои жанровые формы (альба – утренняя песня о любовном свидании, серенада – вечерняя песня).
Наконец, еще один признак-определитель лирического жанра – формальный. По нему выделяются произведения заданной структуры, так называемые твердые формы. Особенно много подобных жанров существовало в средневековой европейской лирике: виланель, канцона и секстина, рондо и рондель, триолет. Широкое распространение в литературе Нового времени получил лишь один жанр Средневековья – сонет: четырнадцатистишие, состоящее из двух катренов-четверостиший и двух терцетов-трехстиший (итальянский и французский сонеты) или из трех четверостиший и заключительного двустишия (шекспировский сонет).
Благодаря переводам из О. Хайяма получила известность (но не стала предметом для подражания) твердая форма арабской поэзии рубаи, или рубайят (четверостишие на одну рифму или с нерифмующимся, «холостым» третьим стихом).
Уже в XX веке в русской поэзии вдруг стал популярным заимствованный из японской литературы жанр хокку, или хайку (в оригинале – трехстишие, состоящее из 17 слогов /5–7–5/, первая часть другой твердой формы, танки, пятистишия из 31 слога; в русской поэзии – просто нерифмованное трехстишие самого разнообразного содержания, нечто вроде античной эпиграммы). Появились поэты, работающие преимущественно в этом «минималистском» жанре, антологии, переводы (даже не с японского, а с белорусского на русский!). Многочисленные коллекции трехстиший существуют в Интернете.
Еще один распространенный лирический жанр – баллада – противопоставляется другим по признаку повествовательности. Балладу как жанр обычно располагают на границе эпоса и лирики, то относя к первому (для Белинского баллада – эпическое произведение, «фантастическое, народное предание», которое использует поэт или сам изобретает в том же роде), то включая во вторую («Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта. <…> Гремит ли он в оде, поет ли в песне, жалуется ли в элегии или же повествует в балладе, повсюду высказывает личные тайны собственной души поэта. Словом, она есть чистая личность самого поэта и чистая правда»[98]), то выделяя особую группу лиро-эпических жанров (вместе с романом в стихах, поэмой, басней и одой)[99].
При такой своеобразной четырехэтажной классификации (приходится снова вспоминать китайскую энциклопедию Борхеса) признаки-определители в конкретных текстах начинают накладываться друг на друга. Послание может по эмоциональному тону оказаться элегией (пушкинское «К Чаадаеву»), сатира – посланием («К временщику» Рылеева), эпитафия – эпиграммой («Сей камень над моей возлюбленной женой! / Ей там, мне здесь покой!» – В. А. Жуковский, перевод популярной «Эпитафии жене» французского поэта ХVII века Ж. Дюлорана, имеющей еще около десятка русских версий), сонет – мадригалом (пушкинская «Мадонна»).
Однако такое переплетение жанров не должно нас смущать. Оно демонстрирует необычайную подвижность, динамичность лирического рода. Кроме того, исходные разграничения позволяют увидеть, какие признаки и как соединяются в конкретном лирическом произведении.
Можно также заметить, что три верхних уровня располагаются в определенной иерархической перспективе, как бы надстраиваются друг над другом, причем формальное оказывается для квалификации жанра важнее, чем содержательное. Эмоциональный тон, наиболее четко выявляющий природу лирики, становится определителем жанра при отсутствии иных, более строгих признаков. Появление функциональной мотивировки отодвигает исходную эмоциональную установку в глубину лирического образа, но не отменяет ее. Наконец, формальные особенности прежде всего бросаются в глаза, поэтому, каково бы ни было по тону и функции стихотворение из 14 стихов со строгой системой рифм, мы прежде всего усмотрим в нем сонет (конечно, если подозреваем о существовании этого жанра). В противном случае мы бы начали искать в нем эмоциональную доминанту.
Описанная система, конечно, представляет идеализированный, типологический вариант, никогда не существовавший в строгом, осознанном виде. М. Л. Гаспаров отмечает любопытный парадокс: «Античная литература, предстающая нам закованной в жанровые рамки, в любом учебнике излагаемая преимущественно „по жанрам“, сама так и не разработала сколько-нибудь удовлетворительной теории жанров»[100].
Даже теоретики классицизма, эпохи, известной своим неистовым тяготением к нормативности, не столько осознавали жанровую систему, сколько расширяли номенклатуру терминов, выдвигая на первый план те, которые в наибольшей степени отвечали потребностям направления. Тем не менее жанровое мышление, «поэтика стиля и жанра» остаются для этой эпохи основополагающими. В русской литературе пушкинской эпохи тоже привычным является жанровый принцип организации стихотворных сборников. Многие пушкинские тексты имеют жанровые заглавия или четко определенные жанровые доминанты.
К 1840-м годам ситуация резко изменяется. Е. А. Баратынский, поэт пушкинской эпохи, составляет свой сборник «Сумерки» (1842) уже без разделения текстов на жанры. Ф. И. Тютчев, еще один младший современник Пушкина, игнорируя прежнюю жанровую систему, по мнению Ю. Н. Тынянова, «находит <…> выход в художественной форме фрагмента»[101].
«В традиционных культурах (фольклор, древность, средневековье, европейское Возрождение и классицизм) стихотворения четко делились по жанрам; в европейской культуре XIX–XX вв. это деление стирается и слово „стихотворение“ становится универсальным жанровым обозначением для всей лирики (отсюда термин стихотворение в прозе в значении „лирическая проза“)»[102], – констатирует М. Л. Гаспаров.
«Стихотворение» как общее обозначение произведений лирического рода, действительно становится со второй половины ХIХ века распространенным и привычным – синонимом слова «лирика». Признаком-определителем рода и жанра оказывается стихотворная речь – категория еще более формальная, чем тип строфы в твердой форме. Многочисленные авторские сборники, называемые «Стихотворения», как бы не учитывают существования «большого стихотворения» (пушкинское определение) под названием «Евгений Онегин», «драматических стихотворений» «Горе от ума» и «Маскарад».
Ситуация в лирическом роде, кажется, напоминает положение в драме Нового времени, где драма как жанр «съела» более древние жанры-конкуренты и индивидуальный замысел, «поэтика автора» торжествует над жанровыми характеристиками.
Однако все обстоит не так просто. Прежние лирические традиции не разрушаются, не исчезают бесследно, а невидимо, но реально присутствуют в море жанрово неопределенных стихотворений, как существуют в настоящем море морские течения.
Примечательно, что Ю. Н. Тынянов в упомянутой статье, показывая роль Тютчева как преобразователя старой жанровой системы, находит его фрагменту аналогию в ней же: «Монументальные формы ХVIII века разложились, и продукт этого разложения – тютчевский фрагмент. Словно на огромные державинские формы наложено уменьшительное стекло, ода стала микроскопической, сосредоточив свою силу на маленьком пространстве: „Видение“ („Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья…“), „Сны“ („Как океан объемлет шар земной…“), „Цицерон“ и т. д. – все это микроскопические оды»[103].
Так же обстоит дело в ХХ веке. Поэтика песни, безусловно, определила лирическое творчество В. С. Высоцкого и Б. Ш. Окуджавы, хотя последний привычно назвал свое избранное «Стихотворения».
Большая часть стихотворной продукции, как и в пушкинскую эпоху, представляет собой элегии, песни грустного содержания, над которыми иронизировал уже В. К. Кюхельбекер.
В 1910-е годы Маяковский сочинял сатиры «Гимн ученому» и «Гимн обеду», а сразу после революции – «Оду революции», при грандиозном различии тематики тем не менее наследующую высокий стиль и ораторскую интонацию старой оды.
Точно так же отчетливо видна в ХХ веке традиция повествовательной баллады (от «Баллады о синем пакете» Н. C. Тихонова до многочисленных баллад того же Высоцкого), дружеского послания, сонета, эпиграммы (С. Я. Маршак назвал свой сборник «Лирические эпиграммы», чтобы отличить их от традиционного сатирического понимания жанра; напротив, такая эпиграмма стала основным жанром, например, у И. М. Губермана, получившим индивидуальное обозначение гарики)[104].
Лирические жанры, как и прочие, остаются «представителями творческой памяти» в процессе литературного развития.
Пограничные жанры: словесность и литература Где начинается документ?
Трудности жанровой классификации Б. И. Ярхо связывал с так называемым «законом Лейбница»: «Одно из самых причудливых свойств, какое являет нам мир (или каким мы его наделяем), – это непрерывность. <…> Можно с уверенностью сказать, что непрерывность естественных рядов в литературе является законом (выделено автором. – И. С.), то есть если удастся провести абсолютную границу между смежными явлениями, то это означает, что исследователь не знает промежуточных форм, что они еще не открыты»[105].
Сходным образом рассуждал Б. В. Томашевский: «…Как бы мы точно ни определяли, всегда найдется такое произведение, которое встанет на самую границу, и мы не скажем, куда оно относится»[106].
Ярхо приводит примеры таких промежуточных форм: «Драма в чистом виде есть сплошной диалог с персонажами в действии. Драма с ремарками этому определению не противоречит, пока художественная обработка их равна нулю, и они могут быть рассматриваемы как часть примечания, не входящие в текст. Но как быть с ремарками какого-нибудь Бернарда Шоу, которые занимают огромный процент текста (интересно вычислить какой) и не менее художественно обработаны, чем диалог? Близость такой пьесы к новелле с разговорами бросается в глаза. Между ними и чистой драмой могут быть и реально существуют многочисленные переходные виды с все убывающим количеством художественных форм в этих ремарках. <…>
Монологической сценой мы называем такую, которая занята речью одного актера. Однако можно ли отказать в этом названии сцене, где то же лицо говорит перед наперсником, заканчивающим сцену одной эпифонемой („О ужас!“ или „Вот решение, достойное вас“ и т. д.)?
Где граница между анекдотом и новеллой, между новеллой и рассказом? Где граница между стихом и прозой, между лирикой и эпосом?»[107]
Борьбу с непрерывностью Ярхо предлагал вести с помощью «точных определений и точных подсчетов».
Действительно, обозначенные исследователем трудности решаются на путях уточнения определений. Введя в определение драмы признак второстепенного текста, паратекста (в который, между прочим, входят не только ремарки, но и заглавие, список действующих лиц, могут также входить предисловие или предуведомление)[108], мы решаем «проблему Шоу».
Как бы ни был велик паратекст в его пьесах (ремарки и пояснения, по подсчетам исследователей, составляют в некоторых драмах Шоу почти четверть объема), от этого они не становятся новеллой с разговорами. Иерархия первичного и вторичного текста, отсутствие самостоятельной партии повествователя, события рассказывания оставляют это произведение в рамках драматического рода. В крайнем случае можно постулировать существование новой разновидности драмы – пьесы для чтения – и рассматривать ее как самостоятельную жанровую форму.
Точно так же на основании единственной короткой реплики в конце мы не можем отказать монологической драме в ее исходном определении. Эта реплика остается частным случаем, причудой индивидуального замысла, не разрушая жанровых границ.
Вообще, непрерывность естественных рядов в применении к литературе и, соответственно, суждения о «засыпании рвов и разрушении границ»[109] в искусстве ХХ века кажутся сильно преувеличенными.
С одной стороны, борьбу с непрерывностью начинает уже художник. Путем «изоляции и завершения» (Бахтин) он придает своему произведению качественную определенность, так или иначе ориентирует его в мире культуры. Разрушая границы, он попадает не в бесструктурное, эстетически неоформленное пространство, а в другой жанр (или создает новый жанр на границах).
С другой стороны, определение жанра, особенно теоретическое, не должно и не может учитывать все частные случаи и отклонения. Оно – модель, архетип, ориентир в понимании специфики конкретного произведения, но не заменяет самого понимания. Даже увидеть в пьесе Шоу жанровое нарушение мы можем лишь потому, что сопоставляем ее с «чистой драмой» и «новеллой с разговорами», а, например, не с эпопеей и балладой.
Справедливо, однако, что наряду с проблемой границ между «чистыми» эпическими, лирическими и драматическими жанрами существует проблема жанров на границах и межродовых групп, жанровых семейств.
Границы, на которых происходит усложнение жанровых форм и возникновение новых, могут быть двух типов: внешние – между художественной литературой и словесными текстами с иными функциями и внутренние – между различными литературными родами.
Внешние границы драмы и лирики практически непроницаемы. Здесь можно отметить лишь феномен так называемой дидактической поэзии, входящей в межродовую группу дидактической литературы (о которой несколько позже) и документальной драмы, которая для читателя/зрителя мало отличается от драмы обычной (этот признак оказывается существенным лишь для исследователя творческой истории пьесы, сопоставляющего документы-источники и их авторскую трансформацию).
На внешних же границах эпического рода идет активный процесс взаимодействия и формирования новых жанров. Пограничные с художественной литературой тексты могут иметь познавательную установку (так называемая научно-художественная литература, философская и историческая литература, публицистика) или установку этическую (моралистические трактаты и наставления).
Всю эту область мы можем назвать документальной литературой (в широком смысле), литературой факта в противоположность художественной литературе как искусству вымысла.
В каждой из названных групп возникают тексты, приобретающие дополнительную функцию, воспринимаемые как часть корпуса художественных текстов определенной эпохи, часть истории литературы. В таком случае можно говорить о новых жанрах, раздвигая тем самым границы эпического рода.
Существуют многочисленные сухие, информационные автобиографии, написанные даже крупными писателями и публикуемые в справочниках или полных собраниях сочинений (такие автобиографические заметки начал и Пушкин). Но «Былое и думы» Герцена или «Другие берега» Набокова – это автобиографическая проза, особый жанр, примыкающий к эпическим, структурно подобный повести или роману, но имеющий ряд дополнительных признаков-определителей (тождественность «я» повествователя с автором, скрытый характер вымысла, который тем не менее может присутствовать и в автобиографии).
Аналогично обстоит дело и просто с биографией. Есть жанры научной и научно-популярной биографии, ориентированные на факт, на изложение достоверных сведений о писателе, ученом, политике и т. п. Предельный, чистый вариант биографии писателя – «Летопись жизни и творчества», последовательное изложение фактов, сопровождаемое ссылкой на источники. Авторы таких биографий-летописей обычно даже не выносят свое имя на обложку, скромно определяя себя как «составителей». Но даже авторские биографии с концепцией, субъективной позицией и развернутыми описаниями могут тяготеть к этому научному, документальному полюсу. С другой стороны, биография того же самого «замечательного человека» может располагаться уже по другую сторону границы, превращаясь в биографический роман или художественную биографию. Авторами таких биографий были, к примеру, известный французский писатель А. Моруа («Байрон», «Тургенев», «Три Дюма») или советский историк Н. Я. Эйдельман («Лунин», «Апостол Сергей» – о декабристе С. Муравьеве-Апостоле).
Существуют две биографии Пушкина, созданные известными исследователями творчества поэта, но располагающиеся по разные стороны невидимой границы между эпосом и документальной литературой. «А. С. Пушкин» (1981) Ю. М. Лотмана – научно-популярная биография. Незаконченный «Пушкин» (1935–1943) Ю. Н. Тынянова – биографический роман.
В СССР – России более восьмидесяти лет (с 1933) издается «серия биографий» (издательский подзаголовок) «Жизнь замечательных людей» (ее предшественницей в ХIХ веке была аналогичная серия книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова). Ее состав, однако, неоднороден. В ней присутствуют как научно-популярные биографии, так и биографические романы и художественные биографии.
В том случае, когда автор рассказывает не только о своей жизни или вообще не о своей жизни, а о жизни других людей, с которыми ему довелось встречаться, мы имеем мемуары – «повествование от лица автора о реальных событиях прошлого, участником или очевидцем которых он был»[110].
Безыскусный хроникальный рассказ, «человеческий документ» даже простого участника значительных событий важен для историка и может быть интересен для читателя. Причем для историков иерархия значимого/незначимого часто обратна общепринятой: мемуары наполеоновского солдата для них могут быть интереснее мемуаров самого Бонапарта – из-за необычности точки зрения простого участника грандиозных событий, которая редко интересует современников. («Люди верят только славе», – заметил Пушкин в «Путешествии в Арзрум», между прочим в связи с биографией «неудачника» Грибоедова.)
Но если мемуары композиционно организованы и выстроены, в них введена прямая речь (А. Ахматова шутливо предлагала привлекать авторов, использующих в мемуарах прямую речь, к уголовной ответственности: человек не может точно вспомнить, что он говорил десять минут назад, тем более когда речь идет о дистанции в несколько десятилетий), они тоже переходят границу между бытовыми жанрами и жанрами художественными, оказываясь еще одним эпическим жанром (или даже семьей жанров).
«Наконец, самые мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, ценимые только по мере верной и точной передачи ими действительных событий, самые мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою»[111].
Книги большого объема и хронологического охвата, мемуарные романы и даже эпопеи, часто нанизанные на стержень авторской биографии (поэтому их иногда определяют как автобиографии-мемуары), регулярно появляются в русской литературе трех последних веков, образуя собственную жанровую традицию и часто оказываясь для их создателей главной книгой, книгой жизни. К этому ряду относятся «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков» (1738–1793; изданы в четырех томах лишь через восемьдесят лет – 1870–1873), «Былое и думы» А. И. Герцена (Ч. 1–8; 1855–1868), «История моего современника» В. Г. Короленко (1905–1921), трилогия Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (1931), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934), «Повесть о жизни» К. Г. Паустовского (Кн. 1–6; 1945–1963), «Люди, годы, жизнь» И. Г. Эренбурга (Кн. 1–6; 1961–1965), «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1978–1981) И. Г. Одоевцевой, «Курсив мой» Н. Н. Берберовой (1972), «Я унес Россию: Апология эмиграции» Р. Б. Гуля (Т. 1–3; 1984–1989).
Наряду с пространными повествованиями существуют аналогичные по структуре малые и средние жанры – мемуарные очерки, литературные портреты, образующие, если следовать определению Белинского, последнюю грань в области повести и рассказа. Мемуарно-автобиографическая проза, таким образом, глубоко прорастает в эпический род, образуя новые виды в каждой жанровой группе.
Наконец, еще один вид документальной прозы, литературно-бытовой жанр – дневник – тоже имеет двойственную природу. Автор дневника следует за событиями, фиксирует их не с большой, а с очень короткой дистанции, часто в форме ежедневных записей. Уступая мемуарам в перспективе, в масштабности и глубине осмысления, дневник выигрывает в непосредственности и достоверности. Дневники литературоведа и цензора, профессора Петербургского университета А. В. Никитенко (1803–1877)[112] и критика, детского поэта, мемуариста К. И. Чуковского (1882–1969)[113], охватывающие несколько десятилетий, стали уникальными культурными явлениями ХIХ и ХХ веков, но не превратились тем не менее в жанровую разновидность эпоса, остались по ту сторону границы. Характерно, что бытовые дневники обычно публикуются уже после смерти авторов.
Но дневник изначально может быть осознан как литературный жанр, имитирующий, художественно использующий непосредственность, сиюминутность и ограниченный горизонт подневной записи. Традиция литературного дневника важна для французской литературы. Братья Э. и Ж. Гонкуры, Ж. Ренар, А. Жид вели дневники в течение многих десятилетий, часто сами публикуя извлечения из них еще при жизни. Дневник братьев Гонкур в полном виде составил двадцать два тома.
В русской литературе возможности дневника как литературной формы, кажется, впервые осознал В. В. Розанов (1856–1919). Опубликованная им самим трилогия («Уединенное», 1912; два «короба» «Опавших листьев», 1913, 1915) представлялась им как нечто небывалое, как книги еще не существующего жанра: «…Иногда мне кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее (выделено автором. – И. С.). <…> Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. <…> И у меня мелькает странное чувство, что я последний писатель, с которым литература вообще прекратится. Кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто жить, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литераторствовать»[114].
Но структурной основой розановских книг оказалась давно известная форма психологического дневника, с точной фиксацией не столько времени, сколько обстоятельств рождения мысли («За нумизматикой, 1910 г.»; «На Троицком мосту»; «Ночь на 25 декабря 1910»; «В кабинете уединения»; «Дожидаясь очереди пройти исповедоваться» – это как раз относится к только что процитированной записи), принципиальным предпочтением сиюминутного, прихотливого, а не исторического взгляда на реальных персонажей, исповедальной, критической установкой к самому себе.
От таких литературных дневников, в которых, как и в мемуарах, Я повествователя и автора тождественны, нужно отличать, с одной стороны, дневник как литературную форму повести или романа, где с ее помощью создается образ героя, другого персонажа («Журнал Печорина» в «Герое нашего времени», «Дневник лишнего человека» Тургенева), а с другой – условное обозначение множества газетных и журнальных публицистических жанров, выходящих под одной шапкой, дневник как форму публикации («Дневник писателя» Достоевского).
Жанровую природу розановских книг можно определить и в несколько иной системе координат, идя не от познавательной, а от этической установки. «Эссе (фр. essais – попытка, проба, очерк) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета»[115].
Эссе – это индивидуальное, причем стилистически оформленное, а не логическое, прагматическое суждение. Две стороны эссе (о чем и как) сближают его с художественным образом, делают его еще одним прозаическим жанром – рассказом без вымысла, очерком без героя, беседой с невидимым читателем-собеседником. Знаменитая книга М. Монтеня, известная в русском переводе как «Опыты» (1580), в оригинале называется «Essais». В западной литературе двух последних веков эссе было популярным жанром, охватывающим всю сферу гуманитарной мысли – философию, науку, мораль, эстетику и литературную критику. Эссеистичны философия Т. Карлейля и Ф. Ницше, научные построения О. Шпенглера, моральные трактаты и размышления Г. К. Честертона и К. С. Льюиса, эстетика П. Валери, Б. Брехта, Х. Л. Борхеса.
В русской литературе ХIХ века эссе практически отсутствует. Розанов осознает его огромные возможности и эстетическую силу и делает главным жанром своего творчества. Он подготовил и лишь отчасти издал еще несколько томов «листьев», включая «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918). В эссеистическом жанре выдержаны и многочисленные критические статьи Розанова.
К эссе в начале ХХ века часто обращаются А. А. Блок и А. Белый, критическую эссеистику культивируют И. Ф. Анненский («Книги отражений»), Ю. И. Айхенвальд («Силуэты русских писателей»), К. И. Чуковский («Критические рассказы»), философскую – Н. А. Бердяев и Л. Шестов.
Позднее, в советскую эпоху, когда возможности субъективного, парадоксального высказывания существенно ограничиваются, жанр оказывается периферийной частью эстетики и литературной критики (В. Б. Шкловский, «Ни дня без строчки» Ю. К. Олеши).
В современной культуре эссе обрело новую жизнь благодаря электронным средствам общения. Многие записи в популярных «Живых журналах» (которые потом издаются и книгами) представляют собой, в сущности, эссе – свободные рассуждения на актуальные политические, общественные, культурные темы.
Очередной источник формирования эпических жанров на границе – журналистика. Информация, комментарий, репортаж, передовая (редакционная) статья – публицистические, газетные жанры, со своими критериями и особенностями структуры. Их, несмотря на попытки «точечной художественности» (тропы, интригующий фабульный заголовок), невозможно рассматривать в одном ряду с малыми эпическими жанрами, их природа – иная.
Однако очерк – уже жанр на границе. Начинаясь как проблемная статья, репортаж, картинка с натуры, он становится полноценным жанром малой эпической прозы, образуя собственные виды (путевой – проблемный – научный, очерк-портрет, очерк нравов), организуясь в циклы, приобретая собственных классиков, работавших преимущественно в этом жанре (М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, М. М. Пришвин, во Франции – А. де Сент-Экзюпери), в отдельные эпохи становясь ведущим жанром («физиологический очерк» в русской литературе 1840-х годов).
В ХХ веке, особенно после Второй мировой войны, с очерком произошла еще одна трансформация. На основании дневниковых записей, репортажных зарисовок, мемуаров, многочисленных бесед с очевидцами (развитию жанра сильно способствовало изобретение портативного магнитофона, а затем и диктофона), архивных исследований создаются уже не отдельные очерки и даже не циклы, а организованные единым замыслом, сюжетно выстроенные книги, посвященные какому-то значительному историческому событию, изображенному с разных точек зрения, глазами многочисленных, в том числе рядовых, его участников («Я из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника, 1974; «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, 1977–1981).
Общепринятого определения этой жанровой разновидности не существует. Обычно говорят о документальной книге, даже документальном романе, дают технические определения (магнитофонная литература) или используют метафоры из смежных областей (соборный роман, эпически-хоровая проза, роман-оратория, устная история).
Исключительно в этом жанре работает пишущая по-русски белорусская писательница С. А. Алексиевич («У войны не женское лицо», 1985; «Зачарованные смертью», 1993; «Чернобыльская молитва», 1997; «Голоса утопии», 2004). Присуждение ей Нобелевской премии по литературе (2015) легализовало очерковую журналистику как явление большой литературы.
Еще один жанр, пришедший в художественную литературу из газеты, – фельетон. Понятия «фельетон» и «эпиграмма» проделали сходную эволюцию: постепенное сужение значения и выявление жанрового признака. Вначале обозначая материалы, публикуемые на газетном листе-вкладыше (фр. feuille – лист, листок), слово стало названием газетной рубрики внизу газетной полосы (профессиональный журналистский термин – в подвале), в которой публиковались эссе, театральные рецензии и даже романы (романы-фельетоны), и лишь потом – вида текстов, часто публиковавшихся в качестве фельетона.
Фельетон – это комический очерк с сатирической, иронической или юмористической (так называемый положительный фельетон) эмоциональной доминантой. «Королями фельетона» (в газетном мире любят пышные метафоры) в русской литературе начала прошлого века считались В. М. Дорошевич и А. В. Амфитеатров, в советскую эпоху – М. М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров.
Таким образом, ряд эпических жанров на границах[116] оказывается почти таким же длинным, как жанров «чистого» эпоса: автобиография, биография, мемуары разного объема, дневник, эссе, очерк как малый жанр, очерк как большой жанр (романизированный очерк, очерк-роман?), фельетон.
Следующий резервуар для формирования пограничных жанров – дидактическая литература с открытой моральной, религиозной, назидательной тенденцией. Возникающая в фольклоре или на очень ранних стадиях развития искусства в форме элементарных житейских поучений (пословицы, поговорки, сентенции), она превращается в короткую историю с моралью (апофегма, хрия, аполог, притча), в специфические жанры средневековой литературы (житие святого как образец для подражания и восхищения), в моралистический, религиозный трактат.
В эпический род дидактическая литература встраивается в форме уже известной нам басни, пронизывающей всю толщу эпических жанров притчи или параболы – повествования с моралью (рассказ-притча, повесть-притча, роман-притча, социально-идеологический роман).
В лирике она проникает в послание («Письмо о пользе Стекла к высокопревосходительному господину генерал-поручику, действительному Ея Императорского величества камергеру, Московского университета куратору и орденов Белого Орла, Святаго Александра и Святыя Анны кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову, писанное 1752 года» М. В. Ломоносова) и составляет существенную часть эпиграмм (в широком смысле слова).
В драме – является доминантой таких исторических, существовавших в Средневековье жанров, как моралите (персонажи представляют аллегорические олицетворения порока или добродетели), мистерия, миракль (постановки на евангельские сюжеты или сюжеты из жизни святых).
Пограничные жанры: жанровые семейства Морфология тайны, фантазии, смеха
Но этим дело не исчерпывается. Несколько собственно художественных эпических (иногда с включением и драматических) жанров могут по структурному или тематическому признаку объединяться в жанровое семейство, составить некий вертикальный жанровый срез.
Детективная литература включает в себя не только роман в нескольких разновидностях, но и повесть, новеллу (однако не рассказ!), драму – большую группу произведений разных жанров, объединенных характером фабулы (загадка – разгадка) и моральной установкой (преступление – наказание). Этим термином любят злоупотреблять профессионалы жанра, безмерно расширяя его значение и называя детективом что угодно – от «Одиссеи» до «Преступления и наказания». Истоком классического детектива считается, между прочим, не роман, а новелла – «Убийство на улице Морг» Э. По (1841).
Аналогично обстоит дело с фантастикой – междужанровым семейством произведений, в которых либо создается особый «чудесный мир», по многим параметрам противопоставленный миру «нормальному», либо этот нормальный мир изменяется в каком-то одном отношении явлением «чуда» (гениальное научное изобретение, пришелец из прошлого или будущего и т. п.).
Фантастическую литературу можно разделить на три большие группы.
Классическая фантастика, фантастика как форма мышления проявляется на всем протяжении литературного развития – от мифов до современной литературы. Произведения с такой установкой, использующие, как правило, прием вторжения «инакого» в привычный мир (причем сами чуждые предметы или персонажи – от дьявола в разных обличьях и оживших мертвецов до чудесных помощников – обычно заимствовались из фольклора или создавались по фольклорным моделям), рассматривают как часть «нормальной» литературы разных эпох. Особенно важна такая фантастика для романтического искусства (Э. По, Э. Т. А. Гофман, ранний Гоголь).
«Романтизм проявил значение фантастики для современности и зафиксировал ее жанровую дифференциацию. <…> К списку канонизированных романтиками жанров, мотивов, приемов последующие без малого два столетия добавили не так уж много»[117].
Однако в середине ХIХ века, уже в послеромантическую эпоху, фантастика выделяется в особую область литературы, впоследствии получив название научной фантастики, science fiction. Мотивировкой чудесного здесь становится научное открытие или изобретение, постоянным сюжетным мотивом – путешествие в будущее или на другие планеты, обычной практикой – создание альтернативного мира. Основоположниками научной фантастики обычно считают Жюля Верна («С Земли на Луну», 1865) и/или Г. Уэллса («Машина времени», 1895). Эта область литературы в ХХ веке обживается, дифференцируется, вбирает в себя всю проблематику «обычной» литературы – от чистого приключения, авантюры (так называемые космические оперы, космические боевики) до сложнейшей социальной, психологической и философской проблематики (Р. Брэдбери, С. Лем, А. и Б. Стругацкие).
Уже как оппозиция серьезной научной фантастике возникает сказочная фантастика, фэнтези, в которой темы, персонажи и приемы как старой фантастики, так и фантастики научной используются с моралистической, комической (в том числе пародийной) или игровой установкой. Одним из самых значительных явлений сказочной фантастики ХХ века стала трилогия Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» (1954–1955), вызвавшая множество жизненно-культурных (ролевые игры) и собственно литературных подражаний. На исходе века ее затмило семитомное фэнтези Дж. Роулинг о Гарри Поттере (1997–2007), состоящее из четырех тысяч страниц, переведенное на все основные языки мира, экранизированное и ставшее предметом поттеромании – вирусного распространения разнообразных подражаний миру Хогвартса в массовой культуре.
Понятие «жанр» используется по отношению к каждой из этих сфер. Но, в сущности, с точки зрения той терминологической системы, которой мы придерживаемся, фантастика, как и детектив, – не жанр, а семейство жанров, включающее несколько жанровых разновидностей романа (научно-фантастический роман; авантюрный роман на фантастической основе, космическая опера; философская фантастика; роман-утопия; антиутопия – терминологические варианты какотопия, роман-предупреждение; даже роман-эпопея – как сказочно-героическую эпопею обычно определяют упомянутую книгу Толкина), аналогичную номенклатуру повестей, (научно) фантастический рассказ (новеллу), сказку, драму, балладу (в ней фантастическое или чудесное становится просто дополнительным жанровым признаком). Фантастический принцип проникает во все литературные роды, хотя наиболее продуктивным для образования жанров оказывается он в эпосе.
Еще одно жанровое семейство возникает внутри литературы – как целостная реакция, «направленность» одного литературного текста на другой, использование текста-источника в качестве темы, а не простое его цитирование или заимствование отдельных мотивов. Причем понятие текст-источник надо понимать в широком смысле: это может быть отдельное произведение, творчество писателя, жанр, тематическая группа произведений, даже целое литературное направление.
Эту группу жанров Б. И. Ярхо называл стилистической.
Самый простой способ отношения между двумя текстами – подражание: некритическое воспроизведение каких-то особенностей текста-источника. В отличие от плагиата (литературного воровства, приписывания себе чужого текста), подражатель создает новое произведение, однако находящееся в нетворческой, рабской зависимости от исходного текста.
Творчество большого писателя, успех отдельного произведения вызывают обычно большое количество подражаний. Волну подражаний в 1820-е годы вызвали «южные поэмы» Пушкина, а в 1840-е – творчество Гоголя (с подражания ему начинали и некоторые крупные писатели). Некоторые произведения советской литературы, находящиеся в очевидной зависимости от «Мастера и Маргариты», получили обидное критическое определение «Булгаков для бедных».
Последней по времени книгой, вызвавшей волну подражаний (от пародийных до так называемых фанфиков – сочинений читателей по мотивам любимого произведения), была как раз сказочная эпопея Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Один русский автор выпустил пятнадцать романов о Тане Гроттер, другой авторский дуэт – четыре тома о Порри Гаттере. На сайте фанфиков про Гарри Поттера – около семи тысяч текстов.
Подражания обычно оцениваются как ученичество (с них начинали многие замечательные поэты – Некрасов, Фет, есть даже работы о «плагиатах» Лермонтова) или эпигонство. Однако в фантастическом эссе Х. Л. Борхеса «Пьер Менар, автор Дон Кихота» (1939) привычные оценки подражания как эпигонства парадоксально переосмыслены: человек (конечно, вымышленный), задумавший переписать роман Сервантеса «слово в слово, строчка в строчку», становится его автором, ибо это уже другая книга, созданная с иными интенциями, в иную эпоху. Традиционное понимание читательского восприятия и исследовательских интерпретаций как переакцентуации («У каждого читателя свой Гамлет») переносится Борхесом в сферу письма: «Не скрою, мне представляется, что он осуществил свой замысел, и я читаю Дон Кихота – всего Дон Кихота – так, словно бы его измыслил Менар!»
Подражание, следовательно, может иметь не только эпигонский, но и творческий характер. Иногда оно акцентируется самим автором, становясь заглавием произведения или цикла: «Подражания Корану» Пушкина, «Подражание Шиллеру» Некрасова. Однако в таком случае оно фактически становится другим стилистическим жанром.
В стилизации особенности поэтики текста-источника воспроизводятся уже со стороны, с некоторой дистанции (чаще всего предметом стилизации становятся произведения и авторы не современности, а прежних литературных эпох). «Чужой предметный замысел (художественно-предметный) стилизация заставляет служить своим целям, то есть новым своим замыслам. Стилизатор пользуется чужим словом как чужим и этим бросает легкую объектную тень на это слово»[118].
Установка на стилизацию была характерна для литературы Серебряного века (проза В. Я. Брюсова, М. А. Кузмина, Б. А. Садовского). А. В. Чаянов в 1920-е годы стилизовал тематику и жанры романтической повести вековой давности («Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека», 1923; «Юлия, или Встречи на Новодевичьем», 1928).
В пародии текст-источник комически трансформируется и деформируется с целью обнажения его условности, его литературной природы (юмористическая пародия, близкая стилизации) или его дискредитации (сатирическая пародия, пародия как таковая).
Признак комического приписывают пародии далеко не всегда. «Ходячее в ХIХ веке и окончательно упрочившееся у нас представление о пародии как о комическом жанре чрезмерно сужает вопрос и является просто нехарактерным для огромного большинства пародий»[119], – утверждал Ю. Тынянов. Однако такие некомические пародии точнее было бы назвать стилизациями (этим термином исследователь не пользовался).
Пародии достаточно четко разделяются по объектам: на отдельное произведение, на автора, на жанр или стиль, на литературное направление. Но теоретически важна прежде всего их родовая дифференциация: пародирование осуществляется, как правило, с сохранением родовой природы произведения. Поэтому пародии делятся на прозаические (пародии на эпические жанры), стихотворные (пародии на лирику, а также на большие стихотворные формы) и театральные (пародии на драму, которые могут быть сочинены, как и сами драматические тексты, в прозе или в стихах).
Пародийные произведения, однако, не образуют, подобно фантастике или детективу, иерархическую жанровую систему. Есть фантастические или детективные романы, но нет романов-пародий. В большие жанры эпоса и драмы пародия может входить лишь как структурный элемент (много таких микропародий в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова или в романе В. В. Набокова «Дар»). Пародия как самостоятельный жанр обычно меньше (для больших жанров – намного меньше) текста-источника. «По неписаному, но неукоснительно соблюдаемому правилу, хорошая пародия должна быть короче своего образца, иначе она рискует превратиться в вялое подражание. Поэтому все романы, повести, большие рассказы перепеваются в единственно приемлемой форме – короткой новелле, сохраняющей в своей композиции основные родовые приметы пародируемого жанра (например, деление на крохотные главки или подзаголовок к рассказу на одну страницу – „роман-эпопея“)»[120].
Близким пародии, но имеющим иную целевую направленность оказывается жанр использования или перепева (это явление встречается лишь в стихотворной пародии). В использовании автор обращается к тексту-источнику как средству для решения других творческих проблем, без всякой полемической или воссоздающей установки. Использование – это, как правило, направленность не на текст, а сквозь текст. Обычный механизм использования состоит в том, что автор берет размер, интонацию, отдельные образы какого-то известного текста-источника и наполняет его иным содержанием, чаще всего актуально-публицистическим (так, «Современная песня» Некрасова использует лермонтовскую «Колыбельную»).
Ю. Тынянов в сходных случаях говорил о различии пародийности и пародичности и намечал границу между пародией и использованием, не придавая последнему слову терминологического смысла, обозначая новый жанр как стиховой фельетон. «Пародичность и есть применение пародических форм в непародийной функции. Использование какого-либо произведения как макета для нового произведения – очень частое явление. При этом, если произведения принадлежат к разным, например, тематическим или словарным средам, возникает явление, близкое по формальному признаку к пародии, но ничего общего с нею по функции не имеющее»[121]. Использование, при достаточной его краткости, можно сблизить и с эпиграммой в современном ее понимании.
Таким образом, семейство стилистических жанров охватывает все три литературных рода и включает подражание, стилизацию, пародию и использование. Но поскольку их признак-определитель имеет чисто литературную природу (соотношение с текстом-источником), в расширительном смысле эти понятия могут быть использованы в применении практически к любому произведению.
В сущности, на основе глобальной интерпретации стилистических жанров возникла концепция интертекстуальности (термин, введенный Ю. Кристевой), согласно которой «нет Бога, кроме Текста» и любое произведение представляет собой бессознательное использование прежних текстов или сознательную игру с ними – подражание, стилизацию, пародию.
«Каждый текст является интертекстом: другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, даваемых без кавычек» (Р. Барт)[122].
Пограничные жанры: жанры на границах родов Смешать или разделить?
Другой путь возникновения новых жанровых образований – освоение внутренних границ между самими литературными родами.
Иногда в межродовом духе, как сочетание всех трех «старых» родов, пытаются интерпретировать роман Нового времени: на фоне традиционного повествования в нем обнаруживают драматическое действие, «словесный театр» (Достоевский) и лирический элемент, «ритм лирического целого» (Чехов). Однако такое понимание не представляется убедительным. Примечательно, что лирическое и драматическое начала находят у разных авторов, в разных произведениях. Включение в роман даже развернутых сцен, построенных на диалоге, использование ассоциативной композиции и прямого авторского слова не меняют родовой природы эпоса: повествователь может совсем «раствориться» в персонажах, в «драматической сцене» или же выдвинуть на первый план собственную эмоцию. И то и другое входит в исходную установку романа, в его жанровую конвенцию. В обоих случаях повествование, событие рассказывания в конечном счете подчиняет и перерабатывает эпические и драматические элементы, становится формой завершения. Мы сталкиваемся с очередными жанровыми вариациями романа, повествовательной прозы, а не с новым литературным родом.
Более распространенными, причем восходящими не просто к теории, а к творческим экспериментам больших писателей, оказываются попытки не тройного, а двойного синтеза. Наиболее известными стали опыты экспансии на сопредельные территории драматического рода.
Уже современники называли поздние пьесы Чехова драмами настроения, акцентируя в них не действенный, а эмоциональный, субъективно-лирический аспект (впрочем, они же, современники, часто утверждали, что Чехов сочиняет повести, зачем-то облекая их в драматическую форму: лучше бы он этого не делал). Вл. И. Немирович-Данченко замечал по поводу монологов некоторых чеховских героев: точно Блока читаешь.
Блок же, издавая свои опыты в области драматургии («Балаганчик», «Незнакомка», «Король на площади»), назвал книгу «Лирическими драмами» (1908). Аналогичное определение стали применять к некоторым пьесам М. Метерлинка, ретроспективно находить «поэтическую лирику» в «Горе от ума». В советской драматургии были распространенны жанровые квалификации лирическая пьеса, лирическая драма, лирическая комедия.
Под лирическим в разных контекстах подразумевается то характер драматического конфликта, вырастающего не из интриги, а из устойчивого положения вещей (то есть основой выделения вида оказывается противопоставление внутреннего и внешнего действия), то некая условность действия и персонажей (в таком случае лирическая драма противопоставляется бытовой драме), то акцентированность, выделенность какого-то персонажа, предполагаемого авторского alter ego, двойника (однако такой герой существовал уже в романтической драме), то особая речевая манера (здесь опять возникает противопоставление бытовая речь – поэтическая, часто стихотворная, речь).
Однако внимательное рассмотрение даже самых радикальных лирико-драматических экспериментов показывает, что опорное понятие драма оказывается для них важнее, чем уточняющее определение. Сопоставление блоковских собственно лирических произведений («Незнакомка» и «Балаганчик» вырастают из баллад) с их драматическими аналогами показывает, что поэт должен был учитывать требования рода, в который переоформлял свою эмоцию: действие приобрело линейный характер (исчезли «каждый вечер» лирической «Незнакомки»), появились новые персонажи и, соответственно, их речевые характеристики, авторская ирония преобразовалась в объективные ремарки.
Лирическая драма стала еще одной жанровой разновидностью драмы в узком смысле слова, оставшись по свою сторону границы, не изменив своей родовой природе.
Примечательно, что в «Словаре театра» П. Пави жанры с определением лирический отсутствуют. Есть лишь термин «сентиментальная комедия», отсылающий к «слезливой комедии», которая определяется как «жанр, родственный буржуазной драме», то есть драме в узком смысле слова, причем оба термина сопровождаются английским аналогом melodrama. Периферийный, малопонятный жанр сводится в конце концов к самой сердцевине драматического искусства, мелодраме, демонстрирующей принцип развивающегося действия, интриги в чистом виде.
Лирическая драма (кроме Блока, можно еще упомянуть М. И. Цветаеву) оказалась в истории драматургии локальным, не имевшим широкого резонанса экспериментом или псевдонимом иных драматических форм. Театр ХХ века, когда ему это было необходимо, обращался не к лирической драме, а к «чистой» лирике, но инсценировал ее по законам, не имеющим прямого отношения к лирическому роду.
Аналогом лирической драмы по другую сторону родовой границы можно, наверное, считать так называемую ролевую лирику (стихотворения, написанные от лица какого-то персонажа, не совпадающего с авторским Я и лирическим героем), а также лирические диалоги (вроде пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» и лермонтовского «Журналиста, читателя и писателя»). Их даже можно объединить – симметричным! – понятием драматическая лирика, при четком осознании принципиальной лирической природы этого драматического ответа лирической драме. Пограничные жанровые формы подчеркивают существенность самих родовых границ.
Для описания и практического освоения границы между драмой и эпосом больше всего сделал немецкий драматург Б. Брехт. С 1920-х годов он развивал концепцию неаристотелевской драматургии, суть которой заключалась в создании эпического театра, эпической драмы (эти термины употребляются Брехтом как синонимы, хотя чаще он использует первый).
«Сцена стала повествовать. Теперь уже рассказчик не исчезал с исчезновением четвертой стены»[123] – такова исходная установка нового вида драмы.
Повествовательность должна была создаваться с помощью сценических приемов (введение титров, демонстрация на экране документов), но прежде всего – с помощью особой техники актерской игры. «Актеры тоже перевоплощались не полностью – они сохраняли известную дистанцию между собой и изображаемым персонажем, более того, вызывали в зрителе критическое отношение к персонажу»[124]. Способом такого дистанцирования, постоянной чертой брехтовских спектаклей стали зонги – песни, в которых актеры, выходя из образа, играли уже не персонажа, а отношение к нему.
Эффект очуждения[125], к которому стремился Брехт, связывался с новым способом воздействия на зрителя. Задачей эпического театра становилось не развлечение, а общественное воспитание «критически мыслящей личности»: «Отныне зрителю уже нельзя посредством простого вживания в душевный мир действующих лиц отдаваться своим эмоциональным переживаниям без всякой критики (и значит, без практических результатов). Все темы и события подвергаются очуждению. Такому очуждению, которое необходимо, чтобы понять их»[126].
Однако исследователи показали, что приемы повествовательности, диегизиса (рассказа) вместо мимесиса (показа), существовали в театральном искусстве издавна (греческий хор, комментарии в средневековых дидактических жанрах, персонажи-вестники и резонеры). С другой стороны, структура брехтовской драмы была вполне традиционна и позволяла безболезненную интерпретацию средствами аристотелевского театра.
Постановки драм Брехта («Кавказский меловой круг», «Мамаша Кураж и ее дети»), расширив возможности театрального искусства, одновременно продемонстрировали, что конфликт аристотелевской и неаристотелевской драматургии завершился полной победой первой.
Эпический театр с его уничтожением принципа «четвертой стены», обнажением приема, вовлечением в театральное представление зрителя стал частью театральных экспериментов ХХ века, не отменив, однако, ни старого актерского театра, ни системы Станиславского, основанной как раз не на очуждении, а на вживании в образ. «Чисто эпического театра не существует, так же как театра чисто драматического и „эмоционального“. <…> Эпический театр потерял <…> свою откровенно антитеатральную и революционную направленность и стал просто особым, четко определенным случаем театрального представления»[127].
Эпическая драма в конце концов была осознана как еще одна жанровая разновидность драмы в узком смысле слова, оставшись в границах драматического рода. Позднее это признал и Б. Брехт, реабилитировав традиционное драматическое действие. «Шиллер удивительно четко видит диалектику (противоречивое переплетение) в соотношении эпос – драма. Мои собственные указания, касающиеся эпического театра, часто допускают ложное толкование, так как они носят критически оппозиционный характер и полностью направлены против драматического искусства моего времени, которым пользуются с искусственной недиалектичностью. На самом же деле надо просто снова внести эпический элемент в драматическое творчество – конечно, с противоречиями. Свобода расчета должна быть основана как раз на „захватывающем потоке событий“» (Рабочий дневник. 3.1.1948)[128].
Аналогом эпической драмы по другую сторону границы, попыткой альтернативного ответа со стороны эпоса можно считать романы Достоевского. Определяемые как романы-трагедии (Вяч. Иванов) или полифонические романы (М. Бахтин), они внешне кажутся драматически разыгранными диалогами с удалившимся за кулисы автором, лишенным, в сравнении с героями, существенного смыслового избытка. И тем не менее очевидна их эпическая природа.
«Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль никогда не может быть выражена в другой, не соответствующей ей форме, – разъяснял Достоевский поклоннице, задумавшей сделать инсценировку „Преступления и наказания“. – Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет»[129].
Наиболее освоенной кажется граница между эпосом и лирикой. Во-первых, здесь имеется группа традиционных исторических жанров, чаще всего определяемых как лиро-эпические (роман в стихах, поэма, баллада). Иногда к ним добавляют басню, оду, сатиру. Присмотревшись к этому ряду, можно заметить, что признаком лирического чаще всего оказывается стихотворная форма. Повествовательные произведения в прозе приобретают своих стихотворных двойников: роман – роман в стихах, повесть – поэма, новелла – баллада.
Радикальным сторонником противопоставления стихотворной и прозаической формы был В. Ф. Переверзев. Традиционно выделив в своем опыте эйдологической поэтики «только три способа композиционного оформления материала» (три рода), он в каждом из них, по аналогии с эпосом, предложил видеть «три вида, различающиеся емкостью образов» (большой, средний, малый), которые, в свою очередь, разделяются на два класса (проза и стихи).
«Мы насчитываем, таким образом, восемнадцать видов поэтических произведений, а находящаяся в нашем распоряжении номенклатура видов исчерпывается только терминами „рассказ“, „повесть“, „роман“, „стихотворение“, „поэма“. Столь разительная диспропорция ясно говорит, что, в сущности, номенклатура видов литературно-художественных произведений в теории литературы не существует, хотя нужда в ней ощущается»[130], – сокрушенно заметил теоретик.
Теоретическое конструирование возможных жанров, таким образом, не только не решает проблемы характеристики жанров исторических, а создает новые проблемы. Включив в определение жанра стихотворную речь, мы лишь усложняем задачу, ибо в стихотворной форме в разные эпохи реализовывались не только все три рода, но и практически все описанные жанры. Логичнее поэтому считать стих вторичным признаком, а не признаком-определителем, а произведения лиро-эпического рода развести по исходным родовым позициям.
Но даже если признать существование особой группы лиро-эпических жанров, соответствующего им понятия рода, их речевого жанра-прототипа все же не обнаруживается. Лиро-эпические жанры оказываются жанрами на границах, а не продуктами некоего воображаемого лиро-эпоса.
Стихотворение в прозе (форма, известная прежде всего благодаря Тургеневу) – возвращаясь к нашей трехчленной классификации – логичнее всего определять как прозаическую лирику, ту или иную эмоцию, воплощенную в прозе, – еще одну жанровую разновидность лирического рода с балладной, элегической, сатирической и т. д. доминантой.
А лирическую прозу (распространенное в советскую эпоху явление и термин), напротив, – как еще одно жанровое семейство в эпосе, включающее роман (редко), повесть, рассказ (но не новеллу!), очерк, мемуары, эссе. Признаком-определителем здесь оказывается выдвижение на первый план события рассказывания и эмоции повествователя и, напротив, ослабление событийного ряда.
Предельные и запредельные жанры: жанровая лестница и жанровая матрица Вверх и вниз – по обе стороны границы
Как бы мы ни расширяли жанровую номенклатуру, количество конкретных литературных произведений оказывается безмерно больше, чем классификационных классов – жанров и жанровых разновидностей. Соотношения между ними будут отношениями частного и общего.
Внутри самой жанровой системы эта проблема возникает тоже – как проблема взаимоотношения теоретических (существующих как идеальные модели, архетипы) и исторических (реально существовавших и в разные эпохи определенным образом называвшихся) жанров. Наиболее бескомпромиссные теоретики предлагают идти сверху, дедуктивным путем – сконструировать законченную жанровую систему и затем наложить ее на конкретный материал. «Необходимо дедуцировать все возможные комбинации, исходя из выбранных категорий. Мало того, даже если одна из этих комбинаций реально никогда не существовала, мы тем более должны ее описать; подобно тому, как в системе Менделеева можно описать свойства еще не открытых элементов, так и здесь следует описывать свойства жанров, а следовательно, произведений, которых пока еще нет», – утверждает Ц. Тодоров, для которого «исторические жанры образуют часть сложных теоретических жанров»[131].
Простой опыт такой классификации мы видели у В. Ф. Переверзева, который из восемнадцати теоретически сконструированных жанров в реальности обнаружил лишь пять, в то время как множество исторических жанров остались вне системы. Попытка же увеличить число признаков и классов приведет к тому, что классификацией станет практически невозможно воспользоваться.
Иной путь намечался в работе Б. И. Ярхо. Он предлагал, как мы помним, строить «методологию точного литературоведения» эмпирически, снизу, от конкретного материала: осуществлять классификацию и градацию реальных жанров. При таком подходе теоретических жанров окажется всегда меньше, чем исторических, а пустых клеток в жанровой «таблице Менделеева» не будет: она пополняется только при возникновении новых жанров в литературной практике, что, как мы знаем, происходит не так часто.
При построении таблицы (задача пока так и не осуществленная) существенно важным становится не только определение реальных жанров, разновидностей, жанровых семейств, но и более четкое представление структурно-логических отношений между ними.
Очень интересной представляется попутная идея, высказанная много лет назад автором работы о «морфологии новеллы».
Привычно жалуясь на сложность жанровой классификации («Многие романы свободно могут быть обозначены как повести и обратно, повести как рассказы, и повести и рассказы как новеллы»), М. А. Петровский заметил: «Гораздо исключительнее случаи, когда мы можем колебаться между характеристиками данного произведения как романа или как рассказа и новеллы. Логическое расстояние здесь уже настолько велико, что оно дает нам основания говорить как бы о двух пределах художественной прозы, о двух предельных жанрах. Можно было бы, впрочем, наметить тут еще и некоторые запредельные величины: с одной стороны, художественную хронику (какой являются, в сущности, „Война и мир“ или „Соборяне“, имеющие, кстати, именно такой подзаголовок!), с другой же стороны – анекдот, как некоторое сюжетное целое, еще, так сказать, недоработанное до новеллы»[132].
Предельный жанр – это, следовательно, идеальная, не имеющая пересечений с другими жанрами, не допускающая сомнений формула узнавания внутри каждого рода. Вокруг него нарастают простые и сложные теоретические жанры, затем – исторические жанры.
Запредельные жанры, в терминологии Петровского, – это, с одной стороны, первичные речевые жанры, жанры словесности, некие дохудожественные структуры, пограничные с собственно литературными жанрами, а с другой – конструктивные образцы, перерастающие жанр как таковой, произведения с разомкнутой структурой (хроника, в понимании Петровского, в отличие от романа, может быть бесконечной).
Предельных жанров в каждом литературном роде окажется, естественно, по два. Запредельных может быть и больше, ибо граница между литературными и бытовыми, речевыми жанрами, как мы уже видели, мозаична и сами эти жанры подвижнее, хуже изучены и с трудом поддаются определению.
В эпосе верхний предельный жанр очевиден, но исторически сменяется: сначала это эпопея, потом – роман. На статус нижнего предельного жанра, скорее всего, должен претендовать рассказ: этот жанр менее маркирован и больше связан с внехудожественной речевой реальностью.
Запредельными жанрами для эпоса окажутся снизу не только анекдот (короткий устный рассказ с неожиданной концовкой, микроновелла), но и афоризм (пословица, сентенция, гнома, максима) как исток дидактических и размышляющих жанров (басня, разные формы притчи и вообще тенденциозной литературы, эссе).
Если несколько обострить мысль, то можно, вероятно, утверждать, что почвой любой национальной повествовательной культуры оказываются афоризм и анекдот. Дерево русских повествовательных жанров, следовательно, теоретически растет из «Пословиц русского народа» В. Даля и собрания анекдотов!
Предлагались и иные варианты исходных жанровых единиц, основанные не на структурно оформленном событии, а на типе повествования, событии рассказывания, повествовательной конвенции, – сказка и рассказ.
«Говоря о самых простых видах повествовательного искусства, о зачаточных его формах, можно назвать две первоосновы: сказку и рассказ. Повествующий сказку – вездесущ и всевидящ, он знает все; и слушателю не приходит в голову спросить: откуда ты это знаешь? Форма рассказа – повествование очевидца и участника событий. Рассказчик оговаривается, откуда он это знает, и повествует лишь о том, что он сам действительно видел»[133].
Не обязательно соглашаться с М. А. Петровским не только в квалификации «Войны и мира» как хроники, но и в определении верхнего запредельного жанра. Скорее, таким жанром для эпического рода оказывается не хроника или какой-то другой романный жанр, а сверхжанровая структура – цикл: объединенное общим замыслом собрание эпических произведений разного объема.
Циклизация тоже имеет свои ступени и уровни: дилогия («Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова), трилогия («Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого; «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Горького), тетралогия («Иосиф и его братья» Т. Манна; «Пряслины» Ф. А. Абрамова).
Дальше начинаются грандиозные, циклопические циклы «В поисках утраченного времени» М. Пруста (семь романов), «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху второй Империи» Э. Золя (двадцать романов), «Человеческая комедия» О. де Бальзака (более сотни романов, повестей, очерков, новелл), пределом которых оказывается только краткость авторской жизни.
В драматическом роде пределы окажутся в непосредственной близости друг от друга: короткая, одноактная пьеса – внизу, многоактная драма или комедия – вверху, причем между тем и другим, кажется, не существует качественных отличий. Может быть, в данном случае лучше говорить не о пределах, а о структурном ядре драматического рода («маленькая драма»), вокруг которого формируется историческая жанровая система.
Драма по своей природе не допускает значительного количественного расширения. Ее нижней запредельной формой можно считать короткий монолог, сценку, скетч (комическая эстрадная миниатюра), а верхней – драму для чтения, способную расширяться за счет вторичного текста.
В лирике все многообразие исторических жанров расположится между стихотворением – малой лирической формой, манифестацией лирики как таковой, с каждый раз заново формируемой эмоциональной доминантой – и балладой или поэмой (если разделить этот жанр на лирическую и эпическую линии) – большим лирическим жанром на повествовательной основе. Запредельными для лирики окажутся разнообразные формы бытового стихотворчества (в том числе рифмованные пословицы и поговорки, тексты со сложными функциями – заклинания, молитвы и т. п.) – внизу и стихотворный эпос, эпическая поэма – вверху.
Пределами, для лирики и драмы, становятся жанровые формы эпоса, что подчеркивает его центральное положение среди литературных родов. Эпические жанры воспринимаются чаще всего как манифестация литературы как таковой.
В аспекте исторической поэтики жанры, таким образом, оказываются стихийно складывающимся, противоречивым, подвижным множеством, с трудом и не до конца организующимся в систему. «…Давать статическое определение жанра, которое покрывало бы все явления жанра, невозможно: жанр смещается; перед нами ломаная линия, а не прямая линия его эволюции. <…> Представить себе жанр статической системой невозможно…»[134] – такова точка зрения исторической поэтики[135].
При чисто теоретическом способе классификации жанры сведутся к четко ограниченной, логически неуязвимой «таблице Менделеева», воспаряющей над конкретным материалом. «Мы постулировали, что структуры литературы, а следовательно, и сами жанры помещаются на абстрактном уровне, смещенном по отношению к реальным произведениям. Правильнее было бы сказать, что такое-то произведение манифестирует такой-то жанр, а не говорить, что жанр присутствует в самом произведении. Однако отношение манифестации между абстрактным и конкретным имеет вероятностную природу, иными словами, нет никакой необходимости, чтобы произведение верно воплощало свой жанр, это только вероятность. А это значит, что никакой анализ произведений не может, строго говоря, ни подтвердить, ни опровергнуть теорию жанров. Если мне скажут: такое-то произведение не входит ни в одну из ваших категорий, следовательно, ваши категории никуда не годятся, то я могу возразить: ваше следовательно неправомерно, произведения не должны совпадать с категориями, выработанными исследователями; произведение может манифестировать, например, более одной категории, более одного жанра»[136], – образцово изложенный взгляд «чистого» теоретика.
В аспекте практической поэтики жанры можно представить в виде жанровой лестницы (или нескольких лестниц), начинающейся с простейших, элементарных, запредельных форм и заканчивающейся в бесконечности сверхжанровых циклических образований или жанровой матрицы, представляющей исторический материал в синхронном аспекте, но не выходящей, как при теоретическом конструировании жанров, за его пределы. У такой матрицы будет свое ядро (предельные жанры), свой центр (теоретические, идеализированные жанры каждого рода – простые и сложные) и, наконец, обширная периферия (исторические жанры, их изменения в разные эпохи, национальные варианты, терминологические вариации).
Проследить логику жанровых трансформаций, способы усложнения исходных структур, их исторические вариации – серьезная, увлекательная и пока не решенная задача.
Теоретическое, историческое и авторское определение жанра Кто устанавливает имена?
Теперь необходимо поговорить о том, как «устанавливаются имена» (в данном случае – имена жанров).
Теоретические дефиниции систематизирует, дополняет, уточняет литературовед, теоретик литературы. Любая поэтика и теория литературы от Аристотеля до наших дней (и эта в том числе) представляет ретроспективный опыт такой систематизации.
В своей работе теоретик, естественно, опирается на историческое понимание жанров, на смысл существовавших в определенную эпоху терминов, которыми пользовались современники – простые читатели и критики.
Наиболее важно среди современников, конечно, мнение самого создателя, автора, для которого жанр – не формула узнавания, а форма творчества.
Авторское определение жанра может быть зафиксировано в заглавии произведения («Повести Белкина», «Сказка о рыбаке и рыбке»), в его подзаголовке («Медный всадник. Петербургская повесть», «Чайка. Комедия в четырех действиях»), сопровождающих его материалах (мнение Л. Н. Толстого о жанре «Войны и мира» выражено в статье-послесловии – см. выше; о жанре «Пушкинского дома» А. Г. Битов рассуждает в автокомментариях к роману), наконец, в нетворческих рукописях (письма, дневники) и пересказах современников.
Наиболее простой для интерпретации случай – абсолютное совпадение всех трех позиций: автор дает своему тексту жанровую квалификацию, опираясь на жанровое мышление эпохи, и этот термин без сомнений принимает литературовед. «Преступление и наказание» – роман в шести частях с эпилогом, «Ревизор» – комедия в пяти действиях, пушкинский «Сонет» – действительно четырнадцатистишие, описывающее в сонетной форме историю сонета.
Конечно, термины роман и комедия можно сопроводить уточняющими определениями жанровых разновидностей, можно добавить, что Пушкин использует итальянский, а не английский тип сонета (это и сделает теоретик-классификатор), но нет никаких оснований подвергать сомнению авторские определения.
Другой вариант – авторская ориентация на жанровую терминологию эпохи, которую вынужден пересматривать литературовед, потому что позднее смысл терминов изменился. Пушкинские «Повести Белкина» с точки зрения жанровой типологии, конечно, новеллы. Просто в эпоху формирования новой русской прозы границы между малыми и средними жанрами были еще неясны, терминология не устоялась, понятия «повесть», «рассказ», даже «сказка» и «анекдот» употреблялись достаточно бессистемно, вперемежку, причем «рассказом» обычно назывались тексты с эксплицитно присутствующим рассказчиком, а в пушкинских текстах рассказчики хотя и названы, но «замаскированы» общим повествователем, самим Иваном Петровичем Белкиным[137].
В этот же новеллистический ряд мы должны включить и «Бедную Лизу» Карамзина, необыкновенную историю «короткой любви», хотя это произведение привычно называют сентиментальной повестью. Объем текста, специфика драматичного действия с кульминационной точкой (самоубийство героини), отсутствие подробной описательности – это, конечно, признаки новеллы, а не повести в том понимании, которое обосновывалось выше.
Третий, самый сложный и интересный случай – индивидуально-авторское определение жанра. Главная гоголевская книга названа поэмой. Но литературоведение рассматривает «Мертвые души» как звено истории русского романа, а не поэмы или лирики, ибо в книге присутствуют все типичные романные признаки: большой объем, типичные фабула и хронотоп плутовского романа, многообразные типы, описательная обстоятельность и романное многоязычие. Активность повествователя (знаменитые лирические отступления) оказывается сопутствующим, индивидуальным признаком гоголевского произведения, но не переводит его в иную жанровую разновидность.
Гоголевское определение, следовательно, не допускает прямого жанрового прочтения, а нуждается в специальном объяснении, которое ищут в параллелях с поэмой Данте и традицией эпической поэмы (эпопеи) вообще (такое понимание предложил уже К. С. Аксаков) или в гоголевской характеристике в «Учебной книге словесности…» (1844–1845) «меньшего рода эпопеи», поразительно напоминающей описание структуры «Мертвых душ»: «В новые веки произошел род повествовательных сочинений, составляющих как бы средину между романом и эпопеей, героем которого бывает хотя частное и невидное лицо, но, однако же, значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой. Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вживе верную картину в чертах и нравах взятого им времени, ту земную, почти статистически схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего того, что он заметил во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего. Такие явления от времени до времени появлялись у многих народов. Многие из них хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим»[138].
Проблема перекодировки, перевода авторских определений на терминологический жанровый язык неоднократно возникает в русской классике.
«Записки из Мертвого дома» Достоевского – книга очерков или повесть (в зависимости от того, как мы объясним степень и характер соотношения мира произведения с реальностью). «Записки охотника» Тургенева – цикл очерков или рассказов (опять-таки в зависимости от акцента на реальности или вымышленности повествования).
Толстовское внежанровое определение книга по отношению к «Войне и миру» превратилось в хронику (у М. А. Петровского) или роман-эпопею (общепринятая точка зрения).
Щедринские сказки (иногда они издавались с подзаголовком «Сказки для детей изрядного возраста») на самом деле – социально-политические басни (аллегорическая установка для них важнее, чем характер вымысла).
Чеховские комедии «Чайка» и «Вишневый сад» ничем в структурном отношении не отличаются от драм «Три сестры» и «Дядя Ваня». Это комедии в каком-то специфическом, чеховском смысле, поэтому литературоведы определяют их как психологические драмы, трагикомедии или просто говорят о чеховском типе драмы, делая индивидуальный вариант жанровым определением.
«Алые паруса» А. Грин назвал феерией, но любой справочник характеризует их как повесть (иногда с добавлением романтическая и т. п.).
Подзаголовок «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына опыт художественного исследования интерпретируют как большой документальный жанр – документальный роман, негативную эпопею.
Автор может давать жанровый подзаголовок не всерьез, а играя с читателем. В комментариях к «Пушкинскому дому» А. Г. Битов приводит двадцать восемь вариантов определения жанра собственного сочинения: «Название установилось, зато какое же раздолье открылось в изобретении подзаголовков, определяющих, так сказать, жанр! Жанр-то ведь у меня такой: как назову, такой и будет, жанр… или, как пишет моя пишущая машинка: жарн…»[139] Среди них наряду с серьезными, реально существующими жанровыми этикетками (конспект романа, филологический роман, петербургский роман) перечисляются такие жарны, как роман-протокол, роман-наказание, роман-упырь, роман-пузырь и даже роман-кунсткамера-мой-друг. Особенно часто, как мы видели, прибегают к жарнам современные драматурги. В подобных случаях жанровая характеристика становится не внешней, контекстуальной характеристикой произведения, а элементом его художественной структуры, нуждающимся, как и прочие элементы, в обязательной интерпретации. Литературоведам недостаточно 28 битовских определений, и они прибегают к терминам «роман-эссе», «постмодернистский роман» и т. п.
Любое литературное произведение располагается между полюсами общего и индивидуального, стереотипного и уникального, неповторимого высказывания и универсального кода. Ю. М. Лотман считал эстетику тождества и эстетику противопоставления разными моделями творчества и восприятия, на основании которых выделяются две большие группы, два класса литературных произведений[140].
Исследователи исторической поэтики говорят о трех больших эпохах литературного развития: архаическом периоде поэтики без поэтики, традиционалистском этапе поэтики стиля и жанра и возникшей лишь в два последние столетия, начиная с эпохи романтизма, поэтике автора.
«Свойственная предшествующему типу художественного сознания стилистическая и жанровая аргументация заместилась видением историческим и индивидуальным. Центральным „персонажем“ литературного процесса стало не произведение, подчиненное заданному канону, а его создатель, центральной категорией поэтики – не СТИЛЬ или ЖАНР, а АВТОР. Традиционная система жанров была разрушена, и на первое место выдвигается роман, своего рода „антижанр“, упраздняющий привычные жанровые требования»[141].
Как глобальная схема, первоначальный набросок исторической поэтики такое построение перспективно. Но на более конкретном уровне оно сразу же вызывает вопросы и требует разнообразных оговорок.
Граница между поэтикой жанра и поэтикой автора проницаема, размыта с обеих сторон.
С одной стороны, литература, основанная на эстетике тождества, «формульная литература», не только не исчезла в эпоху господства автора, а, напротив, получила широкое распространение, активно освоила смежные области искусства (кино, театр). Даже в большой, серьезной, высокой литературе последних веков было достаточно писателей, которые не разрушали жанры и упраздняли границы, а использовали вполне традиционные формы (романы Диккенса, Тургенева и Гончарова, новеллы Мопассана и Грина, драмы и комедии Островского).
С другой стороны, творческая индивидуальность автора постоянно проявлялась в литературе доромантической эпохи, в рамках традиционалистского жанрового и стилевого мышления. Оригинальность, новизна могут присутствовать даже в самом стереотипном жанре, хотя и в специфических формах: «К любому конкретному произведению публика подходит с определенными ожиданиями, и оригинальность приветствуется лишь в том случае, когда она усиливает ожидаемые переживания, существенно не изменяя их. <…> Каждая формула имеет свои границы, и в них определена возможность использовать те или иные уникальные элементы, не угрожая разрушением самой формулы. <…> Искусство использовать стереотипные характеры и ситуации таким образом, чтобы они зажили новой и интересной жизнью, особенно важно в формульном искусстве высокого качества…»[142]
Тезис о разрушении жанров в литературе двух последних эпох касается, таким образом, не всей области литературы, а определенной, достаточно узкой, ее части – литературы авангарда. Причем метафора «разрушение» относительна. «Разрушить» структуру художник может, только создав новую. Так на месте эпопеи возник роман; отрицая роман, одновременно создавали «антироман» со своими жанровыми признаками; «упраздняя» литературу, на самом деле возвращались к эссе, прямому авторскому высказыванию, которое старше, древнее многих собственно художественных жанров.
Точнее поэтому говорить не о разрушении, а об изменении, трансформации жанровых структур, моделей, формул, стереотипов и архетипов. Роман же оказывается скорее не антижанром, отрицающим все предшествующие жанровые традиции, а метажанром, синтетическим жанром, вбирающим, включающим их в себя. Поэтому М. М. Бахтин, говоря о романизации всей литературы и исследуя прежде всего роман, всегда напоминал о других жанрах и их роли как представителей творческой памяти в процессе литературного развития.
Различие между эстетикой тождества и эстетикой противопоставления в жанровой плоскости, вероятно, в том, что в первом случае жанр действительно является формулой узнавания, во втором – задачей, для решения которой эту формулу надо предварительно составить. Для того чтобы открыть дверь, в первом случае надо подобрать ключ из готовой связки, во втором – сначала этот ключ сделать (для чего у каждого хорошего мастера имеются заготовки).
Жанр одновременно категория простая и сложная, элементарная и интегрирующая. Встречая даже самого неискушенного читателя у порога конкретного произведения (в виде названия серии, подзаголовка, даже внешнего впечатления – толстая книга, строчки в столбик), жанр может стать одним из главных ориентиров интерпретатора: определение, скажем, «Бесов» (социально-идеологический, памфлетный, философский, полифонический роман?), «Мастера и Маргариты» (сатирический роман, мениппея, роман-миф?), «Чевенгура» (сатира, утопия, антиутопия?), других индивидуальных жанров последних столетий уже в значительной степени предопределяет понимание их художественного смысла.
Пройдя по жанровой лестнице сверху вниз, мы наконец добираемся до конкретного текста/произведения. Следующий логический шаг будет уже шагом внутрь его собственной структуры. Но и его невозможно сделать, не учитывая вроде бы абстрактной категории рода.
Структура литературного произведения Вертикали и горизонтали
Базовые уровни художественного мира Булгаковская коробочка
В неоконченном романе М. Булгакова главный герой, абсолютно одинокий, потерявший даже любимую кошку, потерпевший катастрофу с изданием первого романа, перечитывает свой текст: «Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, которые описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и я не раз жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!»
Дальше эти движущиеся, звучащие цветные картинки описаны подробнее: комната, вьюга за окном, звуки рояля и гармоники, чьи-то печальные голоса; ночь над Днепром, лошадиные морды, лица людей в папахах, угрожающий свист шашек; бегущий человечек, выстрел, черная лужица на снегу у его головы; луна, грустные, красноватые огоньки в селении. «Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу…»[143]
Как объяснить эту писательскую игру? В сюжете романа Булгаков фиксирует парадокс межродовой трансформации: герой-автор вдруг понимает, что по мотивам романа сочиняет пьесу.
Но описание можно интерпретировать как универсальное изображение процесса читательского восприятия и связанных с природой искусства эстетических коллизий: вот плоская страница, на которой почему-то шевелятся люди, – из нее вдруг выступает что-то цветное, трехмерная коробочка-картинка, – и: сквозь строчки видно!
У прозаика строчки превращаются в волшебную коробочку, у поэта – в раскрытое окно.
Как я хочу, чтоб строчки эти Забыли, что они слова, А стали: небо, крыши, ветер, Сырых бульваров дерева! Чтоб из распахнутой страницы, Как из открытого окна, Раздался свет, запели птицы, Дохнула жизни глубина[144].Переводя сравнения/метафоры на более строгий терминологический язык, мы оказываемся в центре теоретической проблематики, связанной с пониманием природы художественного текста.
Ответы на вопрос: «Что видно сквозь строчки?» (И видно ли что-нибудь сквозь них вообще?) – приводят к принципиально разным представлениям о структуре литературного произведения и, соответственно, к разным поэтикам.
Первый ответ (он объединяет ранних формалистов, ранних структуралистов, специалистов по «лингвистической поэтике») таков: сквозь строчки не видно ничего, смысл поэтического целого складывается из семантики отдельных слов и предложений.
Грамматика поэзии – это поэзия грамматики (перефразируя заглавие знаменитой статьи Р. О. Якобсона)[145]. Другая статья Р. О. Якобсона, написанная совместно с К. Леви-Строссом, была посвящена как раз грамматическим приключениям и разнообразным трансформациям заглавного существительного Les chats в бодлеровском сонете[146]: булгаковский кот с этим не согласился бы.
«Материалом поэзии являются не образы или эмоции, а слово. Поэзия есть словесное искусство, история поэзии есть история словесности. Старый школьный термин „словесность“ в этом смысле вполне выражает нашу мысль»[147].
«Материал, с которым работает история литературы, имеет языковую природу – будь то темы, мотивы, повествования или описания. Таким образом, история литературы не будет состоятельна до тех пор, пока не станет историей слов»[148].
Такую теорию, существовавшую в разные эпохи, но особенно влиятельную в XX веке благодаря бурному развитию лингвистики и экспансии ее методов в другие области гуманитарного знания, в том числе в науку о литературе, М. М. Бахтин назвал материальной эстетикой.
Особое внимание к материи, к форме литературного произведения, собственно к словесности объяснялось, между прочим, и тем, что в рядовой критике и академическом литературоведении долгое время (да и сегодня) рассуждали о содержании без особого внимания к способам его словесного воплощения, отождествляя образ реальности с самой реальностью.
Дилемме слова без картинки или картинки без слов М. М. Бахтин противопоставил третью, парадоксальную, диалектическую позицию, тоже имеющую глубокие корни в классической эстетике: литературное произведение не существует без языка, но оно существует не только в языке.
«Язык для поэзии <…> является только техническим моментом. <…> Язык в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного искусства не входит. <…> Громадная работа художника над словом имеет конечной целью его преодоление, ибо эстетический объект вырастает на границах слов, границах языка как такового; но это преодоление материала носит чисто имманентный характер: художник освобождается от языка в его лингвистической определенности не через отрицание, а путем имманентного усовершенствования его: художник как бы побеждает язык его же собственным языковым оружием, заставляет язык, усовершенствуя его лингвистически, превзойти себя самого»[149].
Это вырастающее на границах слов новое образование М. М. Бахтин чаще всего называл эстетическим объектом, иногда традиционно образом («…Компоненты <…> мы можем назвать и образами, понимая под этим не зрительные представления, а оформленные моменты содержания»[150]) или даже тематическим событийным миром («Между тем тематический мир в его широком понимании и лингвистическое слово лежат в совершенно разных планах и измерениях»[151]).
Понятие мир будет основополагающим в дальнейших рассуждениях, ибо оно, при всей метафоричности, самой семантикой фиксирует связь между произведением и действительностью (реальный мир – художественный мир) и отвечает природе читательского восприятия (булгаковская трехмерная коробочка, которая видна сквозь строчки, и есть вырастающий на границах слов мир).
Литературное произведение состоит из языка и мира – первое принципиальное разграничение в его структуре. Причем эти эстетические реальности неразделимы, но находятся в разных плоскостях: глядя на страницу и видя только слова, мы теряем мир; глядя сквозь страницу в мир, мы должны перестать воспринимать текст в его лингвистической определенности.
Лингвист, подходящий к произведению со своими специальными задачами, рассматривает текст только в его «лингвистической определенности» («„Евгений Онегин“ и русский литературный язык», «Маяковский – новатор языка»). Наивный читатель, напротив, как правило, имеет дело с ценностями мира, не обращая внимания на то, из чего они вырастают.
Задачей специалиста-литературоведа (разделяющего бахтинские теоретические установки) становится исследование взаимосвязей, процесса трансформации текста в мир при отчетливом понимании их разноприродности.
Наглядной – образной – иллюстрацией бахтинского размышления может быть парадокс Онегина. Знает ли герой пушкинского романа, что он говорит четырехстопным ямбом? Ведь как известно: «Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить». Однако реплика «Боюсь: брусничная вода / Мне не наделала б вреда» и письмо Онегина – безусловный ямб.
Дело в том, что стих – феномен языка, а Онегин – созданный путем его «имманентного преодоления» образ, персонаж, пребывающий в художественном мире, по другую сторону от невидимой границы. На том уровне, на котором существуют ямб и онегинская строфа, еще нет Онегина. А там, где мы говорим о герое и событиях в его жизни, уже нет стихотворной речи.
Существует известная оптическая иллюзия фигуры и фона.
Глядя на рисунок, мы видим то два обращенных друг к другу темных профиля, то белую вазу. Но мы никогда не сможем увидеть эти фигуры одновременно.
Профессиональный филолог-интепретатор все время должен помнить об этой иллюзии и четко различать, что в данный момент является для него фигурой, а что – фоном. Он вынужден как бы попеременно надевать разные очки: пенсне для близоруких позволит четко рассмотреть фактуру, материю текста; линзы для дальнозорких – увидеть мир в целом. Попытка нацепить все сразу, скорее всего, приведет к смешным смещениям и накладкам («Образ Онегина встретился с Татьяной»), очертания объектов совершенно исказятся.
Понятие художественного произведения как «всеохватывающего единства», «замкнутого мира самого по себе» (Гегель) возникло уже в классической эстетике. В современном литературоведении термин мир популярен, но его использование зачастую так и не выходит за рамки метафоры, приобретая к тому же практически безразмерный характер.
Существуют работы о «мирах» «Евгения Онегина» и «Братьев Карамазовых», Гоголя и Тургенева, Чехова вообще и чеховской прозы в частности, Фета, Кузмина и «Стихов о Прекрасной Даме» Блока, сказки и романтизма. В библиотечных каталогах можно отыскать сборники под неожиданными («В мире Добролюбова» – миры, следовательно, создает и критик!) или глобальными («В мире отечественной классики», «О художественных мирах») заголовками.
Придать понятию бо́льшую конкретность пытаются с двух разных сторон. «Поэтический мир автора – это те постоянные темы, установки, мысли, которыми пронизаны все его произведения на разных уровнях, в самых разных аспектах, компонентах и т. п. Поэтический мир можно представлять себе в виде набора подобных единиц (условно тем)»; «Весь этот мир характерных мотивов и объектов одного автора в поэтике выразительности называется поэтическим миром» – таковы исходные установки «поэтики выразительности», разрабатываемой А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым.
ПМ (так сокращают свой термин исследователи), следовательно, относится к творчеству автора в целом («Всякий конкретный текст рассматривается как перевод некоторой локальной темы на язык поэтического мира автора путем ее совмещения с постоянными») и имеет скорее не изобразительный, предметный, а выразительный, эмоциональный характер. «Мысли и темы» в конкретном анализе явно преобладают над «объектами».
Так, двумя постоянными темами, чертами ПМ Пастернака А. К. Жолковский считает «тему „контакта“ между повседневными малыми проявлениями человека и великими проявлениями жизни и вселенной» и «тему „высшей фазы“ или „великолепия“», но исследует их через «функции окна как готового предмета». В статье «Черты поэтического мира Ахматовой» Ю. К. Щеглов в качестве близких, практически синонимичных понятию ПМ, использует термины тематический комплекс, модель мира, «базисные» идеи, тематическое ядро, «личная философия»[152]. Конкретные различия между ними и сама структура ПМ остаются непроясненными.
Сходное значение придавал этому термину и Ю. М. Лотман. «Художественный мир (или, по выражению Б. М. Эйхенбаума, „онтология поэтического мира“) – не текст, и то, что было предметом нашего внимания, не может быть приравнено к структуре того или иного стихотворения. Художественный мир относится к тексту так, как музыкальный инструмент – к сыгранной пьесе. Структура музыкального инструмента не является объектом непосредственного жизненного переживания, но она потенциально содержит в себе множество возможностей, выбор и комбинация которых образуют пьесу»[153].
М. Л. Гаспаров, напротив, предлагает свое определение, пытаясь максимально уточнить понятие и сузить термин. «В литературоведении и критике есть употребительное выражение: „художественный мир“: художественный мир такого-то произведения, автора, направления. Обычно оно имеет значение очень неопределенное и расплывчатое: когда хотят сказать, что стихи Пушкина по содержанию не похожи на стихи Лермонтова, то говорят: „В стихах Пушкина совсем иной художественный мир“. (А когда хотят сказать, что стихи Пушкина по форме не похожи на стихи Лермонтова, то говорят: „В стихах Пушкина совсем иная интонация“: другое слово с таким же неопределенным значением.) В таком употреблении, несомненно, оно малосодержательно и не выводит нас из круга досадных тавтологий.
Тем не менее слова „художественный мир“ могут быть наполнены содержанием вполне конкретным, точным и важным. Художественный мир – это тот мир, который реально изображается в литературном произведении (а не только воображается за ним и вокруг него), то есть список тех предметов и явлений действительности, которые упомянуты в произведении, каталог его образов»[154].
В конкретных анализах М. Л. Гаспарова понимание мира как списка предметов, каталога образов конкретизируется и предлагаются разные методики работы с ним.
Одна версия – «по частям речи»: «Мы вычитываем и выписываем из стихотворения сперва все существительные (по мере сил группируя их тематически), потом все прилагательные, потом все глаголы. И из этих слов перед нами складывается художественный мир произведения: из существительных его предметный (и понятийный) состав; из прилагательных его чувственная (и эмоциональная) окраска; из глаголов действия и состояния, в нем происходящие»[155].
Другая – частотный словарь избранного объекта: «Частотный тезаурус языка писателя (или произведения, или группы произведений) – вот что такое „художественный мир“ в переводе на язык филологической науки»[156].
Если концепция «поэтики выразительности», «снимая» конкретную структуру, возводит ПМ к характерным мотивам, ключевым темам писателя, то представление о мире – частотном словаре опасно приближает его к лингвистике. Помимо проблематичности такой установки в общетеоретическом плане, о чем уже шла речь ранее, возникает трудность в ее последовательной реализации, связанная с характером материала.
М. Л. Гаспаров (вслед за Б. И. Ярхо) разрабатывает теорию мира как тезауруса на материале лирики, коротких стихотворных произведений. Но словарь-тезаурус «Евгения Онегина», не говоря уже об «Анне Карениной», вряд ли может служить непосредственным материалом для интерпретации, во-первых, из-за своей громоздкости (материалом для анализа художественного мира Кузмина у М. Л. Гаспарова послужили 25 стихотворений, причем тезаурус был составлен лишь для существительных, потому что «систематизация прилагательных, а тем более глаголов и наречий разработана еще недостаточно»; предметом анализа, таким образом, оказались 285 слов, 500 словоупотреблений: в прозе такую выборку дадут уже первые восемь-десять страниц), во-вторых, из-за романного разноречия, сложного соотношения речи героев и повествователя, которое трудно отобразить в словарной форме.
На практике недостаточность чисто «грамматического» понимания мира ощущает и М. Л. Гаспаров, используя в своих разборах такие «неопределенные и расплывчатые» характеристики, как пространство, время и точка авторского (читательского) зрения, конкретизируя эту точку зрения уже совсем неграмматическими понятиями («Первая строфа – это взгляд вверх… Вторая строфа – это взгляд вокруг… Третья строфа – это взгляд внутрь»), обращаясь к метафорическим, практически неверифицируемым определениям («Представим себе „мир Цветаевой“ как разомкнутое кольцо, вроде подковообразного магнита» – о «Поэме воздуха»).
Логичнее поэтому поискать середину между этими двумя полюсами, помня замечание М. Л. Гаспарова о «мире, который реально изображается в литературном произведении» (из чего не обязательно следует вывод о существительных-предметах).
Вспомним еще раз булгаковский взгляд сквозь строчки: в воображении читающего текст возникает трехмерная коробочка, в которой течет время, движутся фигурки, шевелятся люди, бегут и падают человечки. Удивительно похоже на него пастернаковское определение «творчества и чудотворства» в стихотворении «Август»: «Образ мира, в слове явленный».
Мир, являющийся в словах, видимый сквозь строки, имеет пространственно-временные координаты (1), в которых пребывают, существуют, взаимодействуют, общаются (2) какие-то субъекты, персонажи (3).
Пространство и время – действие – персонажи/герои – базовые структурные уровни (или просто уровни) художественного мира.
Парадокс превращения текста в мир можно продемонстрировать на конкретном примере. Обратимся к началу другого булгаковского романа (в одной из бытующих в современной практике версий): «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина». В первой же фразе сквозь строчки проявляется волшебная коробочка, формируется мир, обозначаются его уровни, которые будут определять наше восприятие до самого последнего слова, до финала: время (однажды весною, в час небывало жаркого заката) – пространство (в Москве, на Патриарших прудах) – действие (появились) – персонажи/герои (два гражданина).
Другое знаменитое начало романа, «Зависти» Ю. Олеши, представляет ту же картину мира совсем сжато и в обратном порядке: Он (персонаж) – поет (действие) – по утрам в клозете (время-пространство). Четыре слова (не считая предлога) – четыре аспекта, три уровня художественного мира.
Представление об уровнях (слоях, пластах, сферах, аспектах) художественного произведения стало в поэтике почти общепринятым. Вероятно, ближайшим образом оно восходит к работам польского исследователя Р. Ингардена, который, ссылаясь на Аристотеля, выделял в художественном произведении четыре слоя: слой языковых звучаний – смысловой слой – предметный слой – видовой слой, «конкретное зрительное явление, которое мы переживаем, наблюдая данную вещь».
Понятие мир, впрочем, Ингарден использовал только по отношению к третьему слою: «Точно так же обстоит дело с „представленными“ в произведении „предметами“. При всем их множестве и разнообразии они также связаны друг с другом и складываются в более или менее спаянное целое, безусловно, благодаря тому, что обозначаются связанными друг с другом предложениями. Целое это мы называем предметным слоем, или изображенным в произведении миром»[157].
Подобное представление структуры иногда пытаются оспорить: «Понятие уровни текста весьма проблематично. В линейной манифестации текста (то есть в той, которая, собственно, и предстает читателю) нет никаких уровней. <…> Поэтому понятие уровни текста – понятие чисто теоретическое; оно принадлежит метаязыку семиотики»[158].
Следует, однако, возразить, что эти феномены все-таки есть, причем они существуют не только в метаязыке семиотики, но и в читательском восприятии. Ведь после прочтения художественного текста мы можем описать как место, где происходит действие, так и само действие; поспорить о том, похож или нет герой экранизации на литературного персонажа. То есть наше восприятие преобразует линейную манифестацию текста в иные последовательности, ряды, которые нужно как-то обозначить, назвать (почему бы не уровнями?).
Особое, парадоксальное бытие литературного произведения замечательно описывает М. М. Бахтин: «Нам совершенно нечего бояться того, что эстетический объект не может быть найден ни в психике, ни в материальном произведении; он не становится вследствие этого какою-то мистическою или метафизическою сущностью; в том же самом положении находится и многообразный мир поступка, бытие этического. Где находится государство? В психике, в физико-математическом пространстве, на бумаге конституционных актов? Где находится право? И тем не менее мы ответственно имеем дело и с государством и с правом, более того – эти ценности осмысливают и упорядочивают как эмпирический материал, так и нашу психику, позволяя нам преодолеть ее голую психическую субъективность»[159].
Другой вопрос, что в понимании конкретного перечня уровней, способов их взаимосвязи, их номинации отсутствует какое бы то ни было единство[160].
Если согласиться с предложенным членением, то исходная структура изображенного мира оказывается подобной (изоморфной) миру изображаемому и, кроме того, соотносится с общенаучной, философской категорией «картина мира» как целостным научным представлением о действительности, характерным для той или иной эпохи (геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира, картина мира Ньютона и Эйнштейна).
Художественный мир в таком случае – это возможный мир, в котором в разной степени эстетически преобразованы, трансформированы черты обыденно-бытовой и научной картины мира.
Категорию «художественный мир» мы будем относить прежде всего к отдельному произведению. Причем она имеет не оценочный, а аналитический смысл: мир строится и в самом плохом романе, но отсутствует даже в замечательном философском или моральном трактате: там есть лишь система мыслей, идей.
Конечно, это понятие можно применить к творчеству писателя в целом и даже к литературному направлению или жанру (художественный мир романтизма или баллады). Но нужно понимать, что оно сразу приобретает не эстетически-реальный, а исследовательски-конструктивный характер (мир «Весенней грозы» или «Сказки о царе Салтане» создан автором и воспринимается любым читателем в его естественной целостности – мир Тютчева или сказки как жанра конструируется исследователем). Однако и в данном случае под миром предпочтительнее понимать нечто изображенное, пластически выраженное.
Темы, установки, мысли и прочий «музыкальный инструмент», благодаря которому мир создан, логичнее, вслед за Б. М. Эйхенбаумом, называть поэтической онтологией, или, вслед за М. М. Бахтиным, – формообразующей идеологией, или, например, художественной философией. В любом случае это глубинный уровень произведения или творчества, порождающий мир, но не являющийся его видимой частью.
Структура художественного мира, естественно, зависит от специфики литературного рода. Однако объективные роды, эпос и драма, имеют между собой гораздо больше общего. Мир лирического произведения может строиться существенно иначе.
Поэтому предметом наших рассуждений станут объективные роды и те жанры лирики (лиро-эпические), которые используют относительно детализированные пространственно-временные образы. Разговор о специфике лирического мира мы откладываем на конец этой главы.
Художественная речь
Поскольку речевой уровень занимает скромное положение в структуре произведения, которую мы выстраиваем, дадим обзор его элементов крайне лапидарно[161].
Уровень художественной речи включает три основные группы элементов: систему стилистических пластов, систему тропов и систему ритмической организации произведения.
Стилистические пласты Идем по шкалам
Стилистические пласты языка выделяются на фоне нормы: общеупотребительной, общелитературной речи в ее письменном и устном вариантах. Эта нормативная лексика создает основу, речевую канву любого художественного произведения.
Стилистически окрашенные слова – это отклонение от нормы, связанное с социальным или территориальным употреблением, а также с историческим развитием языка.
Отклонения от нормативного ядра языка можно представить в виде двух шкал, исторической (диахронной) и современной (синхронной) осей. На диахронной оси находятся группы лексики, которые выделяются и осознаются по признаку новизны или устарелости по отношению к современному состоянию языка.
В прошлом по отношению к норме находятся архаизмы, историзмы и славянизмы.
Архаизмы – слова, воспринимаемые как устарелые, «обветшалые» (Ломоносов), потому что вытеснены новыми словами для обозначения тех же самых предметов и явлений (недоросль – подросток, опочивальня – спальня, виктория – победа).
Историзмы – слова, устаревшие по причине исчезновения самих предметов или явлений (боярин, помещик, земство, нэпман, пионер).
Слявянизмы – слова, заимствованные из церковнославянского языка и включающие как архаизмы, так и историзмы (брег, десница, батог, вира, мыт).
Все три группы художественной речи можно объединить понятием архаизмов в широком смысле слова.
Неологизмы – новые, необычные, ранее не существовавшие в общем употреблении слова. Неологизмы возникают либо как языковые, обозначающие новые, ранее не существовавшие предметы и явления (научные открытия, технические изобретения), либо как индивидуальные, собственно художественные, поэтические изобретения. Особенно активно такие неологизмы придумывали футуристы, выдвинувшие теорию самовитового (оригинального) слова. Из подобных слов почти полностью состоит стихотворение В. Хлебникова «Заклятие смехом»; многочисленные авторские неологизмы встречаются в поэзии В. Маяковского. Авторские неологизмы либо, подобно общеязыковым, постепенно становятся привычными, нормативными, общеупотребительными словами, либо навсегда остаются свидетельством авторского усилия с помощью новых слов по-новому увидеть и показать читателю мир.
Варваризмы (заимствования) – слова, которые в данном контексте осознаются как чужие, непривычные, экзотические. Понятие варваризмов исторически меняется и свидетельствует о наиболее тесных контактах с данной культурой и языком. В Древней Руси, во время монголо-татарского нашествия, множество заимствованных слов появилось из тюркских языков, в эпоху Петра I в качестве языков-доноров выступали немецкий и голландский языки, в эпоху Екатерины II – французский, сегодня большинство заимствований – англоязычные (менеджмент, прайм-тайм, презентация). Область варваризмов на синхронной шкале может быть обозначена по отношению к норме как чужое.
На противоположном полюсе от нормы по синхронной шкале языка оказывается область своего: здесь располагаются лексические пласты родного языка, однако воспринимающиеся как ненормативные и, следовательно, приобретающие при использовании в литературном произведении особый смысл.
Диалектизмы – слова, употребляющиеся на определенной территории, главным образом в простонародной, крестьянской среде. В русском языке существуют два основных диалекта: южнорусский (буряк – свекла, гутарить – говорить) и севернорусский (орать – пахать, стая – постройка для мелкого скота).
Жаргон (арго) – лексический пласт, включающий слова, употребляющиеся в определенной социальной или профессиональной среде (последнюю группу слов иногда называют также профессионализмами). В зависимости от области употребления выделяют школьный, студенческий, политический или воровской жаргон, профессиональную лексику летчиков, учителей, художников или актеров.
Диалектизмы и жаргон близки друг другу, как двоюродные братья. Их можно определить и с помощью одного термина, с соответствующим эпитетом: диалект – это социальный жаргон; жаргон – это территориальный диалект.
В художественной литературе стилистически окрашенные слова имеют различные функции. Основные функции стилистических пластов таковы:
1) обозначение новых, не существующих в данной культуре понятий, предметов и явлений: неологизмы, варваризмы;
2) характеристика эпохи, места и времени действия (так называемый местный колорит): архаизмы, варваризмы, диалектизмы, жаргон;
3) речевая, психологическая характеристика персонажа: все лексические группы;
4) создание ораторской интонации, высокого стиля: архаизмы в широком смысле, иногда – неологизмы;
5) создание комического эффекта, снижение стиля: все группы лексики.
Тропы Идем по лестнице
Троп (греч. «оборот») – слово, употребленное в переносном значении.
В отличие от стилистических пластов, тропы, как правило, формируются внутри нормативной языковой системы за счет разнообразных переосмыслений, сдвигов значений слов или необычного сочетания нескольких слов. Тропы издавна считались признаком особой «художественности» речи, поэтому именно их не всегда оправданно называют «образами» (на самом деле в произведении образом является все: и слова, и персонажи, и действие, и хронотоп).
Античные и средневековые риторики (откуда в большинстве своем и позаимствована наша терминология) перечисляли и определяли более двухсот тропов. Основные, наиболее распространенные единицы можно представить в виде своеобразной стилистической лестницы, идя от более простого к более сложному.
Эпитет (греч. «приложенный») – как правило, определение, выражающее, однако, не логический признак (железный сундук), а оттенок значения, эмоциональное отношение (железный век, железный человек). В фольклоре существуют так называемые постоянные эпитеты (поле ровное, добрый молодец, красна девица), отражающие идеальный признак предмета и потому называемые украшающими. Индивидуальные эпитеты: а) детализируют изображение, пейзажа или персонажа («Лишь паутины тонкий волос / Блестит на праздной борозде» – Тютчев); б) выражают авторское отношение («И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, / Такая пустая и глупая шутка» – Лермонтов).
В старой поэзии были распространены составные эпитеты (лира сладкострунная – Державин; длань незримо-роковая – Тютчев). С точки зрения грамматики самый распространенный эпитет – прилагательное при существительном. Однако эпитеты могут быть выражены деепричастием или наречием при глаголе («И вся дубрава зашумит широколиственно и шумно» – Тютчев), существительным («Пора, дитя мое, вставай» – Пушкин), приложением, в том числе развернутым («Но наше северное лето, карикатура южных зим…» – Пушкин). Сочетанием существительного с прилагательным могут образовываться и другие тропы: метафора, оксюморон (см. далее).
Сравнение – уже не просто акцентирование, выделение признака, как в эпитете, а открытое, грамматически оформленное сопоставление с другим предметом или явлением, в котором выделенный признак представлен отчетливо (голубые глаза – голубые, как небо, глаза). Структурно в сравнении представлены три элемента: а) предмет сравнения (глаза); б) образ, с которым сравнивается предмет (небо); в) признак, основание сравнения (голубой). Грамматические признаки сравнения: союзы как, словно, будто, подобно; творительный падеж существительного (звездой блестят ее глаза – ср.: ее глаза блестят, как звезды); сравнительная степень признака (девичьи лица ярче роз).
Развернутое сравнение представляет собой цепочку тематически или метафорически связанных сравнений, становящуюся основой композиции произведения (как правило, лирического) или его части («Парадом развернув моих страниц войска…» – «Во весь голос» Маяковского).
Отрицательное сравнение – примета фольклорного стиля или подражания, стилизиции под него («Не осенний мелкий дождичек / Брызжет. Брызжет сквозь туман: / Слезы горькие льет молодец / На свой бархатный кафтан» – Дельвиг).
Метафора (греч. «перенос») – перенос значения с одного предмета на другой по сходству; структурно метафора – сокращенное сравнение, маленькая загадка, в которой по переносному значению можно восстановить исходное значение и признак, основание для сравнения («Отговорила роща золотая / Березовым веселым языком» – Есенин: шум листьев как человеческий разговор). Языковыми, стертыми метафорами переполнена наша речь (солнце встает и садится; глазное яблоко; нос корабля).
Олицетворение – метафорический перенос человеческих свойств на природу, часто передается цепочкой однородных метафор («Поют деревья, блещут воды, / Любовью воздух растворен, / И мир, цветущий мир природы, / Избытком жизни упоен» – Тютчев).
Распространенная метафора (как и сравнение) может стать основой композиции произведения («Дорога жизни» Пушкина).
Сравнения и метафоры – признак украшенной, поэтической, художественной речи, но их место на ценностной шкале языка не закреплено. Они могут создавать как поэтический, возвышающий, так и комический, снижающий эффект (шуточный пример И. Бродского: глаза как бирюза и глаза как тормоза – восходящее и нисходящее сравнения).
Метонимия (греч. «перемена имени») – перенос значения по смежности, по реальному контакту предметов или явлений в пространстве или времени (класс слушает – то есть школьники в классе; «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» – то есть книги этих авторов).
Синекдоха (греч. «соотнесение») – перенос значения с части на целое или с целого на часть, в том числе употребление единственного числа вместо множественного («Швед, русский колет, рубит, режет» – изображение Полтавской битвы у Пушкина). Синекдоху считают разновидностью метонимии или самостоятельным, отдельным тропом.
Метафору, метонимию и синекдоху можно наглядно представить в виде фрагмента, эпизода воображаемого кинофильма. Метафора – это монтаж, столкновение двух кадров-значений, производимое создателем метафоры. Метонимия – панорама, сдвиг воображаемой кинокамеры. Синекдоха – укрупнение в кадре, выделение детали.
Следовательно, метафора – наиболее индивидуальный троп, потому что столкновение значений по любому, даже самому ассоциативному признаку производит создатель, сочинитель метафоры (поэтому метафорической в широком смысле называют любую «украшенную», использующую разнообразные тропы устную или письменную речь). Метонимия же и синекдоха опираются на объективные взаимосвязи обозначаемых предметов, поэтому языковые и индивидуальные, поэтические метонимии оказываются близки.
Перифраз (греч. «окольная речь, пересказ») – замена слова, прямо обозначающего тот или иной предмет или явление, иносказательным, описательным выражением; указание одного или нескольких признаков этого предмета (полночное светило – луна; колыбель революции, вторая столица, город на Неве, Северная Пальмира и т. п. – Петербург). Перифраз, как правило, развитая, развернутая метонимия. Перифраз характерен для книжной и публицистической речи. Функции перифраза: а) создание высокого стиля (в одах ХVIII века и последующих подражаниях-стилизациях); б) создание эффекта поэтичности, лиризма (у Карамзина и других сентименталистов); в) ироническое обыгрывание, пародирование лиризма, переходящего в жеманность (вместо «юная питомица Талии и Мельпомены» скажи просто «молодая актриса» – Пушкин); г) борьба с тавтологией и грубостью словесного выражения; в первом случае перифразами заменяют часто повторяющиеся слова (автор «Войны и мира» – Толстой), во втором – слова, неудобные к употреблению, грубые, вульгарные и пр.; такой перифраз называется эвфемизмом («этот стакан нехорошо себя ведет» вместо воняет – Гоголь).
Гипербола (греч. «излишек, преувеличение») – троп, основанный на преувеличении, укрупнении, придании предмету или явлению предельного качества. Гипербола родственна идеализирующему, украшающему эпитету. Или, напротив, такой эпитет есть разновидность гиперболы. Гипербола может вырастать также из метафоры, по грамматической форме представлять сравнение. Гиперболы, как и метафоры, бывают общеязыковые, стертые («сто лет тебя не видел»), и индивидуальные, поэтические («Редкая птица долетит до середины Днепра» – Гоголь; «Я видывал, как она косит: / Что взмах – то готова копна» – Некрасов).
Литота – троп, обратный гиперболе, антигипербола, преуменьшение («Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка» – Грибоедов).
Оксюморон, оксиморон (греч. «остроумно-глупое») – контрастное сочетание противоположных явлений, абсолютная или относительная антитеза, данная в одной грамматической конструкции (мертвые души, живой труп, оптимистическая трагедия, радость страданья, весело грустить и т. п.).
Ирония – употребление слова в значении, противоположном основному; скрытый оксюморон или антитеза («Отколе, умная, бредешь ты, голова?» – в басне Крылова об осле; «Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье невских берегов» – Пушкин в «Медном всаднике» о бездарном поэте-современнике). Ирония может быть узнана, определена только по контексту.
В отличие от старых классификаторов, даже эта короткая лестница тропов кажется современным исследователям избыточной. Поэтому в круг основных тропов включают метафору, метонимию (иногда признавая и синекдоху), гиперболу и литоту, а сравнение, эпитет, оксюморон относят к области стилистических фигур (вместе с анафорой, эллипсисом, инверсией и пр.).
С другой стороны, значение тропического ядра безмерно расширяют, рассматривают метафору и метонимию как предельно широкую культурную оппозицию, связывая их и с двуплановостью самой структуры языка (содержание – выражение, означаемое – означающее), и с человеческой психикой (два типа афазии, расстройства речи: разрушение ассоциаций по сходству или по смежности), и с характеристикой индивидуальных художественных миров (метафоричность Маяковского – метонимичность Пастернака), и с другими видами искусства (метафоричность литературы – метонимичность кино)[162].
Однако в этой же словарной статье приводится суждение А. Белого, существенно корректирующего необходимость детальной систематики и дифференциации. «Формы изобразительности неотделимы друг от друга, они переходят одна в другую; в некоторых формах изобразительности совмещается ряд форм: в эпитете совмещается метафора, метонимия, синекдоха; с другой стороны, наиболее широкое определение метафоры таково, что она включает в себя синекдоху, метонимию; в эпитете синекдоха совмещает в себе и метафору, и метонимию; наконец, между сравнением и метафорой существует ряд переходов; например, выражение: „туча, как гора“ – есть типичное сравнение; выражение „небесная гора“ (о туче) есть типичная метафора; в выражении „туча горою плывет по небу“ – мы имеем переход от сравнения к метафоре; в словах: „туча горою“ сравнение встречается с метафорой; или в выражениях: „грозные очи“, „очи, как гроза“, „очи грозою“, „гроза очей“ – (вместо взора) мы имеем все стадии перехода от эпитета к метафоре через посредство сравнения»[163].
Для современной интерпретации важна не столько подробная систематика из двухсот тропов и фигур (такой классификацией практически невозможно пользоваться), сколько функция, роль тропа в создании художественного мира. Четко различать десять тропов важнее, чем выучить сто.
Не следует также забывать, что, наряду с украшенной, металогической речью (которой прежде всего интересовалась классическая риторика), существует речь автологическая, в которой большинство слов употребляется не в переносном, а в прямом значении. Лингвисту, который занимается тропами, практически нечего сказать о «Повестях Белкина». Однако нагая, не-тропическая проза Пушкина столь же важна в построении его художественного мира, как и пышная, метафорическая (в широком смысле) проза Гоголя. Для практической поэтики языковой уровень представляется образным не фрагментарно, эпизодически, а тотально, сплошь.
Стихотворная речь Стих или не стих?
Метр и размер
Проза и стих – две противоположные формы организации художественной речи. Исторически стихотворная речь возникает раньше по контрасту к речи бытовой, прозаической, а художественная проза – явление вторичное, отталкивающееся от стиха. Но сегодня стихотворная речь воспринимается и определяется на фоне прозаической как речь с особой, дополнительной урегулированностью, обладающая специфическим ритмом.
Проза тоже обладает особым ритмом, но природа его до конца не ясна. Во всяком случае, этот ритм принципиально отличается от стихотворного ритма.
Прозаическая речь членится согласно общим языковым законам: слово – синтагма – предложение – абзац – фрагмент – целый текст. В стихотворной речи на это членение накладывается дополнительное деление на соизмеримые отрезки, которые так и называются – стихами – и обычно выделяются в отдельную строку.
Соответственно, и сам стих в стихотворной речи делится не только на слова, но на повторяющиеся, соизмеримые отрезки, состоящие из нескольких слогов, называющиеся стопами.
Стих – внешняя мерка стихотворной речи в ее отличии от прозаической.
Стопа – внутренняя мера стиха, отличающая одни стихотворные произведения от других. Эта внутренняя мера называется метром. Следовательно, можно утверждать: если в прозе и есть свой ритм, то в ней отсутствует метрическое членение.
В русском стихосложении исторически сменились две системы. В ХVII и начале ХVIII века стих не имел внутренней меры, метра, и был основан лишь на внешней мерке – количестве слогов в каждом стихе. Такой стих называется силлабическим. Поэт Петровской эпохи А. Кантемир писал одиннадцати- и тринадцатисложниками.
В 1830-е годы, благодаря М. В. Ломоносову и В. К. Тредиаковскому, в русской поэзии на смену силлабической системе пришла новая система силлабо-тонического стихосложения, основанная на регулярном чередовании сильных и слабых (иногда не совсем точно говорят: ударных и безударных) слогов в стопе.
Поэзия полутора веков, от Ломоносова до Блока, развивалась, используя всего пять основных метров.
Хорей – двусложный метр с сильным первым слогом («Буря мглою небо кроет»).
Ямб – двусложный метр с сильным вторым слогом («Мой дядя самых честных правил»).
Дактиль – трехсложный метр с сильным первым слогом («Утро туманное, утро седое»).
Амфибрахий – трехсложный метр с сильным вторым слогом («Средь шумного бала, случайно»).
Анапест – трехсложный метр с сильным третьим слогом («Назови мне такую обитель»).
В зависимости от количества повторяющихся стоп в стихе, от длины стиха в каждом метре выделяются несколько размеров: трехстопный хорей, четырехстопный ямб, шестистопный амфибрахий и т. п. Размер – более конкретное понятие, видовое по отношению к метру.
В трехсложных метрах обычно на всех сильных местах стоят ударения. В двусложных метрах правилом являются как раз пропуски ударений на сильных местах стиха. Если первый, приведенный выше стих «Евгения Онегина» содержит все четыре необходимых ударения четырехстопного ямба, то во втором стихе таких ударений остается всего три («Когда не в шутку занемог»).
Такие регулярные пропуски ударений на сильных местах стиха называются пиррихиями. (Второй стих «Евгения Онегина», следовательно, имеет пиррихий на третьей стопе.) Писать стихи двусложными размерами без пиррихиев практически невозможно: этому противоречат закономерности русской речи, в которой в среднем на один ударный слог приходится два безударных. Но наличие пиррихиев не ломает ритмической схемы ямбов и хореев. Сильные места стиха легко обнаружить при скандировании (произнесении стихов с акцентированием, подчеркиванием их метра) или даже выстукивании (что легко сделать человеку, привыкшему к восприятию музыкального ритма).
Противоположное пиррихию явление – спондей: появление ударения на слабом месте стиха. («Скучна мне оттепель: вонь, грязь – весной я болен». В этом стихе шестистопного ямба из «Осени» А. С. Пушкина пиррихий на третьей стопе, но зато спондей – на четвертой.) Спондей, однако, тоже не ломает ритмической схемы метра. Точно так же, как при скандировании сильные места в стопе с пиррихием акцентируются, ударения в стопе со спондеем «проглатываются», сглаживаются. Наличие пиррихиев делает стих более «легким», спондеи, напротив, «утяжеляют» его.
Пеоны – стихотворные метры, стопа которых состоит из четырех слогов, – намного реже встречаются в русском стихе. В зависимости от места ударения их обозначают как пеон I… пеон IV. Пеоны, кажется, можно свести к обычным ямбам или хореям, тем более что в них встречаются и сверхсхемные ударения, спондеи: писать стихи чистыми пеонами так же трудно, как и чистыми двусложными размерами. Однако не свободное распределение пиррихиев, а регулярное их наличие после сильных мест стиха делает пеоны ритмически отличными от хорея или ямба.
«Фонарики, сударики, / Скажите-ка вы мне, / Что видели, что слышали / В ночной вы тишине?» Стихотворение И. П. Мятлева написано двустопным пеоном-вторым и вовсе не напоминает четырехстопный ямб, хотя его можно проскандировать и таким образом.
«Зашумели над затоном тростники. / Плачет девушка царевна у реки». А это трехстопный пеон-третий С. А. Есенина, тоже не похожий на пятистопный хорей.
Из пятисложных стоп (пентонов) получила некоторое распространение лишь одна. Это так называемый кольцовский пятисложник – размер со свободным расположением пиррихиев, но обязательным сильным ударением в середине стопы, на третьем слоге. Поскольку поэт А. В. Кольцов, подражая народной песне, обычно выделял каждую стопу в отдельный стих, его стихотворения имеют очень характерный не только ритмический, но и графический облик.
Не шуми ты, рожь, Спелым колосом! Ты не пой, косарь, Про широку степь!Литературная революция, не отменившая, но существенно расширившая возможности русского стиха, произошла в начале XX века и связана прежде всего с именем В. В. Маяковского (ранние формы такого стиха встречаются, однако, уже в народной поэзии).
Акцентная (чисто тоническая) система строится на выделении сильных, ударных мест стиха, в то время как распределение слабых мест становится свободным, неурегулированным (между сильными, ударными местами в акцентном стихе может быть от ноля до восьми безударных слогов). Ритмической единицей в акцентном стихе становится уже не стопа, а полноударное слово. Поэтому длина стиха здесь измеряется количеством самостоятельных слов. Самыми распространенными являются трехударники («Мы спим ночь. / Днем совершаем поступки» – Маяковский) и четырехударники («Били копыта. Пели будто: / Гриб. Грабь. Гроб. Груб» – Маяковский). Другие виды акцентного стиха встречаются намного реже.
Однако далеко не всегда стихотворение пишется одним и тем же размером. В силлабо-тоническом стихе размеры могут регулярно чередоваться внутри одного метра – например, нечетные стихи пишутся четырехстопным хореем, а четные – трехстопным («Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали. / За ворота башмачок, / Сняв с ноги, бросали» – Жуковский).
Вольные стихи – это свободное, неупорядоченное использование разностопных стихов внутри одного произведения. Наиболее распространены вольные ямбы, хорошо приспособленные к передаче устной, разговорной речи. Вольными ямбами написаны многие басни И. А. Крылова и «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
Аналогичные процессы происходят и в акцентном стихе: четырехударник Маяковского может завершаться двух- или даже одноударным стихом.
Вольные стихи следует отличать от белых стихов, написанных как раз определенным размером, но не имеющих рифмы.
Свободный стих (фр. «верлибр») – это стих, в котором внутренняя мера окончательно исчезает и остается лишь внешняя мерка: разделение текста на соизмеримые отрезки, собственно стихи.
Она пришла с мороза, Раскрасневшаяся, Наполнила комнату Ароматом воздуха и духов, Звонким голосом И совсем неуважительной к занятиям Болтовней.Попробуем уничтожить разделение на стихи, записать этот текст в строчку – и почти невозможно будет догадаться, что А. Блок написал не поэтическую прозу, а свободный стих. Верлибр – последняя ступень на пути от стиха к прозе.
Рифмы
Метр – главный, но не единственный признак стихотворной речи. Большую роль играют также окончания стиха и способ организации отдельных стихов в более крупные единства.
Для определения стихотворного размера самым важным оказывается последнее ударение. Пиррихия на последней стопе стиха быть не может: в таком случае размер стиха принципиально изменяется. Но последним ударением стих не обязательно завершается; после него могут следовать еще несколько безударных слогов. Эти «хвостики» каждого стиха обычно называют ритмическими окончаниями, клаузулами или просто рифмами, потому что повторяющиеся звуки как раз находятся в конце стиха (не случайно в XIX веке рифму иногда называли краегласием).
Соотношение последнего ударения и конца стиха дает первую классификацию клаузул, или рифм.
Мужская рифма – окончание с ударением на последнем слоге в стихе («Ты слушать исповедь мою / Сюда пришел, благодарю!» – Лермонтов).
Женская рифма – окончание с ударением на предпоследнем слоге в стихе («Безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело, как смутное похмелье» – Пушкин).
Дактилическая рифма – окончание с ударением на третьем слоге от конца стиха, то есть совпадающее с дактилическим размером. Однако дактилическое окончание может иметь не только дактиль, но и другие метры; например, трехстопный ямб большинства стихов поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («В каком году – рассчитывай, / В какой земле – угадывай, / На столбовой дороженьке…»).
Стихи, оканчивающиеся на мужскую рифму, звучат отрывисто, энергично (поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» написана сплошь мужскими рифмами). Женские и дактилические рифмы, напротив, создают ощущение плавности, протяжности, напевности.
Следующая классификация рифм – по качеству созвучия.
Точные рифмы строятся на абсолютном совпадении стихового окончания (отряхает – промерзает, ветвей – ручей – начальные рифмы пушкинской «Осени).
Неточные рифмы дают лишь условное, приблизительное совпадение (врезываясь – трезвость – «Сергею Есенину» Маяковского).
Бедная рифма строится на совпадении звуков после последнего ударения (кровь – любовь).
Богатая рифма – это совпадение в стихе также опорного предударного согласного (вдохновенья – забвенья – пушкинская «Деревня»). Мужские рифмы, оканчивающиеся гласным звуком, то есть с открытым последним слогом, просто обречены быть богатыми.
Точные рифмы преобладают в русской поэзии ХIХ века. Однако регулярное их повторение приводило к эффекту привычности, банальности. «Думаю, со временем мы обратимся к белому стиху (то есть стиху без рифм. – И. С.), – писал Пушкин в статье „Путешествие из Москвы в Петербург“. – Рифм в русском стихе слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собой камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный и проч.»[164].
Уже в ХIХ веке обновление рифмы происходило за счет рифмовки варваризмов и имен собственных (скальд – Освальд – у Жуковского; боливар – бульвар, дама – Бентама – в «Евгении Онегине»); составных рифм, в которых одно слово рифмуется с двумя, чаще всего служебными (девы – где вы, то же – Боже); каламбурных рифм как разновидности составных, в которых сочетаются омонимы или просто слова, близкие по звучанию (стихия – стихи я, отсрочки – от строчки, скалам бурым – с каламбуром – в известном каламбурном стихотворении Д. Минаева «В Финляндии»).
Однако, вопреки предположению Пушкина, в эпоху модернизма происходит не обращение к белому стиху, а расширение понятия рифмы. В статье «Как делать стихи?» Маяковский полемически утверждал: «Обыкновенно рифмой называют созвучие последних слов в двух строках, когда один и тот же ударный гласный и следующие за ним звуки приблизительно совпадают.
Так говорят все, и тем не менее это ерунда.
Концевое созвучие, рифма – это только один из бесконечных способов связывать строки, кстати сказать, самый простой и грубый.
Можно рифмовать и начала строк:
улица — лица у догов годов резче, —и т. д.
Можно рифмовать конец строки с началом следующей:
Угрюмый дождь скосил глаза, а за решеткой, четкой, —и т. д.
Можно рифмовать конец первой строки и конец второй, одновременно с последним словом третьей или четвертой строки:
среди ученых шеренг еле-еле в русском стихе разбирался Шенгели.и т. д., и т. д. до бесконечности»[165].
Приведенные поэтом типы рифм остались, однако, единичными, экспериментальными примерами. Маяковский и другие поэты Серебряного века начали активно использовать неточные рифмы, опираясь лишь на приблизительные созвучия не только заударного пространства, но и вообще последних слов в стихе. В той же статье Маяковский утверждает: «Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и, уж во всяком случае, до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет». Действительно, в стихотворении «Сергею Есенину», которое служило примером для статьи «Как делать стихи?», рифмуются не только смешок – мешок и скандалистом – свистом, поспевать – воспевать, но и трезвость – врезываясь, перочинный – причины, рассоплено – Собинов.
Точные и неточные рифмы сосуществуют в поэзии ХХ века. Но за счет неточных рифм возможности поэта в связывании стихов необычайно расширились.
Строфика
За счет чередования размеров и рифм отдельные стихи могут объединяться в регулярно повторяющиеся группы. Такие объединения, «связки» стихов называются строфами и различаются прежде всего по объему.
Минимальная строфа – двустишие.
Наиболее распространенным видом строфы является четверостишие, или катрен (А. Ахматова называла такие строфы «кирпичиками»).
Строфы, состоящие из четного числа стихов, распространены больше, вероятно потому, что сама рифма требует четности.
У исследователей принято схематически обозначать рифмы буквами латинского (иногда и русского) алфавита: мужские – строчными (ab), женские – прописными (CD), дактилические – также прописными со штрихом (E`F`). Причем одинаковые рифмы, естественно, обозначаются одинаковыми буквами.
Порядок следования рифмующихся стихов позволяет выделить три способа рифмовки и записать их с помощью простых формул, взяв за основу четверостишие-кирпичик.
Смежная (парная) рифмовка – связь с помощью рифмы соседних стихов (AAbb).
Перекрестная рифмовка – чередование рифмующихся стихов (AbAb).
Охватная (опоясывающая, кольцевая) рифмовка – объединение рифмой внешних и внутренних стихов строфы (AbbA).
Нормой в русской поэзии является чередование рифм в строфе (как правило, мужских и женских, реже – тех или других с дактилическими): это так называемое правило альтернанса. Отклонения же от этого правила воспринимаются с особой эмоциональностью (так, Белинский замечал, что четырехстопный ямб с одними мужскими окончаниями в лермонтовской поэме «Мцыри» «звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву»).
Строфа определяется по размеру и рифме, а не по графической записи. Придуманная Маяковским лесенка выделяет сильные места акцентного стиха. Поэтому четверостишие (частая форма организации стихотворений Маяковского) может быть записано в шесть или даже десять строк. В таком случае именно рифма позволяет установить подлинные границы строфы.
Некоторые виды строф с особой рифмовкой имеют специальные названия, заимствованные вместе с самими формами из европейской поэзии. Трехстишие с рифмовкой через стих (ABA BCB CDC) называют терцетом или терциной (такой строфой написана «Божественная комедия» Данте), шестистишие со смежной рифмовкой (AbAbAb) – секстиной, восьмистишие с рифмовкой AbAbAbCC – октавой (это строфа пушкинской «Осени»).
В русской поэзии ХVIII века была популярна одическая строфа – десятистишие с рифмовкой AbAbCCdEEd. Большинство торжественных и духовных од эпохи классицизма от Ломоносова до Державина написаны этой строфой.
Самая длинная и оригинальная строфа в русской поэзии придумана, конечно, Пушкиным для «романа романов» и называется онегинской строфой. Строфа состоит из четырнадцати стихов, организованных по формуле: AbAbCCddEffEgg. Всмотревшись, можно заметить, что строфа распадается на три четверостишия и заключительное двустишие. В четверостишиях Пушкин использует все общепринятые в нашей поэзии способы рифмовки – перекрестную, смежную и опоясывающую, заключая строфу двустишием со смежной рифмой. Онегинская строфа, таким образом, становится маленькой строфической энциклопедией: зная хотя бы одну строфу, можно легко восстановить основные способы рифмовки.
Размер, рифма, строфа – три основные характеристики, передающее формальное своеобразие стихотворной речи. Причем наиболее важным оказывается размер (метр). Поэт может отказаться от строф, свободно чередуя рифмы. Он может также отказаться и от рифмы, обратившись к белому стиху. Метр все равно подскажет нам, что перед нами – стихотворная речь. Но отказ от метра в верлибре и запись его сплошной строкой фактически превращают стих в прозу.
Интонация
Еще одна характеристика стиха более сложна. Она в меньшей степени определяется по формальным признакам, но имеет интегрирующий, обобщенный характер. Это стихотворная интонация.
Два противоположных типа стихотворной речи – напевный и говорной стих.
Для напевного стиха характерны завершенность каждого стиха и строфы, отсутствие переносов, обилие разнообразных повторов, в том числе повтора строф (рефрен) или повторяющихся в начале и конце стихотворения или строфы одинаковых стихов (композиционное кольцо). Такие стихотворения часто становятся основой песен и романсов, но даже при обычном чтении они требуют протяжно-монотонной манеры, «безмузыкального пения».
Говорной стих существует в двух основных вариантах.
Ораторский стих часто насыщен высокой лексикой и требует торжественного произнесения, размерной декламации. Такова обычная интонация оды.
Разговорный стих может быть насыщен бытовой лексикой, использовать нестрофические формы, вольные стихи. Этот тип требует чтения в манере бытового разговора, фамильярной, интимной беседы.
Интонация в стихе, как и в обычной речи, – форма контакта автора и читателя. Напевный стих поэт создает, изливая душу, обращаясь в пространство, к невидимому слушателю, может быть к Богу («Редеет облаков летучая гряда. / Звезда печальная, вечерняя звезда!» – Пушкин).
Ораторский стих – торжественная речь, обращенная к царю, к публике, к огромной аудитории («Слушайте, товарищи потомки, / агитатора, горлана-главаря…» – Маяковский).
Разговорный стих – интимная беседа, обращение к видимому или невидимому собеседнику, находящемуся на расстоянии вытянутой руки («Наедине с тобою, брат, / Хотел бы я побыть…» – Лермонтов).
Понять и поймать интонацию стихотворения – значит сделать важный шаг к постижению его смысла.
Пространство и время (хронотоп)
Пространство Как изобразить ничего?
Герой чеховской «Чайки» написал странную пьесу-монолог об одинокой «мировой душе», борющейся с дьяволом на опустевшей земле. Ее представление предваряется любопытным диалогом автора со скептиком-дядей:
«Треплев. О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!
Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет.
Треплев. Так вот пусть изобразят нам это ничего»[166].
Даже ничего, оказывается, необходимо как-то изобразить!
Пространство и время – универсальные характеристики объективных литературных родов. Нет произведений, от короткой басни, новеллы и одноактного водевиля до многотомного романа и многоактной трагедии, в которых отсутствовала бы бо́льшая или меньшая пространственно-временная развертка. Без воссоздания в слове волшебной «коробочки», трехмерной «картинки» автору некуда поместить персонажей и негде развернуть действие.
Но, как ни странно, в качестве базового уровня структуры художественного произведения время-пространство были осознаны сравнительно недавно, хотя отдельные его элементы (прежде всего пейзаж) издавна были предметом анализа.
В 1930-е годы М. М. Бахтин ввел в эстетику и литературоведение термин хронотоп: «Существенную взаимосвязь временны́х и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе времяпространство). Термин этот употребляется в математическом естествознании и был введен и обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна). <…> В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп»[167].
Подчеркивая связь литературного хронотопа с современными представлениями о Вселенной (отсюда ссылка на Эйнштейна и замечание о «времени как четвертом измерении пространства»), М. М. Бахтин одновременно осознавал как условный характер сравнения («мы перенесем его сюда – в литературоведение – почти как метафору»), так и относительность самой взаимосвязи. Поэтому даже в заглавии его работы хронотоп не объединяет пространство и время, а становится синонимической характеристикой пространства («Формы времени и хронотопа в романе»).
Считая «ведущим началом хронотопа» время, на практике Бахтин часто выделял и характеризовал хронотопы как раз по пространственным признакам. Хронотоп не заменил и не отменил прежние представления о художественном пространстве и времени, а стал еще одним, специфическим аспектом их исследования. Поэтому сначала естественно разобраться в роли каждого элемента этого уровня по отдельности (хотя граница между ними, как мы вскоре убедимся, часто оказывается проницаемой).
Начать нужно с очевидного, но не всегда отчетливо формулируемого: пространство (как и время, как все остальные уровни и элементы произведения) не просто «фотографируется», а создается, конструируется в соответствии с авторской задачей. Даже очерковое описание, казалось бы просто воспроизводящее пространственно-временные характеристики реальности, на самом деле имеет иную природу, пронизано авторской интенцией и требует ответа на вопрос «зачем?». Поэтому философы говорят о концептуальном пространстве и времени литературного произведения.
Однако подобная трансформация не отменяет связи, зависимости пространства художественного (или уже хронотопа?) от культурно-исторической реальности. М. А. Чехов, знаменитый актер, племянник цитированного выше писателя, метко зафиксировал характерную особенность реального пространства и назвал ее атмосферой. «Атмосфера окружает все: нас, дома, местности, жизненные события и т. д. Войдите, к примеру, в библиотеку, в церковь, на кладбище, в больницу, в антикварную лавку, и вы сразу уловите атмосферу, которая лично никому не принадлежит. Просто общая, объективная атмосфера, присущая тому или иному месту, зданию, улице. Различные пейзажи обладают различной атмосферой. Различного рода события, например карнавалы, уличные происшествия, времена года тоже имеют собственную атмосферу. Рождество, пасха, Новый год – все это имеет свою объективную атмосферу. Атмосфера как бы витает в воздухе и влияет на людей, оказавшихся в пределах ее действия»[168].
Задачей театрального представления М. А. Чехов считал воссоздание «индивидуальной атмосферы» каждого персонажа и «партитуры атмосфер, сменяющих друг друга в спектакле». Но в сущности, сходную задачу выполняют сначала драматург или сочинитель повествовательного текста. Партитура атмосфер – это смена семантически значимых, эстетически осознанных образов пространства.
В эпосе она создается чаще всего с помощью статических описаний, обычно противопоставляемых динамике повествования и прямой речи персонажей (в других концепциях описание рассматривается как вид повествования). Но «точечные», краткие характеристики пространства могут быть включены и в повествование, и даже в прямую речь героев.
Целостный образ пространства, как и все другие элементы художественного целого, возникает как интегрирующий итог динамического развертывания произведения.
В драме описания пространства обычно содержат начальные, «заставочные» ремарки, и смена хронотопа происходит, как правило, на границах действий или картин. Но опять-таки пространственные характеристики могут «прорастать» в диалоги и монологи персонажей.
Об усадьбах на берегу «колдовского озера», судьбе позабытой декорации, в которой игралась пьеса о «мировой душе», постоялом дворе, где остановилась Заречная, и других пространственных образах «Чайки» мы узнаем не из авторских ремарок, а из общения персонажей.
В «Вишневом саде» ни одна сцена не происходит в вишневом саду! Цветущие вишневые деревья лишь упоминаются в начальной ремарке первого действия, причем когда их никто не видит, потому что «окна в комнате закрыты». Тем не менее объемный образ вишневого сада как главного героя пьесы, реального объекта и символического воплощения красоты, гармонии, счастья возникает в разговорах, спорах, воспоминаниях, грезах персонажей.
Конкретизация пространственных образов происходит путем включения в мир произведения более или менее подробного описания разнообразных вещей и предметов.
«Художественные предметы – это те мыслимые реалии, из которых состоит изображенный мир литературного произведения и которые располагаются в художественном пространстве и существуют в художественном времени», – формулирует А. П. Чудаков, связывая предмет не только с пространством, но и со временем, то есть включая его в по-бахтински понимаемый хронотоп.
Перечень, система изображенных предметов образуют предметный мир, или вещный мир, произведения.
А. П. Чудаков специально подчеркивал, что при рассмотрении художественного предмета приходится «временно абстрагироваться от стоящих за денотатами слов», то есть художественный предмет находится по ту сторону слова, за словом.
Правда, с точки зрения исследователя, роль слова в поэзии и прозе (точнее говоря, в лирике и эпосе) существенно различна. «В стихе художественный предмет слит именно с этим словом, неотрывен от него, остается с ним и в нем. <…> В прозе же слово, нарисовав предмет, из сознания уходит, оставив наследство в виде несловесных образов»[169].
Любопытно, что М. М. Бахтин, рассуждая об имманентном преодолении слова в эстетическом объекте, использовал пример как раз не из эпического, а из лирического произведения: «Если бы мы сделали попытку определить состав эстетического объекта произведения Пушкина „Воспоминание“:
Когда для смертного умолкнет шумный день И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет ночи тень… и т. д., —мы сказали бы, что в его состав входят: и город, и ночь, и воспоминание, и раскаяние, и проч. – с этими ценностями непосредственно имеет дело наша художественная активность, на них направлена эстетическая интенция нашего духа: этическое событие воспоминания и раскаяния нашло эстетическое оформление и завершение в этом произведении <…> но отнюдь не слова, не фонемы, не морфемы, не предложения и не семантические ряды: они лежат вне содержания эстетического восприятия, то есть вне художественного объекта, и могут понадобиться лишь для вторичного научного суждения эстетики… <…>
Компонентами эстетического объекта данного произведения являются, таким образом: „стогны града“, „ночи тень“, „свиток воспоминаний“ и проч., но не зрительные представления, не психические переживания вообще и не слова. Причем художник (и созерцатель) имеет дело именно с „градом“: оттенок, выражаемый церковнославянскою формою слова, отнесен к этико-эстетической ценности города, придавая ей большую значительность, становится характеристикой конкретной ценности и как таковой входит в эстетический объект, то есть входит не лингвистическая форма, а ее ценностное значение»[170].
Предметы в эпическом и лирическом произведении для М. М. Бахтина ничем не отличаются друг от друга: они располагаются по ту сторону слова, в поле конкретно, непосредственно воспринимаемых ценностей, становятся элементами эстетического объекта (художественного мира).
«Город» и «град» – это не разные слова, а разные предметы, разные хронотопы.
Важным свойством предметного мира является его плотность, густота. Если предметы в описании выстраиваются в ряды, нанизываются, идут сплошным потоком, их называют подробностями. Единичную подробность, подчеркнутую, поданную крупным планом, обычно определяют как деталь.
В русской литературе писателем, который мыслил перечнями, воспроизводил многочисленные подробности, создающие впечатление чрезвычайно насыщенного, плотного вещного мира, был Гоголь. Практически любое его описание в «Мертвых душах» распухает, громоздится, разрастается сравнениями, уходит в бесконечность. Таковы изображения города, дороги, помещичьих усадеб, даже покупок одного из героев
«Он <Ноздрев> купил кучу всего, что прежде всего попадалось на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупитчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду насколько хватало денег».
Предметный мир Чехова, напротив, строится на акцентированной, выделенной, психологически или символически подчеркнутой детали. Хрестоматийным стало знаменитое «горлышко бутылки», трижды использованное Чеховым: в рассказе «Волк», в письме брату, наконец, в пьесе «Чайка» для характеристики различий писательских манер Треплева и Тригорина.
«Треплев… (Зачеркивает.) Начну с того, что героя разбудил шум дождя, а остальное вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко… У него на плотине блестит горлышко бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет луны, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в ароматном воздухе…»[171]
Тригоринскому приему детализации Чехов противопоставляет набор треплевских поэтических подробностей. Дело, однако, не в том, что их много («длинно»), а в том, что они не «изысканны», а банальны.
Новое треплевское начало (герой просыпается от шума дождя) отличается не только переходом от подробностей к детали, но и важной для самого Чехова естественностью, простотой. В этом смысле Треплев делает шаг к тригоринским приемам и становится, кроме того, похож на автора «Чайки», для которого и «горлышко бутылки» не было пределом краткости.
И. А. Бунин вспоминает, что Чехов жаловался ему, как трудно описывать море, и «чудесной» называл фразу из школьного сочинения: «Море было большое»[172]. Однако ни в «Огнях», ни в «Даме с собачкой» он не достигает этого предела, предлагая достаточно развернутые описания[173].
Самый элементарный способ обозначить пространство, место действия – это его назвать. Часто это происходит в первых же строчках произведения. «Я ехал на перекладных из Тифлиса» («Герой нашего времени»). – «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все» («Невский проспект»). – «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка…» («Мертвые души»). – «В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов» («Обломов»). – «Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства» («Ионыч»).
Легко заметить, что художественные топонимы прежде всего делятся на реальные и вымышленные.
В первом случае для писателя важна достоверность, отсылка к знакомым и читателю реалиям, на основе которых в случае удачи возникает художественная мифология пространства, его особая атмосфера.
В русской литературе ХIХ века в этом смысле повезло только одному городу – новой столице. Пушкин (первая глава «Евгения Онегина», «Медный всадник», «Пиковая дама»), Гоголь («Петербургские повести»), Достоевский («Белые ночи», «Преступление и наказание», «Идиот»), затем Андрей Белый («Петербург»), Блок (лирика и «Двенадцать»), Ахматова (лирика и «Поэма без героя») создали грандиозное образное единство «особый „Петербургский“ текст, точнее, некий синтетический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели»[174].
Москва, вечная соперница Петербурга, в ХIХ веке так и не удостоилась своей мифологии. «Московский текст» начинается, пожалуй, только с «Мастера и Маргариты».
Что же касается русских провинциальных городов и деревни, то здесь писатель чаще всего обращается к вымышленным топонимам, причем поданным с разной степенью условности.
В сатирических, условных, ориентированных на фольклор произведениях возникают «говорящие», экспрессивно-оценочные названия: Глупов в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, Скотопригоньевск в «Братьях Карамазовых» Достоевского, «Горелово, Неелово, Неурожайка тож» в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова.
Авторы произведений, ориентированных на жизнеподобие, предпочитают названия с неявной семантикой: Крутогорск в ранних «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина (ср. выше более поздний Глупов), Старгород в «Соборянах» Лескова, Калинов в «Грозе» и Бряхимов в «Бесприданнице» А. Н. Островского, «Городок Окуров» М. Горького.
Привычными для русской литературы ХIХ века были города N/NN («Мертвые души», «Кто виноват?» А. И. Герцена, «Ася» И. С. Тургенева) или С. как условное символическое обозначение любого провинциального города (кроме цитированного «Ионыча», это место действия одной из глав «Дамы с собачкой»; «В городе С.» называется одна из киноинсценировок Чехова).
Самый распространенный детализированный образ пространства – пейзаж: «описание природы, шире – любого незамкнутого пространства внешнего мира»[175].
При втором, широком, понимании все виды пространственных изображений в литературном произведении можно свести к оппозиции пейзаж – интерьер (описание внутренних, замкнутых пространств) или даже более обобщенно: открытое – замкнутое пространство[176].
«Литературное произведение – это пейзаж на столе. Пейзаж – это литературное произведение на земле»,[177] – афористически формулировал старый китайский автор.
Отождествление пейзажа со всем литературным произведением, конечно, явное преувеличение. Самостоятельное, доминирующее место пейзаж занимает лишь в так называемой пейзажной лирике, в некоторых эссе, очерках («Лес и степь» Тургенева, «Глаза земли» и многие другие вещи М. М. Пришвина).
Чеховская «Степь» – большая повесть, «степная энциклопедия», в которой движение пейзажа не сопровождает сюжет, а само является сюжетом, оказывается в этом отношении исключением, уникумом. Обычная роль пейзажа – служебная, подсобная. Он «обслуживает» другие уровни художественного мира.
Функционально этот элемент хронотопа можно свести к трем основным, вырастающим друг из друга и взаимосвязанным типам: объективно-изобразительный (живописный), психологический и символический пейзаж.
Первый тип пейзажа – основной, базовый, эстетически не маркированный. Картина природы воспроизводится ради нее самой, показывая словесное мастерство писателя (живопись в слове) и создавая пространство для развертывания очередного эпизода действия. Таковы пейзажи «Евгения Онегина», воспроизводящие годовой природный цикл (пространство здесь «втягивается в движение времени», то есть становится хронотопом), гоголевское описание степи в «Тарасе Бульбе» («Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..» – по-читательски восхитился Белинский, позабыв о своих критических обязанностях), многие заставочные тургеневские и чеховские пейзажи.
Однако в разных произведениях, от фольклорной лирики до современных романов, картина природы может перерастать исходную изобразительную функцию и становиться пейзажем души.
На так называемом психологическом параллелизме, уподоблении или контрастном сопоставлении пейзажа и человеческих чувств, отраженном и в синтаксической структуре, часто строится народная песня («Ах, кабы на цветы не морозы, / И зимой бы цветы расцветали, / Ох, кабы на меня не кручина, / Ни о чем бы я не тужила») и литературные лирические жанры («Клен ты мой опавший» и многое другое у Есенина).
Параллелизм как специальный прием встречается и в эпических жанрах (впервые увиденные героем горы в «Казаках»; двойное описание дуба в «Войне и мире» как отражение разных состояний Андрея Болконского до и после первой встречи с Наташей Ростовой; сад и кладбище в «Ионыче» тоже как два контрастных состояния души главного героя).
Наконец, пейзажный образ может перерасти и психологическую функцию, стать обобщением-символом, реализацией существенных сторон авторского смысла произведения.
Таковы тютчевские «Фонтан» («Смотри, как облаком живым / Фонтан сияющий клубится. <…> О смертной мысли водомет, / О водомет неистощимый!») и «Весенняя гроза» (выбрасывая последнее четверостишие о «ветреной Гебе» в школьных хрестоматиях, символическое произведение о вечном обновлении природы превращают в «просто» пейзажную картинку).
Ненавязчиво, неявно символичны буран в «Капитанской дочке» (из него Гриневу впервые является Пугачев) и снежная буря в «Бесах» (не случайно строки этого пушкинского стихотворения Достоевский сделал эпиграфом своего одноименного романа). Навязчиво символична, скорее аллегорична морская буря в «Песне о Буревестнике» М. Горького (призыв в конце «Пусть сильнее грянет буря!» имеет в виду революцию).
Сложным, многосторонним образом-символом является центральный образ последней чеховской драмы «Вишневый сад». Здесь, как и в других случаях, обобщающая значимость пространственного образа подчеркнута вынесением его в заглавие. Точно так же поступает Чехов в повестях «Степь» и «В овраге», Гончаров в «Обрыве» («Страсти крут обрыв», – пошутит потом Маяковский), Платонов в «Котловане».
Можно отметить, наконец, два противоположных способа включения пейзажа в мир произведения. В одних случаях описание имеет четкие границы, увидено сквозь строки отдельной главы, эпизода, стихотворной строфы, драматической ремарки. В других – пейзаж имеет диффузный характер, собираясь в процессе развертывания текста из мимолетных локальных упоминаний.
С наибольшей чистотой, в предельных вариантах продемонстрировал эти установки Чехов. Сделав в «Степи» пейзаж главным героем повести, расширив его до границ целого произведения, во многих других случаях он сжимал его до детали или немногочисленных тщательно отобранных подробностей.
«По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер a propos <кстати, к случаю>. Общие места, вроде „Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч… „Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“ – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина, – объясняет он и в качестве положительного примера упоминает деталь, которая потом перейдет в „Чайку“ (см. выше). – Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д.»[178].
По аналогии с пейзажем как изображением «нерукотворного» естественного пространства возникает понятие городской (урбанистический) пейзаж – описание открытого пространства цивилизации как второй природы. Основные его функции совпадают с функциями пейзажа сельского. В русской литературе он существует преимущественно в рамках уже упомянутого «петербургского текста»[179].
В разнородном материале урбанистических пейзажей отчетливо различимы две основные тенденции, контрастные пейзажу пейзанскому. С одной стороны, попытка показать «зори новой красоты» цивилизации как второй природы, с другой – ужас перед «адищем города» (Маяковский), отчуждающим человека от «первой природы», от других, от самого себя.
Художественное время Бежит или тянется?
Время обычно представляется сущностной, глубинной характеристикой бытия и в то же время – загадочной, почти мистической, с трудом поддающейся определению.
Время больше пространства. Пространство – вещь. Время же, в сущности, мысль о вещи. Жизнь – форма времени. Карп и лещ — сгустки его. И товар похлеще — сгустки. Включая волну и твердь суши. Включая смерть, —размышляет/поет даже треска у И. Бродского[180].
Литературный образ, как мы помним, имеет временную природу, поэтому в его структуре время присутствует по-разному.
Время – форма потенциального бытия, существования литературного текста, о чем мы уже отчасти говорили в связи с жанрами. Новелла и роман требуют не только различных энергетических усилий от писателя, но и «короткого» и «длинного» восприятия. Еще отчетливее это различие в случаях театральной интерпретации, скажем, водевиля и многоактной комедии. Даже разный темп исполнения не может уравнять эти структуры до неразличимости.
Однако и такое внешнее, формальное, читательское время текста тоже зависимо от содержательной структуры произведения, от изображенного времени: рассказ или поэма могут восприниматься как утомительно длинные, роман – коротким, прочитанным взахлеб, на одном дыхании.
Подобные читательские установки объясняются психологическими закономерностями восприятия реального времени, хорошо описанными Т. Манном в романе «Волшебная гора» (здесь, как и во многих других случаях, литературное описание вполне достоверно и не уступает научному). Смысл сформулированного Манном парадокса – в разной скорости проживаемого и вспоминаемого времени.
«При интересности и новизне содержания „время бежит“, другими словами – такое содержание сокращает его, тогда как однообразие и пустота отяжеляют и задерживают его ход». Однако в обратной перспективе, при взгляде на прошедшее «в крупных масштабах» восприятие принципиально меняется: «Годы, богатые событиями, проходят гораздо медленнее, чем пустые, бедные, убогие; их как бы несет ветер, и они летят. <…> При полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетела бы незаметно»[181].
Сходный феномен можно отметить и в литературном восприятии. Быстрым кажется авантюрное время плутовского или приключенческого романа, но их действие потом можно много и подробно пересказывать. Медленным представляется время хроникального рассказа или очерка, где событийность приобретает чисто количественный, механический характер.
Все эти проблемы, однако, связаны с малоизученной психологией читателя: при другом горизонте восприятия, напротив, плутовской роман может показаться однообразным нанизыванием однородных эпизодов, а короткий чеховский «бессобытийный» рассказ – богатым нюансами и психологической динамикой. Опорное для данной теории понятие «интересности и новизны содержания» вряд ли допускает однозначную интерпретацию.
Предметом эстетического исследования, соотнесенным с художественным пространством, должно стать не читательское время восприятия, а время изображенное, событийное – время мира.
Существенными характеристиками событийного времени являются продолжительность и прерывность/непрерывность.
Продолжительность – хронологические границы действия, расстояние между первым и последним событием. Она может быть сравнительно небольшой (как правило, в новелле или рассказе) или охватывать несколько десятилетий (в семейном романе о жизни нескольких поколений), не говоря уже о фантастической литературе с ее путешествиями во времени, где дистанция между нижней хронологической точкой (обычно это авторская современность) и основным временем действия измеряется веками или даже тысячелетиями (действие романа Е. Замятина «Мы» происходит в ХХIХ веке, незаконченный роман-утопия В. Ф. Одоевского называется «Год 4338»).
Аналогичной с фантастикой структурой времени, только ориентированной ретроспективно, отличается временной континуум «Мастера и Маргариты»: расстояние между романом Мастера и романом о Мастере составляет здесь без малого две тысячи лет – всю историю мира после Рождества Христова.
Однако сплошное временное изложение невозможно по причинам как психологическим, так и эстетическим. В ранней «Истории вчерашнего дня» Л. Толстой с присущим ему гиперболизмом заявил: «Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать»[182]. Наверное, из-за невозможности такого непрерывного описания «История…» так и осталась незаконченной.
Событийное время изображается, как правило, фрагментарно: подробно развернутые эпизоды-сцены чередуются с суммарным, кратким описанием других временных фрагментов или просто умолчанием. Во вступлении к «Медному всаднику» два пейзажа («На берегу пустынных волн…» и «…юный град, / Полночных стран краса и диво») соединяются всего лишь полустихом: «Прошло сто лет…»
Сжатие времени путем его разнообразной фрагментации – привычный, немаркированный, конвенциональный признак художественного мира. Процитируем еще раз Т. Манна. «Они полезны и необходимы, – говорит он о пропусках в повествовании, словно отвечая Л. Толстому, – ибо долго совершенно невозможно рассказывать жизнь так, как она когда-то рассказывала себя самое. К чему это привело бы? Это привело бы к бесконечности и было бы выше человеческих сил. Кто задался бы такой целью, тот никогда не кончил бы, но, обезумев от подробностей, увяз бы уже в начале. На прекрасном празднике повествования и воспроизведения пропуски играют важную и непременную роль»[183].
На этом фоне особенно остро воспринимаются случаи, когда время не сжимается, а путем непрерывного описания растягивается, нарушая привычные конвенции и психологические пропорции. Обычно такое изображение мотивируется пограничными психологическими состояниями персонажа, которые никто не может практически проверить.
Так часто изображает смерть Л. Толстой. Во втором севастопольском рассказе/очерке герой, офицер Праскухин, видит падающую рядом с ним бомбу. «Прошла секунда, показавшаяся часом, – бомбу не рвало. <…> Прошла еще секунда – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении». Описание этой секунды занимает полторы страницы и заканчивается ошеломляющей точкой: «Он был убит на месте осколком в середину груди»[184].
Повествовательное время кажется здесь явно растянутым по сравнению со временем реальным, но кто может это проверить и доказать?!
Еще дальше по этому пути идет роман потока сознания. Дж. Джойс в «Улиссе» изображает только один день жизни нескольких обитателей ирландского города Дублина. Но этот день за счет использования многочисленных символических аллюзий и мифологических проекций безмерно растягивается, становится моделью всей мировой истории с ее «шумом и яростью».
По-иному обстоит дело в драматическом произведении. Речь персонажей, диалог предполагает синхронизацию событийного времени и времени восприятия. С другой стороны, драматург практически лишен возможности повествовательных ускорений, сжатий и пропусков: он связан темпом, скоростью человеческой речи.
Поэтому, хотя продолжительность драматического времени может быть тоже достаточно большой («Жизнь человека» Л. Н. Андреева), реальное его изображение сводится к двум-пяти эпизодам (в зависимости от количества сцен, актов и т. д.). Фрагментация обычно происходит на границах действий или картин. «Между третьим и четвертым действием проходит два года» – ремарка, прослаивающая эти два действия «Чайки». В комедии Островского «Без вины виноватые» временной промежуток еще больше: «Между первым и вторым действиями проходит семнадцать лет» – ремарка в начале второго действия.
Классицистское требование единства драматического времени было, таким образом, небезосновательно, хотя опиралось на другие предпосылки. Течение времени внутри действия, акта или картины связано не с требованиями правдоподобия, а с природой драматического образа: пока герои говорят, время движется линейно и непрерывно.
Следующие важные характеристики художественного времени – календарь и хронология.
Календарь – внутреннее соотношение событий в художественном мире. Календарь обычно опирается на природные годовой или суточный циклы. В этом смысле, вероятно, Пушкин говорил о «Евгении Онегине»: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю»[185], – исправляя опечатку первого издания и утверждая, что его герои «домой летят во весь опор» не зимой, а летом.
Календарное время может иметь явно или неявно символический характер. В близких по концепции чеховских повестях «Огни» и «Дуэль», например, календарные приметы существенно корректируют смысловой итог произведения.
В «Огнях» ночной спор двух героев о бессмысленности жизни и пессимизме резюмируется скептической утренней репликой рассказчика: «Ничего не разберешь на этом свете» – и последней пейзажной обнадеживающей деталью: «Стало восходить солнце».
В «Дуэли», напротив, вражда персонажей заканчивается их примирением перед отъездом фон Корена на пароходе в штормящее море, его словами: «Никто не знает настоящей правды», финальным внутренним монологом Лаевского о возможности людей когда-нибудь все-таки доплыть до «настоящей правды» и скептической пейзажной деталью: «Стал накрапывать дождь» (это также последняя фраза повести).
Суждение персонажа и временная календарная примета, меняясь местами, вступают в сложные контрапунктные отношения.
Очевидно символичен и календарь «Вишневого сада»: весеннее цветение вишен, надежды на лучшее (первое действие) – бесплодные, утомительные споры в разгаре лета (второе действие) – ожидаемая развязка, продажа имения на исходе лета, 22 августа (третье действие), – отъезд героев, рубка деревьев поздней осенью, в октябре, накануне зимних холодов (четвертое действие). Достаточно мысленно нарушить, сдвинуть календарь чеховской пьесы, партитура атмосфер станет принципиально иной.
Хронология – это соотнесение времени художественного мира с историческим временем, обнаружение знаков внешнего мира в возможном мире произведения.
Основа хронологии – исторические даты, данные прямо или косвенно, с помощью разнообразных культурных отсылок (упоминание известных имен и событий).
Хронология, как многократно отмечалось, является конструктивной опорой культурно-героического романа Тургенева и вообще его метода, ориентированного на воспроизведение сиюминутной реальности, «образа и давления времени».
«Действие романа „Отцы и дети“ датировано Тургеневым с чрезвычайной точностью: Кирсанов и Базаров приезжают в Марьино 20 мая 1859 года. <…> Действие романа „Накануне“ начинается „в один из самых жарких летних дней 1853 года“, „Дыма“ – 10 августа 1862 года и т. д. Не только общественные романы, но и повести, даже анекдотические рассказы хронологизированы не менее строго; мы, например, знаем, что действие „Вешних вод“ происходит летом 1840 года, что воспоминания Санина о франкфуртских событиях относятся к зиме 1870 года; ранней весной того же 1870 года он едет за границу и возвращается в мае. Действие „Первой любви“ относится к лету 1833 года (переезд на дачу происходит 9 мая!), события „Несчастной“ отнесены к зиме 1835 года и т. д. У Тургенева нет почти ни одного рассказа без прямых или косвенных (чаще всего прямых) хронологических указаний»[186].
Тургеневскую «точную историчность», «непрерывно проведенную датировку, внешнюю и внутреннюю», Л. В. Пумпянский возводил к пушкинской школе романа: «Это своеобразное литературное явление заключается в том, что действие рассказа приурочено к определенным датам, причем автор тщательно заботится о консистентной связи этих дат на протяжении всего рассказа; дело сводится, следовательно, к точной внутренней хронологии и календарю. Как известно, эта непрерывная датировка сопутствует всему течению „Евгения Онегина“ и вообще входит в правила пушкинского повествовательного искусства»[187].
Если в общем плане исследователь прав, то его мысль о «непрерывной датировке» «Евгения Онегина» не стала общепринятой. Используя пушкинскую подсказку, литературоведы и просто читатели не раз пытались рассчитать время романа с точностью до одного дня. Оказывается, именины Татьяны падают на 12 января 1821 года, а дуэль Онегина и Ленского состоялась 14 января. Время восьмой главы романа обычно датируют весной 1825 года, чтобы получивший отповедь Татьяны герой успел, в отличие от автора, вместе с декабристами попасть на Сенатскую площадь.
Однако в подобных «точных» подсчетах много «художественной» фантазии. В них одновременно используются факты пушкинской биографии, о которых не упоминается в романе, указания в черновиках, от которых поэт потом отказался, живописные догадки о судьбе героя в тех случаях, когда он надолго исчезает из нашего и авторского поля зрения (по одной из них Онегин во время путешествия должен был, подобно Степану Разину, целых три года предводительствовать шайкой разбойников: ведь таким его видит героиня в своем вещем сне). По другим расчетам действие романа оканчивается в 1829 году, почти совмещаясь со временем его окончания.
Однако попытка понять пушкинский свободный роман как историческую хронику ведет к существенным противоречиям и неразрешимым вопросам. В таком случае герой оказывается изолированным от двух главных для его ровесников событий: Отечественной войны и формирования будущих декабристов.
Логичнее понять пушкинскую фразу о календаре в прямом и точном смысле.
«Евгений Онегин» – роман с замечательно точным изображением годового, природного цикла, но с особым отношением к истории.
Пушкин пишет не историческую хронику (как будущая «История Пугачева») и даже не исторический роман (к этому жанру принадлежит выросшая на основе «Истории Пугачева» «Капитанская дочка»), а роман свободный, роман в стихах.
Такой роман, помимо прочего, свободно обращается с историей. Воспроизводя множество передающих колорит эпохи деталей – лица, моды, предметы, даже новые слова, – Пушкин вольно располагает их в исторической рамке 1820-х годов, не привязывая к конкретным историческим событиям.
«Время романа – не столько историческое, сколько культурно-историческое, вопросы же хронологии оказываются на периферии художественного зрения поэта»[188].
Иначе обстоит дело с хронологией романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Она напоминает тургеневскую непрерывную датировку. Сопоставление многочисленных косвенных отсылок позволяет заключить, что главный герой романа родился в 1891 или 1892 году, его любимая и друзья – на рубеже восьмидесятых и девяностых. Центральные персонажи романа оказываются ровесниками Ахматовой, Маяковского, Цветаевой, Мандельштама, Булгакова, людьми последнего предреволюционного поколения.
Юрий Живаго проходит все предназначенные людям этого поколения «университеты» (мировая война, революция, война гражданская, скитания по развороченной историческими катаклизмами стране) и умирает в 1929 году из-за «отсутствия воздуха» (в речи «О назначении поэта» Блок так объяснил смерть Пушкина; Пастернак сюжетно реализует эту метафору) накануне очередного «великого перелома» сталинской коллективизации.
Но зато в этом романе есть календарные парадоксы: в эпизодах возвращения Живаго в Москву время движется назад: герои идут в Москву осенью, а появляются в городе весной 1922 года[189].
Хронологические отсылки художественного мира к реальному в русской классике настолько привычны, что В. Набоков, начиная свой последний и лучший русский роман, подвергает их легкому ироническому остранению: «Облачным, но светлым днем в исходе четвертого часа первого апреля 192… года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – не договаривают единиц) у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон…»[190]
Однако, спрятав точную историческую дату за многоточием, писатель хорошо помнил о ней. «Действие „Дара“ начинается 1 апреля 1926 года и заканчивается 29 июня 1929 года (охватывая три года из жизни Федора Годунова-Чердынцева, молодого эмигранта в Берлине)»[191] – заполнил он лакуну через много лет.
Есть писатели другого типа, для которых исторический ряд и, соответственно, хронология являются далеким фоном, а не актуальным контекстом. Мир многих рассказов и драм Чехова содержит, как мы видели, множество календарных примет, но почти лишен хронологии. Время мира конкретных чеховских произведений исторически однородно и свободно располагается в границах чеховской жизни (1860–1904) между 1861 (отмена крепостного права) и 1905 (первая русская революция) годом. Поэтому понятия «время Чехова», «чеховская эпоха» обладают, как и «пушкинская эпоха», вполне конкретным содержанием, но трудно говорить о тургеневской, достоевской или толстовской эпохах.
Календарь и хронология художественного мира находятся, таким образом, в противоречивых отношениях. Они то совместно организуют временную структуру произведения, то доминируют в той или иной степени, то взаимно нейтрализуются, как в некоторых образцах современной драмы, где, как в «пьесе Треплева», действие происходит на «голой земле», в абстрактном интеллектуальном пространстве, вне календарных и исторических ориентиров. В таком случае главной характеристикой мира оказывается сюжетное время, чистое время действия, о котором еще пойдет речь.
Хронотоп Большая пятерка
В художественном хронотопе, как мы уже знаем, время и пространство сливаются, образуя новое качество. М. М. Бахтин отмечал три главные функции хронотопов в структуре произведения: сюжетообразующую («В хронотопе завязываются и развязываются сюжетные узлы»), изобразительную («Время приобретает в них чувственно-наглядный характер; сюжетные события в хронотопе конкретизируются, обрастают плотью, наполняются кровью») и жанрообразующую («Хронотопы имеют жанрово-типический характер, они лежат в основе определенных разновидностей романного жанра, сложившегося и развивающегося на протяжении веков»)[192]. Но его исследование хронотопов имело не теоретический, а исторический характер и, подобно анализу жанров, было далеко от строгой систематичности.
«Три романных хронотопа» античности М. М. Бахтин выделял, противопоставляя авантюрное, авантюрно-бытовое и биографическое время. В рыцарском романе также видел «авантюрное время в основном греческого типа». Глава о романе Рабле называется «Раблезианский хронотоп». В специальной главе исследован также «Идиллический хронотоп в романе».
В «Заключительных замечаниях», написанных через много лет после основной части работы «Формы времени и хронотопа в романе», кратко характеризуются хронотопы:
– большой дороги («Дорога особенно выгодна для изображения события, управляемого случайностью (но и не только для такого). Отсюда понятна важная сюжетная роль дороги в истории романа»);
– замка («Замок насыщен временем, притом историческим в узком смысле слова, то есть временем исторического прошлого. <…> Историчность замкового времени позволила ему сыграть довольно важную роль в истории исторического романа»);
– гостиной-салона («С точки зрения сюжетной и композиционной здесь происходят встречи, уже не имеющие прежнего специфически случайного характера „встречи на дороге“ или в „чужом мире“, создаются завязки интриг, совершаются часто и развязки, здесь, наконец, что особенно важно, происходят диалоги, приобретающие исключительное значение в романе, раскрываются характеры, идеи и страсти героев»);
– провинциального городка («Провинциальный мещанский городок с его затхлым бытом – чрезвычайно распространенное место свершения романных событий в ХIХ веке… <…> Время здесь бессобытийно и потому кажется остановившимся. Здесь не происходят ни „встречи“, ни „разлуки“. Это густое, липкое, ползущее в пространстве время»);
– порога («…Это хронотоп кризиса и жизненного перелома. <…> В литературе хронотоп порога всегда метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицитной форме»)[193].
В книге о Достоевском порог включался в ряд образов кризисного пространства (термин хронотоп здесь отсутствует), соотносящегося с кризисным временем и приобретающего в романах Достоевского жанрообразующий смысл: «Верх, низ, лестница, порог, прихожая, площадка получают значение „точки“, где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный перелом судьбы, где принимаются решения, переступают запретную черту, обновляются и гибнут. Действие в романах Достоевского и совершается преимущественно в этих точках»[194].
Систематизировать весь этот обширный материал удастся лишь в ходе фундаментальных исследований по исторической поэтике. Только они позволят отделить доминирующие, жанро- и сюжетообразующие образы пространства и времени от частных, ситуативных, преходящих. «Мы говорим здесь только о больших объемлющих и существенных хронотопах, – специально оговаривался Бахтин. – Но каждый такой хронотоп может включать в себя неограниченное количество мелких хронотопов: ведь каждый мотив может иметь свой особый хронотоп…»[195]
В порядке предварительной гипотезы можно предложить набор «больших объемлющих и существенных» хронотопов русской литературы ХIХ века, попытаться составить хронотопическую карту русской классики (включая и некоторые явления эмигрантской литературы ХХ века, «законсервировавшей» образ прежней России).
Кажется, главных, доминантных хронотопов русской литературы насчитывается всего пять: большой город (прежде всего Петербург с его текстом и в меньшей степени Москва, которая весь петербургский период воспринималась как большая деревня) – провинциальный город – дворянская усадьба – деревня – и связывающая четыре образа русского пространства большая дорога.
Эти хронотопы дифференцируются, образуют специальные парадигмы, пространственно-временные партитуры.
Большой город, конечно, – дворянский дом или богатая квартира с гостиной-салоном, департамент, театр, ресторан, в Петербурге – Невский проспект, Медный всадник и, с другой стороны, – петербургские углы, кабак, Коломна и Сенная площадь.
Провинциальный город – снова департамент и театр, но уже с совсем иной атмосферой (сравним в этом смысле присутствие в «Шинели» и «Ревизоре» или «Мертвых душах»; театр в «Евгении Онегине» и «Даме с собачкой»), купеческий дом, бульвар.
Усадьба – та же перенесенная из городского хронотопа гостиная-салон, сад и парк со своей сложной топографией, беседками, темными аллеями.
Деревня – крестьянская изба, церковь, кладбище, кабак, окрестный пейзаж: нива, лес, река.
Большая дорога – тоже бегущий по сторонам пейзаж, мелькание людей и предметов, тройка, постоялый двор.
Каждый доминантный хронотоп имеет несколько, зачастую прямо противоположных контрастных вариантов, атмосфер.
Большой город, как уже говорилось выше, одновременно прекрасен и ужасен, представляется как порождением цивилизации, рукотворной красоты, так и местом гибели, уничтожения природы и человеческого отчуждения[196]. Получив классическое выражение в «Медном всаднике», расходясь и сливаясь, эти две эмоциональные доминанты определяют весь «петербургский текст» от В. К. Тредиаковского до И. А. Бродского.
На противоположном от большого города атмосферном полюсе (не северном, а южном!) оказывается усадьба («Дворянское гнездо», «Анна Каренина», «Обломов» – сон героя, лирика Фета, «Чайка» и «Вишневый сад», «Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева» и многие бунинские рассказы из «Темных аллей», «Дар» Набокова – воспоминания героя).
С одной стороны, усадьба предстает идиллическим местом слияния культуры и природы, дворянского дома с его семейными ценностями и сада. «Эдема сколок сокращенный»[197], – назвал усадьбу один старый поэт[198]. В других произведениях изображается оборотная сторона усадебного быта (некоторые главы «Мертвых душ», «Записки охотника» Тургенева, «Пошехонская старина» и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Суходол» и рассказы раннего Бунина, противоположные по тону усадебным картинам «Темных аллей»). Усадьба предстает здесь местом угнетения, бытового насилия, безделья и бессмысленного скопидомства.
Контраст этих образов оказывается важен для структуры «Вишневого сада». «Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад», – восклицает Аня. «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…»[199]– привычно открывает ей глаза Трофимов.
Чехов, внук крепостного крестьянина, сын разорившегося купца, интеллигент в первом поколении, оказывается способным взглянуть на усадебный хронотоп в единстве его противоречивых сторон. И он же показывает его неизбежную гибель: сад рубят, дом сломают, скоро на этом месте появятся дачи и дачники – люди города.
В аналогичном контрастном освещении предстает и хронотоп провинциального города («Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, «Губернские очерки» Щедрина, «Гроза» и «Бесприданница» Островского, многие повести и рассказы Чехова, «Городок Окуров» Горького). С одной стороны, это место повторяющихся «бываний», серости (серый – главный цвет города С., в котором живет героиня «Дамы с собачкой»), однообразия, затхлости, грошовых интересов и ничем не обеспеченных культурных претензий. С другой – мир уже утерянных в большом городе естественных человеческих связей, теплоты, окрестного пейзажа, близкого к усадебному. Хронотоп провинциального города оказывается где-то в промежутке между большим городом и усадьбой, колеблется между ними, его эмоциональное освещение меняется в зависимости от точки отсчета, от того, сверху или снизу направлен авторский взгляд[200].
Деревня в русской литературе так же тесно связана с усадьбой, как тесно связываются они в русской истории. Но она сравнительно поздно и относительно редко становилась предметом самостоятельного, автономного от усадебного хронотопа, изображения.
«Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок…» – начинает Пушкин вторую главу «Евгения Онегина» под оставшимся в черновиках заглавием «Деревня». Но изображает он, в сущности, не деревенский, а усадебный хронотоп, усадебный быт Онегина.
Гоголевские описания деревни в «Мертвых душах» тоже ситуативны, мимолетны, они лишь подготавливают образ усадьбы-раковины очередного персонажа. П. В. Анненков еще в начале 1850-х годов сомневался в способности деревенской жизни уложиться в рамки традиционных жанров: «Ограничимся при этом одним замечанием: естественный быт вряд ли может быть воспроизведен чисто, верно и с поэзией, ему присущей, в установленных формах нынешнего искусства, выработанных с другой целью и при других поводах. <…> Какой вид будет иметь свежая, оригинальная форма простонародного рассказа, мы не знаем»[201].
Прорыв в этом направлении осуществил, однако, уже Тургенев в «Записках охотника» (1847–1851). Чуть раньше появилась повесть Д. В. Григоровича «Деревня» (1846). Позднее образ деревни занимал Л. Н. Толстого («Утро помещика», «Анна Каренина»), писателей-народников («Устои» Н. Н. Златовратского, многочисленные очерки Г. И. Успенского), А. П. Чехова («Мужики», «Новая дача»), И. А. Бунина («Деревня» и многие рассказы).
С одной стороны, деревенский мир, при всей его бедности и убогости, представлялся идеалом, хранителем национальных ценностей и святынь, уже утраченных обитателями других хронотопов. С другой же – местом страданий народа, его почти первобытной дикости.
Большая дорога и связанный с ней мотив и сюжет путешествия, объединяя и связывая другие доминантные хронотопы, проходит через всю историю русской литературы («Путешествие из Петербурга в Москву», седьмая глава «Евгения Онегина», «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Кому на Руси жить хорошо», чеховские «Холодная кровь», «На пути», «Степь», платоновский «Чевенгур (Путешествие с открытым сердцем)», «Страна Муравия», «Василий Теркин» и «За далью – даль» А. Т. Твардовского). Большая дорога оказывается как местом случайных встреч, так и местом встречи старых знакомцев. Очень часто дорога становится «символическим пространством», метафорой человеческой жизни (пушкинская «Дорога жизни»).
На периферии хронотопической карты русской литературы оказываются, с одной стороны, поэтические топосы леса, степи, юга, Кавказа или Сибири – место обитания цыган и бродяг, благородных разбойников, безудержных запорожцев, вольных казаков («южные поэмы» и «Дубровский» А. С. Пушкина, лермонтовские «Мцыри», «Вадим»; «Бэла» и «Тамань» из «Героя нашего времени», «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Казаки» Л. Н. Толстого, «Соколинец» и другие сибирские рассказы В. Г. Короленко, ранние «босяцкие» рассказы М. Горького), с другой – Запад, представленный в разных иерархических отношениях и эмоциональных тонах по сравнению с обобщенным русским топосом («Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Люцерн» Л. Н. Толстого, «Зимние заметки о летних впечатлениях» и «Игрок» Ф. М. Достоевского, «За рубежом» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Вишневый сад» А. П. Чехова, «Скифы» А. А. Блока).
Четыре из пяти описанных доминантных хронотопов (за исключением усадьбы), кажется, определяют развитие литературы и прошлого, XX века. Но набор локальных хронотопов существенно меняется в связи с историческими, технологическими, культурными изменениями и сломами.
От встречной тройки или почтовой станции как места встреч на большой дороге уже в ХIХ веке происходит переход к имеющим ту же функцию вагонному купе и вокзальному перрону (роковая «случайная» встреча Анны Карениной и Вронского происходит именно там). Позднее к ним добавятся гостиничный номер, зал ожидания аэропорта, стройплощадка, лагерная пересылка (многие новеллы В. Т. Шаламова).
«Петербургские углы» в ХХ веке сменит «коммунальная квартира», один из доминантных городских хронотопов советской эпохи (М. Зощенко, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова). Функции усадьбы как медиатора, посредника между природой и культурой отчасти перейдут к даче.
Подробное исследование форм времени в хронотопе должно стать предметом уже не теоретической, а исторической поэтики. Для литературы ХХ века, советской литературы (или русской литературы советской эпохи) оно только еще начинается.
Завершая работу о «формах времени и хронотопа в романе», М. М. Бахтин ввел еще понятие творческого хронотопа, в котором происходит «обмен произведения с жизнью и совершается особая жизнь произведения», «постоянное обновление произведения в творческом восприятии слушателей-читателей», и постулировал хронотопичность самого процесса мышления: «Каковы бы ни были эти смыслы, чтобы войти в наш опыт (притом социальный опыт), они должны принять какое-то временно-пространственное выражение, то есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами (иероглиф, математическую формулу, словесно-языковое выражение, рисунок и др.). Без такого временно-пространственного выражения невозможно самое абстрактное мышление. Следовательно, всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов»[202].
Представляется, однако, что внутри общего смыслового пространства создаваемый писателем художественный хронотоп, изображенное пространство-время, прежде всего определяет специфику литературы как таковой.
Художественное мышление – это движение персонажа в мире. Как только эта связь исчезает, литература превращается в словесность, «буквенность», текст другой природы и структуры, пусть и хронотопически зафиксированный в какой-то знаковой форме. Для его анализа и интерпретации нужны уже иные категории – не те, о которых шла и дальше пойдет речь.
Всякое вступление в сферу художественного смысла совершается через узкие врата изображенного и ценностно осмысленного пространства и времени. Там, в этой трехмерной коробочке, обязательно что-то происходит.
Действие
Сюжет и фабула Как устроено действие?
Действие – развитие художественного мира во времени, последовательность событий в произведении, его динамическая структура.
Действие – еще один аспект категории времени (литература, как мы помним, искусство временно́е), вырастающий из хронотопа и приобретающий самостоятельный характер.
Философскую интерпретацию категории действия как «дифференцированной внутри себя определенности идеала, развивающейся в виде процесса»[203] предложил Гегель.
Исходное, общее состояние мира в мыслительной (спекулятивной) конструкции Гегеля – «бездейственный, вечный в себе покой», который является предельным, идеальным, вневременным состоянием бесконечного духа, неизбежно реализующимся в каких-то временных рамках.
«Распространяясь во все стороны, раскрывая себя в своих особенностях, полный, целостный дух выходит из состояния покоя и, вступая в область противоположностей запутанного земного существования, противопоставляет себя самому себе. В этом расколе он уже больше не в силах избегнуть тех несчастий и бедствий, которые неразрывно связаны со всем конечным»[204].
В прозаическом состоянии мира, которое приходит на смену божественному покою, возникают разнообразные ситуации, некие конкретные частные состояния, временные сгустки, внутренне противоречивые и обладающие поэтому способностью развития, разрыва. «Ситуация доставляет нам широкое поле для размышлений, так как с давних пор важнейшей стороной искусства было отыскивание интересных ситуаций, то есть таких, которые дают проявиться глубоким и важным интересам и истинному содержанию духа»[205].
Обнаружение и обострение противоречий в какой-то ситуации создает коллизию. «В основе коллизии лежит нарушение, которое не может сохраняться в качестве нарушения, а должно быть устранено. <…> Так как коллизия нуждается в разрешении, следующем за борьбой противоположностей, то богатая коллизиями ситуация является преимущественным предметом драматического искусства»[206] (синонимичный коллизии термин, применяемый, как правило, к драматическим структурам, – конфликт).
Гегель предложил интересную типологию коллизий (конфликтов), которая в разнообразных терминологических обличьях активно используется в литературоведении.
Коллизии первого типа имеют внешний характер, заключаются в противоречиях между индивидом и внешним миром.
«Здесь внешняя природа с ее болезнями и прочими бедствиями и слабостями приводит к нарушению обычной жизненной гармонии, что вызывает антагонизмы»[207].
Вторая группа – духовные коллизии, покоящиеся на физических основах. Это конфликты, основой которых служит физическое рождение (борьба за право престолонаследия; вражда между братьями; раздоры внутри семейств и династий; различия рождения, заключающие в себе несправедливость; борьба за привилегии и т. п.) или же «субъективная страсть, покоящаяся на природных задатках темперамента и характера»[208] (ревность, скупость, властолюбие, отчасти и любовь).
Третья группа – чисто духовные конфликты, возникающие как результат сознательных человеческих действий, свободных поступков. «И в этих коллизиях главным является то, что человек вступает в борьбу с чем-то в себе и для себя нравственным, истинным, святым, навлекая на себя возмездие с его стороны»[209].
Типология конфликтов хорошо уложилась в обычную гегелевскую триаду, однако границы между второй и третьей группой оказываются очень неопределенными, что признавал и сам философ. Ее выделение оправдывалось тем, что Гегель ориентировался на классические формы искусства (эпопея, трагедия), в которой конфликты второго рода были преобладающими.
Если же исходить из современного, прозаического состояния мира, где право рождения и коллизии, с ним связанные, занимают сравнительно скромное место, можно предложить несколько иную типологию, оставляющую первую группу в неприкосновенности, но несколько по-иному проводящую границы внутри второй и третьей групп.
Действующий индивид, Я, оказывается возмущающим фактором, выводящим мир из начального равновесия (если иметь в виду историческое развитие в целом) или создающим исходную коллизию (если говорить о конкретном произведении).
Источником движения может оказаться либо столкновение этого Я с миром (Я и ОН, Я и ОНО), либо столкновение его с другими Я (Я и ТЫ, Я и ОНИ), либо раздвоение, обнаружение противоречий внутри него самого (Я и второе Я).
Таким образом, можно говорить о внешних природных и метафизических (1), внешних социальных и социально-психологических (2) и внутренних психологических (3) коллизиях (конфликтах). Однако и первые два типа становятся предметом искусства только тогда, когда они осмысляются и психологически преломляются. «Внешние и внутренние обстоятельства, состояния и отношения превращаются в ситуацию только через душевное переживание, через страсть, которая реагирует на эти обстоятельства и сохраняется в них»[210].
«Действие образует третью ступень в том восходящем рассмотрении, которому мы следовали до сих пор. Первой ступенью было всеобщее состояние мира, второй – определенная ситуация <…> – достраивает Гегель очередную триаду. – Изображение действия как единого, целостного в себе движения, содержащего акцию, реакцию и разрешение их борьбы, составляет преимущественный предмет поэзии, ибо остальные искусства могут запечатлеть лишь один момент в развитии действия»[211].
Так от философии мы снова вернулись к поэтике; от мира как философской категории – к понятию художественный мир; от идеального покоя через ситуацию и коллизию – к действию как преимущественному предмету поэзии, словесного искусства.
Конкретным воплощением, реализацией действия оказываются сюжет и фабула литературного произведения.
Фабула была одной из центральных категорий поэтики Аристотеля: «Подражание действию есть фабула; под этой фабулой я разумею сочетание фактов… <…> Действия и фабула составляют цель трагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы. <…> Итак, фабула есть как бы основа и душа трагедии, а за нею уже следуют характеры…»[212]
Судьба этих понятий в русской поэтике неодинакова. Термин сюжет (фр. sujet – предмет) употребляется практически всеми, без различия эпох и теоретических позиций. Фабула (лат. fabula – рассказ, повествование, басня) долгое время казалась подозрительным, формалистским понятием, термином-пасынком, изгоняемым из литературы по поэтике (особенно из учебной).
«Понятие фабулы <…> не помогает нашему анализу, а лишь осложняет его. Поэтому практически в нем, с нашей точки зрения, нет надобности, и мы в дальнейшем его не употребляем»[213].
«В смысловом отношении фабула и сюжет по сути дела синонимичны. Для определения событийного аспекта произведения нет необходимости в пользовании двумя терминами. Из них нужно избрать один „сюжет“»[214].
Любопытно, что и ученые, так или иначе продолжавшие традиции формальной школы, внимательные к художественной структуре, не всегда испытывали необходимость в разграничении этих понятий.
В «Структуре художественного текста» Ю. М. Лотмана фабула присутствует лишь в цитате из «Теории литературы» Б. В. Томашевского (см. далее). Лотман оперирует понятием сюжет, мимоходом упоминая и бессюжетные тексты. Не понадобилась эта оппозиция и исследователю исторической поэтики новеллы: Е. М. Мелетинский тоже использует термин сюжет, часто синонимически заменяя его общим понятием действие[215].
Теоретики формальной школы, напротив, настаивали на четком различении сюжета и фабулы. В первом издании «классической по точности формулировок» (Ю. М. Лотман) книги Б. В. Томашевского сказано: «Фабулой называется совокупность событий, связанных между собой, о которых сообщается в произведении. Фабула может быть изложена прагматически, в естественном, хронологическом и причинном порядке событий, независимо от того, в каком порядке и как они введены в произведении. Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них». В примечании к этому месту формулировка сокращается и тем самым уточняется: «Кратко выражаясь, фабула – это то, „что было на самом деле“, сюжет – то, „как узнал об этом читатель“»[216].
Видимо, это двойное определение не удовлетворило автора. В последующих изданиях текст был значительно расширен, но примечание исчезло, а определения стали более ясными и краткими: «Совокупность событий в их взаимной внутренней связи и назовем фабулой. <…> Художественно построенное распределение событий в произведении именуется сюжетом произведения»[217].
В формальной поэтике, таким образом, сюжет и фабула различались то по линии искусство – действительность (фабула – жизненное происшествие, материал; сюжет – художественно построенное распределение событий), то с точки зрения хронологической (фабула – естественная, (хроно)логическая связь, сюжет – «неестественная» художественная конструкция).
При этом, во-первых, понятие сюжета как конструкции оказывалось настолько широким, что почти покрывало и вытесняло категорию композиции (специальная глава о композиции в «Поэтике» Б. В. Томашевского отсутствует); во-вторых, оппозиция «как было на самом деле – как рассказано» провоцировала на вопрос «где было?» (возникало странное для формальной теории представление, что писатель знает некую изначально существующую реальность фабулы, трансформируя ее в сюжет; на самом деле эту «реальность» вычитывали из сюжета, чтобы затем с ним же ее сопоставлять); в-третьих, при отсутствии установки на конструкцию понятия фабулы и сюжета практически совпадали (не случайно В. Б. Шкловский утверждал, что ранний Чехов представляется формально более совершенным, чем Чехов поздний; у Чехонте существовали разнообразные приемы развертывания сюжета, Чехов от них практически отказался, предпочитая «естественную, хронологическую связь» «жизненного происшествия»).
Более продуктивным, причем не отменяющим формалистское понимание фабулы, а практически вбирающим его, оказывается понимание фабулы и сюжета, корни которого уходят в литературную практику ХIХ века и которое позволяет непротиворечиво объяснять разнообразные литературные факты, даже не имеющие прямого отношения к действию.
В четком разграничении сюжета и фабулы нам помогают Островский и Чехов[218].
«Оригинальным признается всегда драматическое произведение, в котором сценариум и характеры вполне оригинальны. Этого довольно: фабула в драматическом произведении дело неважное, но только фабула, а не сюжет. Под сюжетом часто разумеется уж совсем готовое содержание, то есть сценариум со всеми подробностями, а фабула есть краткий рассказ о каком-нибудь происшествии, случае, рассказ, лишенный всяких красок»[219].
Определения Островским драматических сюжета и фабулы применимо и к эпическим жанрам, и к той группе лирических (лиро-эпических), которая связана с повествовательным развертыванием переживания. Разграничительным признаком здесь оказывается не хронология, а полнота, объем, степень подробности излагаемых событий.
Фабула – краткий пересказ, схема, повествовательное резюме мира произведения. «Фабула может быть сведена к нескольким фразам, описывающим события сжато» (П. Пави).
Из этого простого определения вытекает несколько важных следствий.
Фабула может вырастать из реальности, из рассказа о каком-нибудь жизненном событии или происшествии, хотя она является частью художественного мира.
Фабула может заимствоваться, произведения разных времен и народов опираются на сходные фабулы (так называемая «теория бродячих сюжетов» на самом деле имела в виду бродячие фабулы), но это почти ничего не говорит об их эстетической природе, потому что фабула сама по себе – «дело неважное».
Фабула как схема в значительной степени уравнивает литературные роды, большие и малые жанры. Повествование и драматический диалог, роман и рассказ, водевиль и пятиактная трагедия в своей фабульной ипостаси предстают в форме короткого линейного, хронологического повествования (истории), не очень отличающегося по объему. Фабулы «Дамы с собачкой» и «Анны Карениной», в отличие от самих произведений, будут почти соизмеримы.
Фабула допускает транспонирование в разные виды искусства. Кино, театр в разных его видах, включая оперу и балет (либретто), живопись (так называемый «жанр» – сюжетная картина), музыка (программная) могут опираться на одну и ту же фабулу.
Сжатие, краткость, схематичность фабулы тем не менее имеет свои пределы. «Резюме повествования (если оно ведется согласно структуральным критериям) поддерживает индивидуальность сообщения» (П. Пави). Другими словами, фабула допускает сжатие лишь до такой схемы, в которой узнается описываемый ею мир. Если этот принцип нарушается, нужно, вероятно, говорить о другом (глубинном, абстрактном?) уровне действия и использовать иную терминологию.
Когда В. Б. Шкловский в «Развертывании сюжета» отождествил фабулу «Евгения Онегина» и любовь Ринальда и Анджелики в относящейся к ХV веку рыцарской поэме М. Боярдо «Влюбленный Роланд», сведя дело лишь к разнице мотивировок (через много лет он объяснял сравнение как непонятую шутку), В. М. Жирмунский резонно возразил: «Мы могли бы присоединить сюда же известную басню о журавле и цапле, где осуществляется та же сюжетная схема в „обнаженной“ форме: „А любит Б, Б не любит А; когда же Б полюбил А, то А уже не любит Б“. Думается, однако, что для художественного впечатления „Евгения Онегина“ это сродство с басней является весьма второстепенным и что гораздо существеннее то глубокое качественное различие, которое создается благодаря различию темы <…> в одном случае Онегина и Татьяны, в другом журавля и цапли»[220].
Фабула, таким образом, в какой-то степени должна включать отсылки к другим уровням мира – пространственно-временному и персонажному.
Тем не менее попытки (под влиянием метода В. Я. Проппа в «Морфологии сказки») рассматривать действие предельно абстрактно регулярно повторяются в работах по поэтике. Для французского структуралиста К. Бремона «логика повествовательных возможностей» сводится к последовательности таких действий: «Улучшение, ухудшение, возмещение: петля повествования теперь затянута, открывается возможность ухудшений, за которыми следуют новые возмещения по циклу, который может повторяться неограниченное число раз. Каждая из этих фаз сама может развертываться до бесконечности»[221].
Конечно, К. Бремон описывает не фабулу как структурный элемент мира произведения, а скорее фабулу фабулы, формулу, комбинаторную схему, слишком абстрактную для анализа отдельных произведений. Ни о какой «индивидуальности сообщения» говорить здесь невозможно. В «логический мешок» с надписью «улучшение – ухудшение – возмещение» поместятся уже не только «Евгений Онегин», «Влюбленный Роланд» и басня о журавле и цапле, но и вся мировая литература. Даже в стереотипных, «формульных» жанрах фабульная схема окажется конкретнее.
Для корректного изложения фабулы необходимо четко представлять ее структуру. Вопрос о фабульных единицах и, шире, о членении уровня действия оказывается весьма непрост.
А. Н. Веселовский в наброске «Поэтики сюжетов» определял единицу сюжета (термин фабула он не использовал, хотя речь шла фактически о фабуле) как мотив: «Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. <…> Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения-мотивы… <…> Сюжеты – это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности»[222].
Веселовский предлагал и модель, демонстрирующую переход мотива в сюжет: «Простейший род мотива может быть выражен формулой a + b: злая мачеха не любит красавицу – и задает ей опасную для жизни задачу. Каждая часть формулы способна видоизменяться, особенно подлежит приращению b; задач может быть две, три (любимое народное число) и более; по пути богатыря будет встреча, но их может быть и несколько. Так мотив вырастал в сюжет…»[223]
Понятие мотива как простейшей повествовательной единицы вслед за Веселовским использовали формалисты. «Путем <…> разложения произведения на тематические части мы, наконец, доходим до частей неразлагаемых, до самых мелких дроблений тематического материала. „Наступил вечер“, „Раскольников получил письмо“, „Герой умер“, „Получено письмо“ и т. п. Тема неразложимой части произведения называется мотивом. В сущности, каждое предложение обладает своим мотивом»[224].
С помощью категории мотива Б. В. Томашевский, в отличие от А. Н. Веселовского, еще раз разграничивает понятия фабула и сюжет: «Мотивы, сочетаясь между собой, образуют тематическую связь произведения. С этой точки зрения фабулой является совокупность мотивов в их логической пространственно-временной связи, сюжетом – совокупность тех же мотивов в той последовательности и связи, в которой они даны в произведении. Для фабулы неважно, в какой части произведения читатель узнает о событии и дается ли оно ему в непосредственном сообщении от автора, или в рассказе персонажа, или системой боковых намеков. В сюжете же играет роль ввод мотивов в поле внимания читателя. Фабулой может служить и действительное происшествие, не выдуманное автором. Сюжет есть всецело художественная конструкция»[225].
Сходной точки зрения придерживались Б. И. Ярхо («Если мотив есть образ в действии, то действие это выражается сказуемым (глагол или nomen actionis), например, „герой сватается“ или „сватовство героя“»[226]) и вслед за ним – М. Л. Гаспаров («Мотив – это всякое действие, то есть потенциально каждый глагол»[227]).
Ц. Тодоров называет минимальные единицы повествования повествовательными предложениями и предлагает, как и Веселовский, записывать их в виде формул: Змей похищает царскую дочь – Z похищает X[228].
Однако такое понимание не является общепризнанным. В. Я. Пропп в «Морфологии сказки» показал, что мотив в смысле Веселовского не минимален: он разлагается на отдельные функции.
Главная же проблема в том, что при уравнивании мотива с отдельным предложением или глаголом мы, как и в случае с миром-существительным (о чем шла речь раньше), теряем его как универсальное аналитическое понятие. С ним возможно работать при анализе лирических произведений. Но разобраться в мотивах даже небольшого повествовательного текста или обычной драмы будет трудно, потому что число их окажется велико.
Характерно, что Ц. Тодоров формирует из повествовательных предложений «более крупную единицу повествования»: «Предложения не образуют бесконечных цепочек; они объединяются в циклы, которые интуитивно распознаются любым читателем (у него возникает ощущение законченного целого) и которые вполне поддаются аналитическому описанию. Эта более крупная единица называется эпизодом; граница эпизода помечается неполным повторением (вернее, трансформацией) начального предложения»[229].
С нашей точки зрения, именно эпизод оказывается минимальной единицей действия, которая несет структурные свойства целого. Действие, таким образом, членится на эпизоды, которые, в свою очередь, представляют такую же многоуровневую структуру, как и произведение в целом; их, следовательно, можно анализировать с помощью той же системы понятий.
Членение на эпизоды не просто интуитивно производится читателем, но часто подсказано самим текстом. В драме эти единицы обычно обозначаются как явления или сцены и выделяются по появлению/уходу отдельных персонажей, смене места действия или темы. Даже когда собственно авторское деление на явления или сцены отсутствует (как в поздней драме Чехова), оно легко восстанавливается по данным в пьесе индикаторам-указателям.
В повествовательной лирике такой функциональной единицей обычно становится строфа или группа строф.
В эпическом тексте аналогичный смысл имеет деление на главы, главки, разделенные пробелами фрагменты и т. п. Опять-таки, если такое авторское деление отсутствует, его можно доказательно реконструировать.
Выделенный эпизод можно озаглавить, ответив на вопрос «Что здесь происходит?» (в эпических текстах это часто делает сам автор), и назвать эту сжатую формулировку смысла темой или мотивом. Но это будет уже «схема», краткий пересказ развернутого повествовательного или драматического фрагмента, мотив как аналитическая интегрирующая единица, а не как смысл отдельного предложения.
Кстати, примеры, приводимые Б. В. Томашевским («Раскольников получил письмо» и пр.), – это мотивы в таком обобщенном понимании. Даже если они всего лишь заимствованы из текста, они не только представляют себя (мотив-предложение), но передают смысл фрагментов-эпизодов.
Помимо и в зависимости от конкретной темы, эпизоды имеют определенную функцию в структуре действия. Общее его членение было ясно уже Аристотелю и исходило из аналогий между искусством и реальным действием (это могло быть и действие мифа), которому оно подражает. «Нами принято, что трагедия есть подражание действию, имеющему известный объем, – ведь бывает целое и не имеющее объема, – рассуждал Аристотель. – А целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим, а <напротив>, за ним естественно существует и возникает что-то другое. Конец, наоборот, есть то, что само естественно следует за чем-то по необходимости или по большей части, а за ним не следует ничего другого. Середина же то, что и само за чем-то следует, и за ним что-то следует. Итак, нужно, чтобы хорошо сложенные сказания не начинались откуда попало и не кончались где попало, а соответствовали бы сказанным понятиям»[230]. (Парадоксальной корректировкой глубокомысленного рассуждения древнего философа может служить вопрос Козьмы Пруткова: «Где начало того конца, которым оканчивается начало?»)
В соответствии с намеченными Аристотелем фазами драматического действия выделяются элементы фабулы, ее части, которые можно связать и с гегелевскими категориями, о которых шла речь выше.
Универсальная «фабульная пятичленка» такова.
Экспозиция (лат. expositio – изложение, объяснение) – эпизод-характеристика исходной ситуации и основных параметров мира (место и время, персонажи). В экспозиции есть ответы на вопросы, с кем, где и когда будет что-то происходить, но вопрос о том, что произойдет, остается пока неясным.
Завязка – непосредственное начало действия, эпизод перерастания ситуации в коллизию, отчетливое обнаружение некоего противоречия, появление возмущающего фактора, первого в структуре действия вдруг.
Развитие действия – цепь конфликтных эпизодов-вариаций, вытекающих из завязки, разнообразные узлы, перипетии, переломы, переходы от счастья к несчастью и наоборот (все эти термины есть в «Поэтике» Аристотеля). Развитие действия – самый протяженный и неопределенный участок фабулы, о котором часто просто забывают. Любопытный конфуз произошел с учебным «Словарем литературоведческих терминов» советской эпохи. В одной из статей, как и положено в словаре, есть перекрестная отсылка: «Действие см. Развитие действия». Посмотрев в указанном направлении, мы обнаружим, что между раешным стихом и развязкой ничего нет. Упоминание о развитии действия (но не определение понятия) обнаруживается лишь в статье Сюжет[231].
Кульминация (от лат. culmen – вершина) – высшая точка развития действия, самый большой конфликтный узел, последнее и главное событийное ВДРУГ (если первым считать вдруг завязки). Этот эпизод фабулы в малых жанрах часто называют пуантой (англ. point – точка, острие).
Развязка – заключительный эпизод, разрешение конфликта, подведение итогов.
Завязка, кульминация и развязка в развертывании действия обычно соотносятся между собой: в кульминации достигает высшей точки, затягивается в тугой конфликтный узел, а в развязке разрешается, исчерпывается именно то событие, которое обозначилось в завязке.
Изложенную схему можно представить в виде «фабульной гусеницы».
Сюжеты фабульные и бесфабульные Как сделана «Курочка Ряба»
Корректный, «правильный» пересказ фабулы предполагает предварительную аналитическую работу: выявление и адекватное представление ее частей, элементов.
В простых, малых эпических жанрах действие может сводиться к голой фабуле с минимальным числом осложняющих элементов.
Взглянем с этой точки зрения на известную сказку «Курочка Ряба».
«Жили-были дед да баба, была у них курочка Ряба» – экспозиция, исходная ситуация, изображающая – явно по Гегелю! – беспроблемное бытие, чистую длительность.
«Снесла курочка яичко, не простое, а золотое» – завязка, нарушение равновесия, возникновение коллизии, первого вдруг: яичко оказывается золотым.
«Дед бил-бил – не разбил. Бабка била-била – не разбила» – развитие действия, перипетии, которые включают всего два однородных звена.
«Мышка бежала, хвостиком махнула – яичко упало и разбилось» – кульминация, пуанта, новое вдруг: яичко, которое тщетно пытались разбить дед и баба, разбивается от случайного прикосновения. В основе этого вдруг – контраст между большим и малым, между сознательностью усилий и случайностью, приводящей к неожиданному результату.
«Плачет дед, плачет баба, а курочка говорит: „Не плачьте, я снесу вам другое яичко, не золотое, а простое“» – развязка, намек на восстановление исходного равновесия, возвращение к прежнему состоянию мира.
Обратимся к более сложному жанру, в котором тем не менее фабула выявляется с такой же чистотой и наглядностью, – рассказу А. П. Чехова «Смерть чиновника»[232].
Мир чеховского текста членится на восемь коротких эпизодов с четко определяемыми темами или мотивами (в том понимании, о котором шла речь выше).
Чиновник Червяков: сидит в театре (1) – внезапно чихает на лысину генерала (2) – извиняется в зале (3) – извиняется в антракте (4) – говорит с женой и готовится к новому извинению (5) – извиняется в департаменте (6) – приходит к генералу с последним извинением, провоцируя его гнев и собственный ужас (7), – возвращается домой и помирает (8).
Очевидно, что первый эпизод (1) – экспозиция, в которой представлены место и время, главный персонаж и его исходное состояние: «В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на „Корневильские колокола“. Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства».
Переход к завязке (2) акцентируется Чеховым, включает – при всей краткости текста – эстетическое размышление о ее природе: «Но вдруг… В рассказах часто встречается это „но вдруг“. Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел глаза, нагнулся и… апчхи!!!»
Завязкой оказывается не сам момент чихания, который изображен крупно, замедленно, с явной иронией и сопровождается псевдофилософским размышлением о всеобщей природе чихания (это еще ситуация, отсюда действие может пойти в разных направлениях), а его конкретные обстоятельства: чиновник чихнул на лысину чужого начальника, который ничем ему не угрожает.
Развитие действия здесь тоже серийно и сводится к четырем кратким эпизодам, объединенным мотивом извинения (3–6).
Затем следует кульминация (7) – последнее извинение надоедливого Червякова и генеральский неожиданный гнев: «– Пошел вон!!! – гаркнул вдруг (новым вдруг Чехов акцентирует кульминационный эпизод. – И. С.) посиневший и затрясшийся генерал. – Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. – Пошел вон!!! – повторил генерал, затопав ногами».
Дальше следует столь же неожиданная развязка (8): «В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер».
«На всякий чих не наздравствуешься». В применении к чеховскому произведению эта пословица приобретает приблизительно такой вид: «За всякий чих не наизвиняешься». Результаты невольного чиха Червякова оказались неожиданными. «Верх блаженства» в завязке обернулся нелепой смертью в развязке. Причем умирает (помирает!) чиновник от собственного страха перед начальством.
Фабулу чеховского произведения можно выразить в виде «формулы», где каждая часть представлена ключевым глаголом-мотивом: сидел-глядел (экспозиция) – чихнул (завязка) – извинялся 4 раза (развитие действия) – смертельно испугался, ужаснулся (кульминация) – помер (развязка).
Что такое «Смерть чиновника» в жанровом отношении? Безусловно, новелла. Мы можем, таким образом, уточнить ее определение, данное в предыдущей главе. Новелла – не просто «свершившееся неслыханное событие» (Гёте), но такое событие, представленное в особой структуре действия.
Новелла – малый фабульный эпический жанр, противопоставленный в этом отношении другим малым жанрам, к которым мы вернемся чуть позже.
Теперь же от описания фабулы перейдем к выяснению природы сюжета. Для Островского, как мы помним, он включал «уж совсем готовое содержание», «сценариум со всеми подробностями».
Сходное понимание было свойственно и некоторым формалистам. «Дело в том, что одно фабула, другое сюжет, – замечал Ю. Н. Тынянов. – Фабула – это статическая цепь отношений, связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произведения. Сюжет – те же связи, отношения в словесной динамике»[233].
На аналогичном разграничении строился и анализ гоголевского сюжета в книге А. Белого «Мастерство Гоголя»: «Особенность сюжета Гоголя: он не вмещается в пределах, обычно отмежеванных ему; он развивается „вне себя“; он скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, в ритме… <…> Сюжет врос в расцветку; его „что“ – на три четверти в „как“; вне „как“ – какая-то безруко-безногая фабула…»[234]
Понятие схемы действия (фабулы) и его подробностей (сюжета) есть уже, собственно, и в поэтике Аристотеля, хотя он не использует соответствующую терминологию: «В драмах эпизоды кратки, а эпопея ими растягивается; так содержание Одиссеи кратко: некто много лет странствует вдали от отечества, за ним следит Посейдон, и он находится в одиночестве, а его домашние дела между тем в таком положении, что женихи истребляют его имущество и злоумышляют против его сына; сам он возвращается после бурных скитаний и, открыв себя некоторым, нападает <на женихов>, сам спасается, а врагов уничтожает. Вот собственно содержание <поэмы>, а все прочее эпизоды»[235].
Сюжет, таким образом, – динамическая сторона содержания, семантика не избранных, как в фабуле, а всех эпизодов художественного мира, рассмотренных с точки зрения развития действия.
Из этого определения, как и в случае с фабулой, следует несколько существенных постулатов.
Сюжет полнее, обширнее фабулы. Привычными являются рассуждения об отступлениях в «Евгении Онегине», лирических отступлениях в «Мертвых душах» и т. п. В «Мертвых душах» есть и выделенная как новелла в романе «Повесть о капитане Копейкине» со своей фабулой, и подробная биография Чичикова, с точки зрения фабулы излишняя, ибо она включена в структуру не романа становления, а романа-поэмы (недаром ее место не в начале, а в последней, одиннадцатой главе). Все это – отступления от фабулы, от краткой схемы, являющиеся тем не менее важной частью сюжета, определяющие его специфику.
Сюжет может расширяться и путем сочетания фабул (иногда в таких случаях используют термин сюжетная линия). Сюжет «Невского проспекта» складывается из развернутого описания «героя», обозначенного в заглавии, истории художника Пискарева и истории поручика Пирогова. Сюжет «Анны Карениной» – из постоянного контрапунктного соотнесения «фабулы Анны» и «фабулы Левина».
Фабула плюс разнообразные эпизоды-вставки, фабула плюс фабула – вот распространенные формулы сюжета.
Сюжет, кроме того, может расподобляться с фабулой за счет разных повествовательных субъектов и мотивировок повествования. Историю «героя нашего времени» мы узнаем от разных рассказчиков: Максима Максимыча («Бэла»), неназванного повествователя («Максим Максимыч»), наконец, самого Печорина («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»). В фабульном изложении того, «что было на самом деле», противоположности рассказчиков сгладятся, окажутся несущественными. В сюжете именно они выйдут на первый план.
Точно так же для фабулы будет несущественно, рассказана ли история в форме писем («Бедные люди»), дневника («Дневник лишнего человека») или внутреннего монолога («Кроткая») и т. п. Для сюжета «событие рассказывания», «расцветка», «словесная динамика» приобретают важное значение, часто отодвигая в сторону саму фабулу.
Кроме того, в таком понимании категория сюжета приобретает универсальный характер, охватывая все три литературных рода. «Бессюжетное лирическое стихотворение» (Ю. М. Лотман) невозможно, ибо без словесной динамики не существует ни одно произведение литературы как временного искусства.
Чтобы подчеркнуть специфику лирики как субъективного рода, иногда используют понятие лирический сюжет, который, в отличие от сюжетов в эпосе и драме, воссоздается пунктирно, по немногочисленным акцентированным деталям. К лирике в большей степени применимо то определение мотива как смысла отдельного предложения или глагола (Ярхо, Томашевский), о котором мы уже говорили. Причем анализ показывает, что даже так называемые «безглагольные стихи» тем не менее воссоздают временную динамику и в указанном выше смысле сюжетны[236].
Некоторые исследователи находили возможным применять и к лирическому роду (причем не только к повествовательной балладе) понятие фабула: «А: некто дает другому яд; В: некто дает другому яд; А 1: этот „другой“ невыносимо страдающий и безнадежно больной; В 1: этот „другой“ совсем не страдающий, но богатый дядя. Высказывания А и В совершенно одинаковы по содержанию и совершенно различны по устремлению; устремление же становится явным из сопоставления с другими высказываниями. В каждом высказывании наличествуют две стороны: содержание и устремление. Условимся называть содержание фабулой и устремление темой. Одна и та же фабула может быть истоком различных тем. Фабула осенней непогоды в сопоставлении с фабулой пылающего камина и ковров прорастает темой уюта; в сопоставлении с фабулой шагающего по пустырям бродяги прорастает темой бездомности; в сопоставлении с фабулой весеннего неба – темой тоски об ушедшем и милом былом и т. д.»[237].
И далее Г. Шенгели активно использует понятие фабулы в анализах, выделяя в композиции лирического произведения особый фабульный ярус – системное сочетание отдельных фабул. Можно было бы, конечно, в этом контексте заменить термин фабула гегелевской ситуацией или говорить о предметных деталях, но термин, избранный Г. Шенгели, лучше передает временную динамику лирического образа и объединяет разные литературные роды. Но тогда и тему (в смысле Г. Шенгели) как сочетание фабул, последовательность образов мы можем назвать лирическим сюжетом, восстанавливая однородность терминологии.
Итак, сюжет всегда больше и сложнее фабулы. Он включает «фабульную пятичленку» плюс разнообразные эпизоды, основанные на свободных мотивах.
«Мотивы произведения бывают разнородны. При простом пересказе фабулы произведения мы сразу обнаруживаем, что можно опустить, не разрушая связности повествования, и чего опускать нельзя, не нарушив причинной связи между событиями. Мотивы не исключаемые называются связанными; мотивы, которые можно устранять, не нарушая цельности причинно-временного хода событий, являются свободными. Для фабулы имеют значение только связанные мотивы. В сюжете же иногда именно свободные мотивы („отступления“) играют доминирующую, определяющую построение произведения роль»[238].
Но бывают ли такие произведения, в которых все мотивы становятся свободными или, другими словами, сюжет «отменяет», «уничтожает» фабулу?
Ответ на вопрос давно готов у Чехова: «Чем проще фабула, тем лучше»[239]; «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать»[240].
Даже если под сюжетом Чехов понимает то, что чаще называют темой, предметом изображения («Взял бы я сюжетом жизнь ровную, гладкую, обыкновенную, какова она есть на самом деле» – в том же письме Лейкину), то его вкусы в области действия не вызывают сомнений: простота, доходящая до «нулевой фабулы».
Замечательное чеховское рассуждение припомнил А. И. Куприн: «Он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. „Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Иванович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии“»[241].
Чехов был прекрасным пародистом, сочинившим несколько десятков образцовых пародий (на детективный рассказ, идейную драму, научно-фантастический роман в духе Жюля Верна и т. п.). И в разговоре с Куприным он виртуозно, в одной фразе воспроизводит фабулу авантюрного романа (что-то вроде «Таинственного острова» того же Жюля Верна), осложненную любовными и философскими мотивами (самоубийство любимой, примирение с людьми). Этой фабульной роскоши он противопоставляет простую, «скучную историю»: они любили друг друга, поженились и были несчастливы (воспоминания еще одного современника).
В поздних чеховских вещах дело не доходит и до этого простого события, плюс заменяется минусом: Дмитрий Ионыч Старцев не женится на Екатерине Ивановне («Ионыч»), художник – на Мисюсь («Дом с мезонином»), а Наденька Шумина не выходит замуж ни за своего скучного жениха, ни за влюбленного в нее учителя Сашу («Невеста»). Или торжествует совсем элементарная схема ехали – приехали, приехал – уехал: «Почта», «Холодная кровь», «На пути», «Степь», «На подводе», «Случай из практики», «По делам службы».
Чеховская острота простоты особенно хорошо стала видна с некоторого расстояния – хронологического, географического и эстетического. Английская писательница В. Вулф, теоретик модернизма, в программной статье «Современная литература» наряду с Дж. Джойсом вдруг вспоминает Чехова как писателя с особым интересом к «темным глубинам психологии».
«Только нашему современнику – возможно, только русскому – интересен случай, описанный Чеховым в рассказе „Гусев“. В судовом лазарете парохода, возвращающегося в Россию, лежат больные русские солдаты. Мы слышим обрывки разговоров, догадываемся, о чем они думают; потом один солдат умирает, его уносят прочь. Следуют еще несколько реплик, и вот умирает сам Гусев: его тело, похожее „на морковь или редьку“, швыряют за борт. Акценты в рассказе расставлены таким непривычным образом, что поначалу кажется – их нет вовсе; только когда глаз постепенно привыкает к полутьме, какая бывает под вечер в комнате, и все приобретает резкие очертания, только тогда мы понимаем всю меру завершенности рассказа, всю его глубину, всю точность соответствия его замыслу Чехова: писатель берет то-то, то-то и то-то и компонует все по-новому. Назвать рассказ комическим или трагическим нельзя: более того, мы даже не уверены, можно ли его и рассказом-то назвать – слишком все неясно и отрывочно, и потом, нас всегда учили, что рассказ должен быть сюжетным и законченным»[242].
Что же происходит с действием в чеховской теории и практике? Как перевести эти наблюдения в систему понятий, которую мы развиваем?
Специфику фабульного строения, «фабульной гусеницы» определяет, если всмотреться, кульминация, катастрофа (в трагедии), новеллистическая пуанта. Именно от высшей точки отсчитываются завязка и развязка.
При отбрасывании, уничтожении кульминации «фабульная гусеница» превращается в червяка, закрученная событийная спираль – в прямолинейную проволочную линию, причинно-следственная связь эпизодов – в хронологическую последовательность, четко обозначенные мотивы-действия («Кто изобретет новые концы для пьесы, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы! Герой или женись или застрелись, другого выхода нет», – шутит Чехов) – в поток подробностей-событий (акценты расставлены непривычным образом).
Чехов предлагает теорию бесфабульного сюжета и многократно реализует ее на практике, причем особенно эффектно и эффективно – в драме, где события чем дальше, тем отчетливее уходят в закулисное пространство, растворяются в жизненном потоке (современники шутили, что в чеховских пьесах четырежды ничего не происходит, то есть каждое действие воспринималось не как само событие, а как тщетное ожидание, отсутствие его)[243].
Чуть позднее Чехова сходные идеи высказывал и практически реализовал в своих рассказах американец Ш. Андерсон: «В американской литературе господствовало мнение, что рассказ следует строить вокруг интриги, и нелепое англосаксонское требование, чтобы рассказ имел „мораль“, очищал нравы, воспитывал честных граждан и прочее. Журналы были полны рассказами с интригой, и большинство наших театров ставили пьесы с интригой. „Ядовитая интрига“, – называл я ее в беседах с друзьями, так как требование интриги, по моему мнению, отравляло литературу. Я считал, что нужна не интрига, а форма – вещь гораздо менее уловимая и доступная…»[244]
Истоки такого принципа развертывания действия можно усмотреть уже у Аристотеля, противопоставившего просто случайные события как источник фабулы событиям, кажущимся необходимыми: «Ведь и среди нечаянных событий удивительнейшими кажутся те, которые случились как бы нарочно: например, как в Аргосе статуя Мития упала и убила виновника смерти этого Мития, когда тот смотрел на нее; такие события кажутся не случайными»[245].
Статуя, убивающая убийцу изображенного человека, – эффектный фабульный ход (типологически сопоставимый с фабулой «Дон Жуана»). Статуя, как кирпич, падающая на голову случайного человека, – слабая эпизодическая фабула, «в которой эпизоды следуют друг за другом без вероятия и необходимости».
В англоязычных работах по теории сюжета часто используется пример из «Аспектов романа» Г. Форстера: «Фабула – это повествование о событиях в их временной последовательности. <…> Сюжет – это также повествование о событиях, но при этом основное ударение делается на их причинной взаимосвязи. „Король умер, а затем умерла королева“ – это фабула. „Король умер, и королева умерла от горя“ – сюжет»[246].
Это типологически сходный с аристотелевским пример, но с инверсией терминов.
С нашей точки зрения, фабульным является как раз второе высказывание, а первое представляет «чеховский» тип сюжета, не включающий случай, событие в причинно-следственный фабульный ряд, а видящий в нем манифестацию «жизни врасплох».
Такое строение действия стало в литературе ХХ века весьма распространенным, было перенесено в другие искусства (театр повседневности, фильм без интриги) и существенно потеснило традиционные фабульные структуры.
«Пассажир»[247] В. В. Набокова начинается с литературной беседы: писатель жалуется критику, что жизнь талантливее литературы, ее произведения непереводимы и непередаваемы, а сочинителям в угоду публике приходится выкраивать из ее «свободных романов» «аккуратные рассказики». В подтверждение писатель рассказывает бытовую историю: поездка в поезде – внезапное ночное пробуждение и созерцание ноги появившегося на верхней полке соседа – второе пробуждение от страшных ночных рыданий случайного спутника – утренняя остановка на перегоне, сообщение о находящемся среди пассажиров убийце жены и ее любовника – появление в вагоне сыщиков, проверяющих документы. «Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчетливо поблагодарил, вышел из купе, вошел в следующее. Вот и все».
Потом начинается обсуждение возможных литературных отражений этой истории. «А ведь, казалось, как вышло бы великолепно – с точки зрения писателя, конечно, если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы, – и главное, как великолепно все бы это уложилось в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее».
Критик не соглашается и защищает права искусства, вымысла, логической целесообразности: «Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но много и необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данных случайностей вы смогли бы сделать вполне завершенный рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу».
Писатель, однако, продолжает настаивать на авторском праве жизни: «Да-да, я думал об этом. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда не узнаю…»
«Пассажир» – история, «героями» которой оказываются литературные жанры, рассказ-манифест, рассказ о рассказе и новелле, сюжете и фабуле.
Аристотелевская коллизия воспроизводится и у Набокова, но знаки оценки принципиально меняются. Критик – современный Аристотель, сторонник фабулы и новеллы как эффектного фабульного повествования. Писатель – чеховианец, защитник сюжета и рассказа как незамкнутого бесфабульного повествования.
Но «завершенный рассказ» критика в набоковской интерпретации парадоксально оказывается более прозаичным, предсказуемым, скучным, чем «рассказ без конца», который подбросил писателю талантливый автор-жизнь.
Фабульный и бесфабульный сюжеты становятся полюсами, между которыми движется литература последнего века.
Разные типы авантюрного романа, детектив, фантастика и другие «формульные» жанровые семейства, новелла, сказка, трагикомедия, мелодрама, хорошо сделанная пьеса – огромная область фабульного повествования. Жизнь, в них изображенная, предстает приключением, загадкой, имеющей в развязке обязательную разгадку.
Рассказ чеховского типа (его иногда называют русским рассказом), психологические повесть и роман, очерк, эссе, разные виды биографической и автобиографической прозы, «неаристотелевская» драма (традиции которой опять-таки идут от Чехова) – бесфабульные или «малофабульные» жанры и формы. Они исходят из концепции жизни как тайны, которую можно подсмотреть в ее обычных, естественных формах, но вряд ли можно поймать в клетку фабулы и понять до конца.
«Создавая сюжетные тексты, человек научился различать сюжеты в жизни и, таким образом, истолковывать ее»[248].
Может быть, дело обстояло и наоборот: человек сначала научился структурировать жизнь, извлекая из нее истории, а потом сделал их литературой. Причем видеть фабулы он начал намного раньше, чем воспринимать жизнь сюжетно.
На этот вывод наталкивают наблюдения писателя и педагога А. С. Макаренко о специфике детского восприятия литературы: «Мы находим возможным по отношению к сюжету и фабуле предложить такую формулу: сюжет должен по возможности стремиться к простоте, фабула – к сложности. <…> Сюжет „Преступления и наказания“ или „Анны Карениной“ – сюжеты слишком сложные для молодого опыта. Эти сюжеты предполагают большое знание у читателя в области духовной жизни. <…> Фабула, то есть схема событий, внешних столкновений и борьбы, наоборот, может быть сколь угодно сложна и действенна. Если сюжет прост, книга не боится в таком случае никаких фабульных ходов, никакой таинственности, прерванных движений, таинственных остановок»[249].
Закон обратной пропорциональности фабулы и сюжета, вероятно, соблюдается не только в индивидуальном развитии читателя (онтогенезе), но и в «родовом», историческом развитии литературы (филогенезе). Движение к простоте и исчезновение фабулы компенсируются усложнением сюжета, требующим активной читательской работы, поиском сделанных писателем акцентов на самых неожиданных местах.
Психолог А. М. Левидов, отталкиваясь от замечания Ф. Энгельса о живости и богатстве действия в драмах Шекспира, пытался придать этим понятиям универсальный характер: «Под живостью действия мы понимаем динамику событий, смену ситуаций, активное участие персонажей в развитии сюжета, их „движение“ в самом прямом смысле этого слова. Движение здесь внешнее. Богатство действия в нашем понимании – движение внутреннее, связанное со сменой мыслей, идей, различных эмоциональных состояний, – движение, приводящее к глубокому раскрытию сложной внутренней жизни человека»[250].
При таком понимании можно говорить о живости как свойстве фабулы и богатстве как характеристике сюжета. Естественно, эти качества могут сочетаться в одном произведении (романы Достоевского) и должны рассматриваться не в оценочном, а в аналитическом плане.
Сюжет и фабула, порой конфликтуя, сосуществуют не только в отдельном произведении, но и в литературной истории. Богатые сюжетные структуры, исторически развивающиеся позже живых, но бедных фабульных, вовсе не дискредитируют и не отменяют их. Однако в историческом развитии действия можно заметить не только сдвиг от фабулы к сюжету, но и экспансию сюжета на другие уровни художественной структуры.
Для Аристотеля главным элементом трагедии было все-таки действие, сказание: «Но самое важное – состав происшествий, так как трагедия есть подражание не людям, но действию и жизни, счастью и злосчастью, а счастье и злосчастье заключаются в действии, и цель <трагедии> – какое-нибудь действие, а не качество; люди же бывают какими-нибудь по своему характеру, а по действиям счастливыми или наоборот. Итак <поэты> выводят действующих лиц не для того, чтобы изобразить их характеры, но благодаря этим действиям они захватывают и характеры; следовательно, действия и фабула составляют цель трагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы»[251].
Позднее сюжет произведения мог строиться на чем угодно: на словесной игре, партитуре хронотопов, но чаще всего – на психологической динамике изображенных героев.
Система персонажей вырастает из действия, но перерастает его.
Персонажи (герои)
Определение и номинация литературного персонажа/героя От Скотинина до Иванова
Подобно жанру, сюжету и фабуле, термин и понятие герой используются в разнообразных контекстах и понимаются крайне неоднозначно. «В этом отношении до сих пор царит полный хаос в эстетике словесного творчества и в особенности в истории литературы. Смешение различных точек зрения, разных планов подхода, различных принципов оценки встречается на каждом шагу. Положительные и отрицательные герои (отношение автора), автобиографические и объективные герои, идеализированные и реалистические, героизация, сатира, юмор, ирония; эпический, драматический, лирический герой, характер, тип, персонаж, фабулический герой, пресловутая классификация сценических амплуа: любовник (лирический, драматический), резонер, простак и проч. – все эти классификации и определения его совершенно не обоснованы, не упорядочены по отношению друг к другу, да и нет единого принципа для их упорядочения и обоснования. Обычно эти классификации еще некритически скрещиваются между собой»[252].
М. М. Бахтин констатировал такое положение вещей почти столетие назад и пытался «внести строгий порядок в формально содержательное определение видов героя, придать им однозначный смысл и создать неслучайную систематическую классификацию их» на основании одного критерия: тотальной реакции автора на героя, принципа ви́дения героя как целого.
Этот принцип приобрел у М. М. Бахтина скорее не теоретико-литературный, а философский характер, породив классификацию не героев, а способов объективации авторского сознания в определенных видах как литературных, так и «жизненных» текстов: поступок, самоотчет-исповедь, автобиография, лирический герой, биография, характер, тип, положение, персонаж, житие[253]. Легко заметить, что эта классификация не вносит строгий порядок в прежние, а добавляется к ним, придает определениям героя еще одно измерение.
Работа Бахтина не была завершена и появилась лишь в 1979 году, уже после смерти ученого. Но и тогда, в отличие от других бахтинских идей, она не получила большого резонанса. В «структуралистские» 1970-е годы, как и в «формалистские» 1920-е, всякие разговоры о герое казались устаревшими.
«Временами мы рассуждаем о Сарразине (герое одноименной новеллы О. де Бальзака. – И. С.) так, словно этот человек реально существовал, словно у него было будущее, было свое бессознательное, своя душа; между тем речь идет всего лишь об образе (о безличной конфигурации символов, собранных под этикеткой имени собственного: Сарразин), а вовсе не о личности (воплощении духовной свободы, источнике человеческих мотивов и смыслового избытка); наша задача – проследить коннотации, а не произвести расследование; мы стремимся не к тому, чтобы узнать правду о Сарразине, а к тому, чтобы понять систематику некоего (промежуточного) текстового фрагмента: мы выделяем (с помощью имени Сарразин) этот фрагмент затем, чтобы он включился в круг нарративных алиби, в систему „неразрешимых“ смыслов, вошел в область множественных кодов, – строго обрывал себя Р. Барт, отрицая как раз то, на чем строилась классификация М. М. Бахтина, – смысловое целое героя. – Не романическое начало, а персонаж – вот что утратило силу в современном романе; появление в нем Имени Собственного более невозможно»[254].
А чуть раньше, в той же работе, посвященной медленному чтению бальзаковского текста, Барт почти повторял раннего В. Шкловского: «Персонаж, таким образом, есть не что иное, как продукт комбинаторики; при этом возникающая комбинация отличается как относительной устойчивостью (ибо она образована повторяющимися семами), так и относительной сложностью (ибо эти семы отчасти согласуются, а отчасти и противоречат друг другу). Эта сложность как раз и приводит к возникновению „личности“ персонажа, имеющей ту же комбинаторную природу, что и вкус какого-нибудь блюда или букет вина»[255].
С тех пор ситуация мало изменилась. Наша задача будет заключаться не в том, чтобы предложить еще одну окончательную классификацию (она, вероятно, принципиально невозможна), но в попытке (как и в главе о жанрах) прояснить принципы, обозначить направления, в которых можно исследовать категорию героя в структуре художественного мира.
Поиск структурного определения героя приходится вести между двумя крайностями.
Для наивного, «детского» читательского восприятия (о нем шла речь в конце предыдущей главы), «реальной» критики, традиционного академического литературоведения второй половины ХIХ – начала ХХ века персонаж был живым человеком, «взятым» (или почти взятым – типизированным) из жизни и оцениваемым поэтому по этическим критериям. С таким представлением связаны обязательные поиски прототипов (адресатов пушкинской любовной лирики или «новых людей» Тургенева, Чернышевского), укоренившиеся квалификации положительных и отрицательных героев, суды над литературными персонажами и (косвенно) над их создателями.
Университетский профессор в начале прошлого века мог спросить на экзамене, правильно ли поступила Татьяна, выйдя замуж за генерала (такой анекдот вспоминал один бывший студент С. А. Венгерова).
Философскую основательность и символическую неопределенность придал проблеме персонажа поэт и мистик, сын писателя Д. Л. Андреев. В его трактате «Роза мира» описывается «многослойная Вселенная» видимых и невидимых подземных и небесных миров, в одном из которых метапраобразы героев мировой литературы и искусства встречаются и продолжают отношения со своими создателями: «После смерти в Энрофе художника-творца метапраобразы его творений в Жераме видят его, встречаются с ним, общаются, ибо карма художественного творчества влечет его к ним. Многим, очень многим гениям искусства приходится в своем посмертии помогать праобразам героев в их восхождении. Достоевский потратил громадное количество времени и сил на поднимание своих метапраобразов, так как самоубийство Ставрогина и Свидригайлова, творчески и метамагически продиктованное им, сбросило пра-Ставрогина и пра-Свидригайлова в Урм. К настоящему моменту все герои Достоевского уже подняты им: Свидригайлов – в Картиалу, Иван Карамазов и Смердяков достигли Магирана – одного из миров „Высокого долженствования“. Там же находятся Собакевич, Чичиков и другие герои Гоголя, Пьер Безухов, Андрей Болконский, княжна Марья и с большими усилиями поднятая Толстым из Урма Наташа Ростова. Гётевская Маргарита пребывает в одном из высших слоев Шаданакара, а Дон Кихот давно вступил в Синклит Мира, куда скоро вступит и Фауст. <…> Для человека с раскрывшимся духовным зрением и слухом встреча с тем, кто нам известен и нами любим как Андрей Болконский, так же достижима и абсолютно реальна, как и встреча с великим человеческим духом, которым был Лев Толстой»[256].
«Вижу как живого», – фигурально говорят о героях Толстого. Д. Андреев не только оживил своих любимых героев, придал им онтологический статус, но и подарил им бессмертие.
Жестокую борьбу с персонажем, оскорбление его действием начали формалисты (многие из них были учениками Венгерова). Герой не существует, он делается – вот их главный постулат. Сделан Акакий Акакиевич (он – продукт соединения комического и мелодраматического сказа), сделан Онегин (он – отступление в романе отступлений), а уж Дон Кихот…
«1) Тип Дон Кихота, так прославленный Гейне и размусоленный Тургеневым, не есть первоначальное задание автора. Этот тип является как результат действия построения романа, так как часто механизм исполнения создавал новые формы в поэзии. 2) Сервантес в середине романа осознал уже, что, навьючивая Дон Кихота своею мудростью, он создал двойственность в нем; тогда он использовал или начал пользоваться этой действительностью в своих целях»[257].
«Герой вовсе не является необходимой принадлежностью фабулы. Фабула как система мотивов может и вовсе обойтись без героя и его характеристики. Герой является в результате сюжетного оформления материала и является, с одной стороны, средством нанизывания мотивов, с другой – как бы воплощенной и олицетворенной мотивировкой связи мотивов»[258], – несколько парадоксально заключал Б. В. Томашевский главу о герое, в которой шла речь и о положительных и отрицательных героях, и о способах их характеристики, и об эмоциональном авторском задании.
Если в наивно-реалистическом представлении герой разрывал границы мира и «отменял» все художественное произведение, то в формальной теории литературы (как впоследствии у структуралистов и деконструктивистов) он, напротив, сам отменялся как особая художественная инстанция, уровень художественного мира, превращаясь (наряду с остранением и торможением) в прием-мотивировку.
Фабулу характеру противопоставлял уже Аристотель. Некоторые его суждения выглядят вполне по-формалистски: «Кроме того, без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна; трагедии очень многих новейших поэтов – без характеров»[259]. Но здесь речь шла не о «сокращении штатов» (Ю. Н. Тынянов) за счет персонажа, а о художественной доминанте. Персонажей греческие драматурги заимствовали из реальности мифа, которую отменить было невозможно. Поэтому далее в «Поэтике» о драматических характерах как необходимой части трагедии говорится почти столь же подробно, как и о фабуле.
Свою теорию литературного персонажа М. М. Бахтин строит между этими двумя полюсами – натуралистическим отождествлением героя с реальным человеком и формальным отождествлением с композиционным приемом. Его собственной классификации, о которой шла речь выше, предшествуют опирающиеся на глубокую эстетическую традицию общие формулировки и определения.
Героя М. М. Бахтин рассматривает как особую смысловую инстанцию, «смысловое целое», без которого художественное творчество невозможно: «Герой, автор-зритель – вот основные живые моменты, участники события произведения…»[260]
Герой в его особых напряженно-противоречивых отношениях с автором определяет специфику художественного видения: «Эстетическое событие может совершиться только при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная речь, похвальное или благодарственное слово, брань, самоотчет-исповедь и проч.); когда же героя вовсе нет, даже потенциального, – познавательное событие (трактат, статья, лекция); там же, где другим сознанием является объемлющее сознание Бога, имеет место религиозное событие (молитва, культ, ритуал)»[261].
Герой, таким образом, подобно хронотопу, оказывается границей художественного целого: исчезает герой как «другое сознание» – искусство превращается в этику, науку, религию.
Бахтин защищает уравновешенную, среднюю позицию между объективно-натуралистическим, онтологическим (герой – реальный человек) и чисто эстетским (герой – средство нанизывания мотивов) пониманием героя.
Персонаж – часть «мира художественного творчества», отличного от «мира мечты и действительной жизни»; он создан автором-созерцателем, живописно-пластически оформлен и эстетически завершен. Однако в этой эстетической активности автора, его власти над героем есть свои пределы: «Там, где художник с самого начала имеет дело с эстетическими величинами, получается сделанное, пустое произведение, ничего не преодолевающее и, в сущности, не создающее ничего ценностно-весомого. Героя нельзя создать с начала и до конца из чисто эстетических элементов, нельзя „сделать“ героя, он не будет живым, не будет „ощущаться“ его чисто эстетическая значимость. Автор не может выдумать героя, лишенного всякой самостоятельности по отношению к творческому акту автора, утверждающему и оформляющему его. Автор-художник преднаходит героя, данным независимо от его чисто художественного акта, он не может породить из себя героя, такой был бы не убедителен»[262].
Являясь частью художественного мира, герой тем не менее обладает «упорствующей реальностью», «упругостью», смысловой самодостаточностью. Но в то же время он не просто пребывает, существует в художественном мире, а строится, развивается, конструируется. Следовательно, могут быть определены не только его тематические, но и композиционные функции.
В тематическом аспекте персонажем (героем) мы будем называть любого субъекта, участвующего в развитии действия, сюжета.
Указание на связь с сюжетом важно, ибо в условных и аллегорических жанрах (сказка, басня, фантастические жанры) персонажами могут стать не только люди, но и животные, предметы, даже аллегорические понятия. Для этого они должны быть выделены, «вырезаны» из хронотопа, предметного мира и переведены на уровень действия.
Чубарый, гнедой и каурый, кони чичиковской тройки, с которыми общается кучер Селифан, – не персонажи, а часть предметного окружения, детали гоголевского хронотопа, наряду с чичиковской шкатулкой и расползающимися, как раки, дорогами. Дуб в «Войне и мире», который видит князь Андрей, тоже часть пейзажа, становящаяся образом-символом. Действующим лицом, персонажем его можно назвать лишь метафорически.
Толстовский Холстомер в одноименной повести – уже полноценный персонаж, как и другие его знакомые по конскому табуну. Он получает право голоса, вокруг него выстраивается сюжет. В аналогичной роли оказываются деревья, предметы, игрушки в баснях Крылова, сказках Андерсена и пр.
Персонаж в художественном мире, независимо от его жизненного аналога, – это всегда одушевленный субъект – «кто?».
В литературоведческой семиотике вместо терминов «персонаж» или «герой» иногда используется понятие актант – «предмет (или существо), совершающее акт (действие) или подвергающееся действию»[263]. Однако конкретная его интерпретация – включение его в глубинную нарративную структуру, актантную модель, – позволяет увидеть в нем не просто героя как часть художественного мира, а его обобщенную функциональную характеристику. «Актанты существуют лишь теоретически или логически в логической системе действия или нарративности»[264].
Актанты, следовательно, – это логические, структурные архетипы, которые исследователь выявляет в персонажах. Актанты располагаются на ином структурном уровне по сравнению с пластически изображенными и участвующими в развитии сюжета героями (о чем еще пойдет речь).
Четкую структурную характеристику персонажа, опираясь на опыт формалистов и одновременно преодолевая его, предложила Л. Я. Гинзбург: «Литературный персонаж – это, в сущности, серия последовательных появлений одного лица в пределах данного текста. <…> Повторяющиеся, более или менее устойчивые признаки образуют свойства персонажа. <…> Единство литературного героя не сумма, а система, со своими организующими ее доминантами. Литературный герой был бы собранием расплывающихся признаков, если бы не принцип связи, фокус авторской точки зрения, особенно важный для разнонаправленной прозы ХIХ века»[265].
Персонаж, следовательно, одновременно и лицо, и система с определенными доминантами и авторским фокусом. Персонаж строится, динамически развертывается, последовательно проявляется, что позволяет применить к нему некоторые категории и термины, характеризующие действие.
Исходной точкой в структуре персонажа оказывается его первоначальная характеристика, «некая мгновенно возникающая концепция», формула узнавания, которую Л. Я. Гинзбург называет экспозицией героя. «Персонаж может предстать загадкой, может получить временную, ложную характеристику, но он даже временно не может быть нулевой величиной. Смысл экспозиции персонажа состоит в том, чтобы создать читательское отношение, установку восприятия, без которой персонаж не в состоянии выполнять свои функции. Поэтому самые первые его появления, первые сообщения о нем, упоминания чрезвычайно действенны, ответственны. Это индекс, направляющий, организующий дальнейшее построение»[266].
Простейшая экспозиция, минимальный индекс – имя героя.
Имена мифологических и исторических персонажей даны писателю и читателю как данность. «Древняя русская литература не знала открыто вымышленного героя, – замечает Д. С. Лихачев. – Все действующие лица русских литературных произведений ХI – ХVII вв. исторические или претендующие на историчность: Борис и Глеб, Владимир Святославич, Александр Невский, Дмитрий Донской или митрополит Киприан – все это князья, святые, иерархи церкви, люди существовавшие, высокие по своему положению в обществе, участники крупных событий политической или религиозной жизни. <…> Если в древнерусских произведениях и встречаются вымышленные лица, то древнерусский писатель стремится уверить своего читателя в том, что эти лица все же были. Вымысел – чудеса, видения, сбывающиеся пророчества – писатель выдает за реальные факты, и сам в огромном большинстве верит в их реальность»[267].
Условное, неисторическое имя, следовательно, важный знак разделения вымысла и реальности, одна из примет рождения новой литературы.
В случае вымышленных персонажей имя (мы имеем в виду все три его составляющие – фамилию, имя и отчество) становится важнейшей формулой узнавания, часто определяющей всю структурную характеристику героя.
В зависимости от соотношения экспозиции героя с последующими формами его проявления, с его целостной характеристикой можно наметить трехступенчатую типологию имен: говорящие имена, звуковые имена и нейтральные, эстетически не отмеченные имена.
Говорящие имена обычно в этимологии, внутренней форме (здесь используются и святцы, и латинский и греческий фонд имен, и субстантивация экспрессивно окрашенной лексики) содержат главный характеристический принцип персонажа, который впоследствии многократно обыгрывается и подтверждается. В «Недоросле» Фонвизина есть мудрый Стародум, чистосердечный Правдин, свиноподобный Скотинин, простодушно-грубая госпожа Простакова. Основной конфликт комедии, исходная расстановка персонажей, деление их на два лагеря очевидны уже при чтении афиши.
Так же прозрачно именуются многие персонажи «Горя от ума» (Молчалин, Скалозуб, Репетилов от фр. repeter – повторять, Тугоуховские), «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина (Прыщ, Угрюм-Бурчеев), драм Островского (Дикой и Кабаниха в «Грозе», Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты), ранних рассказов Чехова (уже знакомый нам, смертельно боящийся начальства Червяков в «Смерти чиновника», полицейский надзиратель Очумелов в «Хамелеоне», унтер Пришибеев в одноименном рассказе).
Чуть более сложные случаи – Фамусов (лат. fama – «молва»), Софья (греч. «мудрая») и Чацкий (первоначально было более отчетливое – Чадский) у Грибоедова, Лариса (греч. «чайка») в «Бесприданнице» Островского.
Механизм говорящих имен и фамилий раскрывает знаменитая чеховская «Лошадиная фамилия». У генерал-майора Булдеева заболели зубы, приказчик генерала советует ему лечиться заговором по телеграфу у акцизного из Саратова, но никак не может вспомнить его фамилию, утверждая лишь, что она «словно бы лошадиная». В течение нескольких дней он сам и окружающие изобретают сорок один вариант лошадиных фамилий – от Кобылина и Жеребцова в разных формах до более экзотических Буланова, Чересседельникова, Засупонина, Тройкина, Рысистого, Уздечкина, включая в азартном увлечении добавленную в список собачью фамилию Кобелев. Фамилия персонажа в конце концов оказывается Овсов.
Не случайно автором этого лингвистического шедевра стал Чехов. Для сотен его ранних рассказов нужны были тысячи фамилий, которые, в соответствии с поэтикой краткого рассказа-сценки, разговорной новеллы, должны были сразу дать экспозицию, формулу узнавания. Подобными смешными, забавными, экзотическими говорящими фамилиями переполнены чеховские записные книжки. Механизм номинативной работы отразился и в этом комическом рассказе.
Самоценный, а не только предварительно-экспозиционный характер такой номинативной игры подчеркивают случаи, когда присутствие персонажа в произведении сводится, в сущности, к одной экспозиции.
«С своей супругою дородной / Приехал толстый Пустяков; / Гвоздин, хозяин превосходный, / Владелец нищих мужиков; / Скотинины, чета седая, / С детьми всех возрастов, считая / От тридцати до двух годов; / Уездный франтик Петушков, / Мой брат двоюродный, Буянов. / В пуху, в картузе, с козырьком / (Как вам, конечно, он знаком), / И отставной советник Флянов, / Тяжелый сплетник, старый плут, / Обжора, взяточник и шут» («Евгений Онегин», гл. 5, строфа ХХVI).
Большинство персонажей – провинциальных гостей на дне рождения Татьяны – охарактеризованы говорящими фамилиями-стилизациями с откровенно сатирической семантикой, что позволяет Пушкину включить в число персонажей фонвизинских героев («Скотинины, чета седая») и героя поэмы своего дяди В. Л. Пушкина «Опасный сосед» («Мой брат двоюродный, Буянов»). Будучи упомянуты еще дважды (Петушков и Буянов трижды), они исчезают из романа навсегда, исчерпываясь своей фамилией с одним-тремя эпитетами.
К таким говорящим именам часто обращался Гоголь (Держиморда в «Ревизоре», Коробочка в «Мертвых душах»). Но его фирменная номинация строится по-иному.
Держиморда – городовой, которому, конечно, приходится держать обывателей в ежовых рукавицах и даже бить их по мордам; Коробочка – тихая скопидомка – семантика фамилий здесь совершенно прозрачна. Но Башмачкин – не сапожник, а бедный чиновник. И многие другие гоголевские персонажи, в отличие от Коробочки, не выводятся из фамилии: Ноздрев не Вральман и Хлестаков не Балаболкин или Вертопрахов.
К номинации героя «Шинели» Гоголь пришел путем долгих поисков, комически отраженных в тексте: «Родильнице предоставили на выбор любое из трех, которое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка по имени мученика Хоздазата. „Нет, – подумала покойница, – имена-то все такие“. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. „Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий“. Таким образом и произошел Акакий Акакиевич Башмачкин»[268].
В номинации героя имеет большее значение не говорящая этимология имени (Акакий в переводе с греческого незлобивый), а фонетический облик целого, «звуковой жест» (Б. М. Эйхенбаум): запинающееся, как в каламбуре или скороговорке, сочетание имени и отчества («Конечно, можно было бы, некоторым образом, избежать частого сближения буквы к, но обстоятельства были такого рода, что никак нельзя было это сделать», – иронически пояснял Гоголь в черновой редакции), уменьшительный суффикс фамилии (писатель сначала пробовал другие варианты: Тишкевич, Башмакевич, Башмаков).
Чичиков, Ноздрев, Плюшкин, Хлестаков, Бобчинский и Добчинский, Пискарев и Пирогов («Невский проспект»), Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгочхун, как и многие другие гоголевские имена и фамилии, представляют собой такие звуковые жесты.
«Гоголевские типы, можно сказать, изумительно озаглавлены…»[269] – заметил исследователь.
Вслед за Гоголем часто использовал звуковые жесты-номинации и М. А. Булгаков. В «Мастере и Маргарите» сцена безудержной «адской пляски» в ресторане дома Грибоедова накануне известия о гибели Берлиоза («и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда») строится как панорама, где большинство персонажей исчерпываются своей фамилией и больше никогда не появятся в повествовании: «Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица-архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем на всю щеку, плясали виднейшие представители поэтического подраздела Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк…»[270] В отличие от пушкинской панорамы в «Евгении Онегине», здесь невозможно сказать, почему поэтесса – Полумесяц, а романист – Жукопов. Но общая установка на причудливость, безумность, гротескность сочетания этих фамилий очевидна.
Сходный принцип применяется в номинации условных и фантастических персонажей. Героиню «марсианского» романа А. Толстого зовут Аэлита, героиню гриновской романтической «феерии» «Алые паруса» – Ассоль. Имена звучат экзотически и красиво, но что они значат, сказать невозможно.
Механизм такой уже не семантической, как в «Лошадиной фамилии», а фонетической, звуковой номинации представлен в начале повести С. Довлатова «Филиал». Герой просыпается, оглядывает свежим взглядом свою комнату и превращает привычные вещи в экзотические фамилии иностранцев: «Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские качели, шаткое трюмо… Бонжур, мадемуазель Трюмо! Привет, синьор Качелли! Здравствуйте, геноссе Пуфф!»[271]
Легко заметить, что говорящие и звучащие фамилии имеют (правда, заданный по-разному) отчетливый экспрессивный ореол, они эстетически маркированы и потому характерны для «форсированных», условных жанров: комических, фантастических и т. п.
Обеим этим группам противостоят имена жизнеподобные, эстетически не маркированные, с нулевой экспрессией. Изобретательный в ранних рассказах, Чехов позднее практически полностью отказывается от номинативной игры, придерживаясь, как и в области действия, правила «чем проще, тем лучше». Васильев («Припадок»), Никитин («Учитель словесности»), Беликов («Человек в футляре»), Гуров («Дама с собачкой»), Наденька Шумина («Невеста») – характерные чеховские фамилии.
Этот принцип, как часто у Чехова, незаметно подчеркнут, доведен до эстетического предела. Названием большой пьесы он делает самую распространенную, как обычно считают, русскую фамилию, которая тем не менее тоже содержит скрытый фонетический жест. Можно сказать, что «Иванов» (1888) – история драматического превращения незаурядного Ива́нова в обычного Ивано́ва.
Не изобретательнее, а беззаботнее оказывается в этом отношении В. Гаршин. Ничем не связанные герои нескольких его рассказов носят одну и ту же фамилию Иванов.
Еще большее упрощение номинации, как ни странно, снова актуализирует условность, приводит к эстетической маркированности и восстановлению экспрессивного ореола. Уже у Чехова герой-повествователь «Скучной истории», осмысляющий свою судьбу на пороге смерти, называет себя Николай Степанович Такой-то, подчеркивая тем самым, что речь идет о судьбе любого, всякого человека. Героя романа Ф. Кафки «Процесс» зовут Йозеф К. В абсурдистских драмах С. Мрожека имена персонажей часто сводятся к индексам: парень Б., парень С., парень Н. («Забава»), А. А., Икс Икс («Эмигранты»), Он и Она («Чудесный вид»).
Однако в таких случаях, как и в случаях номинаций с нулевой экспрессией, имя перестает быть достаточно четкой экспозицией и ее функцию – вместе с именем или вместо него – берут на себя другие элементы характеристики персонажа, прежде всего портрет.
Но, прежде чем перейти к нему, отметим еще одну важную особенность имени уже не как экспозиции, а как развивающего в художественном мире элемента общей характеристики персонажа: «Очень часто в художественной литературе одно и то же лицо называется различными именами (или вообще именуется различным образом), причем нередко эти различные наименования сталкиваются в одной фразе или же непосредственно близко в тексте»[272].
Б. А. Успенский приводит несколько примеров таких номинативных парадигм. Старший из братьев Карамазовых в разных контекстах и с разных точек зрения – Дмитрий Карамазов, брат Дмитрий или брат Дмитрий Федорович, Митя, Дмитрий, Митенька, Митрий Федорович.
Исторический герой «Войны и мира» для разных персонажей – Бонапарт, Наполеон, император Наполеон, узурпатор и враг рода человеческого, великий человек. (Можно добавить, что для Пьера Безухова, который пытается обнаружить в его имени звериное, дьявольское число 666, он некоторое время является воплощением сатаны.) Эти вариации проникают и в авторскую речь: «Автор в своем отношении к Наполеону как бы следует за обществом, которое он описывает»[273].
Из этих наблюдений следует важный вывод. В аналитическом рассмотрении персонажа мы не имеем права выходить за пределы художественных вариаций и – более того – должны ориентироваться прежде всего на авторскую номинацию, его точку зрения. В «Войне и мире» есть Наташа Ростова, но нет Маши Болконской (эта героиня – княжна Марья). Точно так же в мире пушкинского романа есть Евгений Онегин, Онегин, Евгений, добрый мой приятель и т. п., но отсутствует Женя Онегин, хотя автор и рассказывает о детстве героя.
Авторское именование героя обычно бессознательно усваивается из текста, а его нарушение производит комический эффект. Однако в других случаях его выявление среди разнообразных экспрессивных вариаций требует некоторых усилий.
Портрет и типология литературного персонажа/героя От бедной Лизы до «внутреннего человека»
Назвав персонажа или, по крайней мере, придав ему некий минимальный различительный индекс (он и она, мужчина и женщина), необходимо его описать. Портрет – экспозиция более ограниченная как жанрово, так и хронологически. Портрет почти отсутствует в драме (хотя отдельные портретные детали могут встречаться в авторских ремарках и репликах других персонажей). Портрет не характерен для ранних этапов развития литературы: древнерусская литература с ее стилем «монументального историзма» (Д. С. Лихачев), литература классицизма с ее тяготением к абстрагированию, обобщению не занимаются портретированием персонажей. Как выглядели князь Игорь или Ярославна, мы не знаем. По ломоносовским и даже державинским одам невозможно составить хотя бы приблизительную формулу узнавания тех русских императриц, которым они посвящены.
Первоначальный портрет – краткий, условный и идеализированный. В знаменитой «Бедной Лизе» (1792) Н. М. Карамзина, этапной для развития русской прозы повести (новелле), породившей множество подражаний, портреты трех основных персонажей необходимо собирать в тексте.
Лиза – бедная (в этом ключевом определении двойная семантика: небогатая и несчастная), молодая и красивая («не щадя молодости и красоты своей»), с голубыми глазами, пылающими (не красными!) щеками («щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер»), с потупленным взором и трепещущим в кульминационный момент сердцем («Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем»).
Эраст – «молодой хорошо одетый человек приятного вида», «сей Эраст был довольно богатый дворянин с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным».
Мать героини охарактеризована совсем кратко: это «чувствительная и добрая старушка».
Портреты Карамзина, как мы видим, не совсем портреты: они содержат считаное число предметных, внешних деталей, которые не сочетаются, а сополагаются с прямой авторской характеристикой персонажа.
Как ни странно, близок к такому типу портрета и Пушкин в «Евгении Онегине» (1824–1831), что, возможно, объясняется жанром романа в стихах. Портрета главного героя в романе нет, хотя в первых главах подробно описаны биография и образ жизни Онегина. Характеристики Ленского (гл. 2, строфы VI – ХХ) и Татьяны (гл. 2, строфы ХХIV – ХХVIII) выделены в отдельные фрагменты, но тоже даны суммарно и с минимальным числом изобразительных подробностей, которые сразу проецируются на внутренний мир персонажей: Ленский – «красавец в полном цвете лет»; «всегда восторженная речь и кудри черные до плеч»; Татьяна «дика, печальна, молчалива»; «и часто целый день одна сидела молча у окна»; «ее изнеженные пальцы не знали игл».
Портрет как полноценная экспозиция, один из ключей к характеру персонажа появляется в русской литературе только в «Герое нашего времени» (1840). Главный герой здесь увиден дважды: сначала – глазами Максима Максимыча в «Бэле» («…офицер, молодой человек лет двадцати пяти… Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я догадался, что он у нас на Кавказе недавно»), потом – пристальным взглядом рассказчика в «Максиме Максимыче».
Подробное лермонтовское изображение Печорина (в тексте романа оно занимает около полутора страниц) специально выделено, помещено в рамку («Теперь я должен нарисовать его портрет… – Скажу в заключение…») и строится на важных принципах: системной связи разных внешних черт, координации внешнего и внутреннего и в то же время – незамкнутости, вариативности, предположительности в выявлении этих взаимосвязей внешнего облика и «внутреннего человека».
Мы разглядываем главного героя вместе с повествователем с одной точки зрения, видим только то, что видит он: «…пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличающее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев».
Одновременно повествователь разгадывает Печорина по этим внешним чертам, все время подчеркивая предположительность, относительность своих наблюдений: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. <…>…об глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! – Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?!. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти»[274].
Практически все главные черты характера Печорина содержатся, как дуб в желуде, в этом психологическом портрете-экспозиции (хотя он стоит и не в самом начале романа). По такому пути и пойдет русская литература: портреты Тургенева, которые часто превращаются в развернутую биографию-экспозицию, Гончарова, Толстого, Достоевского, при всех индивидуальных отличиях, строятся на схожих принципах.
«Иногда Вы готовы сказать: „У такого-то ляжки показывали, что он желает путешествовать по Индии“»[275], – дружески пародировал А. В. Дружинин манеру Толстого в отзыве на «Юность», советуя избавиться от «поползновений к чрезмерной тонкости анализа». Однако толстовская «диалектика души» строилась именно на таком всезнании и прозрении духовного в телесном.
Чехов сохранит общую логику психологического портрета (системность, связь внешнего и внутреннего, вариативность), но, в соответствии со своей общей установкой на краткость, «разбросает» его по тексту и сведет почти к карамзинской или пушкинской лапидарности.
Коллективный портрет семейства Туркиных в «Ионыче» занимает раз в пять меньше места, чем портрет Печорина. «Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая миловидная дама в pince-nez, писала романы и повести и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был свой талант».
И позднее дочь еще раз увидена уже с субъективной точки зрения, глазами главного героя: «Старцеву представили Екатерину Ивановну, семнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское, талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне»[276].
Чеховские портреты могут показаться похожими на карамзинские – таким же внешне формальным определением человека двумя-тремя эпитетами. Но на смену идеализированности и условности (красота, пылающие щеки, трепещущее сердце) приходят бытовые детали (полный, худощавая, миловидная, развитая грудь). Но главное различие в том, что портрет-экспозиция не подтверждается, а опровергается дальнейшим развитием действия. Талантливость семейства оказывается мнимой, предчувствие весны-счастья в облике дочери оборачивается глубоким несчастьем, но, с другой стороны, в некоторой аффективности, театральности семейного поведения открывается глубокая человеческая привязанность, противопоставленная в конце рассказа бездушию, ожирению сердца главного героя.
Сам этот главный герой, Старцев Дмитрий Ионыч, превратившийся просто в Ионыча (Чехов ненавязчиво использует не семантику имени, а ее изменение), в рассказе вовсе не описан. Историю его жизни сопровождает всего одна акцентированная портретная деталь. «И садясь с наслаждением в коляску, он подумал: „Ох, не надо бы полнеть“» (вторая глава). – «Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились» (взгляд влюбленной в него героини через четыре года; четвертая глава). – «Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет в тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным: „Права держи!“, то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог» (обобщенный беспощадный взгляд повествователя; пятая глава)[277].
Внешне краткий и простой чеховский портрет на самом деле оказывается глубоким и сложным. Он не сразу раскрывает, а постепенно открывает и разоблачает героя. Экспозиция и дальнейшая характеристика персонажа оказываются не в однозначных, а в конфликтных, противоречивых отношениях.
При отсутствии экспрессивного имени-знака, развернутого портрета и биографии функцию экспозиции выполняет первый эпизод, первое появление и проявление героя (подобно тому, как в бесфабульном развитии действия сюжет выстраивается как хронологическая последовательность эпизодов). Однако по-прежнему остается проблема соотнесения начальной и итоговой характеристик персонажа, его динамической структуры. «Отношение первичной характеристики к дальнейшему ее развитию и к целостному образу, возникающему из законченного произведения, – замечает Л. Я. Гинзбург, – отношение то логически прямолинейное, то противоречивое, заторможенное, сложное»[278].
Критерий прямолинейности – сложности очень важен как для понимания системы персонажей отдельного произведения, так и для исторической эволюции категории персонажа. Он позволяет построить типологию целостных образов по способу изображения.
Еще Аристотель, как мы помним, считал в трагедии действие важнее персонажа: «Но самая важная <из этих частей> – склад событий. В самом деле, трагедия есть подражание не <пассивным людям>, но действию, жизни, счастью: <а счастье> и несчастье состоят в действии. И цель <трагедии изобразить> какое-то действие, а не качество, между тем как характеры придают людям именно качества, а счастливыми и несчастливыми они бывают <только> в результате действия. Итак, <в трагедии> не для того ведется действие, чтобы подражать характерам, а <наоборот>, характеры затрагиваются <лишь> через посредство действий; таким образом, цель трагедии составляют события, а цель важнее всего»[279].
Сходную оппозицию В. Я. Пропп отмечал в сказке: доминантой художественного мира и здесь оказывается действие. «Для народной эстетики сюжет как таковой (в нашей терминологии фабула; однако в сказке фабула и сюжет практически совпадают. – И. С.) составляет содержание произведения. <…> В том, что случилось, и состоит весь интерес»[280].
Аналогично обстоит дело с жанрами, основой которых является хронотоп, названный М. М. Бахтиным авантюрным (плутовской роман, приключенческие, фантастические, детективные жанровые семейства). В них, в отличие от трагедии и других классических жанров, возникает образ частного, приватного человека, однако неизменного, равного самому себе. «Совершенно ясно, что в таком времени человек может быть только абсолютно пассивным и абсолютно неизменным. С человеком здесь <…> все только случается. Сам он лишен всякой инициативы. Он – только физический субъект действия. <…> Но движется в пространстве все же живой человек, а не физическое тело в буквальном смысле слова. Он, правда, совершенно пассивен в своей жизни, – игру ведет „судьба“, – но он претерпевает эту игру судьбы. И не только претерпевает, – он сохраняет себя и выносит из этой игры, из всех превратностей судьбы и случая неизменным свое абсолютное тождество с самим собой»[281], – выстраивает контроверзу М. М. Бахтин, отказываясь считать и такого героя просто актантом.
Персонажа, подчиненного фабуле, неизменного в развитии произведения, равного самому себе, называют типом (терминологические вариации герой-маска, ролевой персонаж, знаковый персонаж и т. п.).
Во всех проявлениях героя-типа выделяется одна черта (часто акцентированная говорящим именем), которая и становится его формулой узнавания. В волшебной сказке, классической трагедии это его функция в фабуле (вредитель, чудесный помощник, злодей, наперсник), в других жанрах – социальная роль или нравственное качество (благородный дворянин, мещанин во дворянстве, доктор, учитель; болтун, лжец, скупой, лицемер). Эти стороны иногда разграничивают, говоря в первом случае о ролевой маске, во втором о социально-моральном типе (Л. Я. Гинзбург).
На противоположном полюсе – персонажи, которые подчиняют себе фабулу, опровергают свою первичную характеристику, изменяясь в развитии действия, оказываются не равными самим себе. На смену герою как «постоянной величине в формуле романа» приходит образ «становящегося человека» (М. М. Бахтин): «В противоположность статическому единству образа героя первого типа романа здесь дается динамическое единство образа героя. Сам герой, его характер, становится переменной величиной в формуле этого романа»[282].
Такая структура героя как подвижного, противоречивого, динамического целого обычно называется характером[283].
Четкое описание различий между этими двумя способами построения персонажа, причем на конкретных примерах, дано Пушкиным: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп – и только; у Шекспира Шайлок <„Венецианский купец“> скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер <„Тартюф, или Обманщик“> волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анжело <„Мера за меру“> – лицемер, потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»[284]
Изображая любого героя (если только это изображение включает несколько появлений, а не исчерпывается именем), автор так или иначе вынужден описать его чувства, жизнь души, то есть психологию. Но характер предполагает иную эстетическую доминанту – психологизм (или психологический анализ) как цельное, но внутренне противоречивое изображение героя в его разных проявлениях, выявление в нем разных свойств, чувств и качеств.
«Шкловский написал когда-то, что психологический роман начался с парадокса. В самом деле, у Карамзина хотя бы, да и вообще в тогдашней повести и романе, душевный мир героя занимал не меньшее место, чем в психологическом. Но переживание шло по прямой линии, то есть когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался, когда умирали его близкие, он плакал, и т. д. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология»[285].
Психологизм, другими словами, начинается с изображения чувства по «кривой линии», с парадокса, с противоречия между «внутренним человеком» (его мыслью и чувством) и внешним человеком, в свою очередь данным в противоречии между словами и поступками. Этот парадоксальный треугольник (мысль/чувство – слово – поступок), внутри которого и возникает феномен психологизма, блистательно выстроил Л. Толстой в уже цитированной по другому поводу «Истории вчерашнего дня».
Герой-рассказчик проводит вечер в дружеской семье, он испытывает симпатию к молодой жене хозяина дома, но уже поздний вечер, пора уходить, и он неохотно поднимается, рассуждая сам с собой о ее последней фразе, сказанной по-французски: «Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я бы любил и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко звать меня по имени, по фамилии и по титулу. Неужели это оттого, что я… – Останься ужинать, – сказал муж. Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости»[286].
Множество толстовских изображений в его классических романах строятся как движение аналитической мысли автора в этом треугольнике, разгадка противоречий, распутывание многочисленных психологических узлов.
Другими новаторскими формами психологизма были чеховский подтекст (здесь принцип противоречия внутреннего и внешнего, чувства и слова был перенесен в драму, где он поначалу выглядел особенно вызывающе на фоне традиционного понимания слова как действия) и литература внутреннего монолога, потока сознания с ее попыткой непосредственно передать, воссоздать или правдоподобно сконструировать непрерывную картину душевной жизни, минуя даже традиционные привычные речевые формы (прямая речь, структура предложения, знаки препинания).
Оппозиция тип (в его разных вариантах и понимании) – характер определяла несколько тысячелетий литературного развития. В литературе двух последних столетий она усложнилась за счет трансформации каждого из членов исходной оппозиции.
В идеологическом романе (наиболее отчетливо – у Достоевского) на смену персонажу-типу пришел образ человека идеи, тоже, как правило, равного самому себе, почти неизменного во всех своих проявлениях, но изображенного не в бытовой, как тип, а в обобщенной, философской, символической плоскости. Раскольников – не тип петербургского студента, в «башку» которого «втемяшилась какая-то блажь» (так считал Д. И. Писарев), а идеологический убийца, испытывающий на себе теорию крови по совести. И князь Мышкин – не добродетельный чудак, случайно появившийся в Петербурге, а князь-Христос (определение самого Достоевского), сошедший в этот мир, чтобы проверить, насколько он изменился за две тысячи лет.
С другой стороны, в литературе потока сознания (истоки этой формы психологизма находят уже у Толстого), в ее предельном варианте, характер как единство противоречивых свойств, смысловая упругость и очерченность исчезает, превращаясь в «чистый процесс» (Л. Я. Гинзбург) скорее уже авторского сознания. Структура художественного мира в этом случае редуцируется, сокращается, один из его уровней практически аннигилируется, исчезает – о следствиях этого процесса мы поговорим несколько позднее.
Персонаж/герой в структуре художественного мира Родные, двоюродные, вечные…
Типология персонажей по способу изображения (тип, герой-идеолог, характер, персонаж-процесс) сложно соотносится с их местом в развитии действия, их отношениями в мире.
Герои литературного произведения – не просто линейные серии индивидуальных появлений в пределах данного текста, но еще и итоговая их конфигурация, система, в которой важным оказывается противопоставление главных и второстепенных, эпизодических (их именуют также статистами, персонажами фона и т. п.).
Главный герой (или герои) дает наиболее длинную серию появлений. На нем держится действие, часто его глазами мы видим других персонажей, его слово является посредником между изображенным миром и автором.
Второстепенные герои так или иначе обслуживают главного, подчинены ему, нужны для более полного его раскрытия.
Главных героев обычно немного. Моноцентрическое строение системы персонажей – скорее норма, чем исключение. Оно привычно в драме, во многих эпических жанрах, включая роман. М. М. Бахтин, как мы помним, строил свою классификацию «по принципу построения образа главного героя».
Центральное положение Чацкого в «Горе от ума» и Катерины в «Грозе», Печорина в «Герое нашего времени», Обломова в одноименном романе, Базарова в «Отцах и детях» не вызывает сомнений. Структуру таких произведений можно представить в виде метафорической Солнечной системы: в центре – главное светило; вокруг него по орбитам вращаются остальные планеты, не обязательно связанные между собой. Большинство героев плутовского романа или «Героя нашего времени» даже незнакомы между собой и входят в мир произведения только благодаря главному.
Второй тип строения системы персонажей – сопоставление двух центральных героев: Онегин и Татьяна в «Евгении Онегине», Анна и Левин в «Анне Карениной», Лаевский и фон Корен в чеховской «Дуэли». Даже в основе романа-эпопеи «Тихий Дон» две судьбы – Григория Мелехова и Аксиньи; с гибелью героини роман заканчивается.
Многофигурные конфигурации встречаются реже: «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита». Но и здесь число главных героев не превышает пяти-шести. Количество же второстепенных, фоновых персонажей разной степени проявленности может исчисляться десятками и сотнями (в «Войне и мире» их насчитывают более пятисот).
Место героя в развитии действия соотносится также и со способом его изображения. Одни герои нам (и писателям, и читателям) «родные», другие «двоюродные», – каламбурит А. Битов. «Что же такое литературный герой в единственном числе – Онегин, Печорин, Обломов, Раскольников, Мышкин?.. Чем он всегда отличен от литературных героев в числе множественном – типажей, характеров, персонажей? В предельном обобщении – родом нашего узнавания. Персонажей мы познаем снаружи, героя – изнутри, в персонаже мы узнаем других, в герое – себя»[287].
«Вообще, к персонажам первого плана и персонажам второстепенным, эпизодическим издавна применялись разные методы, – более строго формулирует сходную мысль Л. Я. Гинзбург. – В изображении второстепенных лиц писатель обычно традиционнее; он отстает от самого себя»[288].
Возможно, дело здесь не только в традиционности, но и в особенностях нашего восприятия. Выделение главного, фигуры из фона, неизбежно при любом нашем восприятии, логическом или чувственном. Так что писатель не просто «отстает от самого себя», но объективно не может отменить границу между главным и второстепенными персонажами.
В старой литературе «типов» герои первого плана и эпизодические персонажи различаются лишь количественно. В литературе, уже овладевшей психологизмом, соотношение между главными и второстепенными приобретает и качественный характер. Главные герои – характеры, идеологемы, символы, душевные процессы, второстепенные – знаки, типы, бытовые фигуры.
Оппозиция между главными и второстепенными героями может стать конструктивной теоретической предпосылкой в конкретных анализах.
В. Ф. Переверзев строил свое понимание творчества Гоголя именно в этих координатах: «Возьмите Пушкина, Лермонтова, Толстого, всмотритесь внимательно в строение их произведений – и вы заметите, что во всех есть некий центр, от которого расходятся и к которому сходятся все нити и концы произведений. Этим центром является герой произведения, главное действующее лицо. Как бы широко ни развертывалась картина, герой всегда на переднем плане; все остальное второстепенно, не имеет самодовлеющего значения, служит для обрисовки той или иной черты главного героя. При слишком большом объеме произведения число героев увеличивается, вместо одного окажется несколько центральных типов, но принцип построения остается один. Между „Евгением Онегиным“, в котором два героя, и „Войной и миром“, в котором таких героев наберется около десятка, только количественная разница».
Совсем по-иному, считал В. Ф. Переверзев, устроен мир Гоголя: «Он не художник толпы, а художник рядовой личности, которая не может стать героем, потому что и все окружающие – такие же герои. Оттого у Гоголя всякая личность одинаково интересна, описана со всей тщательностью, всегда очерчена ярко и сильно. <…> У Гоголя нет второстепенных лиц, нет второстепенных картин, нет неважных мелочей, потому что предметом его художественного творчества и являются мелочи. <…> Что такое большой роман у Толстого? Это история жизни одного и того же героя; типичный пример – „Воскресение“. Но у Гоголя роман – не история характера, а собрание характеров, настоящий психологический музей»[289].
В. Ф. Переверзев пришел к такому выводу, кажется, потому, что критерием выделения главного героя для него был психологизм, который в этом качестве «работает» лишь в новейшей литературе. Гоголь же в этом смысле архаичен, ориентируется на старую литературу типов.
Внешний, пластический характер гоголевского творчества, статичность героев, отсутствие у них становления и психологических противоречий действительно превращает гоголевский мир в музей, но не характеров, а типов. Однако различие между главными и второстепенными персонажами и здесь остается, но оно определяется количественно, по серии проявлений персонажа. В этом смысле главным героем «Мертвых душ» оказывается все-таки Чичиков, который, как герой плутовского романа, связывает, сшивает всех других персонажей, организует фабулу романа-поэмы.
Для Достоевского в интерпретации М. М. Бахтина критерием отделения главных от второстепенных героев становится уже не просто психологизм, а «самосознание как художественная доминанта в построении образа», то есть изображение этой психологии изнутри и превращение ее в идею-концепцию. «У ведущих героев, протагонистов большого диалога, таких как Раскольников, Соня, Мышкин, Ставрогин, Иван и Дмитрий Карамазовы, глубокое сознание своей незавершенности и нерешенности реализуется уже на очень сложных путях идеологической мысли, преступления или подвига»[290].
Одна из главных черт чеховской драматической революции заключалась в изображении всех персонажей в едином ракурсе – в аспекте психологизма как противоречия, парадокса, движения не по прямой линии.
В сценических интерпретациях «Чайки» или «Вишневого сада» практически все герои могут стать главными, ибо они разрешены изнутри, дают основу для построения характера и узнавания себя. Но логика развития действия все-таки выдвигает на первый план Аркадину, Тригорина, Треплева и Заречную в «Чайке», Раневскую, Гаева, Лопахина и Трофимова в «Вишневом саде». Круг главных героев существенно расширяется, но граница между главными и второстепенными сохраняется уже на ином количественном уровне – уровне характеров.
Таким образом, критерий разделения главных и второстепенных персонажей исторически меняется, но сама эта граница, эта оппозиция, видимо, является универсалией мира произведения.
Для драматургии характерен еще один прием – введение персонажей, которые не появляются на сцене, но тем не менее получают достаточно подробную характеристику в речах других и занимают свое место в сюжете. Таковы Протопопов, начальник Андрея Прозорова и любовник его жены, в «Трех сестрах» или парижский любовник Раневской в «Вишневом саде». В подобных случаях говорят о внесценических персонажах, своеобразной группе второстепенных, располагающихся, однако, где-то вне мира произведения и коробки сцены.
М. Булгаков придал приему еще большую остроту. В его драме «Александр Пушкин» (1935) обозначенный в заглавии персонаж ни разу не появляется на сцене, но все действие развертывается вокруг него, он фактически оказывается отсутствующим главным героем. Не случайно первоначально пьеса печаталась под редакционным заглавием «Последние дни»: новизна булгаковской структуры тем самым отчасти сглаживалась.
Как возможный сюжет, такое построение тоже встречается у Чехова: он рассказывал знакомой о замысле пьесы, в которой все четыре действия ожидают приезда героя, много говорят о нем, а в конце в имение привозят гроб с его телом.
В эпических произведениях такое построение осуществить труднее. Сама специфика рассказа о событии размывает границу между непосредственно изображенным и опосредованно описанным. Граница эта становится отчетливее в каких-то маркированных типах повествования. В прозаическом опыте поэта А. Н. Апухтина, повести в письмах «Архив графини Д**» (1890), которая, кстати, нравилась Булгакову, сама эта графиня не имеет голоса, не представлена ни одним письмом. Но письма разных людей к ней в совокупности создают объемное представление о ее характере, в то время как большинство ее адресатов остаются типами.
В таких случаях, по аналогии с внесценическими, можно говорить о неявленных, невидимых, виртуальных, псевдоперсонажах, минус-персонажах (ср. введенный Ю. М. Лотманом термин «минус-прием»), которые тем не менее должны быть включены в общую систему[291].
Еще одна разновидность второстепенных персонажей-типов – коллективные образы. Их далеким истоком является хор греческой драмы. В последующие эпохи были толпа, народ, войско и т. п., живописуемые обычно в массовых драматических и повествовательных сценах («Борис Годунов», «Мертвые души», «Война и мир», «Кому на Руси жить хорошо»). Эти образы могут включать поименованных и даже минимально охарактеризованных персонажей (см. приведенные ранее фрагменты «Евгения Онегина» и «Мастера и Маргариты»), но они, как элементы, включаются в коллективный образ светского или провинциального общества, литературной черни, народа на празднике или на войне.
Наконец, третий срез, третий аспект рассмотрения персонажей (наряду со способом изображения и местом в системе) – оценочный, этический. Мы уже упоминали, что к литературным героям часто применяют моральные критерии, оценивая их поступки с точки зрения нравственного кодекса, распространенных культурных стереотипов. Центральной здесь становится оппозиция положительных и отрицательных героев (в «Записках из подполья» Достоевский назвал своего главного персонажа антигероем; это определение тоже активно используется). В таких случаях термины персонаж и герой, которые мы употребляли как синонимы, расходятся. В слове герой восстанавливается его исходный, идеальный смысл: герой тот, кто совершает подвиги или антиподвиги, преступления, то есть экстремальные поступки. Поэтому можно говорить о положительных и отрицательных героях, антигероях, но странно будет выглядеть определение «положительный персонаж».
Писатели, многие ученые зачастую восстают против такого подхода к литературному персонажу, тем не менее он столь же регулярно воспроизводится в культурном сознании – в критических дискуссиях, в школьном преподавании. Этот феномен, следовательно, необходимо как-то объяснить.
Этическая оценка (хорошо – плохо) так же неустранима из человеческого сознания и опыта, как оценка эстетическая (красиво/некрасиво). Суждения о полной изолированности, автономности этих сфер столь же регулярны, как и признание их неразрывной взаимосвязи и взаимопроникновения.
«Поэзия выше нравственности – или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Суси! Какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона»[292], – привычно процитирует Пушкина защитник первой точки зрения.
Сторонник второй может не искать иных авторитетов, а припомнить «Памятник»: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал».
Избавиться от противопоставления положительный – отрицательный герой вряд ли возможно. Однако необходимо видеть его подлинное место и границы.
Во-первых, четкие этические координаты характерны для многих жанров и периодов развития литературы. Бессмысленно отрицать поляризацию героев и/или однозначную их оценку в эпопее, сказке, трагедии, мелодраме, оде и сатире, разнообразных формульных жанрах. Здесь она в качестве основного или дополнительного признака входит в саму жанровую конвенцию. Художественная типология предполагает (или допускает) однозначную оценку персонажа. Наименее применима эта шкала к жанрам, писателям и эпохам, ориентированным на изображение характеров, противоречивых по своей природе, по способу изображения.
Во-вторых, этические оценки в мире познания и поступка (в реальности) имеют несколько иной смысл, чем в мире художественном. Своих героев автор может любить «отрицательною любовью», читатель, в свою очередь, может проникаться симпатией к персонажам, действия и поступки которых были бы оценены как отрицательные за пределами искусства. Другими словами, в мире произведения шкала положительности / отрицательности всякий раз выстраивается заново, с учетом обыденной этики, но без жесткой связи с ней.
Наконец, в-третьих, один из полюсов этой шкалы (чаще всего положительный) может не персонифицироваться, а располагаться на иных уровнях художественной структуры: хронотопа (природа как источник высших ценностей – распространенное в литературе явление), авторского идеала («Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в нем во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был смех»[293], – писал Гоголь по поводу «Ревизора»).
Итак, персонажа как завершенное целое, как результат развертывания художественного мира, мы можем рассматривать в трех основных ракурсах: по способу изображения, сочетанию в нем статики и динамики (имя-знак, тип, характер, идея-символ, процесс), по месту в развитии действия, положению в общей системе (главные – второстепенные; явленные – неявленные; индивидуальные – коллективные), наконец, по авторской или читательской интенции (положительные – отрицательные; герой – антигерой).
Иные квалификации героев – по родовой принадлежности (эпический, драматический, лирический герой), по жанру (герой волшебной сказки, романный, новеллистический, трагический, комедийный и т. п. персонаж), по принадлежности к литературному направлению (классицистический, романтический, реалистический герой), по связи с личностью создателя (вымышленный и имеющий реальных прототипов персонаж; герой автобиографический и автопсихологический[294]) – достаточно очевидны и непринципиальны. Разбираясь в структуре этих героев, мы неизбежно должны обратиться к описанным классификациям.
Какими же способами создаются образы персонажей, выстраивается их конкретная структура? Базовые уровни мира, как мы уже не раз отмечали, тесно взаимосвязаны между собой: точно так же, как персонаж может быть функцией фабулы, фабула, развитие действия, поступки героя, его взаимоотношения с другими персонажами могут быть главным средством его характеристики. Так чаще всего и бывает в объективном, аналитическом, психологическом романе.
В других случаях этой цели служат элементы хронотопа: пейзаж как проекция психологического состояния (дуб в «Войне и мире»), интерьер как отражение его характера и образа жизни (помещичьи имения в «Мертвых душах»), деталь как характерный психологический штрих или даже сжатая формула типа (зонтик и калоши Беликова в чеховском «Человеке в футляре»), в том числе – книга (круг чтения Онегина и Татьяны; Бюхнер против Пушкина в характеристике детей и отцов у Тургенева).
Персонажи периферийные, эпизодические зачастую и исчерпываются двумя-тремя акцентированными деталями. Такой «послечеховский» способ изображения пародийно воспроизводится в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
Герой отправился на машине времени в будущее, которое описывают «всякие там фантастические романы и утопии», и увидел странную картину: «То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу». Разгадка обнаруживается в области не фантастики, а поэтики: «Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде „дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках“»[295].
На сравнительно поздних этапах развития литература овладевает художественной речью как мощным средством не просто изложения фабулы, но именно индивидуальной характеристики. М. М. Бахтин, напомним, считал разноречие фундаментальной чертой романа Нового времени. Литература ХIХ века порождает так называемый сказ, особую форму повествования, в которой вопрос о том, как говорит герой, оказывается бесконечно важнее того, что с ним происходит; речевая характеристика отодвигает на задний план фабулу (об этом у нас еще пойдет речь).
Наконец, в эпическом роде автор (или повествователь) всегда может дать оценку персонажа в прямом, непреломленном слове. Этим правом литература пользуется как на ранних стадиях развития, так и в более поздних, изощренных формах.
Последняя важная структура персонажа возникает уже за пределами мира произведения – в его историческом бытовании, в творческом хронотопе, где «совершается особая жизнь произведения» (М. М. Бахтин). Отдельные герои могут отрываться от текста (чем еще раз подтверждается бахтинский тезис об имманентном преодолении слова в процессе художественного творчества), перерастать границы породившего их мира, превращаясь в вечные, мировые образы, сверхтипы – персональное, поименованное воплощение фундаментальных, глубинных свойств человеческой личности[296].
Первая, наиболее древняя, группа вечных образов возникает в мифологии или фольклоре (Прометей – герой-богоборец, сознательно жертвующий собой ради людей; Каин и Авель – невинная жертва и преступник-братоубийца; Фауст – ученый, приносящий все остальные стороны жизни в жертву ненасытной страсти к познанию). Но они становятся подлинно вековыми лишь благодаря литературным воплощениям («Прометей прикованный» Эсхила, «Фауст» Гёте).
Другая группа вырастает непосредственно из авторских текстов: Гамлет (постоянное сомнение, колебания человека между мыслью и поступком, жизнью и смертью – «быть или не быть»), Дон Кихот (бескорыстное, безумное служение идеалам добра и справедливости – «рыцарь печального образа»), Дон Жуан (бесконечная погоня за красотой, воплощающейся в женщине, – вечный любовник) обязаны своим возникновением Шекспиру, Сервантесу, Т. де Молине, Мольеру, Моцарту.
Но формой бытования тех и других образов становятся их последующие литературные воплощения (Дон Жуану за почти четыре века его существования – «Севильский озорник, или Каменный гость» испанца Т. де Молины появился в 1630 году – посвящены сотни произведений) и просто культурные формулы, которые становятся принадлежностью бытового языка («Он настоящий донжуан»). На этом пути от мира произведения к семиосфере культуры образ, как правило, упрощается (характер становится типом или даже именем-знаком), но, с другой стороны, многократно трансформируется, преобразуется. Дон Жуан из страстного, переменчивого героя-любовника превращается то во впервые влюбившегося рыцаря последней Прекрасной Дамы («Каменный гость» Пушкина), то в страстного богоборца («Дон Жуан, или Каменный гость» Мольера), то в раскаявшегося грешника, то в разочарованного философа-циника, то в любителя геометрии («Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша).
Причем последующие воплощения вечного образа далеко не всегда номинативно совпадают с образом-прототипом. В круг «русских Гамлетов» входят не только (и не столько) «Гамлет Щигровского уезда» Тургенева, но и многие другие образы разочарованных, запутавшихся между словом и делом «лишних людей» от Евгения Онегина и Печорина до Платонова, Иванова и многих других героев Чехова, исповедующих «массовый гамлетизм» (Н. Я. Берковский).
Способностью к разнообразным трансформациям и вариациям при неизменности основной формулы вечные образы и отличают от персонажей, имена которых стали нарицательными, но однозначными (Одиссей, Тартюф, Хлестаков).
Понятие вечного образа, конечно, условно, метафорично. «Вечных» Гамлета и Дон Кихота не существовало до начала XVII века, когда практически одновременно (1601 и 1605–1615) появились шекспировская трагедия и роман Сервантеса. Фауст и Мефистофель еще на 200 лет моложе (1808–1831 – время работы Гёте над поэмой). Кроме того, практически все персонажи, которым придают статус мировых, связаны с западной (в широком смысле) цивилизацией. Что значит Гамлет для китайской или корейской культуры, сказать трудно.
Можно, однако, конкретизировать и разграничить понятия, дополнительно противопоставив вечные, мировые образы целого культурного региона и сверхтипы как обобщенные образы одной национальной литературы и культуры. Сам круг таких образов-формул тогда расширится. Статус образов-формул русской литературы приобретут фонвизинский Митрофанушка и грибоедовский Чацкий, Онегин, Татьяна, Ленский, многие гоголевские герои, тургеневский Базаров, гончаровский Обломов (однако сверхтипов практически не обнаружится у Толстого и Чехова).
В таком случае возникает интересная эвристическая задача: представить развитие персонажного уровня русской литературы как достаточно обозримое замкнутое множество образов-сверхтипов, выступающих по отношению к последующему литературному развитию в качестве порождающих моделей, творческих ориентиров, архетипов. Такая «поэтика литературного персонажа», сочетающая динамически-структурный и завершенно-целостный аспекты, – один из возможных вариантов исторической поэтики, не менее привлекательный, чем «история эпитета», о которой мечтал А. Н. Веселовский, или истории других категорий поэтики.
Герои-формулы, вырастающие из конкретного произведения, оказываются более четкими ориентирами в таком построении, чем культурно-исторические клише (плут, шут, дурак и т. п.) или социально-бытовые и психологические характеристики («лишний человек», «бедный чиновник» и т. п.).
Границами, оппозициями, в рамках которых выстраивается изображение героя, оказываются прямая и косвенная характеристики (авторское слово-оценка или проявление героя через фабулу, элементы хронотопа, речевую манеру), статика или динамика (тип или характер), внешнее или внутреннее движение (действие, поступок или размышление, психологизм).
Общая логика развития персонажного уровня предстает как своеобразная спираль: движение от персонажа-знака, функции фабулы – через тип, характер, идею, процесс – к персонажу-формуле, сверхтипу, тоже знаку, но уже не художественного мира произведения, а творческого хронотопа, семиосферы.
В литературе, однако, ничего не исчезает бесследно. Исторически сложившиеся структуры героя в любой момент могут быть извлечены из культурной памяти и, значит, оказаться необходимыми для интерпретации произведения.
Вертикальные уровни произведения
В попытках представить целостную модель литературного произведения редко учитывается качественная разнородность разных уровней. Описанные базовые уровни имеют, условно говоря, «горизонтальный» характер. Являясь конструктами идеального, возможного мира, трехмерной, видимой сквозь строки коробочки, они состоят из ограниченного (в принципе) набора элементов, доступного даже подсчету (количество героев, главных и второстепенных; фабульных и сюжетных эпизодов; пейзажей и других видов хронотопа; эпитетов и метафор, слов вообще), непосредственно воспринимаются реципиентом и, следовательно, реальны в том особом смысле, о котором писал М. М. Бахтин в применении к эстетическому объекту (его суждение цитировалось в начале этой главы).
Персонажи, действие, пространство и время – при всей их идеальности – допускают локализацию и конкретизацию в эстетическом объекте, точно так же, как мы можем локализовать и конкретно указать элементы исходного языкового уровня – метафору, анафору, неологизм или антитезу.
Однако зададим бахтинские вопросы в применении к другим сферам литературного произведения. Где находится композиция? Где находится знаменитое остранение? Где находится повествующий субъект (в эпическом роде) и, вообще, автор как носитель смысла?
Эти аналитические категории имеют иную природу, чем описанные ранее. Наряду с горизонтальными уровнями в структуре произведения как эстетического объекта следует постулировать существование уровней вертикальных, располагающихся по отношению к первым в другой плоскости, как бы пронизывающих их насквозь.
К ним мы относим тематический уровень; уровень мотивов и приемов; повествовательный уровень; композиционный уровень; авторский идеологический, идейный уровень – уровень художественного смысла.
Вертикальные уровни отличаются от горизонтальных двумя важными свойствами.
Во-первых, они чаще всего не имеют своего языка, своего набора элементов и оперируют элементами горизонтальных уровней. Они не реальности (в том условном смысле, о котором говорилось выше), а конструкции.
Во-вторых, само их выделение более условно, они имеют не сплошной, а пунктирный, прерывистый характер. На языке семиотики можно сказать, что горизонтальные уровни имеют синтагматический характер (хотя синтагмы на каждом уровне могут развертываться попеременно, сменяя друг друга), а вертикальные – парадигматический, выявляющийся при рассмотрении завершенного текста как целого. Парадокс их существования в том, что, создавая динамику целого, эти уровни становятся обозримыми и ощутимыми лишь при синхронном подходе.
Итак, исходная структура произведения теперь усложняется. От систематического рассмотрения базовых горизонтальных уровней мы должны перейти к рассмотрению отдельных элементов и функции вертикальных уровней в структуре целого.
Мотивы и приемы Он, она и некто в сером
В параграфе о сюжете и фабуле уже отмечалось, что мотив понимался А. Н. Веселовским, затем формалистами и некоторыми структуралистами как минимальный элемент сюжета (точнее, фабулы). Затем идея его неделимости была подвергнута сомнению. В. Я. Пропп разложил его на отдельные элементы-функции. Б. И. Ярхо, М. Л. Гаспаров сузили его до действия-глагола.
На этом приключения мотива, однако, не закончились. Почти одновременно понятие мотива, напротив, существенно расширилось. В «Лермонтовской энциклопедии» к мотивам отнесены свобода и воля, одиночество, странничество, изгнанничество, Родина, память и забвение, обман, мщение, покой, земля и небо, сон, игра, путь, время и вечность, любовь, смерть, судьба – то есть и философские понятия, и психологические состояния, и пространственные характеристики, и культурные действия[297].
В научных сборниках, цель которых обозначена как «накопление материала для будущего „Словаря сюжетов и мотивов“», есть статьи о мотивах снега, луны, воды, «древа жизни», фотографии; «неузнанного императора», сделки человека с дьяволом, похищения Соломоновой жены; «перевернутой реальности» и «вывернутости наизнанку»; смерти и смерти-воскресения; военных мотивах; основных мотивах творчества; балладных, сказочных и лирических мотивах[298]. Легко заметить, что мотивами здесь называются предметные детали, персонажи, ситуации, темы, жанровые признаки.
Кажется, такое, реализуемое практически, явочным порядком, понимание мотива может быть продуктивным, если увидеть его многогранность и его место в структуре произведения.
Мотив – акцентированный, выделенный, повторяющийся элемент любого уровня произведения (то есть любой мотив – фактически инвариант, лейтмотив). Поэтому иерархия мотивов отвечает базовой структуре произведения: словесные – предметные (хронотопические) – фабульные и сюжетные – персонажные – тематические мотивы.
Мотив, следовательно, обобщенное понятие, всякий раз нуждающееся в дополнительном уточнении. Мотив всегда какой-то: необходимо четко осознавать, с каким уровнем произведения мы имеем дело, на каком уровне выявляются и описываются мотивы.
Понятие мотива не только позволяет соотнести и развести различные уровни произведения, но, подобно категориям жанра или фабулы, размыкает художественный мир в творчество писателя и в литературную историю. Мотив в смысле Веселовского – Томашевского оказывается частным случаем общей интерпретации этой категории – фабульным мотивом. Хотя и А. Н. Веселовский употреблял это понятие широко и неопределенно, говоря об «известных кадрах, ячейках мысли, рядах образов и мотивов, которым привыкли подсказывать символическое содержание» (петух как вестник утра и символ Христа, ворон – воплощение злого, дьявольского начала), о мотиве «жалобы влюбленной, обманутой девушки» и т. п.[299]
При таком понимании мотив становится одной из важнейших категорий поэтики.
Разделив текст на эпизоды (если это не сделано автором) и сформулировав их доминантные мотивы, мы получаем последовательность, на основе которой возможен анализ специфики действия, фабулы и сюжета данного произведения.
Система индивидуальных мотивов, выявленная на каждом уровне, дает представление о своеобразии писателя. На этом строится концепция поэтики выразительности, для которой тема – глубинный уровень описания текста, инвариантная тема – угол зрения, любимая авторская мысль, воплощаемая в системе устойчивых, инвариантных, характерных мотивов, которые в совокупности образуют поэтический мир[300].
Если же выявленные мотивы мы рассмотрим в исторической перспективе, напротив, обнаружится повторяемость, традиционность многих из них. Изучение подобных неизменных формул, повторяющихся мотивов А. Н. Веселовский считал задачей исторической поэтики: «Интриги, находящиеся в обращении у романистов, сводятся к небольшому числу, которое легко свести к еще меньшему числу более общих типов: сцены любви и ненависти, борьбы и преследования встречаются нам однообразно в романе и новелле, в легенде и сказке, или, лучше сказать, однообразно провожают нас от мифической сказки к новелле и легенде и доводят до современного романа. <…> Ответ на поставленный вопрос (сформулированный А. Н. Веселовским чуть раньше вопрос «о границах и условиях творчества». – И. С.) может быть предложен опять же в форме гипотетического вопроса: не ограничено ли поэтическое творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего, первообразы которых мы неизбежно встретим в эпической старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова? Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое, собственно, и составляет прогресс перед прошлым?»[301]
Такие повторяющиеся мотивы, устойчивые образные формулы, «общие места́» искусства называют также топосами, а их изучение – топикой (трактат под таким заглавием есть у Аристотеля)[302].
Б. И. Ярхо прямо связывал категории топоса и мотива: «Топика, учение о типичных повторяющихся в данном комплексе образах и мотивах, чрезвычайно важная для построения научного литературоведения, распадается между эйдологией и учением о мотивах…» (выделено автором. – И. С.)[303]. Напомним, что для Б. И. Ярхо образ как единица поэтики и объект эйдологии, учения об образах, был прежде всего предметом или лицом, выраженным существительным, а мотив – действием-глаголом; так что в нашей терминологии Б. И. Ярхо включает в топику предметные и сюжетные мотивы.
Через категорию мотива определяется и еще одно популярное в психологии, эстетике и литературоведении последнего столетия понятие архетип.
К. Г. Юнг, психолог, первоначально последователь З. Фрейда, впоследствии полемизировавший с ним и создавший собственную теорию «аналитической психологии», считал, что основой человеческой фантазии являются первичные, глубинные, коллективные, бессознательные образы, которые он и называл архетипами.
«Праобраз, или архетип, есть фигура будь то демона, человека или события, повторяющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия. <…> Творческий процесс, насколько мы вообще в состоянии проследить его, складывается из бессознательного одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления вплоть до завершенного произведения искусства. Художественное развертывание праобраза есть в определенном смысле его перевод на язык современности, после чего каждый получает возможность, так сказать, снова обрести доступ к глубочайшим источникам жизни, которые иначе остались бы для него за семью замками»[304].
Архетипы, таким образом, – это первичные, глубинные мотивы, над которыми надстраиваются мотивы как традиционные образные схемы (их круг намного шире) и индивидуальные мотивы, число которых в принципе вообще безгранично. Внутри категории мотива развертывается диалектика общего и индивидуального, традиции и новизны.
Расширил значение термина архетип, сблизив его, скорее, с мотивом в смысле Веселовского, канадский литературовед Н. Фрай. Для него архетипы – «периодически повторяющиеся образы или связки образов», к числу которых относятся и Адам («архетип иронической неизбежности, воплощение человеческой природы, приговоренной к смерти»), и Прометей («основная фигура трагедии – человек, но человек героического масштаба, иногда с чертами божества»), и даже Христос («совершенно невинная жертва, отвергнутая людьми»)[305].
Исследование топосов и архетипов, как правило, ретроспективно, ориентировано на мотивы, уходящие в глубины истории и коллективного бессознательного, и чаще всего применяется к эпохам и произведениям, в которых очевидны элементы, как говорил М. М. Бахтин, «неумирающей архаики». «Взгляд на искусство как на „эволюционирующую топику“ прямо-таки завещан нам фольклором и древнерусской письменностью»[306].
Ему можно придать и другой, синхронный, характер, спроецировав вертикальный мотивный уровень на систему жанров, однако выявляя в них не исторические неизменные формулы, а их актуальное функционирование, системное соотношение элементов.
«Каждый из нас, – замечает М. Л. Гаспаров, кажется подразумевая под „нами“ все-таки филологов-литературоведов, а не обычных читателей, – интуитивно чувствует, что такое детектив, триллер, дамский роман, научная фантастика, сказочная фантастика; или что такое (двадцать лет назад) производственный роман, деревенская проза, молодежная повесть, историко-революционный роман и пр.; или что такое (полтораста лет назад) светская повесть, исторический роман, фантастическая повесть, нравоописательный очерк. Все это предполагает довольно четкий набор образов и мотивов, к которому все привыкли. Например, образцовую опись мотивов советского производственного романа дал в свое время А. Твардовский в поэме „За далью – даль“: „Глядишь, роман – и все в порядке: показан метод новой кладки, отсталый зам, растущий пред и в коммунизм идущий дед. Она и он – передовые; мотор, запущенный впервые; парторг, буран, прорыв, аврал, министр в цехах и общий бал“. Но это – в поэме; а хоть в одном теоретическом исследовании можно найти такую опись? Для фольклора или средневековой литературы – может быть; для литературы нового времени – нет. А это совсем не шутка, потому что состав такой описи не что иное, как художественный мир произведения, понятие, которым мы пользуемся, но редко представляем его себе с достаточной определенностью»[307].
Понятие мотива снова возвращает нас к художественному миру. Конечно, «образцовая опись» Твардовского – не художественный мир, а лишь его общая схема, модель, инвариант, что не уменьшает ее ценности: именно такие, пусть лишь интуитивно представляемые «формулы узнавания» позволяют нам ориентироваться в жанровом репертуаре и оценивать оригинальность конкретного произведения «формулой отклонения».
При всей пародийности описания Твардовского видно, что в перечислении мотивов он учитывает все базовые уровни мира: персонажей (председатель/пред, его заместитель/зам, парторг, министр, она и он передовые, дед), фабульные коллизии, включая экспозицию, кульминацию и развязку (метод новой кладки, буран, прорыв, аврал), предметные детали и календарную привязку хронотопа (мотор, запущенный впервые, коммунизм).
К мотивной структуре особенно чуткими оказываются поэты. Столь же любопытную (хотя и с большей, чем у Твардовского, язвительностью) опись мотивов некоторых жанров столетней давности предложил в свое время В. Маяковский, махом спародировав и бытовиков, и символистов, и поэтов Пролеткульта, задев даже Чехова с Блоком.
«И поэзия и проза имели свои языковые каноны.
Поэзия – засахаренные метры (ямбы, хореи или винегрет „свободного стиха“), особый „поэтический“ словарь (конь, а не лошадь, отрок, а не мальчишка и прочие „улыбки – зыбки“, „березки – слезки“) и свои „поэтические“ темочки (любовь, ночь – раньше, пламени, кузнецы – теперь).
Проза – особо ходульных героев (он + она + любовник = новеллисты; интеллигент + девушка + городовой = бытовики; некто в сером + незнакомка + христос = символисты) и свой литературно-художественный стиль (1. „солнце садилось за холмом“ + полюбили или убили = „за окном шелестят тополя“; 2. „скажу ето я тебе, Ванятка“ + „председатель сиротского суда пил горькую“ = мы еще увидим небо в алмазах; 3. „как странно, Аделаида Ивановна“ + ширилась жуткая тайна = в белом венчике из роз)»[308].
Таким образом, модель жанра – это многоуровневая система мотивов.
Для некоторых «формульных жанров» такая работа систематизации уже проделана. Но большинство жанров русской литературы ХIХ – ХХ веков еще ожидают своей образцовой описи, инвентаризации.
Мотив – это элемент любого базового уровня произведения, выделенный, акцентированный за счет повтора. Следующие элементы этого вертикального уровня выделяются путем других эстетических операций (иногда в сочетании с тем же повтором).
Мир произведения, как мы уже говорили, – возможный мир, содержащий в себе особую норму условности, которая изменяется по жанрам и эпохам. Неосознаваемая, конвенциальная условность не подвергается сомнению и оценивается как правдоподобие. Этому критерию подчиняется не только реалистический роман с подробно выписанными характерами и историческими обстоятельствами. Другие нормы и формы условности существуют в волшебной сказке, классической трагедии с ее правилом трех единств, водевиле или фантастическом романе. Такую условность в эстетике называют первичной.
Нарушение этой условности ведет к возникновению особых, акцентированных образов на каждом уровне художественного мира, получающих, как и мотивы, некоторые дополнительные характеристики.
Персонажа (чаще всего), элемент хронотопа (пейзажную деталь) или фабульную ситуацию можно резко преувеличить, вывести за пределы характерной для этого жанра конвенции. В итоге мы получим гиперболу как образ, а не как стилистическую фигуру.
Такая гипербола – постоянный прием поэтики Гоголя. «Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами перетянулись золотым очкуром. <…> Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст»[309]. – «Редкая птица долетит до середины Днепра»[310] («Страшная месть»).
В. Я. Брюсов и Андрей Белый считали гиперболу главным гоголевским изобразительным приемом, вырастающим из повтора и включающим гиперболы «количественные, качественные, изобразимые, не изобразимые, дифирамбы, гротески, содержательные и пустые». Некоторые гоголевские персонажи (Петух, Яичница, Довгочхун) были для Белого «обутыми и одетыми гиперболами». И даже гоголевскую творческую биографию он рассмотрел сквозь гиперболическую призму: «Острие гиперболической пирамиды вошло в сердце Гоголя: смерть Гоголя – самоубийство. <…> Гоголь отравился гиперболами»[311].
Резкое, нарушающее норму правдоподобия столкновение каких-то элементов дает алогизм, который опять-таки может пронизывать весь текст – от языкового уровня (оксюморон, парадокс) до алогического развития фабулы и характеристики персонажей.
Заострение и систематическое применение алогизма приводят к гротеску – образу, строящемуся на резком контрасте, сочетании несочетаемого, уже не количественно гиперболических, а на качественных, фантастических, невозможных преувеличениях.
Химеры, кентавры, драконы и прочие чудовища – фольклорные гротескные образы. Позднее гротеск становится основой «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле, гоголевского «Носа», «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина.
Отвлеченная мысль, понятие, идея, закрепленные в предметном образе, называются аллегорией, аллегорическим образом. Аллегория, как мы помним, является основным признаком басенного жанра. Однако аллегоричны и сказки Салтыкова-Щедрина, горьковские «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике».
Наконец, инверсия двух основных планов аллегории (то есть движение от конкретного образа к его смыслу, идее) и придание обобщенному плану неявного, размытого, ассоциативного характера являются спецификой символа.
Аллегорические образы однозначны и опираются на культурный контекст. Символические образы многозначны (обычно метафорически говорят об их принципиальной неисчерпаемости) и формируются всякий раз заново, индивидуально в конкретном произведении. Аллегорические образы знают, символические чувствуют, интерпретируют и понимают.
Горьковские Сокол и Уж однозначно реализуют идею восхищения «безумством храбрых» и осуждения трусливой осторожности.
Не то в чеховской «Чайке». Убитая птица появляется в одной из сцен, в конце еще раз вспоминают о ее чучеле. В сюжете, придуманном писателем Тригориным, этот образ тяготеет к однозначности аллегории: «Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая как вы, любит озеро, как чайка, и счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку».
Однако символ, ставший заглавием чеховской пьесы, не поддается столь однозначному объяснению. Этот образ соотносится не только с неудачной сценической карьерой и драматической жизнью Нины Заречной, но и с самоубийством Треплева, и с забывчивостью Тригорина, который использовал «сюжет для небольшого рассказа», а потом забыл и о нем, и о девушке, послужившей основой его аллегории, и о несостоявшихся судьбах других персонажей. Аллегорическая тригоринская чайка стала частью многозначного чеховского символа.
Формы повествования Кто рассказал историю?
Специфика эпического рода, как мы помним, определяется сочетанием двух времен: времени действия, событийного времени, и времени повествования, события рассказывания.
Горизонтальные уровни художественного мира выстраиваются вокруг событийного времени. Только что описанный вертикальный уровень сюжетов и мотивов также встраивается в эти уровни, не имея собственного языка, собственного набора элементов.
Обращаясь к повествованию, мы дистанцируемся от созданного мира, рассматриваем его со стороны, в другой плоскости, переносим центр внимания уже не на объективно-изобразительный, а на конструктивный характер произведения.
Переход на вертикальные уровни – это постепенное движение внутри произведения от полюса созданного мира к полюсу автора-создателя. Не случайно наивный читатель, воспринимающий созданный мир в его самодостаточности, не осознает, как правило, проблем повествования, как не осознает и внешнего, языкового уровня произведения. Не случайно и то, что многие вопросы повествования впервые со всей остротой поставили литературоведы-формалисты, для которых основным был вопрос «Как сделано литературное произведение?».
Повествовательный уровень, как видно уже из его определения, характерен лишь для эпического рода. Он отсутствует в драме, где его функции до известной степени берут на себя ремарки. В «пьесе для чтения» проблема рудиментарного повествования все-таки возникает, хотя, конечно, не имеет столь существенного значения, как в эпосе.
Разговор о повествовании начинается с нарушения конвенции, с постановки вопроса: «Кто рассказывает эту историю?»
Проще всего дать на него «грамматический» ответ: Он или Я[312].
Исходная точка в классификации – противопоставление повествования от третьего лица и повествования от первого лица (в этом случае часто употребляют немецкий термин Ich-Erzählung или его дословный перевод Я-повествование)[313].
В предыдущей главе мы уже цитировали по другому поводу суждение М. А. Рыбниковой, возводившей эти формы к разным исходным жанрам: «Повествующий сказку – вездесущ и всевидящ, он знает все; и слушателю не приходит в голову спросить: откуда ты это знаешь? Форма рассказа – повествование очевидца и участника событий. Рассказчик оговаривается, откуда он это знает, и повествует лишь о том, что он сам действительно видел»[314].
Трудно сказать, какая из этих форм генетически первична, но в логическом, синхронном плане «сказка» кажется немаркированной, базовой, исходной формой, в сравнении с которой «рассказ» воспринимается как значимое, маркированное отклонение.
Основная установка повествования от третьего лица – установка на всезнание – свобода предметных и сюжетных способов построения мира, внешних и внутренних характеристик персонажей. Для повествующего в третьем лице субъекта нет закрытых зон, временных, пространственных и психологических ограничений. Художественный мир для него абсолютно подвижен и проницаем. Мгновенная, без всяких мотивировок, смена пространства и времени, сочетание происходящих в разных местах фабульных и сюжетных эпизодов, «прозрачность» не только поступков, но и сознания персонажей являются типичными признаками этого типа повествования.
По отношению к изображаемому миру автор выступает как творящий его невидимый и всемогущий Бог («дух рассказа», по выражению Т. Манна). Эта объективная форма пронизывает все эпические жанры – от эпопеи до современного романа, от сказки до новеллы, но особенно важна в больших жанрах, произведениях широкого временного и персонажного охвата. Она развязывает писателю руки, освобождает его от необходимости скрупулезно мотивировать каждое сюжетное движение и психологическое наблюдение.
В «Войне и мире», самом большом по объему произведении русской классики (циклы романов бывали и длиннее, но это уже запредельный жанр), действие мгновенно перебрасывается из города в деревню, из петербургского салона на московскую улицу, из ставки Кутузова в лагерь французов, с поля боя в светскую гостиную. Автор одновременно может воспроизвести слово персонажа, выявить в нем подтекст, заднюю мысль, продемонстрировать его совпадение или несовпадение с поступком (этот треугольник, как мы помним, Толстой выстроил уже в «Истории вчерашнего дня»). Причем для мотивировки многочисленных повествовательных переходов Толстому чаще всего нужно всего лишь сменить номер главки. Если мы попробуем мысленно перевести форму толстовского романа-эпопеи в «Я-повествование», сразу станет заметно, что в ней толстовский сюжет неосуществим. Невозможно найти персонажа, который всякий раз оказывался бы в нужное время в нужном месте и объединил, «сшил» своим присутствием весь разнородный романный мир.
Ich-Erzählung, следовательно, всегда ограничение, добровольный аскетизм со стороны автора-создателя. Однако регулярное обращение к ней разных писателей в разные эпохи связано, конечно, с полноценной эстетической компенсацией за отказ от повествовательного всеведения.
Доминантные установки повествования от первого лица – презумпция достоверности и эффект оправдания.
Рассказчик, свидетель и участник событий, «повествует лишь о том, что он сам действительно видел». Поэтому повествование от первого лица обычно распространено на сломе культурных эпох, когда в литературу активно вводятся новые темы и герои, нарушается «сказочная» конвенция и вопрос «Откуда он это знает?» приобретает особую остроту.
Почти во всем противоположные романы Д. Дефо «Робинзон Крузо» (1719) и Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» (1726) – идиллическая робинзонада о безграничных способностях человека к воспроизведению привычного типа культуры и беспощадная сатира на человечество, демонстрация условного, формального, абсурдного характера той же самой культуры – совпали в форме повествования. Вероятно, изложенные в объективной манере, эти книги потеряли бы часть той убедительности, которая заставляла некоторых читателей присылать Свифту письма с просьбой уточнить координаты островов лилипутов и великанов, чтобы их можно было нанести на географическую карту. (Эта форма настолько распространена в фантастической литературе и вообще в изображении экстремальных, «пограничных» состояний, что можно предложить своеобразную гипотезу: чем неправдоподобнее для данного типа культуры фабула произведения, тем в большей степени она требует обращения к перволичному повествованию.)
С повествованием от первого лица, сложным сочетанием различных «Я-повествований» связаны крупнейшие произведения русской литературы 1830–1840-х годов ХIХ века, обращавшиеся от условного «мира за холмом» к обыденному «миру за окном» («Повести Белкина», «Капитанская дочка», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Герой нашего времени», «Бедные люди», «Записки охотника»).
Через столетие ситуация повторится: попытки воспроизвести новую послереволюционную реальность часто предпринимались в форме повествования от первого лица: многие тексты «Конармии» Бабеля, рассказы Зощенко, повести и рассказы Вс. Иванова, «Чапаев» Д. Фурманова.
С другой стороны, «понять – значит простить». «Входя в положение» повествующего субъекта, глядя на происходящее его глазами, не только проникая в его внутренний мир, но и как бы сливаясь с ним, возможный читатель должен относиться к нему с иными оценочными критериями, чем к другим персонажам. Поэтому изображение антигероя часто связано с обращением к «Я-повествованию» – уже в связи с эффектом оправдания. «Записки из подполья» (здесь, как мы помним, и появилось определение антигерой) открывают череду антигероев в литературе ХХ века («Падение» и «Посторонний» А. Камю, «Жестяной барабан» Г. Грасса, «Лолита» В. Набокова).
Изредка в литературе встречается и «Вы-повествование».
«Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо… На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. <…> Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега… Вы едете – едете мимо церкви, с горы направо, через плотину… Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется»[315].
На самом деле подобная форма оказывается вариацией повествования от первого лица. Автор объединяет себя с читателем-адресатом воображаемым «вы», но сохраняет позицию включенного наблюдателя. Его взгляд и эмоции определяют развертывание повествования. Не случайно в цитированном очерке, завершающем «Записки охотника», «Вы-повествование» заключено в рамку повествования от первого лица. «Читателю, может быть, уже наскучили мои записки…» (начало) – «Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия» (конец).
Однако исходная повествовательная оппозиция имеет обобщенный характер и может быть конкретизирована. Подобно тому как литературный род реализуется в системе жанров, повествование от третьего и от первого лица реализуется в конкретных текстах в нескольких типологических вариантах. В особенности это касается повествования от первого лица.
Внутри Ich-Erzählung можно наметить три основные вариации «повествующего Я» в зависимости от характера этого Я и его места по отношению к событийному миру.
Во-первых, Я-повествователем может быть тот же самый всевидящий и всезнающий автор, который «подобно Господу Богу, видит все с высоты» (Г. Флобер). Но он существует в особой позиции, которую Ю. В. Манн вслед за Ф. Штанцелем называет аукториальной повествовательной ситуацией: «Эта ситуация характеризуется тем, что автор сюжетно не принадлежит к миру своего персонажа (персонажей) и пути их не пересекаются, что не исключает авторской активности не только в форме номинального самоопределения („я“ или „мы“), кратких или более развернутых высказываний, но в форме достаточно явных поступков и действий. Сохраняется, однако, дистанция автора от всего изображаемого»[316].
Другими словами, в аукториальной повествовательной ситуации «Я-повествователь» всегда находится вне мира произведения, являясь читателю, как Бог изредка являлся людям. Именно поэтому для него возможно то же самое всезнание и всевидение, как для безличного «духа рассказа».
Повествующего субъекта и в этом случае принято называть автором и отождествлять с тем человеком, имя которого стоит на обложке книги (о различии между автором как человеком, биографическим автором и автором как повествователем мы поговорим позднее).
Следующие варианты «Я-повествования» связаны с включением повествующего субъекта внутрь изображаемого мира. Из безличного или лишь формально выявленного «духа рассказа» он превращается в персонажа, героя. Однако здесь опять-таки возможны два существенно различных варианта (впервые четко разграниченные в 1920-е годы в полемике М. М. Бахтина с формалистами).
Б. М. Эйхенбаум, одним из первых обозначивший проблему, увидел в сказе установку на устную речь: «Мы привыкли к школьному делению словесности на устную и письменную. Но, с одной стороны, былина или сказка „вообще“, вне сказителя, есть нечто абстрактное. С другой стороны (и вот это-то особенно интересно), элементы сказительства и живой устной импровизации скрываются и в письменности. Писатель мыслит себя сказителем и разными приемами старается придать письменной речи иллюзию сказа»[317].
Статья «Как сделана „Шинель“ Гоголя», может быть, самая знаменитая работа русского формализма, тоже начинается с уточняющего определения сказа: «Композиция новеллы в значительной степени зависит от того, какую роль в ее сложении играет личный тон автора. То есть является ли этот тон началом организующим, создавая более или менее иллюзию сказа, или служит только формальной связью между событиями и потому занимает положение служебное. Примитивная новелла, как и авантюрный роман, не знает сказа и не нуждается в нем. Потому что весь ее интерес и все ее движения определяются разнообразной сменой событий и положений. Сплетение мотивов и их мотивация – вот организующее начало примитивной новеллы. <…>
Совершенно иной становится композиция, если сюжет сам по себе, как сплетение мотивов при помощи их мотивации, перестает играть организующую роль, то есть если рассказчик так или иначе выдвигает себя на первый план, как бы только пользуясь сюжетом для сплетения отдельных стилистических приемов. Центр тяжести от сюжета (который сокращается здесь до минимума) переносится на приемы сказа, главная комическая роль отводится каламбурам, которые то ограничиваются простой игрой слов, то развиваются в небольшие анекдоты. Комические эффекты достигаются манерой сказа»[318].
Хотя Б. М. Эйхенбаум выделял повествующий (ограничение шутками и звуковыми каламбурами) и воспроизводящий (приемы словесной мимики и жеста, прихотливые синтаксические расположения) типы сказа, более важные различия остались незафиксированными. В одном ряду сказовых текстов в «Иллюзии сказа» фигурировали «Записки охотника» и ранние повести Тургенева, Гоголь с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и «Шинелью», Лесков, Ремизов, Андрей Белый.
В. В. Виноградов заметил, что в статье о «Шинели» «изучается не структура „сказа“ в собственном смысле, а только его „фонетика“», и предложил собственное уточняющее определение, где доминантой стала категория не устной, а монологической речи: «Сказ – это реальность индивидуально-художественных построений, которые имеют свои соответствия в системе языка. Сказ – это своеобразная комбинированная форма художественной речи, восприятие которой осуществляется на фоне сродных конструктивных монологических образований, бытующих в общественной практике речевых взаимодействий. Сказ – это художественное построение в квадрате, так как он представляет эстетическую надстройку над языковыми конструкциями (монологами), которые сами воплощают в себе принципы композиционно-художественного оформления и стилистического отбора. <…> Сказ – это своеобразная литературно-художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи, которая воплощает в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке непосредственного говорения. Совершенно ясно, что „сказ“ не только не обязан состоять исключительно из специфических элементов устной живой речи, но может и вовсе не заключать их в себе (особенно если его словесная структура вся целиком укладывается в систему литературного языка)»[319].
Камнем преткновения, с трудом решаемой проблемой и для этого определения оказывалось творчество Тургенева. В. В. Виноградов делал специальную оговорку: «Необходимы для полного восприятия семантики сказа авторские указания на сопутствующие сказу условия. Ведь тогда, когда рассказчик ведет речь свою „как по писаному“, то есть когда он, оставаясь в сфере книжных норм, свободно владеет их устным употреблением, „сказ“ с трудом может быть опознан стилистически, особенно в хронологическом отдалении, если нет прямых указаний на обстановку, рассказчика и слушателей. Так у Тургенева в новеллах: „Андрей Колосов“, „Три портрета“ и др.»[320].
Специально на тургеневском «Я-повествовании» остановился и Ю. Н. Тынянов в примечании к статье «О литературной эволюции»: «В разное время в разных национальных литературах замечается тип „рассказа“, где в первых строках выведен рассказчик, далее не играющий никакой сюжетной роли, а рассказ ведется от его имени (Мопассан, Тургенев). Объяснить сюжетную функцию этого рассказчика трудно. Если зачеркнуть первые строки, его рисующие, сюжет не изменится. (Обычное начало-штамп в таких рассказах: „N. N. закурил сигару и начал рассказ“.) Думаю, что здесь явление не сюжетного, а жанрового порядка. „Рассказчик“ здесь ярлык жанра, сигнал жанра „рассказ“ – в известной литературной системе»[321]. Дальше в этом примечании по контрасту с Тургеневым был упомянут Лесков, у которого «сказ» перерос жанровую функцию, и отмечено, что вопрос требует особого исследования.
Во всех работах формальной школы проблема сказа рассматривалась лишь в одной плоскости: стилистики, жанра, играющего словом автора. Другую смысловую целостность в произведении формалисты видеть отказывались: герой для них был лишь системой приемов, явлением стиля.
Разрешить «проблему Тургенева» и четко отграничить друг от друга две разные формы «Я-повествования» смог М. М. Бахтин, когда перевел вопрос из области стиля в область мира, поняв сказ как особый тип взаимоотношения героя и автора.
Сказ для М. М. Бахтина – часть более общей проблемы соотношения «своего», прямого, авторского слова и «чужого», изображающего слова персонажа-героя. В связи с этим М. М. Бахтин отграничивает две принципиальные установки сказа: на устную форму повествования и на чужую речь, чужое слово: «И рассказ, и даже чистый сказ могут утратить всякую условность и стать прямым авторским словом, непосредственно выражающим его замысел. Таков почти всегда сказ у Тургенева. Вводя рассказчика, Тургенев в большинстве случаев не стилизует чужой индивидуальной и социальной манеры рассказывания. Например, рассказ „Андрей Колосов“ – рассказ интеллигентного литературного человека тургеневского круга. Так рассказал бы и он сам, и рассказал бы о самом серьезном в своей жизни. Здесь нет установки на социально чужой сказовый тон, на социально чужую манеру видеть и передавать виденное. Нет установки и на индивидуально-характерную манеру. Тургеневский сказ полновесно значим, и в нем один голос, непосредственно выражающий авторский замысел. Здесь перед нами простой композиционный прием. Такой же характер носит рассказ в „Первой любви“ (представленный рассказчиком в письменной форме). <…>
Нам кажется, что Лесков прибегал к рассказчику ради социально чужого слова и социально чужого мировоззрения и уже вторично – ради устного сказа (так как его интересовало народное слово). Тургенев же, наоборот, искал в рассказчике именно устной формы повествования, но для прямого выражения своих замыслов. Ему действительно свойственна установка на устную речь, а не на чужое слово. <…> Поэтому он избирал рассказчика из своего социального круга. Такой рассказчик неизбежно должен был говорить языком литературным, не выдерживая до конца устного сказа. Тургеневу только важно было оживить свою речь устными интонациями»[322].
В другой работе 1920-х годов, вышедшей из круга М. М. Бахтина (или даже написанной им), намечено два направления «в динамике речевой взаимоориентации авторской и чужой речи» – линейный и живописный стили. Для первого характерна «полная стилистическая однородность всего контекста (автор и все его герои говорят одним и тем же языком», для одного из вариантов второго (в живописном стиле выделено несколько вариантов) – перенос речевой доминанты в чужую речь. «В художественных произведениях это часто находит свое композиционное выражение в появлении рассказчика, замещающего автора в обычном смысле слова. Речь его так же индивидуализирована, колоритна и идеологически неавторитетна, как и речь персонажей. Позиция рассказчика зыбка, и в большинстве случаев он говорит языком изображаемых героев»[323].
Если линейный стиль в этом понимании может быть соотнесен с тургеневским типом повествования, с его установкой на устную речь и формального, близкого автору героя-рассказчика, то живописный стиль оказывается шире сказа как открытой, объявленной установки на чужое слово. Этот стиль оказывается возможным и в неперсонифицированной форме, когда рассказчик тем не менее говорит языком изображаемых героев, причем социально и психологически далеких от культурной среды с ее нормами устной литературной речи.
Сведя воедино эти наблюдения и определения, уточнив терминологию, мы получаем внутри оппозиции повествования от третьего лица и Ich-Erzählung пять основных типов повествования и, соответственно, пять субъектов повествования, распределяющихся между полюсами автора и персонажа.
К форме безличного авторского повествования относятся «Отцы и дети» и другие тургеневские романы, «Преступление и наказание» и «Идиот» Достоевского, «Обломов» Гончарова, «Ионыч» и многие другие чеховские тексты. Его обычные признаки – третье лицо, аукториальная ситуация и ориентация повествования на общелитературную стилистическую норму, прямое слово (которое в реалистической прозе особенно отчетливо выделяется на фоне речевого разноречия, характерного для речи персонажей).
Авторское повествование от первого лица не создает непрерывной линии. Оно обычно существует в виде отдельных вкраплений, стилистических фрагментов, в которых происходит переход от безличной манеры к «повествующему авторскому Я». Однако именно эти фрагменты обычно доминируют, создавая впечатление особой суггестивности повествования – субъективно-лирической, возвышенно-пророческой, углубленно-философской интонации.
Такова повествовательная форма «Мертвых душ» (лирические отступления), «Войны и мира» (историко-философские фрагменты, переходящие в сплошную «размышляющую» часть эпилога).
В «Мастере и Маргарите», в каждом из трех романов в романе (роман Мастера об Иешуа и Понтии Пилате, лирический роман о любви Мастера и Маргариты, гротескно-сатирический роман о явлении Воланда, московская дьяволиада), возникает свой автор-повествователь: объективный строгий летописец («В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат»), патетический лирик («За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»), простодушный болтун, собиратель сплетен и слухов («Дом назывался „Домом Грибоедова“ на том основании, что будто некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не владела – мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. <…> Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже знаменитый писатель читал отрывки из „Горя от ума“ этой самой тетке, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это»).
Личное повествование от лица героя с непроявленным стилистическим обликом, с общелитературной, близкой объективному авторскому повествованию речевой манерой чрезвычайно характерно, как мы уже видели в спорах о сказе, для Тургенева.
В такой форме написаны «Записки охотника» и более двадцати тургеневских повестей и рассказов.
А. П. Чудаков фиксирует парадокс тургеневского повествования: «1) Повествователь произведений, романов, повестей и рассказов в третьем лице ведет себя как свободный рассказчик. Снимается основное ограничение этой формы – ограничение субъективности авторской позиции. 2) Рассказчик же произведений от первого лица не стесняет себя обычными рамками наблюдателя-нелитератора, ведет себя как всеведущий повествовователь-романист, которому доступны любые сведения из жизни героев, который не объясняет, откуда он их взял, и который волен изложить их в отточенной литературной манере. Там и здесь снимается главное ограничение данной повествовательной формы. Таким образом, повествователь получает черты рассказчика, а рассказчик – черты полноправного автора»[324].
Однако доминантой этого взаимопроникновения оказывается все-таки позиция автора-повествователя, которой (в аукториальной ситуации) отнюдь не противоречит субъективное проявление авторского Я. Личный повествователь у Тургенева близок автору, как чаще всего бывает при установке на устную форму рассказа.
В той же манере личного повествования выдержаны «Повести Белкина», повести и рассказы Чехова («Скучная история», «Моя жизнь», «Дом с мезонином»), Бунина («Жизнь Арсеньева», рассказы из «Темных аллей»).
Особый вариант личного повествования – изображение автора как героя. Аукториальная ситуация в этом случае исчезает, автор переступает границу мира и оказывается в одном хронотопе с персонажами. Истоки такого повествования – в «Евгении Онегине»: «Условий света свергнув бремя, / Как он, отстав от суеты, / С ним подружился я в то время… <…> / Онегин был готов со мною / Увидеть чуждые страны; / Но скоро были мы судьбою / На долгий срок разведены» (глава 1, строфа XLV). Еще раньше оно встречается в «Бедной Лизе» Карамзина. В таком случае принято говорить об образе автора (к другим значениям этого термина мы еще обратимся).
Эта манера является обязательной для автобиографической прозы. В литературе ХХ века она используется в «Жизни Арсеньева» И. А. Бунина, во многих повестях и рассказах С. Д. Довлатова.
Проблема сказа, как мы видели, начала разрабатываться на основе «младшей линии» русской прозы ХIХ века (ранний Гоголь, Лесков, Андрей Белый, Ремизов). В ХХ веке почти полностью на сказе строилось творчество Зощенко, для которого живописно-характеризующий образ рассказчика оказывается практически всегда важнее фабулы; некоторые ключевые новеллы бабелевской «Конармии» («Письмо», «Соль», «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча»).
Неперсонифицированный сказ мы обнаружим практически у тех же авторов – Лескова («Левша»), Зощенко, фольклорный его вариант – у П. Бажова («Малахитовая шкатулка»), В. Белова («Бухтины вологодские»).
Если отвлечься от грамматических форм воплощения и принять во внимание лишь противопоставление автора и героя, пять повествовательных типов можно свести к трем: автор-повествователь (в безличном и личном вариантах) – герой – личный повествователь, близкий автору по манере речи и системе оценок (установка на устную речь и однородный линейный стиль) – герой-рассказчик, персонаж-характер, являющийся не только повествовательной призмой, но и предметом изображения (установка на чужое слово и живописный, изображающий стиль).
Эти базовые повествовательные формы разнообразно усложняются в конкретной практике.
Повествование от первого лица возможно не только как имитация устного, обращенного к слушателю, к аудитории монолога (наиболее распространенная форма), но и как воспроизведение других речевых жанров: писем («Бедные люди» Достоевского), дневника («Дневник лишнего человека» Тургенева), внутреннего монолога («Кроткая» Достоевского).
Другой путь усложнения – сочетание разных форм повествования в одном произведении. В «Герое нашего времени» большая часть «Бэлы» написана в сказовой манере от лица рассказчика, Максима Максимыча, с традиционной вводной мотивировкой, которую Ю. Н. Тынянов считал шаблонной: «Он набил трубку, затянулся и начал рассказывать». «Максим Максимыч» – уже личное повествование, в котором не только продолжается история главного героя, но и строится образ автора, проницательного наблюдателя, в чем-то похожего на Печорина, но в главном отличного от него (психологический портрет Печорина, как мы помним, принадлежит именно ему). В «Журнале Печорина» (в нем тоже сочетаются устный монолог в «Тамани» и «Фаталисте» и собственно дневник в «Княжне Мери») личное повествование сохраняется, но его субъект меняется: теперь им становится сам главный герой.
«Герой нашего времени», таким образом, становится маленькой энциклопедией повествовательных форм (сказ, личное повествование; рассказ-диалог, рассказ-монолог, дневник; образ автора), хотя наиболее распространенное объективированное повествование от третьего лица здесь как раз отсутствует.
Наиболее существенная модификация исходных повествовательных форм связана не с их сочетанием, а с взаимопроникновением, интерференцией.
«Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось мало. Одним словом, дела были скверные», – начинается чеховский рассказ «Скрипка Ротшильда».
С точки зрения уже описанной нами типологии это повествование первого типа – объективное повествование от третьего лица. Однако такая квалификация будет ошибочной. Прочитаем текст чуть дальше: «Если бы Яков Иванов был гробовщиком в уездном городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его просто Яковом Матвеичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то Бронза, а жил он бедно, как простой мужик…»[325]
Герой рассказа – гробовщик. Оказывается, начиная повествование, автор смотрит на мир его глазами, воспроизводит его эмоции и интонации, его точку зрения. Но делается это не в форме прямой («Как жалко, что в этом чертовом городке такие живучие старики и у меня, гробовщика, мало работы») или косвенной («Яков Иванов со злостью думал, что в их маленьком городке редко умирают и потому у него мало работы») речи, а в иной форме, которую в лингвистике обычно обозначают как несобственно-прямую речь, а в литературоведении – чужую речь, чужое слово.
М. М. Бахтин, которому фактически принадлежит открытие и подробное описание этого феномена, придавал ему расширительный, в сущности, философский характер: «Под чужим словом (высказыванием, речевым произведением) я понимаю всякое слово всякого другого человека, сказанное или написанное на своем (то есть на моем родном) или на любом другом языке, то есть всякое не-мое-слово. В этом смысле все слова (высказывания, речевые и литературные произведения), кроме моих собственных слов, являются чужим словом. Я живу в мире чужих слов. И вся моя жизнь является ориентацией в этом мире, реакцией на чужие слова…»[326]
В применении к литературе эта форма определяется как слово с установкой на чужое слово, двухголосое слово или, в другом месте, речь в речи, высказывание в высказывании[327].
В «Проблемах поэтики Достоевского» выделено и описано целых четырнадцать разновидностей «слов с установкой на чужое слово» – стилистических, жанровых и композиционных. Важно прежде всего видеть их внутреннюю общность, смысловое ядро.
Чужое слово – это диалог, столкновение слова повествователя или рассказчика и другого голоса, слова персонажа, представленное, однако, не в форме отчетливо обозначенной, выделенной прямой или косвенной речи, а в размытом виде, путем отдельных вкраплений, «осколков» чужого стиля, взятых в «интонационные кавычки» (М. М. Бахтин).
Б. О. Корман различал формально-субъектную и содержательно-субъектную организацию текста, субъекта речи (кто говорит?) и субъекта сознания (от чьего лица говорит, чью позицию воспроизводит?)[328]. Чужое слово в этой терминологии – это присутствие в каком-то повествовательном фрагменте одного субъекта речи, но нескольких субъектов сознания.
Сфера чужого слова в литературе Нового времени чрезвычайно широка. М. М. Бахтин считал многоязычие, воспроизведение в авторской речи чужих слов, основой романа: «Язык романа – это система диалогически взаимоосвещающихся языков. Его нельзя описать и проанализировать как один и единый язык. <…> Язык романа нельзя уложить в одной плоскости, вытянуть в одну линию. <…> Если бы мы уничтожили все интонационные кавычки, все разделы голосов и стилей, все разнообразные отстояния изображенных „языков“ от прямого авторского слова, то мы получили бы бесстильный и бессмысленный конгломерат разнородных языковых и стилистических форм»[329].
С многоязычием М. М. Бахтин связывал и особый, созданный Достоевским жанр полифонического романа, в котором и авторская речь, и речь каждого героя пронизаны полемическими интенциями, чужими словами и реакцией на них.
В литературе Нового времени в связи с романизацией всех жанров чужое слово становится мощным изобразительным приемом, позволяющим автору решать сложные художественные задачи путем компрессии, сжатия, пропуска привычных способов оформления прямой и косвенной речи.
Рассмотрим фрагмент еще одного чеховского рассказа – «В усадьбе». Судебный следователь, образованный и деликатный человек, ездит в имение к опустившемуся, почти выжившему из ума старику-помещику с двумя дочерьми, любимой темой которого является разговор о торжестве «чумазых» и гибели России от наступающего хамства. Однажды герой не выдерживает и признается, что его отец был тем самым чумазым.
В сцене совместного обеда, предшествующей конфузной кульминации, повествование, как и во всем рассказе, ведется в третьем лице. «После ужина пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, приготовили ноты… Но отец продолжал говорить, и неизвестно было, когда он кончит. Они уже с тоской смотрели на эгоиста-отца, для которого, очевидно, удовольствие поболтать и блеснуть своим умом было дороже и важнее, чем счастье дочерей. Мейер – единственный молодой человек, который бывал в их доме, бывал – они это знали – ради их милого женского общества, но неугомонный старик завладел им и не отпускал его от себя ни на шаг»[330].
Эпизод дает внешнюю, объективную зарисовку сцены в гостиной: рояль, свечи и ноты, бесконечный разговор одного героя. В чужой речи одновременно изображается коллективное сознание дочерей, резкое возрастание их раздражения и недовольства (отец – эгоист-отец – неугомонный старик). Другие ее фрагменты (блеснуть своим умом – милое женское общество) в контексте рассказа обнаруживают иронию повествователя (ибо «ум» Рашевича сводится к злобным общим местам, а «милое женское общество» дочерей – к вульгарному кокетству и умению со вкусом выпить за обедом рюмку настойки). Понять эти оценки как прямое слово повествователя было бы ошибкой, искажением смысла.
Несколько «осколков» чужой речи, полтора десятка слов в «интонационных кавычках» позволяют выстроить компактное многоплановое повествование, которое в обычных формах авторской и прямой речи вряд ли было бы осуществимо или, по крайней мере, оказалось бы намного длиннее.
Без умения видеть, правильно вычленять и понимать разнообразные формы чужого слова, анализ современной литературы вряд ли возможен, ибо в ней, особенно в некоторых образцах модернизма и постмодернизма, прямое, безоговорочное слово повествователя занимает очень малое место.
С повествовательным уровнем связано и понятие точки зрения.
Автор специального исследования Б. А. Успенский не дает точного определения, но рассматривает точку зрения как проблему поэтики композиции, в одном ряду с перспективой в живописи и монтажом в кино. В «Поэтике композиции» предлагается четырехчленная классификация: точка зрения в плане идеологии, фразеологии, пространственно-временной характеристики и психологии[331].
В нашем понимании, точка зрения – это внешняя и внутренняя позиция повествующего субъекта в мире произведения. Как элемент вертикального уровня она, следовательно, соотносится с базовыми, горизонтальными уровнями произведения. Типология повествователей, о которой шла речь, может быть представлена как система точек зрения на событийном, действенном уровне.
Каким образом фабула превращается в сюжет, кто может рассказывать историю? Рассказ может идти с точки зрения автора (безличного или обнаруживающего свое Я в аукториальной ситуации), личного повествователя, героя, близкого автору, с непроявленным, литературным, линейным словом или героя-рассказчика (персонифицированного или неперсонифицированного), с эксцентричным, резко отличным от авторского, словом и создаваемым с помощью этого слова характером-типом-маской.
Естественно, возможны самые разнообразные комбинации исходных типов, о чем мы уже говорили. Одним из самых примечательных и распространенных в литературе последних полутора веков становится так называемое персональное повествование, при котором повествователь на событийном уровне, как и положено, безличен, непроявлен, но на уровне пространственно-временном и персонажном последовательно придерживается точки зрения одного или нескольких персонажей[332]. Регулярно начал применять эту форму, а также систематически использовать понятие точки зрения американский писатель Г. Джеймс. В русской литературе персональное повествование наиболее характерно для Чехова, называвшего его рассказом «в тоне и духе» героев[333].
Что такое чужое слово? Это гибридная конструкция, совмещение в рамках одного лингвистического целого точки зрения повествователя (им может быть как собственно повествователь, так и личный повествователь или рассказчик) с точкой зрения другого персонажа.
На персонажном уровне проблема точки зрения встает как проблема изображения разных героев извне и изнутри: герой может или описываться с точки зрения внешнего наблюдателя (безличного или личного повествователя, другого героя), или рассказывать о себе. Б. А. Успенский называет эту точку зрения психологической.
Наконец, на уровне хронотопа точка зрения – это ответ на вопрос, откуда в данном случае ведется повествование, то есть конкретизация повествователя в пространстве и времени художественного мира.
Фразеологическая точка зрения, как и словесный уровень вообще, не имеет, на наш взгляд, самостоятельного значения в структуре художественного мира. С помощью лингвистических средств формируется точка зрения на других уровнях. Идеологическая точка зрения имеет отношение уже не к повествовательному, а к смысловому уровню, о котором мы будем говорить в дальнейшем.
Так что практическое значение при анализе повествовательного уровня имеют лишь два вопроса: кто говорит (автор-повествователь или герой) и откуда говорит (с какой позиции в пространстве-времени)?
Конкретные же классификации повествования могут быть весьма дифференцированными.
М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» выделяет, как мы уже упоминали, четырнадцать разновидностей чужого слова, а всего он насчитывает их семнадцать, оговариваясь, с одной стороны, что «возможна более глубокая и тонкая классификация с большим количеством разновидностей, а может быть, и типов», а с другой – что «конкретное слово может принадлежать одновременно к различным разновидностям и даже типам»[334].
В типологии Г. Маркевича четыре типа повествователя, но пятнадцать его разновидностей, причем классификация тоже сопровождается оговоркой: «Иллюстрировать различные разновидности автора-повествователя можно на материале, взятом из разных глав „Куклы“ Б. Пруса»[335].
Может быть, стоит в данном случае вспомнить старый философский принцип – «бритву Оккама»: «Не следует умножать число сущностей сверх необходимого».
Любая форма, разновидность, точка зрения присутствует в художественном мире пунктирно – как тенденция, установка, доминанта. Поэтому более рациональным путем исследования оказывается не классификация, а индивидуализация. При четком представлении об основных типах повествования логичнее сразу заняться выяснением конкретного своеобразия повествовательной структуры в «Бесах», «Кукле», «Мастере и Маргарите».
Сталкиваясь с проблемой сочетания разных повествователей и точек зрения, мы переходим на следующий вертикальный уровень произведения – композиционный.
Композиция текста и мира Как сложить целое?
Композиция (лат. compositio – составление, соединение) – построение произведения, динамическая организация его структуры. Это одно из главных понятий литературного анализа, восходящее к традициям риторики, науки об ораторском искусстве. Расположение считалось одной из пяти частей классической риторики наряду с нахождением, словесным выражением, запоминанием и произнесением.
Из риторики понятие попадает в поэтику. «Главная проблема частной поэтики – композиция, то есть взаимная соотнесенность всех эстетически значимых элементов произведения <…> в их функциональной взаимосвязи с художественным целым»[336].
Значение композиции в конкретном произведении (им, как считает М. Л. Гаспаров, и занимается частная поэтика) неоднократно подчеркивали как теоретики, так и практики искусства.
«Для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязательна организация – отбор и творческое сочетание элементов, отраженных и преображенных словом»[337], – замечает Л. Я. Гинзбург.
Отбор и сочетание – это и есть композиция, которая, следовательно, оказывается более важным элементом эстетического объекта, чем вымысел.
Роль композиции как одной из главных аналитических категорий была заново осознана после рождения «десятой музы» – кино и теоретического осмысления принципов кинообраза.
Работать с киноматериалом было легче, ибо в кино гораздо проще, чем в литературе или пластических искусствах, решается проблема «эстетически значимого элемента», композиционной единицы. Этой единицей (если иметь в виду классическую, «доцифровую» эпоху) оказывается кадр – эпизод, снятый кинокамерой в режиме непрерывного времени, от включения до выключения (материально кадр – кусок пленки, состоящий из большого количества кадров – отдельных изображений). Кадр неоднократно сопоставляли с отдельным словом или предложением.
Аналогом литературной композиции в теории и практике кино стал монтаж, отбор и сочетание уже не словесных эпизодов, а зафиксированных на пленке кадров.
Значимость монтажа как способа создания смысла замечательно продемонстрировал эксперимент, проведенный в начале 1920-х годов режиссером Львом Кулешовым и вошедший в историю эстетики под названием «эффект Кулешова». Режиссер монтировал, соединял один и тот же кадр – крупный план известного актера немого кино Ивана Мозжухина – с другими кадрами: тарелкой супа, ребенком в гробу, лежащей на диване девушкой. Смотревшие этот микрофильм из двух кадров зрители читали на лице актера разные чувства: голод, скорбь, влюбленность.
Монтаж (композиция) перестраивал исходные изображения, создавал новый смысл, не содержащийся ни в одном из эпизодов-кадров по отдельности.
С. М. Эйзенштейн, знаменитый режиссер и теоретик кино, в неоконченной книге «Монтаж» (1937)[338] и других своих работах увидел в монтаже универсальную категорию искусства, определяющую его развитие от Гомера до наших дней.
Истоки монтажа («контекстного сопоставления») С. М. Эйзенштейн находил в литературе. В его книге есть страницы о монтажном методе у Гомера, Шекспира, Джойса, французского поэта Малларме, а также большой раздел «Пушкин-монтажер», где анализируются сцены боев в «Руслане и Людмиле» и «Полтаве». Классическим образцом композиционного (монтажного) построения Эйзенштейн считал «Медного всадника». Эти фрагменты должны были стать частями книги «Пушкин и кино».
Для С. М. Эйзенштейна монтаж был главным средством создания мира произведения и выражения смысла, единством единично-изобразительного и обобщенно-образного, то есть композиция одновременно оказывалась способом изложения истории и выражения концепции.
В литературе анализ композиции осложняется неоднозначностью выделения «эстетически значимых элементов». Композиционный уровень не имеет собственного языка. Композиция – построение произведения из элементов других уровней. Композиционный анализ, следовательно, зависит от набора этих элементов, другими словами, оказывается производным от теоретического представления структуры произведения.
Для Б. И. Ярхо композиция разделялась на частную (фоническую, стилистическую и поэтическую, то есть построение системы образов и мотивов) и общую, или комбинированную, которая исследует «связи между формами различных областей»[339].
М. Л. Гаспаров в только что цитированной словарной статье «Поэтика» несколько дополняет эту схему, перечисляя в скобках в пропущенной нами ранее части цитаты такие эстетически значимые элементы произведения, как «композиция фоническая, метрическая, стилистическая, образно-сюжетная и общая, их объединяющая».
В «Структуре художественного текста» Ю. М. Лотмана глава «Композиция словесного художественного произведения» состоит из таких разноплановых разделов (в порядке появления): «Рамка», «Проблема художественного пространства», «Проблема сюжета», «Понятие персонажа», «О специфике художественного мира», «Персонаж и характер», «Кинематографическое понятие „план“ и литературный текст», «Точка зрения текста», «Соположенность разнородных элементов как принцип композиции». В последней главе к перечисленным композиционным единицам и проблемам добавлены фонологический, грамматический, лексико-синтаксический, микросинтаксический (фразовый), макросинтаксический (сверхфразовый) уровни и специально оговорено: «Композиция художественного текста строится как последовательность функционально разнородных элементов, как последовательность структурных доминант разных уровней (выделено автором. – И. С.)»[340].
В «Поэтике» Б. В. Томашевского термин «композиция» вообще отсутствует, речь идет о расположении тематических элементов, развертывании фабульного материала, фабулярном развитии, распределении событий, сюжетном построении и т. п. Лишь в специальной главке говорится о композиционной мотивировке как влиянии деталей-«аксессуаров» на фабульную ситуацию[341]. Композиционные по своему смыслу понятия применятся в данном случае лишь к уровню действия.
В «Теории литературы» Р. Уэллека и О. Уоррена со ссылкой на формалистов композиция как раз и приравнивается к системе мотивировок: «То, что мы называем „композицией“ романа, немцы и русские назвали бы „системой мотивировок“. Этот термин может быть с успехом включен в английский язык, поскольку он сохраняет двойную соотносимость – со структурной (или повествовательной) композицией и с внутренней структурой психологических, социологических и философских обоснований поведения, иными словами – с теорией каузальности. <…> Композиция, или система мотивировок (в самом широком смысле), включает в себя способ повествования, его „размах“, „поступь“ – то есть регулируемое через определенные приемы соотношение сцен (драматических положений) с изображением (прямым повествованием) и далее, отношение этого сложного целого к повествовательному резюме, выводу»[342].
В данном случае речь идет прежде всего о композиции повествовательного уровня (способ повествования, соотношение изображения и сцен), хотя упоминается и обоснование поведения, то есть композиционные характеристики персонажей.
В современной учебной «Теории литературы» В. Е. Хализева область композиции определяется предельно широко: «Построение литературного произведения – феномен многоплановый, имеющий различные аспекты (стороны, грани). Оно включает в себя и расстановку персонажей – их систему, и расположение воссоздаваемых событий в тексте произведения (композиция сюжета), и особенности подачи предметно-психологической реальности (портретов, пейзажей, интерьеров, диалогов и монологов), и динамику форм (способов) повествования, и соотнесенность собственно речевых единиц, в том числе элементов стихотворной формы»[343]. Но на практике в соответствующем разделе описываются повторы и вариации, в том числе мотивов, субъектная и временная организация произведения, монтаж и некоторые приемы (узнавание, подтекст, аллюзия). Соотношение этих композиционных элементов остается проблематичным.
В соответствии с развиваемым представлением о структуре произведения и местом композиционного уровня в вертикальном ряду композицию следует рассматривать как способ организации всех предшествующих уровней, то есть говорить о словесной, материальной композиции (с фоникой, стилистикой и метрикой в стихотворной речи – как ее отдельных аспектах); композиции пространства-времени; композиции персонажей; событийной, сюжетно-фабульной композиции; субъектной, повествовательной композиции.
Материальная композиция – это разные способы построения текста как словесного целого. Поскольку уровень художественной речи сам по себе представляет сложную систему, его композиционные элементы разноплановы. Для эпических и драматических произведений собственно словесные, лингвистические ее аспекты не так важны, как для лирики. Изучением композиционного строения сверхфразовых единств (синтаксических строф) занимается лингвистика текста со своим инструментарием и категориальным аппаратом. Для поэтики интереснее уже не элементы, а единицы, словесные композиционные блоки, представляющие собой не просто сверхфразовые (взгляд «снизу», от языка), а тематические, структурные единства (взгляд «сверху», от мира), выполняющие определенную эстетическую задачу.
Материальная композиция, естественно, несколько отличается в эпосе и драме, использующих разные речевые формы – повествовательно-монологическую и диалогическую.
Представим ее элементы и единицы в виде двух параллельных списков в соответствии с логикой развертывания текста (синонимичные термины приводятся в скобках).
Конечно, полный набор композиционных элементов содержит не каждое произведение, но, появляясь, они неизбежно заполняют пустующую клетку в модели художественного произведения как текста.
Обзор элементов материальной композиции начнем с заголовка. Представляется, что возможна не только интерпретация отдельных заголовков, но и создание матрицы заглавий, включающей все типологическое разнообразие вариантов. Такая типология выстраивалась не «сверху», методом логического конструирования, а «снизу», путем исчерпывающего перебора вариантов (примерно так В. Я. Пропп строил «Морфологию волшебной сказки», называя свой метод философско-эмпирическим[344]).
Она обосновывается некоторыми предварительными условиями.
Во-первых, классифицировались лишь заглавия эпического и драматического рода. (Лирические заголовки факультативны и требуют особого подхода.)
Во-вторых, такая классификация не может быть чисто формальной: заглавия обязательно должны быть соотнесены с содержанием книги. Автор одной из самых интересных работ о поэтике заголовка и, как выяснилось через много лет после его смерти, сам блестящий писатель-экспериментатор, утверждал: «Как завязь, в процессе роста, разворачивается постепенно множащимися и длиннящимися листами, так и заглавие лишь постепенно, лист за листом, раскрывается в книгу, книга и есть – развернутое до конца заглавие, заглавие же – стянутая до объема двух-трех слов книга»[345].
В-третьих, необходимо было оставить в стороне «ветвящиеся» (С. Кржижановский) заглавия старой литературы, представляющие собой сжатый пересказ произведения («Приключения Фемистокла и разные политические, гражданские, философические, физические и военные его с сыном своим разговоры; постоянная жизнь и жестокость фортуны, его гонящей» Ф. Эмина), и сосредоточиться на заглавиях-индексах Нового времени, состоящих из небольшого числа подчиненных друг другу понятийных элементов (обычно – не более трех).
В итоге оказывается, что все конкретное многообразие заголовков (включая заглавия тех произведений, которые находятся еще в чернильнице-компьютере) можно свести всего к восьми типам.
1. Персонажные заглавия. Имя героя (в разных вариантах и комбинациях), обозначение его черты характера, профессии, должности и т. п.: «Евгений Онегин», «Станционный смотритель», «Моцарт и Сальери», «Герой нашего времени», «Казаки», «Идиот», «Очарованный странник».
2. Местоуказывающие заглавия, определяющие топографию и географию всего произведения или наиболее существенных его эпизодов: «Полтава», «Невский проспект», «Дворянское гнездо», «Обрыв», «Деревня», «Городок Окуров».
3. Временные заглавия, включая такие, где временем становится вся человеческая жизнь: «Белые ночи», «Четыре дня», «Поздний час», «1984», «Двадцать минут с ангелом», «Сто лет одиночества», «Жизнь Человека», «Жизнь Клима Самгина», «Жизнь Арсеньева».
4. Ситуационные заглавия, обозначающие организующее произведение коллизию, событие, происшествие: «Метель», «Набег», «Происшествие», «Поединок», «Смерть Ивана Ильича».
5. Предметные заглавия, обозначающие какой-то сюжетно, содержательно значимый элемент хронотопа, деталь или подробность: «Коляска», «Портрет», «Шинель», «Фальшивый купон», «Чемодан».
6. Формоуказывающие заглавия, обозначающие жанр, тип, способ повествования, отражающие уже не какую-то черту мира, а своеобразие «события рассказывания»: «Повести Белкина», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Дневник лишнего человека», «Записки из Мертвого дома», «История одного города», «Записки покойника (Театральный роман)».
7. Обобщенные заглавия, в которых отражено какое-то свойство, качество, психологическая черта или социальное явление, взятое в отвлеченной, философской форме: «Детство», «Любовь», «Зависть», «Голод», «Жизнь», «Ремесло». Особая разновидность этого типа – заглавия контрастные, полюсные, грамматически выражающиеся через «и»: «Война и мир», «Преступление и наказание», «Отцы и дети», «Живые и мертвые», «Жизнь и судьба», «Оружие и человек», «Шум и ярость».
8. Непосредственно-оценочные заглавия, сентенции, цитаты, пословицы, афоризмы и т. п.: «На всякого мудреца довольно простоты», «Накануне», «Взбаламученное море», «Кому на Руси жить хорошо», «По ком звонит колокол», «Как закалялась сталь».
Легко заметить, что такая структура заголовков изоморфна, подобна структуре художественного произведения. «Заглавной» доминантой может стать любой его элемент: персонажи, сюжет, хронотоп и его предметное наполнение, жанровая или формальная специфика и сфера художественного смысла. Большая структура художественного мира и малая структура заголовков находятся в ситуации взаимного отражения.
Помимо группы непосредственно-оценочных заглавий, важно также обозначить оппозицию объективности – субъективности внутри всех других групп. Заглавие может носить как чисто объектный, номинативный характер («Ариадна», «Дуэль» и т. п.), так и субъектный, когда какой-то фрагмент художественной реальности предстает в свете экспрессивно-эмоциональной оценки («Дурак», «Неприятная история», «Страшная ночь», «Жизнь прекрасна»).
Таким образом, итоговая типологическая матрица заглавий приобретает следующий вид.
Опора на нее позволяет вести конкретно-исторический анализ не выборочно, а системно. Аналогичный метод логического перебора материала, вероятно, позволит создать типологию и других относительно простых элементов художественного мира: экспозиций, начал, концовок.
Предисловие (и, соответственно, послесловие) отличается от пролога и эпилога по субъекту речи и форме хронотопа. В первом случае субъектом является автор как элемент творческого хронотопа, включенный в событие рассказывания, прямого диалога с читателем, во втором – повествователь разных типов (в том числе и «образ автора»), рассказывающий историю, воссоздающий событие. Причем обычно этот первый или последний эпизод отделен от основного повествования некой хронологической дистанцией и отличается особым, конспективным способом изображения.
С объяснения функции предисловия (в ироническом тоне) Лермонтов начинает предисловие к «Герою нашего времени»: «Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь (то есть оно может стать и послесловием, функционально сходно с ним. – И. С.); оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям (предисловие – прямая апелляция к ним. – И. С.) дела нет до нравственной цели и журнальных нападок, и потому они не читают предисловий»[346].
Поэтику эпилога точно описывает герой-рассказчик романа Набокова «Отчаяние» (в этом описании, впрочем, тоже ощутима авторская ирония): «Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. О каждом из героев повести кое-что сообщается напоследок, – причем их житье-бытье остается в правильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами их, – и допускается некоторый юмор, намеки на консервативность жизни. <…> А уж к самому концу эпилога приберегается особо добродушная черта, относящаяся к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь…»[347]
Б. В. Томашевский считал приемом эпилога «комканье повествования под конец романа»: «После длительного и медленного рассказывания об обстоятельствах жизни героя за некоторый небольшой период в эпилоге мы встречаем убыстренное рассказывание, где на нескольких страницах узнаем события нескольких лет или десятилетий. Для эпилога типична формула: „через десять лет после рассказанного“ и т. п. Временной разрыв и убыстрение темпа повествования является весьма ощутимой отметкой конца романа»[348].
В прологе, функционально сходном с эпилогом, следовательно, дается обычно предварительный очерк хронотопа и персонажей в их суммарном соответствии будущим типам или характерам.
Симметричность этих элементов подчеркивают немецкие варианты терминов: Vorgeschichte и Nachgeschichte – предыстория и после-история. Они не всегда выделены с помощью заголовка (как двухчастный «Эпилог» в «Войне и мире»), а узнаются именно по композиционной функции, по месту и характеру изображения.
Прологом и эпилогом сопровождается «Капитанская дочка». Пролог – рассказ о родителях и воспитании Гринева – отделен от экспозиции четкой хронологической границей: «Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью…» Краткий эпилог – упоминание о казни Пугачева и мнимом благоденствии потомства Гринева – отделен от основного текста отбивкой и сменой субъекта речи: вместо личного повествователя здесь является аукториальный «издатель», подписью которого и завершается роман.
Но пушкинское «От издателя» в начале «Повестей Белкина» уже не пролог, а предисловие. В качестве издателя тоже вымышленных повестей здесь выступает сам А. П., то есть Александр Пушкин. И его рассказ о Белкине, «шестая повесть Белкина», сюжетно никак не связан с миром входящих в цикл новелл.
Предисловиями открываются гоголевский «Ревизор», «Поэма без героя» А. Ахматовой. Книгу М. Зощенко «Сентиментальные повести» сопровождают четыре предисловия к изданиям разных лет, подписанные именем вымышленного рассказчика, начинающего писателя Ивана Коленкорова, загадочными инициалами К. Ч. (возможно, подразумевался Корней Чуковский) и С. Л., наконец, самим Мих. Зощенко. На самом деле они были сочинены Зощенко одновременно, при формировании композиции книги, и стали элементами сложной повествовательной игры разными образами рассказчиков.
Эпилогом завершается «Преступление и наказание» (Раскольников и Соня в Сибири), необъявленными эпилогами – «Бедная Лиза» (безутешный Эраст исповедуется личному повествователю) и «Отцы и дети» (старики-родители у могилы Базарова).
Эпилог к «Мастеру и Маргарите» – не только эпизод с соответствующим заглавием, но и последняя, тридцать вторая глава «Прощение и вечный приют». Каждый из трех внутренних «романов» этого большого романа имеет свой эпилог. Роман Мастера – вторую встречу Иешуа с Понтием Пилатом и его прощение; роман о Мастере – вечный дом и вечный покой несчастных любовников; московская дьяволиада – рассказ о дальнейшей судьбе оставшихся в городе персонажей: «Но все-таки, что же было дальше-то в Москве, после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор? <…> Да, прошло несколько лет и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия, угасли в памяти»[349].
Говорить о примечаниях как композиционном элементе можно лишь в том случае, если они принадлежат самому автору. Таковы пушкинские примечания к «Кавказскому пленнику», «Полтаве», «Евгению Онегину» и «Медному всаднику», примечания А. Ахматовой к «Поэме без героя». В этом случае примечания обязательно печатаются вместе с произведением, как неотъемлемая часть его структуры.
По-другому обстоит дело с литературоведческими примечаниями, а также предисловиями и послесловиями. Они часть научного аппарата конкретного издания и могут изменяться, дополняться, составляться заново.
Иногда и авторские предисловия или послесловия находятся в более свободной связи с основным текстом. Таковы толстовские послесловие к «Крейцеровой сонате» и статья «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» или предисловия, которыми через много лет после написания сопроводил переводы своих русских романов на английский язык В. Набоков. Подобные авторские комментарии не являются обязательным элементом материальной композиции. Обычно они, в отличие от предисловия к «Герою нашего времени», краткого предисловия и примечаний к «Медному всаднику», публикуются отдельно, в литературоведческих приложениях к соответствующему изданию или томах писательской критики.
Заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие, пролог, эпилог, послесловие, примечания можно назвать постоянными композиционными элементами. В случае появления они занимают свое строго определенное место в структуре. (Хотя и здесь иногда встречаются примеры литературной игры: эпиграф ставят в конце, мотивируя это тем, что он нашелся уже после окончания произведения. Однако тогда перед нами уже не эпиграф, а концовка-афоризм.) Этим они противопоставлены подвижным элементам действия как такового, сюжета и фабулы, способным к перестановкам, перемещению, несмотря на предварительно закрепленное за ними место (завязка – развязка).
Максимальный перечень композиционных элементов текста, как мы видим, достаточно велик. А каков же минимальный набор? Заглавие и один эпизод (который, конечно, состоит из собственного множества элементов и своей микрокомпозиции). Только такой запредельный жанр, как анекдот, функционирует без заглавия. В других же случаях это «Без заглавия» становится заголовком (такие произведения есть у Чехова и Куприна).
Возможен и иной способ материального членения эпического текста: повествование, описание и диалог. Иногда этот трехчлен заменяется двучленнным противопоставлением диалога и повествования (прямая речь героев – вся остальная речь, повествователя, личного повествователя или рассказчика), в котором, в свою очередь, выделяются собственно повествование (рассказ, изложение фабулы) и статические описания (портрет, предметный мир, пейзаж и пр.).
Однако такая, идущая от старой риторической традиции типология практически бесполезна из-за внутренней сложности самого повествования (его часто размывает чужое слово), динамичности и «рассеянного» характера многих описаний в современной прозе и отнесенности их к другим уровням художественного мира (портрет – часть характеристики героя, пейзаж – разновидность хронотопа). Хотя сами термины «описание», «повествование» и «диалог», конечно, необходимы и активно используются в литературоведческом анализе.
Для драмы, напротив, очень важен еще один, более общий способ членения на основной (монологи и диалоги персонажей) и второстепенный (заглавия, ремарки и прочие авторские включения) текст (в другой терминологии текст – паратекст)[350].
Паратекст легко вычленяется в любой драме (чаще всего он набран курсивом) и оказывается важным для характеристики определенных типов драмы, например пьесы для чтения. Об эволюции ремарки как элемента второстепенного текста у нас уже шла речь в соответствующей главе.
О композиции персонажного и повествовательного уровней мы уже достаточно говорили в соответствующих разделах.
Персонажная композиция определяется соотношением экспозиции героя с интегральной суммой его проявлений (статика или динамика, внешняя или внутренняя характеристика), его местом в итоговой конфигурации (главный – второстепенный), его эстетической структурой (знак – тип – характер).
Г. Н. Поспелов видел в «композиционном плане» героя четыре момента, четыре способа развертывания мотивов: психологический процесс, «переживание» героя – его высказывания в диалоге или монологе – внешнее действие, движение или «поступок» героя – портретные и жанровые черты. Однако он сразу же отмечал: «Особенно ясно и отлично друг от друга все эти способы выступают в конкретном повествовании, то есть в таком, в котором отдельные моменты происходящего даются раздельно, в деталях, а не суммируются в одно общее положение. В суммарном повествовании все эти способы, наоборот, сказываются менее четко и сближаются друг с другом. Например, мотив „он изъявил желание записаться в общество“ выглядит скорее как поступок, но в нем заключаются и переживание, и высказывание»[351].
Композиция повествовательного уровня определяется соотношением разных форм повествования и точек зрения.
Композиционными элементами пространственно-временного уровня оказываются предметы и подробности, интегрирующие описания (пейзаж, интерьер), разнообразные хронотопы, которые складываются в определенную последовательность, создают, как говорил М. А. Чехов, партитуру атмосфер с определенной жанровой доминантой.
Основой, стержнем композиционного строения произведения оказывается все-таки уровень действия (не случайно в старых теориях словесности эти термины шли через запятую: сюжет, фабула, композиция).
Типы сюжетной композиции не имеют ни исчерпывающей классификации, ни общепринятой терминологии. Можно, однако, наметить несколько наиболее распространенных ее вариантов.
Простой, немаркированный, нулевой тип можно назвать линейной композицией. Она представляет собой последовательное – от завязки к развязке – изложение эпизодов в фабульных структурах или хроникальное, в соответствии с временной логикой, развертывание бесфабульного сюжета. Тургеневские романы и «Преступление и наказание», автопсихологическая трилогия Толстого, большинство повестей и рассказов Чехова и почти все творчество Бунина тяготеют к этой композиционной схеме. Как правило, это произведения с одним или несколькими главными героями, связанными общим узлом действия. Поэтому по линейной схеме строится почти вся старая драматургия с ее принципом единства действия. Одно произведение – одна история, изложенная фабульным или бесфабульным путем, – такова композиционная установка, связывающая уровень действия с системой персонажей.
Эта исходная схема может подвергаться разнообразным изменениям.
Самый элементарный способ – появление дополнительного, вставного эпизода, с относительно самостоятельной фабулой, характеризующего персонажа или иллюстрирующего какой-то элемент действия. Таковы биография Чичикова и «Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах», «Сон Обломова» в романе Гончарова, поэма о Великом Инквизиторе в «Братьях Карамазовых». Подобные отступления от основной фабулы обычно называют вводной новеллой (повестью). Она, однако, не колеблет доминирующего характера основной истории, поэтому такую композицию можно считать незначительным усложнением первого типа.
Следующие отступления от нее более существенны, их можно объединить в особую группу трансформационных композиций.
Количество вставных эпизодов-новелл может оказаться велико. В таком случае основная история становится лишь стержнем, на который нанизываются все новые и новые истории, рассказанные персонажами или объединенные прямым словом повествователя или рассказчика и приобретающие самостоятельный интерес. Подобную композицию называют цепочной, в том же случае, если основная фабула охватывает вставные повести, – рамочной или кольцевой.
Таким образом строятся ранние сборники-циклы сказок и новелл («Тысяча и одна ночь», «Декамерон» Д. Боккаччо) и подражания или стилизации их в новейшей литературе («Голубая книга» М. Зощенко, «Новые сказки Шахерезады» И. Ильфа и Е. Петрова). Количество вставных новелл велико и в «Дон Кихоте», но в этом случае и характер главного персонажа не позволяет основной фабуле стать всего лишь рамкой.
Другой вариант трансформации – перестановки в фабуле. Наиболее распространенные их варианты – задержанная экспозиция. Хороший пример ее – «Ревизор», где действие начинается с завязки («К нам едет ревизор»), а экспозиция появляется чуть позднее, в репликах-распоряжениях, рисующих атмосферу провинциального города, в котором возможно явление Хлестакова. Иногда на первое место выносится кульминация (или мнимая кульминация), как в некоторых образцах детектива или пародиях на него (первая глава «Что делать?» Чернышевского, изображающая мнимое самоубийство одного из центральных персонажей).
В произведениях с размытой фабулой или просто бесфабульных трансформацией можно считать любое чем-то мотивированное нарушение хронологического порядка эпизодов (такова последовательность новелл-эпизодов в «Герое нашего времени»).
Третий композиционный вариант возникает в случаях децентрализации сюжета и системы персонажей. Когда в «Анне Карениной» находили «коренной недостаток в построении», считая, что в романе «нет архитектуры», в нем «развиваются рядом, и развиваются великолепно, две темы, ничем не связанные», Толстой обижался и объяснял (используя вместо композиции термины архитектура, связь постройки): «Суждение ваше об „Анне Карениной“ мне кажется неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой – своды сведены так, что нельзя заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи»[352].
В «Анне Карениной» две относительно самостоятельные фабулы (или две сюжетные линии), которые организованы по принципу постоянного соотнесения, контрапункта. Убедительная внутренняя связь, переплетение этих линий и становятся авторской композиционной задачей.
В больших эпических произведениях («Война и мир», «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита», «Чевенгур» А. Платонова) главных героев со своими сюжетными линиями может быть несколько, причем их фабулы могут строиться как на «знакомстве» лиц, так и на их «внутренней связи». Контрапункт в таких случаях превращается в многоголосие. Композиционная задача сводится к поиску мотивированной, убедительной, органической взаимосвязи переплетающихся фабул.
Таковы две разновидности параллельной композиции, в которой фабульный, сюжетный и композиционный ряд обязательно не совпадают.
Наконец, можно взорвать не только единодержавие, но и многодержавие героя, сделать предельно проблематичной связь не только между фабулами, но и между их элементами. В таком случае мы получаем кусковую, монтажную композицию (кинотермин стал сегодня общеэстетическим понятием, но в более узком смысле, чем в понимании С. Эйзенштейна, для которого монтажным было литературное мышление вообще), прообраз которой обнаруживается уже в «эффекте Кулешова»: два поставленных рядом кадра-куска обязательно создают какой-то новый смысл.
Впервые систематически стал употреблять композиционные приемы, аналогичные кинематографическому монтажу, американский писатель Д. Дос Пассос. Его роман «42-я параллель» (1930) строится как динамическая картина жизни большого города, в которой, как стеклышки в калейдоскопе, меняются персонажи и ситуации, часто так и не развертывающиеся в полноценную фабулу. В советской литературе 1920–1930-х годов сходным образом изображали «Россию, революцию, метель» Б. Пильняк («Голый год») и Артем Веселый (незаконченный «роман-фрагмент» «Россия, кровью умытая»).
После Второй мировой войны монтажный принцип в разнообразных вариантах стал ходовым композиционным приемом. Так строились, с одной стороны, многочисленные «документальные» романы и даже драмы. С другой стороны, уничтожая героя и фабулу, авторы «нового романа» превращали его в монтаж анонимных голосов, из которых читатель должен был сложить какую-то приблизительную мозаичную картину (так строятся романы Н. Саррот «Золотые плоды», «Вы слышите их?» и др.).
В менее экстремальном варианте монтажный принцип характерен и для «Василия Теркина» А. Твардовского. В этой «книге про бойца» «без начала и конца» сохраняется единодержавие героя, но главы-фрагменты компонуются свободно, не нанизываясь, как в линейном композиционном варианте, на единый фабульный стержень.
Таковы четыре основных типа строения действия: линейная, трансформационная, параллельная, монтажная композиция.
Строение всех других уровней в аспекте композиции имеют пунктирный, прерывистый, парадигматический характер. Лишь композиция действия может быть представлена синтагматически – как сплошная последовательность динамических и статических эпизодов, принадлежащих одной или разным фабулам или же просто хроникальной, бесфабульной структуре.
Композиция текста, однако, оказывается полнее, чем композиция мира. Элементы, о которых шла речь (от заглавия до примечаний), раздвигают уровень действия, обрамляют его.
Формальная поэтика оставила в наследство поэтике практической, частной, еще несколько понятий, характеризуемых в качестве приемов композиции. Это задержание (ретардация) – так характеризуют многочисленные в фольклоре трехкратные повторы, словесные и ситуационные, а также аналогичные явления в литературе; ступенчатое построение (градация) – так строится кумулятивная сказка и многие формульные структуры: авантюрный роман, детектив.
Обобщая эти несистематизированные наблюдения, Р. Барт включил их в рамки более общей повествовательной схемы: «Повествовательная форма обладает возможностями двоякого рода: во-первых, она способна разъединять знаки по ходу сюжета, а во-вторых, – заполнять образовавшиеся промежутки непредсказуемыми элементами. <…> Очевидно, что прием „задержания“ – это всего лишь привилегированный или, если угодно, интенсивный способ разъединения элементов… <…> Всегда, когда можно разделить, можно и заполнить. В промежутке между функциональными ядрами возникает пространство, которое можно заполнять до бесконечности… <…> Любая „единица“ входит в целостность повествовательного текста, хотя вместе с тем текст „держится“ лишь благодаря разъединению и иррадиации составляющих его единиц»[353].
Вслед за Р. Бартом швейцарские теоретики-неориторики сводят повествование, повествовательный дискурс к композиционным понятиям – фигурам сокращения (сжатия, компрессии), добавления и перестановки[354].
В таком случае композицию можно понять как организацию, систематизированное развертывание разъединенных единиц разных уровней – сокращения, добавления, перестановки, – создающее некое единство, целостность.
Композиция центростремительна, телеологична, реализует некое задание, устремлена к какой-то цели.
Но тогда встают следующие важные вопросы: где находится эта цель? кем (или чем) организуется эта целостность?
Рассмотрение композиции неизбежно выталкивает нас на следующий уровень художественной структуры.
Автор и смысл: тема, идея, архитектоническая форма «Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?»
Категория автора (лат. auctor – виновник, основатель, сочинитель) – одна из самых главных, если не самая главная, в практической поэтике, в анализе отдельного произведения.
Создатель текста (оратор) находится в центре традиционной риторики: именно ему принадлежат изобретение, расположение, выражение, запоминание и произнесение (пять основных частей традиционной риторики).
На бесконечном выяснении вопроса «Что хотел сказать автор?» часто строятся школьная поэтика и критика. В эпоху распространения вульгарного литературоведения такую методику спародировал М. Зощенко. Рассказ «Землетрясение», история о том, как подвыпивший сапожник Снопков проспал страшное землетрясение в Крыму, имеет неожиданную концовку:
«Чего хочет автор сказать этим художественным произведением? Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.
Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи – землетрясение и то могут проморгать.
Или как в одном плакате сказано: „Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!“
И очень даже просто»[355].
Однако нелепое использование не отменяет проблемы.
«Образ автора – это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это – концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем-рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого»[356], – утверждал В. В. Виноградов.
«Конечными понятиями, к которым могут быть возведены при анализе все средства выражения, являются „образ мира“ (с его основными характеристиками, художественным временем и художественным пространством) и „образ автора“, взаимодействие которых дает „точку зрения“, определяющую все главное в структуре произведения»[357], – формулирует сходную мысль М. Л. Гаспаров.
При всем том понятие автор дискуссионно, трудноопределимо и многозначно. Можно выделить по крайней мере четыре существенных для поэтики его значения.
Во-первых, автор – реальный человек, с фамилией и биографией, имя которого стоит на обложке книги (Пушкин – автор «Евгения Онегина»).
Во-вторых, автор – один из героев произведения, который существует в одном хронотопе с другими персонажами, но проецируется на реального человека, связывается с автором в первом значении. В таких случаях чаще используют термин «образ автора» (автор или образ автора в «Евгении Онегине»).
В-третьих, автор – безличный повествователь в повествовании от третьего лица или повествователь, называющий себя Я в аукториальной ситуации (повествование в «Пиковой даме» идет от лица автора, а в «Капитанской дочке» – от первого лица, от лица героя).
В-четвертых, автор – воплощенная в произведении позиция, мысль, эмоция, придающая ему своеобразие, целостность и уникальность. Именно такого автора В. В. Виноградов считает «фокусом целого» и «концентрированным воплощением сути произведения», а М. Л. Гаспаров – «конечным понятием, определяющим все главное в структуре произведения».
Правда, оба исследователя в значении, обозначенном нами как четвертое, тоже используют понятие «образ автора».
Такая терминологическая омонимия является довольно распространенной, но желательно ее четко осознавать. Образ автора-персонажа – один из локальных элементов персонажного и повествовательного уровней, образ автора как фокуса целого – универсальная категория, имеющая отношение к любому художественному произведению.
Именно поэтому М. М. Бахтин настаивал на четком разграничении этих феноменов. «В какой мере можно говорить об „образе автора“? – размышляет он в одной из работ. – Автора мы находим (воспринимаем, понимаем, ощущаем, чувствуем) во всяком произведении искусства. Например, в живописном произведении мы всегда чувствуем автора его (художника), но мы никогда не видим его так, как видим изображенные им образы. Мы чувствуем его во всем как чистое изображающее начало (изображающий субъект), а не как изображенный (видимый образ). Строго говоря, образ автора – это contradictio in adjecto (противоречие в определении. – И. С.). Так называемый образ автора – это, правда, образ особого типа, отличный от других образов произведения, но это образ, а он имеет своего автора, создавшего его. <…> Мы можем говорить о чистом авторе в отличие от автора частично изображенного, показанного, входящего в произведение как часть его»[358]. В других случаях М. М. Бахтин использовал также понятия голос автора, первичный автор, подлинный автор.
Н. К. Бонецкая видит в этом споре не просто терминологическое противоречие, а разные подходы к проблеме[359]. За «образом автора» в смысле В. В. Виноградова и «чистым автором» в смысле М. М. Бахтина стоит примерно один и тот же феномен. Но для первого исследователя с его установкой на стилистику произведение является прежде всего повествованием, для второго – осмысленным художественным целым. Отсюда различие повествовательной, композиционной поэтики – и поэтики, которую можно назвать онтологической.
Однако исходные термины не обязательно использовать омонимически. Их можно развести с помощью дополнительных определений: биографический автор – образ автора – автор-повествователь (или просто повествователь) – чистый автор, авторская позиция.
Это последнее понятие является интегрирующим по отношению ко всем предшествующим. Чистый автор – это ипостась, творческая сущность, художественное сознание биографического автора, который в отдельных случаях может создать собственный образ (а может и не создавать), может вести рассказ в третьем лице как некий «дух повествования» (а может обратиться к сознанию героя, личного повествователя или рассказчика), но в любом случае останется создателем мира произведения, носителем его концепции и смысла.
Феномен чистого автора, в отличие от других форм авторского присутствия в произведении, четко выявляется в некоторых пограничных случаях. И. Ильф и Е. Петров – два биографических автора, Илья Арнольдович Файнзильберг и Евгений Петрович Катаев, со своей судьбой и собственным списком произведений, но в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» воплощена единая авторская позиция, писателя Ильфпетрова (у соавторов был аналогичный «синтезирующий» псевдоним Толстоевский).
Чистый автор здесь только один! Повествование ведется от лица автора (не авторов!), однако образ автора (при наличии большого числа образов пишущих людей) отсутствует. Аналогично обстоит дело и с братьями Стругацкими: это два человека, но один автор. Точно так же специалисты по древнерусской литературе прекрасно рассуждают об авторской позиции в «Слове о полку Игореве», совершенно ничего не зная об авторе-человеке.
«Автор произведения присутствует только в целом произведения, и его нет ни в одном выделенном моменте этого целого, менее же всего оторванном от целого содержании его»[360].
Таким образом, весь художественный текст и художественный мир можно рассматривать как инобытие чистого автора, его формообразующее усилие. Но лучше всего автор виден на входе и выходе из мира, в ответах на вопросы: о чем? и зачем?
Отвечая на вопрос «о чем?», мы приходим к категории темы.
«Грубо говоря, тема – это то, что писатель изображает…»[361] Большинство «тонких» определений варьируют эту грубую формулировку. Неудивительно, что такой фанатик точного литературоведения, как Б. И. Ярхо, дискредитировал понятие из-за его предельной расплывчатости: «Близко к мотиву по своей природе подходит „тема“. Это такая же произвольная абстракция, ставящая себе, однако, безнадежную цель в одной фразе сообщить все сюжетное содержание произведения. В самом деле, тему можно определять как угодно широко и как угодно узко. Какова, например, тема „Песни о Роланде“? Война? война за веру? война христиан с маврами? война Карла Великого за веру и славу Франции?.. Но беда не только в произвольности обобщения: можно совершенно различно определять тему одного и того же произведения. Например, тема той же „Песни о Роланде“: измена Ганелона, или гибель юного героя, или героическая миссия французов в христианском мире… Можно прямо сказать, что разве что в микропоэмах, состоящих из одного предложения, может быть одна тема, да и то сомнительно. Например: „Распроклятая машина / Мово друга утащила“. Здесь, вернее всего, только одна тема – „разлука с милым“, „отъезд милого“, но при желании можно найти и другую, а именно „недовольство железной дорогой, вызывающей непоседливость деревенских жителей, разрушающей местные связи“. <…>
Тема всегда будет только одним из мотивов, произвольно выхваченным и возведенным в неприсвоенное ему достоинство. Поэтому, мне кажется, лучше вообще отрешиться от этого термина, так как заключающаяся в нем исконная произвольность может оказаться, да часто и оказывается, вредной при сравнениях»[362].
Однако «отрешиться» от понятия не так-то легко. Оно характерно для писательского сознания. На него опираются издатели и читатели.
«„Город будущего“ – тема великолепная как по своей новизне, так и по интересности»[363]. «Впрочем, есть у меня еще одна тема: молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий попадает в первый раз в дом терпимости»[364]. «Пишу на тему о любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Порядочный человек увез от порядочного человека жену и пишет об этом свое мнение; живет с ней – мнение; расходится – опять мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности „несходства убеждений“, о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке…»[365]
Чехов, как мы видим, часто использует понятие, раскритикованное исследователем. Темой для него оказываются и конкретное указание на хронотоп (старший брат, Ал. П. Чехов, так и не напишет этот рассказ), и экспозиция сюжета и героя (которая станет рассказом «Припадок»), и абстрактная формулировка «о любви», которая сразу заполняется сюжетными подробностями, указаниями на форму повествования, интертексты, авторскую позицию (этот замысел превратится в повесть «Дуэль»).
В одном эссе С. Довлатов воображает разговор с американским издателем, которому приносит свою книгу «Зона».
«Он скажет:
– Твоя книга прекрасна. Но о лагерях мы уже писали. О диссидентах писали. О КГБ и фарцовщиках тоже писали. Тошнотворная хроника советских будней надоела читателю… Напиши что-нибудь смешное об Америке… Или о Древнем Египте…»[366].
Писатель и издатель вполне понимают друг друга. Таким образом, если тема и абстракция, то при правильном ее понимании – отнюдь не произвольная. «Пишу на тему о… читаю о…» – важное первоначальное членение литературного пространства, первая доминанта «на входе» в художественный мир.
Тематические квалификации – «повесть о бедном чиновнике» и «роман о лишнем человеке» – были так же понятны в позапрошлом веке, как в веке прошлом, в советской литературе – военная, деревенская или производственная тема.
Специфика темы – в ее двуплановости, двусторонности. С одной стороны, она обращена к внешнему миру, является способом связи жизни и искусства. С другой – является конструктивным элементом, частью мира произведения. Однако этот внешний мир может быть представлен и самой литературой или языком.
«…Темы представляют собой те или иные высказывания о (= ситуации из) жизни. Назовем их темами первого рода. Но темами могут быть и ценностные установки не по поводу „жизни“, а по поводу самих орудий художественного творчества – своего рода высказывания о языке литературы, о жанрах, сюжетных конструкциях, стилях и т. п. Назовем их темами второго рода»[367].
«Исходной темой может служить и кусок действительности, но и кусок языка: когда Хлебников пишет: „О, рассмейтесь, смехачи!..“ – то темой его служит не явление „смех“, а слово „смех“ со своими словообразовательными возможностями»[368].
В другом месте своей книги А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов дают уже трехчленную типологию тем: идейные или предметные темы (высказывания о реальном мире), стилистические или орудийные темы (высказывания о языке и других орудиях художественного выражения) и интертекстуальные темы (высказывания о других литературных текстах)[369].
Однако – и здесь Б. И. Ярхо прав – содержание произведения трудно свернуть до одной фразы. Даже в простой, состоящей из одного предложения частушке при желании можно найти несколько тем. Но смысл тематической формулировки вовсе не в том, чтобы пытаться совершить эту безнадежную операцию. Тема не индивидуальна, а типологична и допускает разнообразные конкретизирующие уточнения.
При более строгом подходе можно определить тему каждого эпизода как сюжетно-композиционного элемента. Множество таких «малых» тем (тематических мотивов, тематических элементов) создает тематику, тематический мир, тематическое единство произведения, которое может состоять из разнородных и разноплановых тем.
Через тему произведение сообщается с реальностью и включается в разнообразные контексты: творчества писателя, жанра, литературного направления или эпохи. Можно говорить о ее многочисленных культурных, психологических, исторических, социологических преломлениях.
Социологический аспект тематики связан с так называемой теорией социального заказа. В советскую эпоху это были требования к писателю сочинять в соответствии с принципом партийности, ориентироваться на «доступные», «прогрессивные» и «актуальные» темы (которые часто оборачивались диктатом вкуса и предпочтений отдельных чиновников). В капиталистическом, либеральном обществе социальный заказ формирует издатель, апеллируя к читательскому вкусу: читателю это надоело, поэтому напишите о…
«Цензура, действительно, отсутствует, а вот конъюнктура имеется (Я давно заметил, что гнусности тяготеют к рифме. Цензура-конъюнктура… Местком, горком, профком…), – горько шутил С. Довлатов в начале 1980-х годов, сравнивая два типа социального заказа – советский и американский. – Дома мы имели дело с идеологической конъюнктурой. Здесь мы имеем дело с конъюнктурой рынка, спроса. С гнетущей и непостижимой для беспечного литератора идеей рентабельности»[370].
В России с конца 1980-х годов цензура вместе с горкомами исчезла, но конъюнктура рынка оказалась более жестокой, чем американская, может быть из-за узости самого рынка.
В противовес внешнему диктату писатель часто прибегает к интимно-психологической трактовке темы.
Тема не заказывается кем-то, а возникает, приходит изнутри и формирует произведение. Писатель должен лишь услышать ее и подчиниться. «Да. Так диктует вдохновенье…»[371]
Эта тема пришла, остальные оттерла и одна безраздельно стала близка. Эта тема ножом подступила к горлу. Молотобоец! От сердца к вискам. Эта тема день истемнила, в темень колотись – велела – строчками лбов. Имя этой теме:……![372]Рифма легко позволяет вставить вместо многоточия имя вечной темы – любовь.
Все в порядке: лежит поэма И, как свойственно ей, молчит. Ну а вдруг как вырвется тема, Кулаком в окно постучит[373]. (А. Ахматова. Поэма без героя)Другой стороной связи писателя и темы оказывается понятие тематического диапазона. Есть авторы не только одного произведения, но одной или нескольких близких тем (Гаршин, Гончаров, Глеб Успенский).
Тематический диапазон других писателей может быть широк, но тоже не безграничен. С. М. Эйзенштейн заметил: «Пушкин отдал Гоголю сюжеты „Мертвых душ“ и „Ревизора“. Ему они не были нужны: они не были связаны с центральной пушкинской темой»[374].
В свою очередь, гоголевская неудача со вторым томом «Мертвых душ» или отказ Толстого от уже начатого романа об эпохе Петра I тоже могут быть объяснены как выход за пределы их тематического диапазона.
В историческом и культурном смысле литературу можно представить как движущееся тематическое единство: освоение новых тем, забывание старых, их новую актуализацию, культурную цензуру определенных тем (не только политических, но эротических, национальных и пр.), писательскую борьбу с ней.
Особую роль в этом процессе выполняют жанры.
П. Н. Медведев (или М. М. Бахтин?) в споре с формальной поэтикой, рассматривавшей тему прежде всего в словесно-стилистической плоскости («Темой обладает каждое произведение, написанное языком, обладающим значением. Только заумное произведение не имеет темы…»[375]), относил тему к высказыванию (произведению) как целому и считал самым важным как раз связь темы с жанром.
«Тема осуществляется не предложением и не периодом, и не совокупностью предложений или периодов, а новеллой, романом, лирической пьесой, сказкой, а эти жанровые типы, конечно, никакому синтаксическому определению не поддаются. Сказка как таковая вовсе не состоит из предложений и периодов. Отсюда следует, что тематическое единство произведения неотделимо от его первоначальной ориентации в окружающей действительности, неотделимо, так сказать, от обстоятельств места и времени. <…> Жанр есть органическое единство темы и выступления на тему»[376].
Тема, таким образом, возникает «на входе» из внешней по отношению к произведению реальности (ею может быть и язык или другая литература), ограничивается рамкой жанра, реализуется в художественном мире, развертываясь в тематическое единство, а «на выходе» оборачивается проблемой цели всего построения.
Вопросы «о чем?» и «зачем?» с двух сторон обрамляют художественное высказывание, оказываются крайними точками реализации авторской художественной воли. Отвечая на последний вопрос, мы переходим к проблеме авторской позиции, идеи, смысла художественного целого.
Понятия темы и идеи часто оказываются близки друг другу и определяются весьма сходно.
Г. А. Шенгели выделял в структуре лирического произведения тематический и идеологический ярусы, но, понимая тему как устремление, лирическое доказательство, фактически отождествлял ее с идеей[377].
Авторы концепции «тема – текст» раскрывают свою центральную категорию следующим образом: «Тема есть пронизывающая весь текст мысль о жизни и / или языке искусства…»[378]
Мысль, конечно, относится уже не к области ориентации в действительности, а к сфере авторской активности, имеет не предметный, а смысловой характер. Эту ситуацию фиксирует автор предисловия к цитируемой книге М. Л. Гаспаров: «В английских учебниках слово „theme“ обычно обозначает то, что у нас называется не столько „темой“, сколько „идеей“, – мысль или чувство, определяющее взгляд автора на свой материал. Именно поэтому, кажется, авторы этой книги сливают тему и идею в понятии „тема“ и концепция их называется „тема – текст“, а не „идея – текст“»[379].
При описании мотивной структуры произведения тематические и идеологические мотивы часто смешиваются, пересекаются. Однако при более строгом подходе сферы темы и идеи можно разграничить.
Тема абстрактна и контекстуальна, идея конкретна и индивидуальна. Тема предшествует авторской работе и читательскому восприятию, идея завершает и то и другое. Тема узнается, идея постигается.
Не менее важной оказывается дифференциация самой категории идеи.
Есть два внешне противоречивых суждения Толстого об «Анне Карениной»: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал, сначала. И если критики теперь (когда роман еще не закончен. – И. С.) уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю»[380].
«Мне теперь так ясна моя мысль. Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в „Анне Карениной“ я люблю мысль семейную, в „Войне и мире“ любил мысль народную вследствие войны 12 года, а теперь мне ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей»[381].
На самом деле это противоречие мнимое. Толстой не соглашается с критиками, толкующими об идее «Анны Карениной» еще до завершения самого произведения. «Идеи – создания органические», – говорил Печорин. И для самого автора, и для читателя или критика идея может выясниться лишь после того, как произведение закончено или прочитано.
Идея не дана непосредственно, а задана в структуре художественного целого, «лабиринте сцеплений» – композиционном развертывании всех элементов и уровней произведения. Причем, в отличие от внеэстетического понимания идеи как «чистой» мысли, противопоставленной чувству, эмоции, она имеет более сложный характер.
«Люди мало чуткие к искусству думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц или положений, а единство самобытного нравственного отношения к предмету»[382].
В этом замечательном рассуждении Толстой, не употребляя соответствующего термина, говорит о художественной идее. Единство самобытного нравственного отношения к предмету – это идеологическая и этическая точка зрения, формообразующая идеология, художественная философия, определяющая все моменты произведения.
Идея – «цемент», доминанта, смысл, организующий структуру текста как целого. «Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое расстояние и время, – тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение – идея»[383],– признавался И. А. Гончаров.
«Я держусь мнения, что идея есть душа художественного произведения»[384], – утверждал В. Г. Короленко.
Как и понятие темы, категория художественной идеи может быть конкретизирована.
Идейное содержание – это сумма или, точнее, система всех выявляемых в произведении идей, то есть понятие, аналогичное тематике.
Во всяком значительном произведении содержание (эпитет идейное часто опускают) предполагается глубоким, в принципе неисчерпаемым (хотя «неисчерпаемость» – это, конечно, метафора и точнее было бы говорить о многообразии, множестве заключенных в произведении смыслов и идей).
«Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продумано, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования»[385].
Эти бесчисленные толкования принадлежат не только авторской современности, но истории понимания и интерпретации произведения в творческом хронотопе, большом времени (М. М. Бахтин). Таким образом, они имеют не только синхронный, но диахронный, исторический характер. Так возникает необходимость провести внутри идейного содержания границу между первоначальной авторской идеей и теми идеями, которые обнаруживались в произведении в его последующем бытовании.
На языке русской критики 1860-х годов (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, А. А. Григорьев) эта проблема формулировалась как соотношение того, что хотел сказать автор художественного произведения, и того, что сказалось в нем. В современной теории – как соотношение изначального устойчивого смысла («Что значит этот текст?») и обусловленных читательским восприятием изменяющихся личных значений («Чем значим этот текст?»). «Смысл единичен; значение же, соотносящее смысл с некоторой ситуацией, вариативно, множественно, открыто, а может быть, и бесконечно. <…> Смысл составляет предмет толкования текста; значение же – предмет применения текста к контексту, его восприятия (первичного или позднейшего), а стало быть, и предмет его оценки»[386].
Психологи употребляют понятия в противоположном смысле, сохраняя, однако, оппозицию единичного – множественного: «Слово, взятое в отдельности и лексиконе, имеет только одно значение. Но это значение есть не более как потенция, реализующаяся в живой речи, в которой это значение является только камнем в здании смысла»[387].
В любом случае в содержании можно выявить ядро субъективной идеи и более широкий набор идей, который извлекают из текста читатели и исследователи, современники и потомки. Причем обычно предполагается, что смысл/значение классической книги оказывается больше, глубже, многообразнее, чем изначальная авторская идея: «Жизнь великих произведений в будущих, далеких от них эпохах <…> кажется парадоксом. В процессе своей посмертной жизни они обогащаются новыми значениями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания. Мы можем сказать, что ни сам Шекспир, ни его современники не знали того „великого Шекспира“, какого мы теперь знаем. Втиснуть в Елизаветинскую эпоху нашего Шекспира никак нельзя»[388].
Однако здесь возникает важный вопрос: каким образом провести границу между исходным ядром (авторская идея) и последующими новыми значениями и смыслами? Притом что внетекстовые суждения (письма, автокомментарии, мемуары) могут служить лишь дополнительными аргументами, но не весовыми доказательствами в формулировании авторской идеи. А для произведений далеких эпох такие суждения просто отсутствуют.
Легче всего поддаются такому расслоению на субъективную и объективную идеи, на хотел сказать и сказалось произведения с особой, акцентированной структурой. В социально-идеологическом романе и произведениях с «образом автора» как структурным элементом, в драмах с персонажами-резонерами авторская позиция проявлена отчетливо и недвусмысленно. Причем всегда сохраняется возможность некоторого рассогласования между нею и логикой сюжета и композиции, характеристиками персонажей, которые из них вырастают.
Другими словами, увидеть авторское Я легче там, где авторская позиция подчеркнута, акцентирована. Там же, где автор растворен в структуре, превратился в невидимого «духа повествования», пользуется прежде всего композиционными средствами, граница между субъективной и объективной идеями становится весьма гадательной и часто проводится по произволу интерпретатора.
Поэтому «реальные критики» 1860-х годов, исходившие из четкого разграничения непосредственных жизненных явлений, которые будто бы правильно воспроизводит писатель, и его идеологических оценок, которые их часто не удовлетворяли, достаточно успешно применяли свой метод в объяснении культурно-героических романов Тургенева или драматургии Островского, в которой сохранялись некоторые функции персонажей-резонеров, но вставали в тупик перед полифоническими романами Достоевского, в которых идея выражалась композиционными средствами.
Более продуктивной и универсальной оказывается дифференциация идейного содержания не по субъективно-объективному принципу, а по рациональному или эмоциональному характеру его выражения.
В определениях идеи, которые приводились выше, мысль и чувство никак не разделяются. Между тем они могут быть противопоставлены, могут вести в границах идейного содержания относительно автономное существование.
Мысль – это авторское суждение о реальном мире путем создания мира возможного. Чувство – реализованное в художественном мире авторское отношение к нему.
Чувство – более общий и глубокий элемент содержания, связанный с самой природой художественного образа. В традиционной эстетике оно характеризуется с помощью общих эстетических категорий[389] и понятия пафоса (и рифмующегося с ним понятия этоса[390]).
«Пафосом» Гегель, вслед за античными авторами, называл «те всеобщие силы, которые выступают не только сами по себе, в своей самостоятельности, но также живут в человеческой груди и движут человеческой душой в ее сокровеннейших глубинах», то есть очищенную от представлений о ничтожном и низком, переведенную из психологического в эстетический план человеческую страсть.
«Пафос образует подлинное средоточие, подлинное царство искусства; его воплощение является главным как в произведении искусства, так и в восприятии последнего зрителем. <…> Пафос волнует. Потому что в себе и для себя он является могущественной силой человеческого существования»[391].
Вслед за Гегелем поздний Белинский прямо связал категорию пафоса с идеей и сделал ее ключевой в понимании как отдельного произведения, так и мира писателя в целом: «Искусство не допускает к себе отвлеченных философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только идеи поэтические; а поэтическая идея – это не силлогизм, не догмат, не правило, это – живая страсть, это – пафоc… <…> Каждое поэтическое произведение должно быть плодом пафоса, должно быть проникнуто им. Без пафоса нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочинение. Поэтому выражения: в этом произведении есть идея, а в этом нет идеи, не совсем точны и определенны. Вместо этого должно говорить: в чем состоит пафос этого произведения? или: в этом произведении есть пафос, а в этом нет. <…> Весь мир творчества поэта, вся полнота его поэтической деятельности тоже имеет свой единый пафос, к которому пафос отдельного произведения относится как часть к целому, как оттенок, видоизменение главной идеи, как одна из ее бесчисленных сторон»[392].
В эстетической концепции М. М. Бахтина такие идеи-страсти называются архитектоническим формами. Он определяет архитектонические формы как «формы душевной и телесной ценности эстетического человека», «формы архитектонического целого», относя к их числу трагическое, комическое, лирическое, героизацию, юмор. Для М. М. Бахтина архитектоническая форма является эмоциональной доминантой, определяющей и завершающей структуру текста и мира.
«По отношению к герою и его миру (миру жизни) ценностно устанавливается автор прежде всего, и эта его художественная установка определяет его материально-литературную позицию. Можно сказать: формы видения и завершения мира определяют внешнелитературные приемы, а не наоборот; архитектоника художественного мира определяет композицию произведения (порядок, распределение и завершение, сцепление словесных масс), а не наоборот»[393].
Если идея как мысль характерна лишь для отдельных областей и литературных жанров, то идея как страсть, пафос, архитектоническая форма универсальна. Она охватывает всю область искусства слова и даже выходит за ее пределы: «Основные архитектонические формы общи всем искусствам и всей области эстетического. Они конституируют единство этой области»[394].
Такое понимание архитектонических форм (у М. М. Бахтина оно имеет более широкий смысл; к числу архитектонических форм отнесены также тип, характер, ритм) позволяет правильно разрешить проблему интерпретации и как читательского или исследовательского понимания отдельного текста, и как «перевода» литературного произведения на язык других искусств: драматического театра, оперы, балета, кино, музыки, живописи. Предлагая различные концепции-объяснения авторской мысли, реализуя исходную структуру в другом материале, вследствие чего она неизбежно изменяется, интерпретатор, если он работает честно, связан рамками архитектонической формы, обязан адекватно понять и воспроизвести пафос, страсть, форму видения и завершения героев в мире.
Шекспировский Гамлет может быть самым разным – сильным, слабым, бесхарактерным, волевым, молодым, пожилым; его можно перенести в современность и одеть в модный костюм; его может сыграть даже женщина. Но история принца Датского все равно должна быть воплощена в архитектонической форме трагедии. Герой-мерзавец и циник на фоне благородного Клавдия или персонаж, вызывающий смех, уже не имеет права называться шекспировским. В таком случае приходится говорить о другом жанре (например, пародии) или неадекватной исследовательской/режиссерской интерпретации.
Сложность понимания идеи как пафоса заключается в ограниченности привычных эстетических категорий (количество их, в общем, невелико) на фоне многообразия (не бесконечного, но очень значительного) реально воплощенных эстетических форм. Комическое, например, традиционно делят на сатиру и юмор. Но одновременно говорят об иронии, сарказме, буффонаде, комическом гротеске и т. п. Этой типологии тоже оказывается недостаточно; в конкретных литературоведческих характеристиках мы сплошь и рядом встречаем рассуждения о тонкой иронии (значит, существует и «толстая», грубая), беззлобном, мягком юморе (существует, следовательно, и «злобный», но не сатира ли это?), беспощадной сатире («пощадная» сатира – это не юмор?) и т. п.
Дело не в неточности отдельных определений, а в реальной проблеме, связанной с местом идеи в структуре произведения. Она, как мы уже говорили, представляется не очевидным явлением, а сущностью, скрытой в «лабиринте сцеплений», она не дана как еще один элемент или уровень, а задана как вопрос-проблема. Она в принципе имеет уникальный характер. Поэтому в ее понимании и словесном выражении терминов и категорий оказывается недостаточно. Интерпретатору приходится менять метаязык на язык обычный: искать в бытовой речи новые оттенки значений, использовать метафору и другие вспомогательные тропы, придумывать новые термины.
В номенклатуре архитектонических форм оказываются не только привычные общие категории, но и эстетические «выжимки», краткие формулы жанров, выделяющихся по пафосу, и даже литературных направлений: сентиментальность, элегичность, идилличность, утопичность, анекдотичность, фельетонность, драматизм и мелодраматизм и т. п. Можно, следовательно, говорить о сентиментальности или элегичности повести или романа (не обязательно связанных с эпохой сентиментализма), драматизме лирики, идилличности драмы как видах пафоса, эмоциональных доминантах. Такие, относящиеся к авторскому уровню, характеристики, конечно, следует отличать от жанров на границах (эпическая драма, стихотворение в прозе и пр.), о которых шла речь в предыдущей части.
Пройдя от темы сквозь мир произведения по ступенькам понятий, категорий и терминов (для объяснения частных, конкретных проблем их корректного использования вполне достаточно), исследователь в конце концов остается наедине с чистым автором и должен отчасти заговорить на его языке.
«Наивность людей, впервые изучивших науку, полагать, что и мир творчества состоит из научно-абстрактных элементов: оказывается, что мы все время говорим прозой, не подозревая этого. <…> Между тем эти понятия объясняют лишь материал мира, технический аппарат события мира. Этот материал мира имманентно преодолевается поступком и творчеством. <…> Составить семантический словарь по отделам отнюдь еще не значит подойти к художественному творчеству. Основная задача – прежде всего определить художественное задание и его действительный контекст, то есть тот ценностный мир, где оно ставится и осуществляется»[395].
Причем М. М. Бахтин специально оговаривает, что лингвистические, технические, конструктивные моменты произведения нельзя игнорировать; нужно лишь видеть их подлинное место.
Понимая идею как художественное задание, форму видения и завершения, структурную доминанту, мы можем обнаружить случаи, когда идеей становится какой-то конструктивный момент.
Какова идея детектива? Детективные романы пишут и читают не для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать победу добра над злом, торжество справедливости, непременное воздаяние за преступление (хотя формы архитектонического завершения жанра тоже существуют, и они разнообразны). Художественное задание детектива (как и некоторых других формульных жанров) – в построении оригинальной фабулы с загадкой-завязкой, постепенным нарастанием ожидания-напряжения в цепочке микрокульминаций, ведущей к пуанте и максимально неожиданной развязке. Коротко говоря, идея детектива – в его фабуле.
Какова идея знаменитого стихотворения А. Е. Крученых «Дыр бул щыл / Убещур / Скум / Вы со бу / Р л эз»? (подробнее о нем пойдет речь в главе о структуре литературного процесса). Б. В. Томашевский, как мы помним, отказывал таким произведениям в теме. Однако идея в этом словесном эксперименте поэта все-таки есть: она заключается в создании максимально дисгармоничного фонетического построения, «самовитого слова», противопоставленного гармонической звукописи старой поэзии.
Следующий шаг на этом пути (Крученых, возможно, уже сделал его в цитированном стихотворении) – превращение идеи из авторской установки в читательскую. «В принципе любое сочетание случайных строк и слов может быть так или иначе осмыслено; поэтому не исключено, что некоторые стихотворения Д. Бурлюка (Ор. № 38: „Темный злоба Головатый / Серо глазое пила / Утомленный родила / Звезд желательные латы“) или А. Крученых представляли именно такие упражнения на изобретательность читателя»[396], – осторожно замечает М. Л. Гаспаров.
«Презумпция смысла», как видим, сохраняется и для таких бессмысленных «произведений».
Идеей в широком смысле слова, художественным заданием, следовательно, может стать элемент любого горизонтального уровня: персонаж, действие, хронотоп, язык. Идеологическая точка зрения, концентрация смысла на высших уровнях – наиболее распространенный, но с эстетической точки зрения совсем не обязательный вариант.
Идея-мысль, идея-пафос, архитектоническая форма, идея – конструктивная установка в совокупности образуют идейно-тематическое содержание, сферу смысла и становятся разными формами проявления авторской позиции, интенции, точки зрения.
Однако положение автора как организующего центра текста и мира признается далеко не всеми. Литературная теория ХХ века неоднократно подвергала это привычное эстетическое представление суровой критике.
В 1968 году Р. Барт провозгласил «смерть автора» (заглавие его статьи-манифеста). На главную роль организатора художественной структуры он и другие теоретики по очереди выдвигали читателя, письмо, текст, язык.
«Читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст. <…> Рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора».
«В противовес произведению (традиционному понятию, которое издавна и по сей день мыслится, так сказать, по-ньютоновски) возникает потребность в новом объекте, полученном в результате сдвига или преобразования прежних категорий. Таким объектом является Текст. <…> Текст всецело символичен; произведение, понятое, воспринятое и принятое во всей полноте своей символической природы, – это и есть текст. Тем самым Текст возвращается в лоно языка: как и в языке, в нем есть структура, но нет объединяющего центра, нет закрытости».
«Таким образом, нам придется по-новому взглянуть на сам объект литературной науки. Автор, произведение – это всего лишь отправная точка анализа, горизонтом которой является язык: отдельной науки о Данте, Шекспире или Расине быть не может, может быть лишь общая наука о дискурсе»[397].
Через тридцать лет ученик и соратник Р. Барта, подводя итоги теоретической «бури и натиска», признает, что классическая парадигма устояла, что новейшей литературной теории удалось оспорить и уточнить лишь некоторые крайности прежней, например отождествление биографического автора и имманентного автора как центра художественного видения: «При рассмотрении отдельных частей текста (стихов, фраз и т. д.) как образующих единое целое предполагается, что текст представляет собой чей-то намеренный поступок. Истолкование произведения предполагает, что это произведение отвечает чьей-то интенции, представляет собой продукт некоторой человеческой инстанции. Отсюда не следует, что мы обязаны искать в произведении одни лишь интенции, просто смысл текста связан с авторской интенцией, вернее даже, смысл текста и есть его авторская интенция. <…> Всякая интерпретация есть утверждение интенции, и если авторская интенция отрицается, то ее место занимает чья-то другая… <…> Принципом литературоведения, даже у самых крайних антиинтенционалистов, является презумпция интенциональности…»[398]
И один из самых авторитетных ученых-гуманитариев второй половины ХХ века У. Эко, когда-то развивавший концепцию открытого произведения[399], через три десятилетия защищает автора и произведение от исследовательской безответственности и читательского своеволия. «Чтение литературных произведений требует внимательного и уважительного отношения к авторскому замыслу: нельзя чрезмерно увлекаться вольной интерпретацией текста. Существует опасная ересь, типичная для литературоведа нашего времени, согласно которой в литературном произведении можно усмотреть все, что угодно, читая его так, как нам заблагорассудится. Это неправильно. Литературные произведения призывают нас к свободе толкования, потому что позволяют воспринимать прочитанное с разных ракурсов и сталкивают нас с многозначностью как языка, так и самой жизни. Но чтобы продолжать эту игру, по правилам которой каждое поколение читателей прочитывает литературные произведения по-своему, необходимо исходить из глубокого уважения к тому, что я обычно называю интенцией текста»[400].
Обнаружение авторской интенции является итогом рассмотрения отдельного произведения как структурного целого. Причем эта целостность, как мы уже говорили, имеет естественный, органический характер.
Лирический мир: трансформации и принципы анализа Орнамент или телефонная книга?
Содержание этой главы – структура мира, соотношение уровней, типологические перечни элементов – ориентировано, как уже сказано в начале, на анализ конкретного произведения эпического или драматического рода. Какое отношение имеет эта структура к лирике?
Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем сам лирический род.
Существует концепция, принципиально противопоставляющая лирику эпосу и драме. Д. Н. Овсянико-Куликовский считал лирику особым «безо́бразным искусством», оставляя категорию образа лишь объективным родам: «Лирика, как творчество по существу ритмико-эмоциональное, образует особый вид творчества, а не разновидность или форму какого-либо другого. Она психологически и принципиально отлична не только от творчества философского и научного, но и от художественного (образного)»[401].
Основой лирики для Овсянико-Куликовского являлась категория ритма («звукового ритма» и «ритма в пространстве»). Другие теоретики выдвигали в качестве лирической доминанты слово или более метафорическую (и одновременно абстрактную) единицу «орнамента», но столь же принципиально противопоставляли лирику другим литературным родам.
«Лирика в собственном смысле (я не говорю о разнообразных переходных формах) не является, в сущности, искусством изобразительным; она тяготеет к выразительному образу, подобному образам музыки. В частности, в лирике не обязательна фабульная основа, которая необходима и в эпическом, и в драматическом произведениях.
<…> Лирика соотносится с эпосом и драмой так же, как орнамент – с живописью и графикой. Различие между эпосом и драмой не является фундаментальным, доходящим до самых основ. <…>
Между тем лирика отличается от эпоса и драмы именно принципиально. В ней вполне возможны изобразительные детали – пейзажные, портретные, даже элементы изобразительной композиции. Но они играют здесь такую же подчиненную роль, как и в орнаменте, и лирика может обойтись без них, что очевидно, например, в лермонтовском „И скучно, и грустно…“ или в блоковском „Рожденные в года глухие…“. Здесь „изображается“ словами только „беспредметное“ переживание, только внутренняя настроенность духовного мира. То же самое мы находим и в орнаментальных композициях, слагающихся из линий и цветовых пятен, – композициях, выражающих известную настроенность, склад духовного мира, – конечно, более отвлеченно и общо, чем лирическое искусство слова»[402].
Обособив лирику от других литературных родов, мы должны искать принципиально иные способы ее анализа, иную аналитическую «единицу».
Однако опора на идеи М. М. Бахтина об эстетическом объекте и имманентном преодолении языка как специфике художественного творчества позволяет решить вопрос о принципах анализа лирики совсем по-иному.
Поскольку по многим признакам противопоставленные литературные роды архитектонически едины, исходная структурная схема мира произведения может быть ориентиром и при анализе лирики, конечно с оговорками, уточнениями и добавлениями, учитывающими специфику этого рода.
Во-первых, чистая лирика, примеры которой только что приведены в рассуждении В. В. Кожинова, вряд ли – даже количественно – представляет большую часть лирического рода. Существуют разнообразные лирические жанры, причем их никак невозможно считать «переходными формами» (баллада, ода наподобие державинской, повествовательные элегии В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова), мир которых можно рассматривать как набор тех же уровней и элементов, что и миры эпического и драматического произведения. В них присутствуют все базовые уровни художественного мира: пространственно-временная развертка (хронотоп), фабула, персонажи. Конечно, они складываются из меньшего числа элементов, чем в эпосе или драме, но и в рассказе, в отличие от романа, как мы помним, «любовь короткая»; еще более краткой она окажется в лирике.
Присутствие вертикальных уровней произведения в структуре лирики совсем очевидно: разнообразные мотивы, формы повествования (о чем чуть дальше), композиция – аналитические универсалии, столь же применимые к лирике, как и к прочим литературным родам.
Во-вторых, даже в чистой лирике редукция некоторых уровней не приводит к полному их исчезновению. В лермонтовском «И скучно, и грустно…» или в блоковском «Рожденные в года глухие…» отсутствуют предметные детали, пространственная детализация (топос), но сохраняется временная динамика (хронос), и, следовательно, все равно можно говорить о развитии, динамике чувства некоего героя, называющего себя Я или Мы. Столь же регулярно даже в чистой лирике появляются противоположные члены оппозиции: «Она», «Они» или «Мир». Между этими полюсами возникает конфликт, следовательно, можно говорить о лирическом сюжете как о еще одной универсалии, характерной и для этого рода даже при отсутствии фабулы.
Другое дело, что при движении по структурным уровням у исследователей возникает необходимость дополнить инструментарий, приспособить его к специфике данного рода.
Аналитической единицей лирического рода (с обоснованием или интуитивно), как правило, признается строфа. Даже в нестрофических формах ее аналоги выделяются легче, чем эпизоды в эпическом роде. Композиционное движение от строфы к строфе представляет обычную практику анализа лирики, каких бы методологических позиций ни придерживались ученые: оно вполне применимо и при понимании лирики как «ритма в пространстве», «музыки слова» или «орнаментальной композиции».
При этом (чаще всего – все-таки интуитивно) происходит другая подмена: лирика отождествляется со стихотворной речью (что, строго говоря, неточно). Поэтому именно при анализе лирики особое внимание уделяется собственно языковым феноменам (ритм, размер, звукопись) и, с другой стороны, в слепой зоне оказываются стихотворения в прозе (точнее, прозаическая лирика) – еще и потому, что этот жанр в русской литературе не имеет прочных традиций, не выделен – хотя бы пунктирно – как определенная историко-литературная линия (подобно истории элегии или басни).
Исследователи лирики предложили несколько продуктивных аналитических подходов, которые вписываются в описанную ранее уровневую структуру.
Рассматривая «семантическую структуру лирического произведения», Т. И. Сильман детализирует ее, вводя несколько важных дополнительных понятий: «Лирическое стихотворение – как тематически, так и в своем построении – отражает <…> особое, предельно напряженное состояние лирического героя, которое мы назовем „состоянием лирической концентрации“»[403].
Из этого состояния рождается лирический сюжет[404], в котором, с одной стороны, важно соотношение прошлого, настоящего и будущего времени («основная точка отсчета» находится в одном из этих времен), а с другой – соотношение эмпирической и обобщающей частей, представляющее уже не движение времени, а движение мысли лирического субъекта.
В концепции Сильман находится место и предметному миру (понятие, которое обычно применяют в анализе эпоса), и соотношению баллады и чистой лирики. В одной из глав ее книги появляется идея «семантической многослойности» лирики. На разнообразных примерах выделяются слои внешнего описания (1), предметной символики (2), внутренних переживаний (3) и разных отношений между ними[405]. Подобное понимание структуры не используется в других главах, может вызвать вопросы и сам перечень слоев. Но очевидно, что он органично вписывается в описанную ранее структуру и, следовательно, де-факто объединяет лирику с другими литературными родами.
Точно так же легко встраивается в предметный, мотивный и композиционный уровни методика «словарного» анализа лирического произведения Гаспарова – Ярхо, кратко описанная в начале этой главы.
Существенной дедукции и одновременно конкретизации подвергается при переходе к анализу лирики персонажный уровень рассматриваемой структуры.
Конечно, в лирике, даже в повествовательной балладе или лирической поэме, невозможна система персонажей и психологическая конкретизация, доступная даже малым эпическим рассказу или новелле. Количество персонажей здесь крайне ограниченно, и они даны даже не как типы, а как знаки, формулы (и в этом качестве похожи лишь на персонажей анекдота).
Чаще всего эти лирические персонажи безымянны. Самым распространенным, центральным, ключевым персонажем в лирике является «последняя буква в азбуке» – лирическое Я. За ним могут скрываться разные феномены.
Во-первых, принципиально важным оказывается понятие лирического героя.
Появившийся в поэтике поздно (считается, что впервые его употребил Ю. Н. Тынянов в статье-некрологе «Блок», 1921), термин часто употребляется бессистемно. Если лирический герой лишь «художественный „двойник“ автора-поэта, вырастающий из текста лирических композиций (цикл, книга стихов, лирическая поэма, вся совокупность лирики)»[406], то его можно просто отождествить с автором как субъектом лирического высказывания.
Однако понятие сразу приобретает важный смысл, если соотнести его со «всей совокупностью лирики», но не любого поэта, а поэта особого типа.
Еще в 1930-е годы М. И. Цветаева метафорически разделила поэтов на два основных типа: «Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов с историей и поэтов без истории. Первых графически можно дать в виде стрелы, пущенной в бесконечность, вторых – в виде круга. <…> О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать – они все уже знают отродясь <…> Они пришли в мир не узнавать, а сказать. Сказать то, что уже знают, все, что знают (если это много), единственное, что знают (если это одно). <…> Для поэтов с историей нет посторонних тем, они сознательные участники мира. Их „я“ равно миру»[407].
Позднее и независимо от Цветаевой историки литературы пришли к сходной оппозиции. «Понятие писательского пути предполагает возможным по крайней мере два основных истолкования. В одном случае можно говорить о пути писателя прежде всего как о его позиции, в другом, включающем и первый случай, – как о его развитии. <…> Всякий писатель, как и всякий человек вообще, в какой-то мере эволюционирует. Но в первом случае эта эволюция не является характеризующим, демонстративным признаком писателя и, конечно уж, не составляет особой темы в его творчестве. Главное здесь – не столько развитие, изменение, а лицо, угол преломления действительности, поэтический мир, система ценностей»[408].
В таком случае мы имеем право разграничить и противопоставить два типа лирического творчества: художественный мир как таковой, структура которого дается с определенной позиции, точки зрения, и мир, основным признаком которого является эволюция, развитие. Лишь во втором случае можно констатировать наличие в творчестве поэта лирического героя. Его характеризующими свойствами будут отчетливая связь с биографическим автором и эволюция, предполагающая сложный психологический рисунок, аналог характеру в эпосе. В первом же случае можно говорить о лирическом субъекте, поэтическом Я как знаке этого мира, лишенном биографии и истории.
Это противопоставление имеет не оценочный, но аналитический смысл. Поэт с историей ничем не хуже (и не лучше) поэта без истории. Для Цветаевой придуманная оппозиция поясняла различие поэтики Пастернака и Маяковского. Однако мы легко можем продолжить ряд поэтов без истории (Фет, Тютчев, Мандельштам) и поэтов с историей (Пушкин, Лермонтов, Блок).
Важно отграничить от лирического героя еще один вид лирического субъекта. В случаях, когда лирический субъект явно расподоблен с лирическим героем, но обладает какими-то характерными биографическими и психологическим чертами («Паж, или Пятнадцатый год» А. С. Пушкина, «Огородник» Н. А. Некрасова, многочисленные баллады В. С. Высоцкого, написанные от лица военных, спортсменов, сумасшедших и даже волков и Яка-истребителя), говорят о ролевой лирике (или героях-масках). Подобные произведения – образец последовательного чужого слова в лирике, аналог эпической сказовой манеры.
В случаях, когда разные формы авторского сознания соединяются в творчестве одного поэта, говорят о «многоэлементной лирической системе» (последовательно подобное строение мира исследовано на примере лирики Некрасова[409]).
Еще одним понятием, отражающим специфику лирического рода, является семантический ореол метра. Намеченное Р. Якобсоном и К. Тарановским, тщательно обоснованное и многократно использованное М. Л. Гаспаровым, оно фиксирует историческую, восходящую к какому-то влиятельному источнику связь между поэтической темой и метром[410].
Оказывается, что почти половина из рассмотренных М. Л. Гаспаровым 140 стихотворений, написанных трехстопным хореем с чередованием дактилических и мужских рифм, укладывается в тематический треугольник «смерть – пейзаж – быт», восходящий, по мысли исследователя, к лермонтовскому вольному переводу из Гёте «Горные вершины…». А в пятистопном хорее часто реализуются мотивы пути, дороги, движения, и эта связь возникла благодаря другому лермонтовскому стихотворению – «Выхожу один я на дорогу…»[411].
Следует еще отметить, что, в отличие от объективных родов эпоса и драмы, лирическое стихотворение редко существует как отдельная единица, само по себе. Оно встраивается в цикл, книгу, в конечном счете – художественный мир данного автора, который образует вся совокупность написанных им лирических текстов.
При аналитическом подходе к этому миру редуцированная в отдельных случаях общая структурная схема литературного произведения снова восстанавливается: мы имеем дело с его основными уровнями и элементами – от языковых единиц (стилистические пласты и тропы) до композиции и авторской интенции. Единство аналитического подхода к литературе как виду искусства сохраняется.
Категории-интеграторы: автор, жанр, стиль, метод/направление Квадратура круга
При рассмотрении следующего круга проблем мы снова должны шагнуть за границу произведения, поместить его в более широкие контексты, представить частью, элементом других систем, имеющих уже не органический, а исследовательски-конструктивный характер. Семантический квадрат произведения, состоящий из горизонтальных и вертикальных уровней, может быть вписан в контекстуальный круг.
Формула текста и контекста – «квадратура круга».
Пограничными, интегрирующими элементами, которые осуществляют связь конкретного произведения с внешним культурным контекстом, являются автор, жанр, стиль, метод/направление.
О первых двух понятиях мы уже подробно говорили.
Автор как интенция, точка зрения создается, порождается биографическим автором, живущем в реальном мире, в какой-то стране в определенную историческую эпоху. Проблема автора в таком понимании выходит за пределы поэтики и рассматривается в разнообразных генетических исследованиях произведения (творческая история, прототипы), а также становится предметом психологических исследований (психология творчества) и биографических жизнеописаний (от «летописи жизни и творчества» и научной биографии до романа). Категория автора, таким образом, связывает произведение с индивидуально-психологическим и непосредственно-жизненным миром его создателя.
Жанр, как мы помним, является «представителем творческой памяти в процессе литературного развития». Он обозначает литературный контекст, горизонт восприятия, на фоне которого оценивается своеобразие отдельного произведения и его отдельных элементов.
Стиль – понятие, употребляющееся в разнообразных контекстах. Исследователи насчитывают более десятка его типологических употреблений и сотни конкретных определений, начиная со стиля отдельной фразы и заканчивая стилем эпохи и даже стилем цивилизации[412].
А. Ф. Лосев, сделав подробный обзор учений о стиле от Бюффона («Стиль – это человек») до А. Морье («Стиль для нас есть устроение, существование, способ бытия»), предложив 26 отрицательных определений того, «что не есть художественный стиль», в 10 положительных разделах «опыта определения понятия художественного стиля» пришел в итоге к «последнему определению художественного стиля»: «Таким образом, сводя все предыдущее воедино, мы могли бы дать такую формулировку художественному стилю. Он есть принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художественным структурам произведения»[413].
В сфере практической поэтики использовать такое определение, конечно, невозможно. Подобно понятиям образ, произведение, текст, структура, категория стиля имеет обобщенно-констатирующий характер. Она охватывает три основных аспекта литературы: произведение (стиль «Мастера и Маргариты») – творчество (стиль Булгакова) – эпоху (стиль классицизма), но может исследоваться лишь с помощью элементов разных уровней (хронотопа, героев, действия и элементов этих уровней).
Стиль в широком смысле целесообразно понимать как живописное своеобразие целого, изобразительную, пластическую определенность избранного объекта (произведения или его части, творчества и т. п.). Однако в таком значении он оказывается весьма близким таким констатирующим понятиям, как поэтика, структура, жанр[414], и его употребление становится вопросом моды или привычки. Между исследованиями, тема которых формулируется как «Стиль…», «Поэтика…» и даже «Творчество…» (там, где речь идет о структуре произведения), часто нет принципиальной разницы: они охватывают сходный круг проблем.
Культурологические характеристики стиля (открытый и закрытый, линейный и живописный, пышный и лаконичный и т. п.) обычно справедливо упрекают в импрессионизме, нечеткости, непроверяемости: «Обывательщина царит, например, в области типологии стиля. Литературоведы всех стран бросаются безответственными определениями: „строгий“, „крепкий“, „красочный“, „живой“ стиль; а спросите их, что такое „строгий“ стиль, – получите в ответ нечто весьма невразумительное»[415].
Большей определенностью отличается узкое понимание стиля как одного из разделов поэтики. Стиль в этом смысле индивидуальное или историческое своеобразие уровня художественной речи – система значимых отклонений от некой нормы, «преобразование по определенным правилам нелитературной (повседневной, научной и т. д.) речи»[416].
С таким определением стиля хорошо увязываются представление о функциональных стилях за пределами искусства, определение стилистических пластов языка, теория трех стилей.
Стиль в этом смысле является предметом изучения риторики и традиционной стилистики.
Подводя итог полемике о стиле в теории литературы конца ХХ века, А. Компаньон констатирует: «На первый план выдвинулись – вернее, никогда и не были устранены – три аспекта стиля. Во всяком случае, они успешно выстояли против натиска, которому подвергла их теория:
– стиль есть формальная вариация более или менее устойчивого содержания;
– стиль есть совокупность характерных черт произведения, позволяющих определить и опознать (скорее интуитивно, чем аналитически) его автора;
– стиль есть выбор между несколькими видами „письма“»[417].
Первый и третий из обозначенных аспектов имеют непосредственное отношение к узкому пониманию стиля, второй – к широкому. Интуитивный характер этого понятия не мешает, однако, использовать его в истории литературы и критике.
Автор, жанр, стиль, метод/направление оказываются «двуликими янусами», обращенными одновременно внутрь художественного мира и к более широкому культурному контексту. В мире произведения они выполняют роль интеграторов, рамочных понятий, организующих в различные конфигурации элементы его базовых уровней. В контексте они, напротив, приобретают аналитический характер; разнообразные типологические и исторические построения создаются уже на их основе.
Автор, создающий художественный мир на базе идейно-тематического содержания, исходной интенции, оборачивается то идеологической точкой зрения, то биографическим субъектом, реальным человеком, живущим в историческом мире.
Жанр и стиль отражают структурное и пластически-живописное своеобразие произведения и в то же время размыкают его в литературу, определяют культурный контекст.
Категориями, задающими и создающими контекст исторический, являются в традиционной истории литературы метод и направление. Через них от структуры отдельного произведения мы переходим к структуре литературного процесса.
Структура литературного процесса По ступенькам эпох
Литературное произведение обычно рассматривается в сюжетно-фабульной динамике, но внешнее время, время его создания, практически не входит в хронотоп. Семь лет, ушедшие на написание «Евгения Онегина» или «Войны и мира», или одиннадцать (по другим данным – даже тринадцать) лет, затраченных Булгаковым на «Мастера и Маргариту», являются фактом творческой истории этих произведений, но сжимаются до синхронной точки на литературной карте. Для поэтики они, как и написанное за несколько минут, в один присест стихотворение, – произведения, охваченные единой интенцией. Хронологические этапы работы над текстом в конкретном анализе преобразуются в соотношение разных структурных элементов художественного целого.
Но сразу за границей художественного мира произведения мы сталкиваемся с необходимостью другой трактовки времени – с проблемой расположения произведений и авторов во времени историческом.
«Произведение и изображенный в нем мир входят в реальный мир и обогащают его, и реальный мир входит в произведение и в изображенный в нем мир как в процессе его создания, так и в процессе его последующей жизни в постоянном обновлении произведения в творческом восприятии слушателей-читателей. Этот процесс обмена, разумеется, сам хронотопичен: он совершается прежде всего в исторически развивающемся социальном мире, но и без отрыва от меняющегося исторического пространства. Можно даже говорить и об особом творческом хронотопе, в котором происходит этот обмен произведения с жизнью и совершается особая жизнь произведения»[418].
Традиционная история литературы имеет дело с одним сектором этого творческого хронотопа – систематизацией процессов создания произведений.
Если словарь с расположением материала по алфавиту – элементарный способ синхронного расположения материала, то простейшим способом использования времени в осмыслении литературных фактов является хронологическая последовательность, хронологическая таблица. Однако она лишь формальный способ организации материала (даты рождения и смерти отдельных писателей, порядок написанных ими произведений). Для прояснения общих закономерностей развития литературы необходимы иные категории. Из общей истории литературоведение заимствует понятие историко-культурной эпохи.
Ученые утверждают: полностью сформировавшийся человек современного физического типа появился на Земле около 40 тысяч лет назад. История европейской цивилизации и культуры, наследниками которой мы являемся, примерно в восемь раз короче: первые государства в Египте и Месопотамии были созданы в конце 4-го тысячелетия до н. э.
Эту стадию развития человечества обычно делят на четыре большие эпохи: древность – Средние века – Новое время – Новейшее время.
Конечно, в истории, особенно недавней, нельзя, как на бумаге, провести резкую черту. Границы между эпохами подвижны и могут проводиться на разных основаниях: формирование и исчезновение государств, войны и смены династий, возникновение и распространение религиозных верований, научные и географические открытия. Но для нас, поскольку речь идет о литературе, наиболее важен тот образ человека и мира, который существует в философии, культуре, быту и оказывает влияние на художественное творчество: формирует сознание писателя, отражается в его творениях.
Древности как эпохе мировой истории отводят более трех тысячелетий: III тысячелетие до н. э. – V в. н. э. Ее ядром, высшим достижением стала античная культура Греции и Рима, начинающаяся с гомеровского периода (VIII в. до н. э.) и завершившая органическое развитие вместе с падением Римской империи (453 г. н. э.).
Античность – время мифа. Мифология используется как источник тем, сюжетов и образов. Произведения, созданные на мифологической основе, обычно подчиняются традиции, канону и пишутся в стихотворной форме. Проза в античности используется только в «пограничных» с литературой областях философии, истории, ораторского искусства.
М. Л. Гаспаров так определяет роль этих принципов: «Мифологический арсенал <…> позволил античной литературе символически воплощать в своих образах самые высокие мировоззренческие обобщения. Традиционализм, заставляя воспринимать каждый образ художественного произведения на фоне всего предшествующего его употребления, окружал эти образы ореолом литературных ассоциаций и тем самым бесконечно обогащал его содержание. Поэтическая форма давала в распоряжение писателя огромные средства ритмической и стилистической выразительности, которых была лишена проза»[419].
Человек в античной литературе присутствовал преимущественно как герой, однако зависящий от высших сил. Если же он нарушал волю богов (как Прометей или Сизиф) и заслуживал возмездие, стойкость и величие духа проявлялись даже в его страдании и гибели.
«Характерными доблестями эпических героев были смелость, хитрость, сила, благородство и стремление к бессмертной славе. И все же, как бы ни был велик тот или иной герой, – жребий человека был предопределен судьбой и самим фактом его смертности. И прежде всего именно выдающийся человек навлекал на себя разрушительный гнев богов, часто из-за своей непомерной дерзости (hubris), а иногда – кажется, совершенно незаслуженно»[420], – замечает Р. Тарнас.
Средневековье длилось в европейской истории примерно тысячелетие (V – ХV вв.). В эту эпоху на смену древнему мифологическому многобожию приходит возникшее в эпоху поздней античности христианство. Литература этого времени приобретает преимущественно религиозный характер. Она начинается с противопоставления, разрыва: античное наследие на долгое время было отодвинуто в сторону, почти забыто (хотя древние рукописи тоже переписывали в монастырях, поэтому они сохранились).
Позднее обращали внимание прежде всего на темные стороны Средневековья: аскетизм и фанатизм, религиозные войны (например, Крестовые походы), отрицание и даже преследование светской культуры. «Века были не то что средние, а просто-напросто плохие», – пошутил один писатель.
На самом деле на Средние века, как и на любую историческую эпоху, не стоит смотреть свысока. В мировой истории это тысячелетие было очень важным.
В христианстве утверждается новое понимание человека. Зависимый в конечном счете от воли Бога, он в то же время получает свободу выбора между добром и злом, приобретает ответственность за свое земное существование, которое может либо спасти его душу, либо погубить ее.
Средневековая литература обращена к высоким темам: размышлениям о человеческой природе, о смысле истории, «О Граде Божьем» (так назывался знаменитый трактат Блаженного Августина). Однако она более канонична и социально иерархична, чем литература античности. Центральное место в ней занимает изображение значительных личностей – царей, полководцев, религиозных подвижников. Но даже эти образы обычно изображались однопланово, статично – без исторического объяснения и психологической разработки.
«Основной интерес для писателей Средневековья представлял человеческий поступок, деяние, жест, но в очень ограниченном и условном наборе ситуаций. Также – и мир человеческих переживаний. Приметы вещного мира также давались изолированно; пропорции между ними не были соблюдены. Поэтому они не складывались в полную реалистическую картину окружающего мира»[421].
В Новое время первыми вступили итальянцы, а за ними и другие европейские культуры и литературы (английская, французская, испанская). Эта эпоха оказалась уже вдвое короче Средневековья (ХV–IХ вв.).
Она началась со смены философской и культурной доминанты. На смену прежним представлениям о человеке как игрушке богов (античность), человеке, вступающем в личные отношения с Богом, но все-таки зависящем от него (Средневековье), приходит гуманизм, вера в беспредельность человеческих сил и возможностей. В центре новой картины мира оказывается человек как таковой, человек сам по себе. Этот образец мыслители и художники Нового времени – через голову Средневековья – находят в идеализированной античности.
«Много есть чудес на свете, / Человек – их всех чудесней», – декламирует Хор в начале трагедии Софокла «Антигона». Эти слова могли бы стать девизом, эпиграфом, формулой Нового времени, которое обычно членят на века-эпохи.
Переходной от Средневековья к Новому времени стала эпоха Возрождения (фр. Renaissance, ХIV–VI вв.), вершиной которого считается итальянская культура ХVI века (так называемое Высокое Возрождение).
«Если сравнивать человека Возрождения с его средневековым предшественником, то представляется, будто он внезапно, словно перепрыгнув через несколько ступенек, поднялся практически до статуса сверхчеловека. Человек отныне стал смело проникать в тайны природы как с помощью науки, так и своим искусством, делая это с непревзойденным математическим изяществом, эмпирической точностью и поистине божественной силой эстетического воздействия. Он неизмеримо расширил пределы известного дотоле мира, открыл новые материки и обогнул весь земной шар. Он осмелился бросить вызов традиционным авторитетам и утверждать такую истину, которая основывалась на его собственном суждении. Он был способен оценить сокровища классической культуры и вместе с тем был волен вырваться за старые границы, чтобы устремиться к совершенно новым горизонтам. <…> Человек уже не был более таким ничтожным, как раньше, в сравнении с Богом, Церковью или природой. <…> Ренессанс неустанно порождал все новые образцы возможных достижений человеческого духа – начиная с Петрарки, Боккаччо, Бруни и Альберти, далее Эразма, Мора, Макиавелли и Монтеня, вплоть до конечных всплесков – Шекспира, Сервантеса, Фрэнсиса Бэкона и Галилея»[422].
Замечательную формулу Возрождения предложил французский писатель-гуманист Ф. Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1552). Устав описанной им Телемской обители, идеального, утопического «антимонастыря», противопоставленного реальным монастырям с их строгими правилами и обрядами, состоит из одного правила: «Делай что хочешь». Однако такая беспредельная свобода человеческой личности, основанная на вере в его добрую, гармоническую природу, вскоре обнаруживает оборотную сторону. Злодеи из трагедий великого английского драматурга У. Шекспира (Ричард III, Макбет в одноименных пьесах, Яго в «Отелло», Клавдий в «Гамлете») тоже подчиняются собственным желаниям, которые толкают их на ужасные преступления, позволяющие достигнуть власти, удовлетворить чувство мести или ревности.
Художники Возрождения показывают, как прекрасный принцип «Делай что хочешь» превращается в разрушительное для человека и мира «Все позволено». Между этими полюсами и развертываются мысль и творчество последующих эпох. Каждая из них, как правило, отождествляется с веком, хотя столетия культурные могут быть и больше и меньше столетий календарных.
XVII век в культуре Нового времени не имеет специального названия. Его трактуют как время развития капитализма, расцвета научной и технической мысли, распространения мировых религий. Однако в области литературы и культуры этот век обладает своей спецификой, отличной от предшествующего и последующего столетий развития, движения общественной жизни. «Литература XVII столетия, как и ренессансная литература, исходит из представления об автономной, свободной от средневековой ограниченности человеческой личности и ее правах и возможностях как основном мериле гуманистических ценностей. Но литература XVII в. рассматривает эту личность в более глубокой и одновременно более широкой с точки зрения охвата действительности перспективе, как некую точку преломления находящихся вне ее самой, но воздействующих на нее сил»[423]. В это время в европейской литературе возникают новые художественные методы, а для литературы русской он оказывается еще важнее: это пограничное время между русским Средневековьем и Новым временем, которое начинается с эпохи Петра.
До ХVII века русская литература по фазам и эпохам отстает от европейской. В ней, естественно, не могло быть своей античности (первое документально зафиксированное кириллическое слово – надпись на глиняном сосуде горухща – относят к середине Х века, лишь через век появился и первый известный памятник – Остромирово Евангелие). Древняя русская литература была синхронна европейской литературе Средних веков. Но и Ренессанс в русской культуре тоже не состоялся (ученые говорят лишь о его отсветах, элементах, так называемом Предвозрождении). Лишь к рубежу ХVII–VIII веков завершается цикл развития древнерусской словесности.
Бурное историческое время, когда Россия во главе с Петром Великим прорубала окно в Европу, оказалось для литературы тоже переходным, но спокойным периодом. «Петровская эпоха – это перерыв в движении литературы, остановка. <…> Это самая „нелитературная“ эпоха за все время существования русской литературы. В это время не возникло значительных произведений литературы и не изменился ее характер»[424].
Однако все изменилось вскоре после смерти Петра. Начинается одна из самых замечательных эпох: процесс становления литературы Нового времени, когда, после резких государственных и культурных изменений, и русская литература бросилась в погоню за Европой.
«Новый тип литературного развития вступает в силу со второй четверти или, вернее, со второй трети XVIII в. Он поднимается и формируется с необычной быстротой. Здесь действовала совокупность причин: появление в литературе книгопечатания (до этого типографии служили административным, учебным и церковным целям), возникновение литературной периодики, развитие интеллигенции высшего, светского типа и многое другое»[425].
Далее, на протяжении ХVIII века, русская культура существовала в состоянии догоняющего развития, но уже в начале следующего века возникновение новых методов/стилей практически синхронизировалось, чтобы снова разойтись еще через век, уже в советскую эпоху.
XVIII век называют эпохой Просвещения. Она наследует ренессансную веру в человека, гуманизм и рационализм, но придает им конкретный социальный характер.
Английский философ Джон Локк (1632–1704), французские философы, писатели, публицисты Вольтер (настоящее имя Франсуа-Мари Аруэ, 1694–1778), Жан-Жак Руссо (1712–1778), Дени Дидро (1713–1784), немецкие и американские мыслители предложили современникам новую, чрезвычайно привлекательную систему идей, основанную на рационализме, культе разума и связанном с ним научном познании. Недаром главным делом и высшим достижением французских просветителей стала 35-томная «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751–1780), фундаментальный свод научных знаний эпохи.
Просветители утверждали несколько, как им казалось, простых, достигнутых мучительным развитием истории, идей и истин.
Человек по природе добр. Все зло связано с неправильными общественными установлениями, государственными порядками, которые искажают эту первоначально существовавшую гармонию.
Мир развивается по единым законам, которые постигаются деятельностью Разума. Познав существующее, его можно разумно перестроить, установить естественное право (справедливые законы), естественные религию и нравственность (законы человеческого общежития), вернувшись тем самым к прежней гармонии человека и мира – свободе, равенству и братству (эта триада стала главным лозунгом Французской революции 1789–1794 гг.).
Этот прогресс цивилизации может обеспечить просвещенная монархия: цари, короли, императоры, проникнутые идеями просветителей и пользующиеся их советами.
Высшим взлетом и трагедией просветителей стала Великая французская революция 1789–1794 годов, в которой их идеалы вроде бы осуществились: была свергнута монархия, существенно ограничена роль Церкви, равные права получили все сословия французского общества. Но вскоре революция обернулась казнями не только короля, но и самих революционеров, и множества простых людей, гражданской войной и восстановлением монархии в лице самозванца Наполеона.
Тем не менее XIX век продолжает защиту гуманистических ценностей, придав им более широкий демократический характер, и в то же время постепенно ощущает кризис прежних ценностей. Уже современники изощрялись в поисках его определения, начиная подводить итоги, когда столетие не перевалило за середину:
Век шествует путем своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы[426].Определения практического, промышленного характера наступившего столетия стали привычными. Их, как общее мнение, часто повторяют не только авторы, но и герои многих произведений русской литературы.
«…Наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге»[427].
«Одно осталось серьезное для человека – это промышленность, ибо для него уцелела одна действительность бытия: его физическая личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии»[428].
«Все эти кислые толки о добродетели глупы уж тем, что непрактичны. Нынче век практический»[429].
«Довольно, отцы, нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог»[430].
Исторический XIX век оказался почти на четверть длиннее календарного (1789–1914). Границей между Новым и Новейшим временем, девятнадцатым и Настоящим Двадцатым Веком (А. Ахматова) стала Первая мировая война (1914), поставившая под сомнение многие прежние представления и ценности, обозначившая процесс, который А. А. Блок назвал крушением гуманизма.
На «короткий двадцатый век» (так он обозначается у некоторых историков) пришлись две мировые войны, холодная война, бурный расцвет науки и техники, средств сообщения и связи, принципиально изменивших мир, сделавших его «плоским», превратившим его в «большую деревню». При этом уже не раз звучали призывы вырваться из него во время еще более новое – информационной цивилизации, постчеловечества, конца истории и т. п.
Переходя на иной уровень – общекультурный – уровень периодизации, мы сталкиваемся с необходимостью выбора из нескольких основных единиц.
В литературоведении советской эпохи привычной единицей классификации литературного процесса было понятие художественного (творческого) метода[431]. Возникшее первоначально в марксистской интерпретации литературы, оно должно было связать мир произведения, авторскую интенцию и историческую реальность.
Художественный метод чаще всего определяли как принципы отбора, изображения и оценки явлений действительности в литературном произведении.
«Возникающее на определенной стадии литературного процесса единство ведущих духовно-содержательных и эстетических принципов, охватывающее творчество многих писателей»[432], определялось как литературное направление.
Близким обоим определениям оказывается и старая категория художественного стиля (в широком, не-лингвистическом смысле, о котором шла речь в предыдущей главе).
Можно заметить, что категории метода, направления и стиля имеют общее смысловое поле, фактически с разных сторон описывают один и тот же концепт, феномен. Речь идет о некоем принципе (или принципах), формообразующей идеологии (М. М. Бахтин), определяющей структуру произведения и одновременно объединяющей его с другими текстами, образующими некое системное множество.
В таком случае метод мы можем рассматривать как философско-эстетическую характеристику литературного процесса, множества авторов и произведений, направление (течение, школу) – как конкретно-историческую реализацию метода, его бытие в истории, а стиль – как живописную целостность этого развернутого в плоскость истории множества. В любом случае речь идет о периодизации культурного и литературного процессов по единому принципу.
Характеристики метода/направления литератур древности и Средневековья даются, как правило, описательно, без конкретных общепринятых терминов. Это связано с тем, что, в отличие от стиля, понятиям метода и направления обычно придается рациональный, сознательный смысл: они должны быть теоретически осознаны и сформулированы критиками или самими писателями. Именно поэтому Д. С. Лихачев утверждал: «В новое время литературное направление захватывает всю литературу, все ее жанры и частично критику. Древняя литература не знает литературных направлений вплоть до ХVIII века. Первое литературное направление, сказавшееся в русской литературе, – барокко»[433].
В применении к европейской литературе специальные понятия, – измы, призванные передать специфику данной эпохи, появляются в историко-литературных исследованиях начиная с эпохи Возрождения.
В связи с первой эпохой Нового времени говорят о ренессансном реализме, или же реализме эпохи Возрождения. Реализмом этот метод делает направленность на внешний мир (противопоставленная средневековой интенции к познанию Бога), попытка познания его закономерностей. Отличие же этой версии реализма от последующих Л. Е. Пинский (как и другие авторы, использующие категорию не метода, а стиля) видел в широте, масштабности проблем, в том числе «титаничности» героев: «Индивидуальность героя, разрастаясь, переходит в воплощение исторического принципа, личное дело становится делом времени и общества. <…> Художественный тип в идеализирующем реализме Возрождения – это герой, личность, взятая „на пределе“ человеческой натуры. Гамлет, один противопоставленный целому обществу, или Дон-Кихот, в котором воплощена целая уходящая культура, – наиболее характерные примеры типического в реализме Ренессанса. <…> Употребляя терминологию Джамбаттиста Вико, можно сказать, что в творчестве Рабле, Шекспира, Сервантеса отражается переход от „героического“ века к „человеческому“»[434].
В следующую историческую эпоху – XVII веке – культура и литературный процесс раздваиваются: возникают методы/стили барокко и классицизма.
Стиль барокко сначала был выявлен и описан в архитектуре и живописи. Немецкий искусствовед Г. Вёльфлин предложил пятичленную систему оппозиций: линейность – живописность; плоскостность – глубина; замкнутая форма – открытая форма; множественное единство – целостное единство; безусловная ясность – условная ясность. Левая часть этой таблицы-пятичленки стала характеристикой Ренессанса, правая – барокко (этимология термина и до сих пор остается неясной, его производят то от итальянского barocco – странный, причудливый, то от португальского barroco – жемчуг неправильной, овальной формы)[435].
Когда поле исследования было расширено и барокко обнаружили не только в пластических искусствах, но и в музыке, литературе, эти стилевые характеристики были дополнены философскими предпосылками. В барокко увидели трагическое мировоззрение, вызванное разочарованием в идеалах ренессансного гуманизма, которое уже проявилось в трагедиях позднего Шекспира: «Распалась связь времен», «Век вывихнул себе суставы» (разные переводы реплик из монолога главного героя «Гамлета»). Из него вытекали не только живописность, но постоянные контрасты и оксюмороны, бесконечные метафорические ряды, ирония.
Любопытное, приближенное к быту определение барокко дает в знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даль: «Все странное, необычайное, неправильное, насильственное в сочинении и исполнении картины, здания и пр., но не смешное».
Уходом от этой странности, неправильности, неясности представляется искусство классицизма.
Классицизм (в отличие от барокко, его своеобразие выявилось прежде всего во французской литературе) был искусством рационалистическим. Классицисты, как и художники Ренессанса, тоже обращаются к наследию античности, заимствуя оттуда тематику и жанры, однако понимая их по-своему, придавая им актуальный характер.
Главным конфликтом искусства классицизма становится противоречие общего и частного, долга и чувства. В классицистических трактатах (скажем, «Поэтическом искусстве» Н. Буало) выстраивается иерархия жанров, описываются принципы поэтики (будто бы выведенные из изучения античного искусства, но на самом деле придуманные самими теоретиками: таково знаменитое правило трех единств, которое классицисты утверждали как неизменный, универсальный принцип драмы), дотошно оценивается целесообразность отдельных стилистических фигур и тропов (подробнее об эстетике и поэтике классицизма речь пойдет в связи с его русской версией).
Структура литературного процесса в ХIII веке, эпоху Просвещения, снова усложняется. Главные направления века наследуются из прежних эпох: просветительский классицизм (Вольтер, А. Шенье, Ф. Шиллер, «веймарский классицизм» И. В. Гёте) и просветительский реализм (Г. Филдинг, Д. Дидро).
Просветительский классицизм сохраняет рациональный подход к художественному творчеству, иерархию высоких (ода, трагедия) и низких (сатира, комедия) жанров. Однако эти жанры наполняются новым содержанием и сближаются с современностью: демократизируется герой, основой конфликта становятся просветительские идеи, отодвигая на второй план личные и любовные коллизии.
Русский классицизм возникает уже в просвещенческую эпоху и за краткий период, приблизительно за полстолетия, решает задачи, которые в Европе заняли почти два столетия.
Имея в виду его «запоздалый» характер, ученые ХIХ века иногда высокомерно называли его псевдоклассицизмом. Однако при внимательном взгляде становится ясно, что, активно используя многие идеи европейских предшественников, русский классицизм был вполне оригинальным явлением, решавшим важнейшие национальные задачи.
Поскольку русский классицизм «запоздал» почти на целый век, в нем обычно пытаются увидеть элементы других художественных методов, как более ранних, так и позднейших. М. В. Ломоносова по размаху и многообразию его деятельности сравнивают с титанами Возрождения, а в его творчестве обнаруживают связь с искусством барокко. В «Недоросле» Д. И. Фонвизина находят элементы реализма. Но увидеть эти элементы мы можем лишь на фоне ведущего метода и направления.
Классицизм является главным, доминирующим методом русской литературы 1730–1780-х годов. Он был искусством Общего. «Мысли <…> людей классического века (кроме богословия) были об одном: о государстве. Судьбы и назначение России, общие судьбы народов и монархов – вот что занимало людей, которые сами видели рождение нового государства и были детьми политического деяния…»[436]
Особая заслуга в создании новой русской литературы принадлежит первому поколению писателей послепетровской эпохи, великому треугольнику ХVIII века, трем «богатырям», часто ожесточенно враждовавшим между собой: В. К. Тредиаковскому, М. В. Ломоносову и А. П. Сумарокову.
Современный поэт В. С. Шефнер (1915–2002) сочинил цикл стихотворений (фактически – поэму) об одном из самых известных и самых несчастных поэтов ХVIII века – «Василию Тредиаковскому посвящается» (1958–1966).
Поэтом нулевого цикла Я б Тредьяковского назвал. Еще строенье не возникло — Ни комнат, ни парадных зал. Еще здесь не фундамент даже — Лишь яма, зыбкий котлован… Когда на камень камень ляжет? Когда осуществится план? <…> Он трудится, не зная смены, Чтоб над мирской юдолью слёз Свои торжественные стены Дворец Поэзии вознес. И чем черней его работа, Чем больше он претерпит бед — Тем выше слава ждет кого-то, Кто не рожден еще на свет[437].Шефнеровский образ можно отнести не только к Тредиаковскому, но и к его современникам. Все русские поэты XVIII века начинали нулевой цикл культурного строительства, закладывали фундамент, совершали огромную, часто неблагодарную культурную работу.
Нужно было переводить уже существующие на других языках произведения, сочинять собственные, объяснять их пока немногочисленным читателям, а для этого – создать особый эстетический язык, язык разговора о литературе, объяснения ее.
Русский классицизм, как и его французского предшественника, связывает с Просвещением главная черта – рационализм. Исходя из строгих требований разума, опирающегося на понимание и изучение античного искусства, в котором теоретики классицизма обнаруживали непререкаемые нормы и образцы, классицисты выстраивали свою эстетику и поэтику.
Эти нормы можно представить в виде четырех оценочных шкал, «линеек», которыми классицисты «измеряли» современную культуру.
Первая система норм – языковая. Она была задана прежде всего «Российской грамматикой» (1755) М. В. Ломоносова. В ней ученый в виде шести «наставлений» (частей) представил систему языка, начиная с философских обоснований («О человеческом слове вообще»), продолжая фонетикой, орфографией, классификацией частей речи и оканчивая стилистическими советами о правилах сочетания слов. Собственно стилистическим проблемам было посвящено более раннее «Краткое руководство к красноречию» (1748).
Из описания специфики русского языка выросла другая норма – стилистическая. В «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1757) была представлена теория трех штилей (стилей), оказавшая огромное влияние на литературу ХVIII века. Ломоносов не придумал эту оценочную шкалу, о трех разных стилях говорили и античные ораторы, и теоретики французского классицизма. Но он совершил не менее важное: приспособил эту теорию к особенностям развития русского языка, наполнил ее конкретным содержанием, показал, из какой «материи» можно создавать тексты, относящиеся к разным стилям. Критерием разграничения стилей стала для Ломоносова церковнославянская лексика, употреблявшаяся в специальных, небытовых ситуациях (молитва, чтение церковных книг) и потому имеющая возвышенный характер.
Следующая ломоносовская нормативная «линейка» – жанровая. Она представлена в том же «Предисловии о пользе книг церковных» и активно использовалась другими писателями этой эпохи.
В соответствии с иерархией стилей литературные жанры классицистической эпохи тоже делились на три группы.
К высоким жанрам относились поэма (в эпосе), трагедия (в драме) и ода (в лирике). Опыты эпической поэмы («Петр Великий» Ломоносова, «Россиада» М. М. Хераскова) и трагедии («Димитрий Самозванец» А. П. Сумарокова, «Вадим Новгородский» Я. Б. Княжнина) не были особо удачными и вскоре превратились в исторические памятники (над «надутостью» поэмы Хераскова иронизируют уже в пушкинскую эпоху). Ода же стала главным жанром русского классицизма, определив его развитие от Ломоносова до Державина и потом постоянно «оживая» в творчестве Пушкина, Тютчева, даже Маяковского.
На другом полюсе, низких жанров, находились комедия (драматический род), басня (эпический жанр).
Противоположные по эмоциональной доминанте, трагедия и комедия в литературе классицизма были объединены общим принципом – знаменитым правилом трех единств: действия, места и времени. «Одно событие, вместившееся в сутки, / В едином месте пусть на сцене протечет, / Лишь в этом случае оно нас увлечет», – четко формулировал знаменитый французский теоретик классицизма Н. Буало, который был авторитетен и в России («Поэтическое искусство», песнь третья).
Средние жанры – элегия, идиллия, песня, сатира – не пользовались в эпоху классицизма особым вниманием. Они оказались малоподходящими для больших тем и государственного пафоса литературы этого времени. Вне этой системы оказались и эпические жанры (роман, повесть, новелла), активно разрабатывавшиеся в европейских литературах. Новая русская литература развивалась преимущественно в лирическом и драматическом родах. Интерес к эпическим, повествовательным жанрам появится чуть позднее.
Наконец, четвертой нормативной шкалой, заложенной в фундамент новой русской литературы, оказалась система стиха. На смену распространенной в ХVII веке силлабической системе, основанной на счете слогов в стихе (русские стихи, как и польские, были одиннадцати- и тринадцатисложниками), пришла разработанная Тредиаковским и Ломоносовым силлабо-тоническая (слогоударная) система, основанная на равномерном чередовании ударных и безударных (а точнее, сильных и слабых) слогов, объединяющихся в повторяющиеся «единицы», стопы.
Четырехстопный ямб становится «центральным стихом русской поэзии (и почти единственным стихом оды)» (Л. В. Пумпянский). Однако и другие силлабо-тонические метры – двусложный хорей, трехсложные дактиль, амфибрахий, анапест – оказались самыми «долгоиграющими» нормами XVIII века, пережившими и классицизм, и множество других литературных эпох. Несмотря на все изменения, преобразования, дополнения, и сегодня, почти через триста лет, силлабо-тоническая «пятерка метров» остается ядром русской стихотворной системы.
Более отчетливо идеи времени определяют развитие просветительского реализма. В отличие от реализма ренессансного, реализм ХVIII века более конкретно понимает героя и его зависимость от обстоятельств, дает широкую картину бытовой жизни, культивирует новые жанры (драма в узком смысле слова как таковая), особое значение придает развитию романа.
Существование просветительского реализма в русской литературе долгое время не замечали. Историки литературы ХIХ века считали, что в веке предшествующем русская литература развивалась в рамках классицизма (или псевдоклассицизма). Иногда к нему добавляли барокко. Однако в связи с особым вниманием к реализму ХIХ века эту линию продлили и в век XVIII[438]. К главным достижениям русского просветительского реализма относят публицистику Н. И. Новикова, творчество Д. И. Фонвизина (хотя его пьесы отвечают всем структурным канонам классицизма), раннее творчество И. А. Крылова, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и даже бесцензурное творчество, «неприличные» стихи и поэмы И. С. Баркова.
Во второй половине в разных странах Европы возникает сентиментализм. Его связывают с тремя известными произведениями: романами Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768), И. В. Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774). Благодаря Стерну он и получил свое название.
В сентиментализме частный человек эмансипируется, освобождается от своих общественных ролей. Культ разума заменяется культивированием чувства. Душа становится одним из самых частотных слов в литературе сентиментализма, одним из главных его мотивов. На место высоких стихотворных жанров, оды и трагедии, приходят элегия, послание, прозаические повесть и роман.
В погоне за Европой русская литература стремительно осваивает европейские идеи и образцы. Если путь классицизма в Россию занял около века, то сентиментализм утверждается у нас всего через полтора-два десятилетия после появления европейских образцов.
Ведущей фигурой нового литературного этапа, главным теоретиком и практиком русского сентиментализма становится Н. М. Карамзин (1766–1826). Его исключительное влияние на литературу продолжается около двух десятилетий (1790–1810-е гг.).
В программной статье-манифесте «Что нужно автору?» (1794) он заявляет, что современный автор должен прежде всего быть добрым и чувствительным, потому что произведение есть портрет его души и сердца: «Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором». Так на смену поэту-гражданину появляется тонко чувствующий, добродетельный частный человек.
Новый образ автора потребовал и нового стиля: доминирующий в классицизме высокий штиль плохо подходил для изображения жизни сердца. «Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения – все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будет его наградою»[439], – продолжает развивать свою чувствительную концепцию искусства Карамзин.
Поэтому на смену высокому стилю, прежним риторическим «фигурам и метафорам» приходит средний стиль, разговорный язык образованного общества. Создавая его, Карамзин заимствует слова из европейских языков, придумывает неологизмы, но самое главное – отбирает из разговорного языка лексику, отвечающую критериям чувствительности и поэтичности. Так формируется карамзинская фраза – синтаксически сложная и в то же время ритмичная, постоянно использующая инверсию и перифразу как главные признаки поэтического воздействия. (В таком стиле написаны не только повести и стихи, но и критические статьи Карамзина: только что приведенная цитата состоит из одной сложной, но ритмически организованной и потому удобной для произнесения фразы-периода, в которой есть и чувствительно-поэтическая лексика, и обязательные инверсии.)
Для этого нового содержания плохо подходил жанр оды. Поэтому Карамзин за всю жизнь написал их всего четыре или пять. Главными карамзинскими жанрами становятся элегия и дружеское послание (в лирике) и повесть (в эпическом роде).
Сентиментальная повесть (в жанровом смысле, как мы помним, – новелла) «Бедная Лиза» (1792) стала визитной карточкой русского сентиментализма. Трагическая история бедной девушки, условной крестьянки (героиня столь же русская крестьянка, сколь греческая пастушка или французская пейзанка), погружена в насыщенную эмоциональную атмосферу, создающуюся не только фабулой, но и самой манерой повествования. Личный повествователь уже в экспозиции повести (рассказ ведется от первого лица) предстает человеком с богатым воображением, знающим историю (он воображает и прошлое этих мест), умеющим наслаждаться природой, но главное – тонко чувствующим и старающимся заразить этими чувствами читателя. Почти каждый попадающий в его поле зрения предмет или явление удостаивается оценочного восклицания, эмоционального эпитета. Окружающий мир представляется экраном, на который проецируются его эмоции.
Сентиментальная пастораль поразила и убедила современников: «Бедную Лизу» восприняли не только как литературный образец, но и как реальную историю, быль.
Под влиянием Карамзина в русской литературе рубежа ХVIII – ХIХ веков появилась целая галерея прекрасных и бедных девушек: «Несчастная Лиза», «Бедная Маша», «История бедной Марьи», «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор», «Софья», «Инна», «Варенька». Карамзин оказался переходной фигурой между XVIII и XIX веком. Основатель сентиментализма, искусства, обращенного к частному миру, в самом начале нового века покинул литературу ради государственных занятий, став, как говорил Пушкин, «последним летописцем» и первым историком.
На рубеже XVIII и XIX веков развитие европейской и русской литературы практически синхронизировалось. Не осуществленная до конца в общественной жизни, экономике, политике, петровская идея сближения с Европой наиболее полное воплощение нашла именно в литературе. Этот век определяется сменой и борьбой двух художественных методов/направлений, Больших Стилей.
1800–1840-е годы – эпоха романтизма. Наиболее мощное развитие направление получает в Германии (от Л. Тика и Новалиса до Э. Т. А. Гофмана и Г. Гейне), Франции (Ж. де Сталь, В. Гюго, Ж. Санд), Англии (Дж. Китс, Дж. Г. Байрон, В. Скотт), но захватывает и славянские страны (А. Мицкевич), и даже США (Э. По).
Родоначальником русского романтизма считается В. А. Жуковский, первые произведения которого появляются в самом начале нового века. Однако многие его романтические произведения были переводами, причем они изображали жизнь человеческой души в спокойном, меланхолическом тоне. Характерная для Жуковского поэзия «чувства и сердечного воображения» была еще весьма близка карамзинской чувствительности (поэтому создатель исторической поэтики А. Н. Веселовский считал его еще сентименталистом; иногда его метод определяют как предромантизм).
Новое искусство оказалось трудно определить. «Романтизм как домовой, многие верят ему; убеждение есть, что он существует; но где его приметы, как обозначить его? Как наткнуть на него палец?»[440] – пошутил П. А. Вяземский как раз в письме «поэтическому дядьке чертей и ведьм немецких и английских».
Подлинный романтизм начинается с протеста, вызова, бунта, борьбы с предшествующим искусством. «Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам! Собьем эту старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов, или, вернее, нет иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством, и частных законов для каждого произведения, вытекающих из требований, присущих каждому сюжету, – утверждал вождь французских романтиков. – Поэт <…> должен советоваться только с природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и природа»[441].
Главным противником романтизма стал не ближайший по времени сентиментализм, а классицизм с его за два века разработанной поэтикой и системой. В спорах о классическом и романтическом искусстве проходит первая четверть века.
Романтики продолжают разрабатывать уже утвердившиеся в сентиментализме лирические жанры, позволяющие изобразить жизнь души: элегию и послание. Но этого было явно недостаточно. Круг их интересов расширяется, захватывая другие жанры. На месте сентиментальной повести появляются романтическая поэма и роман в нескольких жанровых разновидностях (психологический, исторический). Классическая трагедия, изображавшая, как правило, конфликт чувства и долга, общественные страсти, превращается в романтическую трагедию, изображающую внутренние противоречия личности: любовь, предательство, разочарование.
Герой романтизма предстает противоречивой, мятежной личностью, близкой автору по характеру, отношению к миру, его alter ego («вторым Я»). Обычным для него становится неприятие не просто быта, но и мира вообще, стремление куда-то вдаль. Поэтому в романтических поэмах и романах часто присутствует мотив бегства и описание необычных, экзотических хронотопов. (Так, Меккой, священным местом многих русских романтиков, становится Юг, далекие Кавказ и Крым.)
В своем свободном исследовании романтики испытывают и нравственные границы между добром и злом, изображая героев, преступающих привычные нормы, – бродяг, разбойников, преступников.
В круг русских романтиков входят очень разные художники – эпикуреец и воин К. Н. Батюшков, поэт-философ Е. А. Баратынский, декабристы поэт К. Ф. Рылеев и прозаик А. А. Бестужев-Марлинский. Но главными фигурами русского романтизма оказываются писатели, для которых этот метод – лишь ранний этап в их литературном развитии: Пушкин, Гоголь, Лермонтов.
Вершинами русского романтизма являются лирика Пушкина и так называемые «южные поэмы» первой половины 1820-х годов («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»), ранняя лирика Лермонтова и его поэмы «Мцыри» и «Демон», гоголевские повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», повести «Вий» и «Страшная месть» из сборника «Миргород».
Романтизм оказался полосой, полем, через которое прошла практически вся русская литература первой четверти ХIХ века, чтобы двинуться дальше, к изображению и осмыслению не только дальнего, но и близкого, «мира за окном»: деревенского поместья («Старосветские помещики»), столичной квартиры в центре («Невский проспект»), домика на окраине («Домик в Коломне») или того же Кавказа, изображенного с иной, совсем не экзотической точки зрения («Герой нашего времени»).
Начало нового этапа, реализма, обычно датируют 1820-ми годами. Таким образом, приблизительно два десятилетия проходят в непримиримой на первый взгляд борьбе, а точнее говоря, во взаимодействии романтизма и реализма. В европейских литературах манифесты реализма («Предисловие к „Человеческой комедии“» О. де Бальзака, 1842) и наиболее характерные и показательные произведения (сам этот грандиозный прозаический цикл, романы Стендаля, Ч. Диккенса) относят к 1840-м годам. Однако русский реализм принято датировать полутора десятилетиями ранее, серединой 1820-х годов, когда практически одновременно появляются «Горе от ума» и «Борис Годунов», а также начинается работа над «Евгением Онегиным».
Реализм не отрицает романтизм, не борется с ним, как бурные романтики боролись с классиками, а продолжает его, вбирает в себя, использует важнейшие его достижения: психологизм, историзм, жанровую и словесную свободу. «Он <реализм> взял человека романтизма со всей сложностью его психики и поместил его вместе с его душой и всем миром ее – в объективный мир, – и объективный мир оказался основой и человека романтизма, и его души, и того, как в ней отразился весь мир. Он объяснил даже самого романтика историей и обществом. <…> Субъективное романтизма не отменилось, а обросло плотью объективного, получило объяснение в истории и социальной жизни. Люди-индивидуальности стали людьми-типами. Национальная культура стала сама фактом истории и дифференцировалась в объективных условиях социальной борьбы. Метафизическая тавтология распалась. Реализм XIX столетия родился»[442]. Примечательно, что Пушкин называет метод «Бориса Годунова» истинным романтизмом.
Изобразить мир и понять, объяснить его – вот две главные задачи реалистов. Этим принципам писатели-реалисты придали не причудливо-экзотический, а социально детерминированный характер. Романтики, как правило, живописали разные исторические эпохи и современность. Реалисты перешли к разным способам объяснения человека и мира, синтезируя, таким образом, рациональные устремления классицизма и психологические открытия романтизма.
Писатели-реалисты реабилитировали действительность во всех ее аспектах. Помимо необычных, странных, экзотических героев, в литературе появились другие герои: крестьяне, бедные чиновники, разночинцы-интеллигенты. Фабулы, основанные на тайне, дополнились сюжетами из обыденной жизни. Таинственные, экзотические хронотопы сменились хронотопами петербургских углов, провинциального города, большой дороги. Художественная речь расширилась и обогатилась за счет разговорной и диалектной лексики. «Литература – это сокращенная вселенная», – утверждал М. Е. Салтыков-Щедрин.
Вселенные классицизма и даже романтизма все-таки были слишком сокращенны: целые пласты современной и исторической жизни остались для этих художественных методов закрытыми. Реалисты действуют как путешественники эпохи Великих географических открытий, наносящие на карту новые земли, которые, правда, чаще всего находятся не где-то далеко, за горами и морями, а совсем рядом, за окном. Только в реалистическую эпоху литература действительно становится сокращенной вселенной: на глобусе или карте не остается белых пятен.
Об этом, используя как раз географическое сравнение, говорил В. Г. Белинский, главный теоретик раннего русского реализма: «Мир возмужал: ему нужен не пестрый калейдоскоп воображения, а микроскоп и телескоп разума, сближающий его с отдаленным, делающий для него видимым невидимое. Действительность – вот лозунг и последнее слово современного мира! Действительность в фактах, в знании, убеждениях чувства, в заключениях ума, – во всем и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века. Он знает, что лучше на карте Африки оставить пустое место, чем заставить вытекать Нигер из облаков или из радуги. И сколько отважных путешественников жертвует жизнию из географического факта, лишь бы доказать его действительность! Для нашего века открыть песчаную пустыню, действительно существующую, более важное приобретение, чем верить существованию Эльдорадо, которого не видали ничьи смертные очи»[443].
Выполнить задачу всестороннего описания действительности мог только универсальный жанр, возникший в эпоху Возрождения, но лишь теперь осознавший свою настоящую задачу. Формой времени становится роман.
«Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии. В них заключилась вся изящная литература, так что всякое другое произведение кажется при них чем-то исключительным и случайным. Причины этого – в самой сущности романа и повести, как рода поэзии. В них лучше, удобнее, нежели в каком-нибудь другом роде поэзии, вымысел сливается с действительностию, художественное изобретение смешивается с простым, лишь бы верным, списываньем с натуры. <…> Это самый широкий, всеобъемлющий род поэзии; в нем талант чувствует себя безгранично свободным»[444].
«Поэзия действительности», реализм становится основным художественным методом и ведущим направлением ХIХ века, объединяя в общий ряд, направление, Большой Стиль романы О. де Бальзака и Г. Флобера, Ч. Диккенса и Теккерея, русских романистов от Лермонтова и Гоголя до Толстого и Достоевского.
В советской теории и истории литературы было принято подчеркивать разоблачающий характер, пафос отрицания, будто бы доминирующий в реализме ХIХ века. Поэтому его, как правило, называли критическим реализмом. Однако пафос утверждения, опирающийся то на христианские, то на социально-утопические идеи, был столь же необходимой составляющей художественной философии этого метода/направления. Поэтому логичнее называть его просто реализмом ХIХ века, классическим реализмом или реализмом без эпитетов, противопоставляя, таким образом, реализму с эпитетами: ренессансный, просветительский, социалистический.
Очередная смена направленческой доминанты происходит на рубеже ХIХ и ХХ веков и отличается резким своеобразием. Во-первых, культура и литература опережают историю: настоящий ХХ век начинается здесь не после 1914 года, а уже в последнем десятилетии ХIХ века. Во-вторых, в эту новую эпоху мы сталкиваемся не с четкой оппозицией (классицизм – романтизм, романтизм – реализм), а с размытым множеством противостоящих классическому реализму направлений и стилей, объединяемых общим определением модернизм.
Целью модернизма, о чем свидетельствует уже его название (фр. moderne – новейший, современный), становится обоснование принципов нового искусства, отвечающего современности. Современность модернисты понимают как время, когда основные моральные и художественные ценности потеряли прежнее значение, и поэтому искусство нужно строить на новых принципах, искать новые пути. Модернисты ориентируются на городскую, урбанистическую культуру вместо культуры деревенской, пытаются использовать в своем творчестве принципы современной науки (теорию относительности А. Эйнштейна, позднее – психоанализ З. Фрейда), но, с другой стороны, часто говорят об исчерпанности рационалистического подхода к действительности, характерного для реализма, и воспевают иррациональность бытия, бездны сознания, стихийный порыв.
Модернизм пытался создать целостное мировоззрение из противоположностей: науки и «новой», светской религии, ориентации на старую традицию и разрыва с традицией ближайшей, интереса к глубинам человеческого сознания и воспевания поглощающей личность «массы».
Модернистский круг интересов и комплекс мотивов хорошо представляет поэма Андрея Белого «Первое свидание» (1921), в которой он вспоминает начало века, времена своей юности:
Передо мною мир стоит Мифологической проблемой: Мне Менделеев говорит Периодической системой; Соединяет разум мой Законы Бойля, Ван-дер-Вальса — Со снами веющего вальса, С богами зреющею тьмой: Я вижу огненное море Кипящих веществом существ; Сижу в дыму лабораторий Над разложением веществ… <…> – «Мир взлетит!» — Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче… Мир – рвался в опытах Кюри Атомной, лопнувшею бомбой На электронные струи Невоплощенной гекатомбой; Я – сын эфира, Человек, — Свиваю со стези надмирной Своей порфирою эфирной За миром мир, за веком век. Из непотухнувшего гула, Взметая брызги, взвой огня, Волною музыки меня Стихия жизни оплеснула: Из летаргического сна В разрыв трагической культуры, Где бездна гибельна (без дна!), Я, ахнув, рухнул в сумрак хмурый…[445]На модернизме исследование рвущегося в опытах Кюри и взлетающего в философии Ницше мира не заканчивается. Следующий шаг к бездне (или в бездну) делает авангард.
Авангард – очередной этап художественного эксперимента, предельный, радикальный вариант модернизма, новая ступень разрыва с классической традицией, с «миметической поэтикой», основанной на идеях познаваемости мира и искусства как подражания. Крайние авангардисты понимают искусство уже не как художественную деятельность, а как непосредственное действие, прямой способ воздействия на публику, провокацию читателя-зрителя.
Авангардисты воспринимают как своих противников не только писателей-реалистов, но и модернистов, с их точки зрения слишком зависимых от прежних традиций. Начало русского авангарда приходится на 1910-е годы.
С эпохой рубежа веков обычно связывают и еще одно общее типологическое понятие – декадентство, декаданс (фр. decadence – упадок). Однако ему трудно придать типологический характер. Декадентов определяют, скорее, не по формальным, эстетическим, а по мировоззренческим и тематическим признакам. Это настроение, психологическая окраска переходного времени. Тоска, разочарование, неверие в идеалы, болезнь, смерть были как любимыми темами декадентской литературы, так и психологическими характеристиками их авторов. Группу французских декадентов не случайно называли «про́клятыми поэтами».
Однако декадентство конца ХIХ века – лишь одна переходная эпоха, частный случай вселенского разочарования, «мировой скорби», отраженной в художественных образах. Каждая эпоха, подходя к концу, рождает свой декаданс.
Декаданс, модернизм, авангард, таким образом, мировоззренческие и культурологические понятия, имеющие отношение к разным родам искусства. Декаданс – преддверие и составная часть некоторых модернистских направлений в состоянии кризиса, падения. Авангард – их передовая линия.
Они воплощаются в конкретных направлениях/методах/стилях.
Эволюция больших, определившихся стилей строится по цепочке символизм (искусство модерна) – футуризм (первое авангардистское направление).
Символизм сначала появляется во французской литературе (в 1886 г. французский поэт Ж. Мореас придумывает термин и публикует «Манифест символизма»), но уже менее через десятилетие становится претендующим на доминирование в русской литературе. В 1892 году Д. С. Мережковский (1866–1941) читает публичную лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (в следующем году она будет издана) и публикует стихотворный сборник «Символы». В 1894–1895 годах выходят три выпуска сборника «Русские символисты», большую часть стихов в которых, как впоследствии оказалось, представил под разными псевдонимами Валерий Брюсов.
Парадокс символизма как художественного метода заключается в том, что его главное свойство, доминирующая черта с самого начала была определена не совсем точно. «Разница между реализмом и символизмом (в узком значении этого слова, как известного предреволюционного направления в искусстве) вовсе не структурная, но предметная, содержательная. Символисты просто интересовались другими предметами изображения, не теми, которыми интересуется реализм. Но использование идейно-образной системы <…> совершенно одно и то же и в полноценном реализме, и у символистов»[446], – заметил, но уже через много лет, философ.
Поэтому главный принцип символизма можно обозначить как двоемирие (или многомирие). По видимым подробностям окружающего мира художник-символист должен был почувствовать и изобразить иной мир, о котором он грезит, который предчувствует и угадывает.
«Смотреть сквозь что-либо – значит быть символистом. Глядя сквозь, я соединяю предмет с тем, что за ним. При таком отношении символизм неизбежен»[447].
«Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя. <…> Быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа…»[448]
Эту мысль символисты выражали не только в статьях, но и в стихах-манифестах:
Милый друг, иль ты не видишь, Что все видимое нами — Только отблеск, только тени От незримого очами?[449]Главный учитель русских символистов Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) рассматривает видимое лишь как отблеск, тень незримого. Реальность окружающего мира оказывается для поэта лишь призраком мира Иного.
Второй, наряду с Мережковским, основоположник русского символизма В. Я. Брюсов доводит эту мысль до абсолютной наглядности:
Четкие линии гор; Бледно-неверное море… Гаснет восторженный взор, Тонет в бессильном просторе. Создал я в тайных мечтах Мир идеальной природы, — Что перед ним этот прах: Степи, и скалы, и воды![450]Перед созданным воображением художника идеальным миром вечная, казалось бы, природа – бескрайние море и степь, нерушимые скалы – оказывается всего лишь прахом: пылью, сухой гнилью, тленом (такие синонимы дает Словарь В. И. Даля).
Символ как таковой в этой картине мира становится посредником, инструментом, медиатором, с помощью которого поэт намекает читателю на ценности другого мира, «раскрывая в вещах окружающей действительности <…> знамения иной действительности»[451].
«Символы – окна в Вечность»[452], – еще короче формулирует ту же идею А. Белый.
Символисты, как мы видим, дают сложные или метафорические определения символа. Между тем в традиционной, старой поэтике было достаточно простое определение, которое может быть полезно и для понимания этой категории у символистов. Символ – многозначное иносказание. Символ – образ, который, в отличие от аллегории, допускает несколько толкований, причем они определяются не только культурным контекстом, но индивидуальным замыслом автора. Утверждая в общем плане бесконечность, бездонность символа, символисты все равно вынуждены были ограничиться конечным числом его пониманий, интерпретаций.
Создавая образ поэта как Теурга, религиозного подвижника, светского священника, символисты вернули в искусство один важный принцип, которым когда-то отличались романтики. Вообще, символизм больше всего напоминает романтическое искусство, кажется «вторым изданием» романтизма с его принципом жизни как книги.
О противоречивой роли этого принципа написал В. Ф. Ходасевич: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства».
Однако эта вечная правда, продолжает Ходасевич, перерастала в великое заблуждение символизма, его смертный грех: «От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрей и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости (выделено автором. – И. С.). <…> Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. „Истекаю клюквенным соком!“ – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью»[453].
Футуризм как первое авангардистское направление в Европе также начинается с публикации в Париже «Манифеста футуризма» (1909) итальянского поэта Ф. Т. Маринетти. Через три года европейская новинка превратилась в русское изобретение. Группа молодых поэтов и художников (Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников) разразилась целой серией аналогичных программных манифестов-листовок («Пощечина общественному вкусу», 1912; «Слово как таковое», 1913; «Буква как таковая», 1913).
Уже в этих первых футуристических выступлениях можно отметить несколько важных особенностей будущего направления, отличающих его даже от ближайших предшественников.
Символисты писали свои статьи и манифесты индивидуально, от первого лица. «Пощечина общественному вкусу» подписана четырьмя авторами (Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников), то есть выражает коллективное мнение: «Стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования».
Символизм, отрицая одни традиции, опирался на другие: подобно предшествующим направлениям, он еще жил идеей преемственности. Футуризм радикально, резко противопоставляет себя традиции как таковой. Поэтому для футуристов нет принципиальной разницы между старыми классиками Пушкиным и Достоевским, новым реалистом Буниным, символистами Блоком и Брюсовым, представителями массовой литературы, юмористами Аркадием Аверченко и Сашей Черным. Футуристы устраивают «вселенскую смазь», скопом бросают с парохода современности всю предшествующую литературу. Футуризм – уже не только модернизм, но еще и авангард, главным для него является пафос разрыва с прошлым и бросок в неизвестное будущее.
Футуризм носит сознательно провоцирующий характер, раздражает, эпатирует, дразнит публику. Поэтому, в отличие от символистских статей, предназначенных для чтения, неспешного обдумывания, футуристские манифесты, скорее, были рассчитаны на живую реакцию публики, они либо печатались в виде листовок-брошюр, либо оглашались в выступлениях, с которыми футуристы объездили всю Россию. Футуристы не столько создают аргументированный текст, сколько выдвигают, выкрикивают лозунги, направленные на то, чтобы оказать непосредственное воздействие (чаще всего – вызвать отторжение и полемику).
Что же предлагали авторы «Пощечины общественному вкусу» (они называли себя кубофутуристами, в отличие от более традиционных эгофутуристов, вождем которых был Игорь Северянин), бросив всю предшествующую литературу с парохода современности и расчистив место для неизвестного будущего?
«Слово как таковое». Так назывался следующий манифест кубофутуристов, подписанный уже только двумя авторами, А. Крученых и В. Хлебниковым, но созданный, вероятно, Алексеем Елисеевичем Крученых (1886–1968), которого называли «букой русской литературы».
Основой манифеста стало такое сопоставление.
«У писателей до нас инструментовка была совсем иная, например:
По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…Здесь окраску дает бескровное пе… пе… Как картины, писанные киселем и молоком, нас не удовлетворяют и стихи, построенные на
па-па-па пи-пи-пи ти-ти-тии т. п.
Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звука и словосочетания:
дыр, бул, щыл, убещур скум вы со бу р л эз(Кстати, в этом пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина)»[454].
Крученых одним ударом расправляется и с Лермонтовым (процитировано его стихотворение «Ангел»), и с Пушкиным, цитируя в качестве образца собственное пятистишие. Оно состоит даже не из слов, а из фонетических сочетаний с разрушенными семантикой и грамматикой. Такой тип речи футуристы называли заумный язык, заумь (термин, придуманный Хлебниковым).
«Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык…»[455]
Радикальный, предельный характер авангардистского эксперимента Крученых быстро обнаружил свою исчерпанность. Заумные стихи Крученых и других футуристов были эффектны как одноразовый жест, но невозможны как постоянная художественная практика. «Кубофутуристы творят не сочетания слов, но сочетания звуков, потому что их неологизмы не слова, а только один элемент слова. Кубофутуристы, выступающие в защиту „слова как такового“, в действительности прогоняют его из поэзии, превращая тем самым поэзию в ничто»[456], – утверждал один из первых критиков футуризма.
Вероятно, по этой причине другие подписанты манифестов в своей художественной практике избрали путь, существенно отличный от крученыховской зауми.
В. Хлебников предлагал «сделать заумный язык разумным». В его варианте заумь – это не освобождение от смысла, а, напротив, тотальная семантизация всех элементов языка, включая фонетику; и не личная причуда, а глубинное, уходящее в историческое прошлое свойство языка, способное вновь объединить человечество. «Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы „азбучных истин“, и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева. <…> Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей»[457], – утверждал Хлебников.
Особое истолкование футуризма предложил и В. Маяковский. Его футуризм был прежде всего поэзией города и опытом новой живописи словом и новых ритмов.
Однако общую логику программной эволюции от символизма мы можем изобразить как движения от двоемирия к плоскостному видению этого мира, от многозначного символа к слову как таковому.
При этом обозначенной оппозицией символизм – футуризм типология модернистской эпохи, как уже сказано ранее, далеко не исчерпывается.
В Европе наряду с символизмом в первой трети ХХ века существовали экспрессионизм (искусство деформирующе-выразительного образа), дадаизм (от фр. dada – бессмысленный детский лепет), сюрреализм (направленный на выражение в литературе и живописи сферы подсознательного).
Собственно русскими направленческими изобретениями были акмеизм (опыт новой предметности, противопоставленный, как и футуристическое словотворчество, символистскому двоемирию), имажинизм (близкое экспрессионизму искусство выразительного образа, образа как такового), неореализм (его придумал и обосновал Е. И. Замятин).
«Вы помните пример: облака на вершине высокой горы. Писатели-реалисты принимали облака так, как они видели: розовые, золотые – или грозовые, черные. Писатели-символисты имели мужество взобраться на вершину и убедиться, что нет ни розовых, ни золотых, а только один туман, слякоть. Писатели-новореалисты были на вершине вместе с символистами и видели, что облака – туман. Но спустившись с горы – они имели мужество сказать: „Пусть туман – все-таки весело“. И вот в произведениях писателей-неореалистов мы находим действенное, активное отрицание жизни – во имя борьбы за лучшую жизнь. <…> Реалисты жили в жизни, символисты имели мужество уйти от жизни, новореалисты имели мужество вернуться к жизни. Но они вернулись к жизни, может быть, слишком знающими, слишком мудрыми. И оттого у большинства из них – нет религии. Есть два способа преодолеть трагедию жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они не верят ни в Бога, ни в человека»[458].
Однако большими (в том числе национальными) методами/стилями типология модернизма не исчерпывается. Открыв изданный в 1924 году сборник «Литературные манифесты: От символизма до „Октября“», мы обнаружим там декларации биокосмизма, люминизма, формлибризма, фуизма и, наконец, ничевоков, с программным лозунгом: «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте!»[459]
Таким образом, в искусстве модернизма понятие метода/стиля приобретает зачастую не аналитический, а игровой и провокативный характер. Манифесты становятся способом организации направлений и художественных групп, творческая практика которых либо вовсе отсутствует, либо определяется какими-то иными, непрограммными принципами. Многих значительных авторов метод не улавливает, а их самих – не устраивает.
Когда в середине 1920-х годов была выпущена подводящая итоги Серебряного века и первых советских лет поэтическая антология[460], в ней лишь пять разделов из девяти оказались групповыми («предтечи символизма», символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты). Другие создатели широковещательных манифестов в книгу включены не были, ибо «в области поэзии почти ничем себя не проявили или проявили очень слабо». Зато, наряду с тематическим блоками «Предтечи революционной поэзии», «Крестьянские поэты», «Пролетарские поэты», в книге появился раздел «Поэты, не связанные с определенными группами», куда, между прочим, попали И. Бунин, М. Кузмин, М. Цветаева.
Столь же трудно разобраться с прозаиками. М. Булгаков в «Белой гвардии», «Роковых яйцах» и «Мастере и Маргарите», кажется, пользуется разными методами. Аналогично обстоит дело с А. Платоновым. «Чевенгур» и «Фро» разделены несколькими годами, но могли быть написаны в разные эпохи.
Значение художественного метода в литературе ХХ века вообще и в советской литературе в частности становится иным. Большие поэты и писатели используют огромное богатство литературных приемов, выработанных в разные эпохи, и создают оригинальные произведения, в которых важнее оказывается не характеристика метода или направления, а индивидуальный замысел. Лагерь поэтов и прозаиков «вне направлений» чрезвычайно расширяется, в него попадают крупнейшие писатели эпохи.
Однако и в это время предпринимается попытка продолжить привычную типологию, предложить не только большой, но итоговый, универсальный, заключительный метод/стиль.
В августе 1934 года собирается Первый Всесоюзный съезд советских писателей, на котором было объявлено о едином методе художественного творчества, получившем название социалистический реализм.
М. Горький, который был на съезде главным докладчиком, сказал: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле»[461].
В уставе Союза советских писателей социалистический реализм был определен как «основной метод» литературы, искусства и критики, требующий от художника «правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» и ставящий задачу «воспитания трудящихся в духе социализма».
Почти семьдесят лет социалистический реализм считался основным методом советской литературы. Ему была подыскана благородная предыстория (первым произведением и образцом метода считался роман М. Горького «Мать»), представлены его великие завоевания (поэзия Маяковского, «Разгром» А. А. Фадеева, «Поднятая целина» М. А. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского), обнаружено его международное значение (творчество французского писателя Л. Арагона, турка Н. Хикмета, чилийца П. Неруды).
Однако характеристика метода и способы его использования резко отличали его от предшествующих больших методов/стилей и, напротив, напоминали конструкции модернистской эпохи. Классицизм, романтизм, реализм сначала возникали как художественная реальность, в конкретных произведениях, а потом получали эстетическую формулировку. Социалистический реализм был сконструирован, объявлен, а потом последовали попытки его воплощения в жизнь. Конкретные установки этого метода – изображение действительности в свете идеала, четкое противопоставление «добра» и «зла», обязательное наличие «положительного героя» – противопоставляют этот метод классическому реализму ХIХ века и обнаруживают совсем другого его родственника.
«По своему герою, содержанию, духу социалистический реализм гораздо ближе к русскому ХVIII веку, чем к ХIХ. Сами того не подозревая, мы перепрыгиваем через голову отцов и развиваем традиции дедов»[462]. С этой точки зрения новый метод оказывается возвращением в прошлое, социалистическим классицизмом.
Еще важнее была другая особенность метода. Существенное значение в нем с самого начала имели не только художественные, но идеологические характеристики (революционное развитие, воспитание трудящихся). Социалистический реализм часто понимался как почетный знак, которым награждали писателя за усердие и хорошее поведение. Позднее защитники метода всячески расширяли его значение, говоря о «народности», «социалистическом гуманизме», «эстетически открытой системе», но так и не смогли ответить на два важных вопроса: «В чем принципиальное отличие этого реализма от реализма классического?», «Почему многие великие писатели советской эпохи, причем прожившие жизнь в СССР, так и не удостоились чести стать социалистическими реалистами?».
Социалистический реализм, однако, не миф, но реальность советской литературы 1930–1980-х годов. Но параллельно существовало множество писателей, которые не разделяли его принципы или были просто равнодушны к ним. Метод, «неистовым ревнителям» ранних советских лет представлявшийся расширяющимся континентом, который в конце концов заполнит весь земной шар, оказался маленьким островом, смытым историческими тайфунами конца ХХ столетия. «Социалистический реализм», который считали вершиной развития всей мировой литературы, с течением времени превратился в историко-литературное понятие, мало что поясняющее не только в настоящем, но и в прошлом.
Последней эпохой, сменившей модернизм в европейской культуре 1960-х годов, а в русской – с середины 1980-х, был объявлен постмодернизм. Философским основанием постмодернизма стала идея всеобщей относительности, релятивизма.
Прежняя культура строилась по принципу дерева, рассуждают постмодернисты (не случайно Мировое древо – один из древнейших символов мира). В дереве четко различаются ствол, большие и малые ветви, листья, основной корень и корневая система. Точно так же и мир понимался целостно, иерархически: в нем существовала структурная основа, можно было различить центр и периферию, более и менее важные вещи.
В эпоху постмодернизма «мир потерял свой стержень», превратился в хаотичный набор предметов, явлений и признаков. Его метафорическим образом становится ризома (от фр. rhizome – корневище) – пучок корешков, луковица, которая может принимать любые формы и принципиально отменяет понятие центра, следовательно, противопоставление главного и второстепенного (эту теорию придумали и обосновали французы Ж. Делез и Ф. Гваттари, 1976).
Поэтому идеи, которые волновали старых философов, – бытие и сознание, добро и зло, истина и красота – безнадежно устарели. В новую эпоху исчезли культурные границы между «верхом» и «низом», истину установить невозможно, она сменилась разнообразием частных, индивидуальных мнений.
В литературе же писатель имеет дело не с характерами и событиями, а только со словами. Причем все слова уже давно сказаны, все произведения написаны, мир литературы представляет огромный, но замкнутый интертекст, который каждый автор может только повторять, иронически цитировать (ведь серьезный разговор о важных вещах уже невозможен). Впрочем, постмодернисты провозгласили «смерть автора», и этого субъекта они чаще называют переписчиком, «скриптором», потому что он повторяет уже кем-то сказанные слова и не имеет ни образа, ни индивидуальности, превращаясь в анонима, не-личность.
Попробуем в виде кратких формулировок обозначить различие между тремя культурными эпохами, которые сменяли друг друга и одновременно сосуществовали в ХХ веке.
Миметическая поэтика (реализм, неореализм, акмеизм): «Мир – есть. А художественное произведение – отражение, свидетельство о нем, истина о мире».
Модернизм в его авангардистском варианте: «Мир есть текст, представляющий намерение создателя, правду творца».
Постмодернизм: «Мир есть интертекст, созданный неизвестно кем и неизвестно для чего, поэтому можно лишь играть с текстом, бесконечно цитировать его, не ставя вопроса ни об истине, ни о правде».
Различие противоположных, уже не авторских, а читательских позиций можно определить путем трансформации гениально простой и точной пушкинской формулировки.
«Над вымыслом слезами обольюсь» – вот позиция читателя-реалиста. Понимая природу искусства (вымысел), он относится к нему как к особой реальности и проливает искренние, реальные слезы. Читатель-модернист отрицает реальность вымысла, превращает его в чистую фикцию, но еще может проливать реальные слезы. Читатель-постмодернист смеется и над вымыслом, и над слезами.
Постмодернисты правы прежде всего в том, что мир меняется, меняется в нем место культуры и литературы. Современную ситуацию можно назвать мозаичной культурой. Но в этой мозаике должно быть место и традиционным представлениям о традиции, оригинальности, истине.
Итак, описание литературного процесса мы можем проводить на разных уровнях.
Глобально-исторический подход позволяет выделить древность, Cредневековье, Новое и Новейшее время.
Культурная периодизация с географическим оттенком позволяет дифференцировать исходную схему: культура Дальнего и Ближнего Востока, европейская культура; культура Греции и Рима, ранняя, классическая и поздняя античность или Средневековье. А в Новом времени возникает еще более конкретная последовательность «эпох» второго или даже третьего порядка: Возрождение – ХVII век – Просвещение – ХIХ век – ХХ век.
Переходя на следующий уровень художественных методов/направлений, мы получаем такую последовательность: ренессансный реализм (или просто стиль Возрождения) – барокко – классицизм – реализм Просвещения – сентиментализм – романтизм – классический реализм ХIХ века – символизм – футуризм – и т. д. (в каждой национальной литературе набор модернистских методов будет несколько иной).
Существуют попытки увидеть в этом движении и смене некую общую закономерность, обнаружить объективные, независимые от воли отдельной творческой личности доминанты культурного развития.
Русско-американский социолог П. А. Сорокин (1889–1968) строил свою универсальную концепцию «социальной и культурной динамики» на постоянном колебании (флуктуациях) искусства между идеациональной (сверхчувственной), чувственной и смешанной, интегральной (первоначально она называлась идеалистической) фазами. В последнем варианте его знаменитой социологической книги (1957) констатируется «нарастающий упадок чувственной культуры, общества и человека» и осторожно предсказано «появление и постепенный рост первых компонентов нового (идеационального или идеалистического) социокультурного строя»[463].
Примерно в то же время русско-немецкий историк литературы Д. И. Чижевский (1894–1977) придумал другую схему сосуществования больших литературных стилей, получившую именование «маятник Чижевского». Ученый выделил в культуре три пары понятий: ренессанс – барокко, классицизм – романтизм, реализм – модернизм. Первый член каждой оппозиции ориентирован на содержание и тяготеет к простоте, второй – культивирует форму и имеет склонность к усложненности. Причем амплитуда «маятника», колебания между противоположностями по мере исторического развития увеличиваются: ренессанс и барокко тесно взаимосвязаны, имеют много переходных форм; реализм и модернизм враждебны и непримиримы, разделены непреодолимым барьером.
В сравнительно недавнем коллективном труде по исторической поэтике развитие литературы тоже укладывается в трехчленную схему, но уже не маятниковую, а однонаправленную, «осевую» (теорию «осевого времени» развивал английский историк А. Тойнби).
«Предварительно и в известной мере условно – в качестве всеохватывающих и особенно значимых для исторической поэтики – нами выделяются, однако, три наиболее общих и устойчивых типа художественного сознания: 1) архаический, или мифопоэтический, 2) традиционалистский, или нормативный, 3) индивидуально-творческий, или исторический (т. е. опирающийся на принцип историзма). Хронологические рубежи между этими типами сознания определены в целом двумя важнейшими социально-культурными переворотами в мировой истории: в VI–V вв. до н. э. (т. н. „осевое время“ Древности, характеризуемое возникновением новых форм государственности и идеологическими движениями, которые изменили интеллектуальный климат в различных частях тогдашнего цивилизованного мира) и в конце XVIII в. (время утверждения „индустриальной эпохи“ в ее глобальном масштабе)»[464].
Подобные схемы и характеристики отдельных эпох/методов/направлений/стилей позволяют нам увидеть общую картину развития литературы, первоначально систематизировать авторов и тексты. Но конкретный смысл произведения подобными определениями не улавливается, выходит за границы породившего его направления. Любой, даже плохой роман богаче даже самой правильной схемы. Мы читаем не направления, а произведения.
Категории направления и метода настолько широки и абстрактны, что рассуждения о них часто превращаются в филологическую схоластику. Б. М. Эйхенбаум, получив вопрос № 21, который должен был обсуждаться на очередном международном съезде славистов, вспомнил свое формалистское «спецификаторское» прошлое и ответил на него не предметно, а резко полемически.
«Как произошел переход от романтизма к реалистической литературе в славянских странах в ХХ веке? – Вопрос поставлен не как научная проблема, а как вопрос на экзамене – с предполагаемым ответом. <…> Научное обсуждение вопросов о романтизме и реализме <…> требует коренного пересмотра традиционной и совершенно обветшавшей системы понятий, доставшихся нам от немецкой философии и давно утративших свое прежнее содержание. Где у Пушкина, Гоголя или Мицкевича „переход от романтизма к реализму“? Это знают только авторы школьных учебников. На материале славянских литератур еще яснее, чем на материале литератур немецкой или французской, видно несоответствие этих понятий и схем реальному процессу возникновения и воздействия художественных произведений»[465].
Сходным образом размышлял М. Л. Гаспаров: «Классицизм в школе (в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большее – по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе»[466].
Теория ориентирует нас в культурном пространстве, но настоящее объяснение автора и произведения «самих по себе» происходит уже на ином уровне – не классификации, а интерпретации.
Служба понимания: анализ и интерпретация
Если филологию, о чем уже говорилось в начале, определять как службу понимания, то поэтика и риторика представляют собой применение к собственно художественным и нехудожественным текстам герменевтики – науки (или, если более скромно, практических навыков) понимания разных текстов.
Герменевтика исходит из того, что смысл текста не ясен и прозрачен, дан непосредственно, а для адекватного понимания нуждается в ряде процедур и приемов, в обучении специальным навыкам.
Язык художественного произведения даже более сложен, чем бытовая речь, поэтому поэтика имеет огромный специальный словарь для понимания смыслов.
Две основные ступени научного понимания смыслов – анализ и интерпретация.
Анализ – «исследовательское прочтение художественного текста, противостоящее, с одной стороны, интуитивному „вчувствованию“ и иллюстративному цитированию, а с другой – описательному вычленению приемов литературной техники»[467] – предполагает строгое, логическое рассмотрение, претендующее на общезначимость и воспроизводимость.
Интерпретация – искусство истолкования, имеющее уже более вероятностный, предположительный характер. «Интерпретация, скажем мы, – это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом, в выявлении уровней значения, заключенных в буквальном значении. <…> Интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл, и именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов»[468].
Интерпретацию иногда разделяют на грамматическую (понимание всех элементов языковой структуры), психологическую (раскрытие отраженных в тексте намерений чувств адресанта) и историческую (реконструкция реальных обстоятельств создания текста).
«Соотношение между анализом как специфическим звеном литературоведческого исследования (собственно познание) и интерпретацией, предполагающей моменты избирательности, самовыражения и оценки, остается дискуссионной проблемой»[469], – отмечает автор цитированной выше словарной статьи.
Некоторые литературоведы считают основным методом научного филологического исследования лишь анализ, отодвигая интерпретацию в область «ненаучной», субъективной критики. Однако таким образом поле литературоведческого исследования резко сужается. В филологии относительно немного областей (прежде всего – стиховедение), где широко применяется статистика и выводы имеют абсолютно объективный характер (у поэта N. столько-то стихов написано пятистопным ямбом).
Даже в таких специальных и точных областях мы сталкиваемся с проблемами, в которых интуитивные ощущения можно подтвердить аргументами, но нельзя абсолютно строго доказать. Таково, скажем, понятие семантического ореола метра.
Исследование ритмических вариаций пятистопного хорея и обнаружение связи этого размера с темой пути, возникшей благодаря лермонтовскому стихотворению «Выхожу один я на дорогу…», имеет разный характер. В первом случае выводы объективны и верифицируемы. Во втором мы не можем проверить исследователя на любом примере. Мы должны поверить корректности его отбора материала, его наблюдений и выводов, понимая, что, при всей убедительности, они – одно из возможных объяснений, которое может быть принято далеко не всеми.
Это четко формулирует и сам М. Л. Гаспаров: «Цель этой работы была одна: продемонстрировать на как можно более широком материале, что семантические ореолы стихотворных размеров существуют, возникают, эволюционируют, взаимодействуют.
Говорить о каких-нибудь законах этого возникновения, эволюции, взаимодействия казалось нам преждевременным; мы бережно отмечали все, что нам представлялось намечающимися закономерностями, но к поспешным обобщениям не стремились. Всякая наука начиналась когда-то как искусство: один и тот же опыт получался у хорошего экспериментатора и не получался у слабого. Только когда Галилей внес точные подсчеты в физику, а Лавуазье – в химию, эти отрасли знаний стали науками. Изучение ритма стиха давно освоило точные методы и стало самой научной областью филологии; изучение семантики еще очень далеко от точных методов и вынуждено довольствоваться не доказательностью, а убедительностью»[470].
Таким образом, если мы будем тщательно и последовательно избегать «субъективизма» в познании литературного произведения, в нашем распоряжении (сегодня или навсегда?) останется сравнительно узкая область метра и ритма (да и то лишь стихотворного, потому что существует еще ощущаемый, но пока практически не верифицируемый ритм прозы).
Естественно, реальное развитие не отвечает этому строгому критерию, и в работах по поэтике интерпретация, основанная на разных герменевтических процедурах, занимает большое место.
В классической поэтике, которой главным образом и посвящена эта книга, целью интерпретационных усилий был Автор (или «образ автора»), названный М. Л. Гаспаровым конечным понятием, к которому «могут быть возведены при анализе все средства выражения»[471].
В работе почти столетней давности сходная мысль была развернута более детально. «Цель теоретической науки об искусстве – постижение эстетической целостности художественных произведений, и если в данный момент пути такого постижения несовершенны, то это говорит лишь о том, что мы далеки от идеала и долог путь, по которому мы приблизимся к решению предстоящей проблемы. Но это не освобождает науку от самой проблемы. Не нашли, так нужно искать. <…> В художественном произведении много идей – это правда, но за этой правдой следует другая: эти идеи здесь существуют во взаимной связи, в иерархической взаимозависимости, и, следовательно, среди многих есть одна центральная, обобщающая и для художника направляющая все остальное»[472]. (Об авторе, способах его проявления и выявления в художественном мире мы подробно говорили в главе, посвященной структуре литературного произведения.)
В эпоху модернизма и особенно постмодернизма текст постепенно отчуждался от автора (как мы помним, Р. Барт даже объявил о его – теоретической – смерти). Герменевтические усилия исследователей от поисков авторского смысла сместились к выявлению смысла текста «самого по себе» или к свободному читательскому ассоциированию по поводу текста.
Однако субъективизм читателя/исследователя легко превращается в произвол и фактически ведет к уничтожению герменевтики. Не случайно в очень давней, но по-прежнему актуальной работе А. П. Скафтымов вспомнил в связи с филологическим анализом об этическом критерии: «Исследователю художественное произведение доступно только в его личном эстетическом опыте. В этом смысле, конечно же, его восприятие субъективно. Но субъективизм не есть произвол. Для того чтобы понять, нужно уметь отдать себя чужой точке зрения. Нужно честно читать. Исследователь отдается весь художнику, только повторяет его в эстетическом переживании, он лишь опознает те факты духовно-эстетического опыта, которые развертывает в нем автор. Восприятие внутренней значимости факторов художественного произведения требует от исследователя отрешения от личных случайных вкусов и пристрастий»[473].
Интерпретация последнего, «конечного» смысла любого целостного предмета поэтики (отдельного произведения, художественного мира писателя, историко-литературной эпохи или Большого Стиля) представляет собой движение по ступенькам понятий до тех пор, пока «нога» исследователя не зависнет над пустотой.
Особенность этого заключительного этапа интерпретации в том, что он должен быть выражен уже не на метаязыке, а на обыденном языке, что не отменяет критерия убедительности, но, напротив, делает его особенно необходимым.
Интерпретации произведений, переживших свою эпоху и оказавшихся в большом времени, бесконечны, но не безграничны. О них можно сказать то, что М. Л. Гаспаров заметил о символе: «В привычной поэтике слово „символ“ означало „многозначное иносказание“, в отличие от „аллегории“, однозначного иносказания»[474].
Подобно тому как многозначность символа может быть исчислена, вокруг каждого текста, удостоившегося многократного обращения к нему исследователей, возникает матрица интерпретаций, организованных одной или несколькими «сильными» идеями.
Последний смысл произведения имеет отношение к ценностям бытия и человеческой жизни и, значит, в той или иной мере связан не только с научными умениями и навыками, но и с биографией и личностью самого исследователя. «Историко-литературные работы удаются, когда в них есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла»[475], – заметила Л. Я. Гинзбург, оценивая научное наследие Б. М. Эйхенбаума и собственный опыт.
Эта мысль, конечно, имеет отношение не ко всей области литературоведения и не ко всем литературоведам. Текстологическое, стиховедческое или историко-сравнительное исследование могут иметь существенное значение, но лишены такого смысла. Существуют и серьезные литературоведы, которым суждение Л. Я. Гинзбург покажется бездоказательным импрессионизмом.
Однако значительные литературоведческие открытия (не архивные, а интерпретационные) объединяет с художественными произведениями важное свойство: они персональны и воспроизводимы в науке в форме повторения, цитирования. То есть литературоведческая интерпретация и сегодня остается (а может быть, и навсегда останется?) не просто научным методом, навыком, но – искусством.
В настоящей филологической работе объективное знание опирается на личное усилие понимания.
«Наше короткое бессмертие состоит в том, чтобы нас читали и через 25 лет (дольше в филологии – удел лишь единичных гениев)…»[476] – скромно заметил Ю. М. Лотман.
Исследования самого Ю. М. Лотмана о поэтике «Капитанской дочки» и «Евгения Онегина», Г. А. Гуковского о поэтике русского романтизма, художественном мире Пушкина и Гоголя, Б. М. Эйхенбаума о поэтике Толстого, в том числе его бытового поведения, М. М. Бахтина о поэтике Достоевского, А. П. Скафтымова о поэтике драматургии Чехова уже значительно превысили этот срок.
Поэтика, занимаясь поэзией, может приобрести какие-то ее черты и свойства.
II. Иллюстрации
Иван Тургенев: вечные образы и русские типы
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.
Тургенев. Эпиграмма 1840-х гг.Герой как вечный образ
Еще Аристотель знал: две основные части трагедии – фабула и характер (персонаж). Образ человека определяет структуру художественного произведения классической эпохи (романы без героев пытались сочинять лишь модернисты, уже в XX веке).
Однако характер (не в аристотелевском, а в современном смысле) появился в литературе далеко не сразу. Долгое время она опиралась на мифологические образы, создавала колоритные, но однозначные, одноплановые типы. Для того чтобы в словесном искусстве появились характеры – противоречивые и развивающиеся образы героев – понадобилось два тысячелетия.
Различие типа и характера с обычной для него простотой и ясностью определил Пушкин, сравнив изображение скупца и лицемера у Шекспира и Мольера.
«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп – и только; у Шекспира Шайлок (герой «Венецианского купца». – И. С.) скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер (имеется в виду герой комедии «Тартюф, или Обманщик». – И. С.) волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анжело (персонаж драмы Шекспира «Мера за меру». – И. С.) – лицемер, потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»[477]
Как типы, так и характеры иногда ожидает сходная – и счастливая для писателя – судьба. Они забывают о своем авторе, выходят за границы породившего их мира, становятся обозначением фундаментальных, глубинных свойств человеческой личности, превращаются в мировые, вечные, вековые образы, архетипы, сверхтипы.
Конечно, «вечность» вечных типов относительна. Не всегда, но довольно часто мы можем назвать достаточно точную дату их возникновения.
Первая, наиболее древняя группа вечных образов пришла из фольклора. Из греческого мифа в вечные типы вышли Прометей – герой-богоборец, сознательно жертвующий собой ради людей, Одиссей (Улисс) – странник, долгим и трудным путем возвращающийся в родной дом. Благодаря Библии к ним присоединились Каин и Авель – преступник-братоубийца и невинная жертва, Вечный жид – скиталец, странник, не позволивший отдохнуть идущему на Голгофу Иисусу и парадоксально наказанный за это бессмертием, возможно – страдалец Иов, претерпевающий многообразные несчастья и в итоге награжденный Богом за смирение.
Средневековье внесло в каталог вечных типов чернокнижника Фауста, охваченного ненасытной страстью к познанию мира, и страстного любовника Дон Жуана.
Потом наступил черед Ренессанса. «Триста лет тому назад индивидуализм, расцветший уже с начала эпохи Возрождения, нашел в себе внутренние силы, чтобы создать глубокие и вечные типы новой души. <…> С тех пор все, что истинно властвовало над думами людей, было лишь новым раскрытием того же индивидуализма. В мире прошли тени Дон-Жуана, Фауста, нового Прометея, Вертера, Карла Мора, Ренэ, Манфреда, Чайльд-Гарольда, Лары – и стольких других, до новоявленного Заратустры»[478].
Сервантес вносит в эту копилку Дон Кихота, Рыцаря Печального Образа. Благодаря Шекспиру в ряду вечных образов появляются ревнивец Отелло, скептик Гамлет, страдающий от неблагодарности родных и несправедливости мира король Лир.
Но даже персонажи фольклорные и легендарные приобретают блеск, окончательно осознаются в качестве вечных после их литературного воплощения. Прометей стал Прометеем благодаря не только мифу, но и Эсхилу («Прометей прикованный»). Фауста вместе с Мефистофелем превращает в сверхтип трагедия Гёте. Дон Жуана как вечный образ совместно создавали испанец Тирсо де Молина («Севильский озорник, или Каменный гость», 1630), француз Мольер («Дон Жуан, или Каменный гость», 1665), немец Моцарт (опера «Наказанный распутник, или Дон Жуан», 1787), англичанин Байрон (поэма «Дон Жуан», 1819–1824). Всего этому великому любовнику посвящено около 150 произведений.
Понятие вечного образа, конечно, условно, метафорично. Один старый литературовед осторожно призывал называть такие типы всего лишь вековыми, предполагая, что ничего вечного в природе не бывает. Действительно, Гамлета и Дон Кихота до начала ХVII века не было. Да и стали вековыми они далеко не сразу.
Важен и еще один аспект. Вечные образы имеют определенные географические координаты. Практически все персонажи, которым придают статус мировых, связаны с западной (в широком смысле) цивилизацией. Мы плохо представляем, что значит Гамлет для китайской или корейской культуры. Обязательно должен найтись субъект культурной экспансии – посредник, медиатор, толмач, – превращающий сверхтип в персонажа, архетип в характер, «склоняющий» героя на национальные нравы.
Почтовые лошади просвещения двигались в Россию медленно. Вечные образы литературного происхождения прибывали к нам по своему расписанию, часто с большим опозданием.
Для того чтобы добраться из Англии до России, принцу датскому, к примеру, понадобилось полтора века. «Гамлета» впервые переводит А. П. Сумароков (1748). Но еще почти столетие имя Шекспира выглядит экзотикой. Он становится по-настоящему известен лишь в первой половине следующего века. Им интересуются будущие декабристы (К. Рылеев, В. Кюхельбекер, А. Бестужев). Пушкин следует его историческим хроникам в «Борисе Годунове», вольно переводит драму «Мера за меру», превращая ее в поэму «Анджело», измеряет Шекспиром достижения последующей литературы.
В 1837 году появляется перевод «Гамлета», сделанный журналистом, критиком, издателем «Московского телеграфа» Н. А. Полевым, – самый популярный перевод ХIХ века. В Москве и Петербурге в роли Гамлета блистают П. Мочалов и В. Каратыгин. Посмотрев московский спектакль, восторженную рецензию о пьесе и постановке пишет Белинский.
Но динамичные, активные «люди двадцатых годов с их прыгающей походкой» (Тынянов) не чувствовали с шекспировским героем внутреннего родства, смотрели на Гамлета со стороны. Из вечных образов Пушкина привлекли страстный любовник Дон Жуан («Каменный гость», 1830) и страстный, пусть и разочарованный, искатель истины Фауст вместе с его искусителем Мефистофелем («Сцена из Фауста», 1825).
Для того чтобы Гамлет стал в России своим, нужно было другое время и другой писатель.
Гамлет как зеркало
Первая слава пришла к Тургеневу благодаря «Запискам охотника». Сборник физиологических очерков был воспринят как книга о талантливой крестьянской России, страдающей от привычного, как летний зной или зимний холод, крепостного права. На фоне либерального монстра Пеночкина («Бурмистр») или по-старинному притесняющего и наказывающего своих мужиков Стегунова («Два помещика») особенно привлекательно выглядели гениальный певец Яшка-Турок («Певцы»), трогательные крестьянские ребятишки («Бежин луг») или хозяйственный мужик Хорь, даже внешне напоминающий Сократа («Хорь и Калиныч»).
Но охотника, alter ego Тургенева, привлекают и иные характеры. Свою печальную историю сосед-помещик Петр Петрович Каратаев, герой одноименного очерка (1847), заканчивает воспоминаниями о мочаловском исполнении Гамлета и длинными цитатами из монологов героя.
Через два года Тургенев, уже более основательно, вернется к Шекспиру.
Развернутая экспозиция «Гамлета Щигровского уезда» строится в манере подробного описания быта, увиденного глазами по-гоголевски обстоятельного и ироничного повествователя. Он со вкусом отмечает колоритные гримасы провинциального помещичьего быта, используя порой детали, как будто позаимствованные из «Мертвых душ»: псевдоумозаключения, скрытый стилистический гротеск.
Играющие в карты «штатские особы» были «в тесных высоких галстуках и с висячими крашеными усами, какие бывают только у людей решительных, но благонамеренных»[479] (почему усы вдруг стали признаком благонамеренности?).
Другие гости носят фраки и панталоны «работы московского портного, вечного цехового мастера иностранца Фирса Клюкина» (т. 3, с. 250; это, конечно, близкий родственник гоголевского «иностранца Василия Федорова»).
И сцена встречи важного сановника строится на гоголевском (восходящем, впрочем, к Гомеру) приеме развернутого сравнения, только вместо гоголевских чиновников, похожих на мух на белом сияющем рафинаде, тургеневские гости сопоставляются с пчелиным роем, разбавленным осой и трутнем. «Шумный разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанью пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса – Лупихин и великолепный трутень – Козельский не понизили голоса… И вот вошла наконец матка – вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись, даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою а, произнесенною протяжно и в нос, – с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую, тузами вперед» (т. 3, с. 254–255).
Но в эту привычную по «Запискам охотника» картину включается другой сюжет. Во второй части рассказа появляется персонаж, принципиально невозможный в гоголевском мире. Этот рассказчик тоже ироничен, но его ирония касается уже не предметно-живописных, а интеллектуальных предметов.
Случайный сосед в ночной исповедальной беседе успевает рассказать повествователю всю свою жизнь – с детства до сегодняшнего дня. Биография Василия Васильевича – история человека 1830-х годов, ровесника автора «Записок охотника» (комментаторы находят в тексте некоторые автобиографические детали). Не очень счастливое усадебное детство – русский университет, философский кружок с его атмосферой юношеского опьянения идеями и позднего похмелья – немецкий университет, изучение Гегеля и одинокое существование за границей – неудачная женитьба и ранняя смерть жены – ощущение бесполезно уходящей жизни и мысли о самоубийстве – неудачные попытки литературной деятельности – попытки жить как все, смириться, наладить отношения с ранее неинтересными соседями.
И вдруг – внезапное осознание, что почти все уже позади и даже исправник обращается на «ты» и воспринимает тебя как законченного неудачника, пустого и бесполезного человека, не чета какому-то тузу Орбассанову. «Этой капли только недоставало; чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек!» (т. 3, с. 271).
Герой показывает язык судьбе. А в зеркале, как следует из последних его слов, отражается не просто его лицо, но и его литературный архетип, вечный образ.
«– Позвольте, по крайней мере, узнать, – спросил я, – с кем я имел удовольствие…
Он проворно поднял голову.
– Нет, ради бога, – прервал он меня, – не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени… А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите… назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались… Засим прощайте» (т. 3, с. 272–273).
Не случайно вместо фамилии герой называет имя своего литературного прототипа. Он осознает подражательность, выдуманность всей своей жизни. «Я, должно быть, и родился-то в подражание другому… Ей-богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям…» (т. 3, с. 259).
Гамлет Щигровского уезда, конечно, отличается от принца датского. Он беден, осознает свою неоригинальность, скорбит не столько о трагедии мира («Век вывихнул себе суставы»), сколько о собственной незадавшейся судьбе: «– В одной трагедии Вольтера, – уныло продолжал он, – какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения, – я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература – ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово „жызнь“, – я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог… Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям» (т. 3, с. 271–272).
Его знание Гегеля и французский прононс так же бесполезны в усадебном быту, как – уже в следующую эпоху – три иностранных языка героинь «Трех сестер» («Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина знает еще по-итальянски. Но чего это стоило! – В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего»[480].)
Но провинциального, малого, русского Гамлета объединяют с его архетипом рефлексия, ироническое отношение к себе, чуждость миру, в котором он оказался, и непонятность, загадочность этого вроде простого и понятного для окружающих мира. «– Вы, милостивый государь, войдите в мое положение… Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию… скажу более – науку? <…> Да помилуйте, – продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и робея, – где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то, – да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так, а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключенье мне представьте…» (т. 3, с. 260).
Примечательно, что в повествователе, адресате исповеди Гамлет Щигровского уезда безошибочно опознает своего двойника: «…Я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете… Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего» (т. 3, с. 257).
Едва возникнув, русский гамлетизм становится массовым явлением. «Гамлет наш!» – обращается к умершему Гоголю П. Вяземский в цикле «Поминки» (1853). Через десятилетие поэт и критик А. Григорьев, вослед Тургеневу, сочинит стихотворный фельетон «Монологи Гамлета Щигровского уезда» (1863), где герой получит дополнительное определение мещанский Гамлет, но все же с гордостью – и со сдвигом ударения – произнесет: «Хоть я Гамлет Щигровского уезда, / Но все ж Гамлет…»
Однако решающий шаг в «русификации» шекспировского героя делает все-таки сам Тургенев. Практически одновременно с «Гамлетом Щигровского уезда» появляется «Дневник лишнего человека» (1849) – начало нового тургеневского цикла, уже не о крестьянской России, а об интеллигентах, иных героях времени.
«Гамлет, вероятно, вел дневник», – предположит Тургенев через десятилетие. В новой повести устный рассказ сменяется как раз дневником (их объединяет повествование от первого лица – любимая форма тургеневских повестей; лишь в романах происходит переход к объективному повествованию от третьего лица).
Чулкатурин оказывается ближайшим родственником Василия Васильевича, человеком того же происхождения и той же судьбы. «Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания – скажите на милость, кому не известно все это?» (т. 4, с. 172).
Но сходная коллизия в «Дневнике лишнего человека» драматизируется. Накал, градус чувств нового персонажа значительно сильнее. К очередному российскому Гамлету вплотную приближаются любовь и смерть.
Василий Васильевич вспоминал свою семейную жизнь отстраненно-иронически. Жена не возбуждала в нем никаких сильных чувств, кроме раздражения и поздней жалости. Чулкатурин любит Лизу, рассчитывает на взаимность, страдает от приступов ревности и уязвленного самолюбия.
После своей ночной исповеди Гамлет Щигровского уезда исчезал, чтобы дальше тянуть лямку опостылевшей жизни. Последняя запись в дневнике Чулкатурина делается накануне смерти, 1 апреля (очередная подножка судьбы).
Но очередная неудача – замечательный тургеневский повествовательный прием – ожидает героя за гробом. Прощаясь с жизнью цитатой из пушкинского стихотворения и благословением остающихся («Я умираю… Живите, живые! И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть / И равнодушная природа / Красою вечною сиять!»), он получает в ответ издевательскую «рецензию» полуграмотного дурака или веселящегося гимназиста: «Сѣю рукопись. Читалъ / И Содѣржанiе Онной Нѣ Одобрилъ / Пѣтръ Зудотѣшинъ» (т. 4, с. 215). Для типологической характеристики героя Тургенев нашел определение, вынесенное в заглавие и ставшее лейтмотивом повести.
«Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей» (т. 4, с. 172).
«Лишний, лишний… Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний – именно. К другим людям это слово не применяется… Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние… нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись… конечно; но бесполезность – не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово „лишний“ не первое приходит на язык. А я… про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний – да и только. Сверхштатный человек – вот и все» (т. 4, с. 173).
«Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека?» (т. 4, с. 213).
Слово действительно было придумано отлично. Вскоре оно стало привычной характеристикой, вместительной «шапкой», которой критики накрывали длинный ряд разных литературных персонажей: Онегина, Печорина, герценовского Бельтова («Кто виноват?»), Обломова, героев многих других тургеневских романов и повестей. Позднее – уже в качестве привычного клише – понятие попало в историко-литературные работы, словари и энциклопедии, стало привычным кошмаром и объектом насмешек нескольких поколений школьников.
Открытие стало банальностью, ключом без замка, ответом на позабытый вопрос. «Тургенев впервые ввел в русскую литературу выражение „лишний человек“. Потом о лишних людях говорили много, бесконечно много, хотя и до настоящего времени так же мало до чего договорились, как и пятьдесят лет тому назад. Лишние люди есть – и сколько еще, а что с ними делать – неизвестно. Остается одно: изобретать по поводу них мировоззрения»[481]. (В процессе этого изобретения-упрощения часто забывалось, что лишние люди были не только порождением пресловутой «среды». Лишний человек – это и социальная позиция, и культурная роль, и психологическое ощущение.)
Столь же позабытой оказалась и его родословная. Под маской лишнего человека скрывался Гамлет, каким его понял Тургенев и – шире – русский девятнадцатый век.
Об этом временами осторожно, но настойчиво напоминал сам Тургенев. О «гамлетиках, самоедах» вспомнит Шубин в романе «Накануне» (1860). «Российским Гамлетом» назовет Паклин революционера-народника Нежданова, главного героя романа «Новь» (1877). Позднее уже сам Нежданов обнаружит родственников в совершенно другой среде (причем достаточно очевидно намекнет на своего создателя): «– Помнишь, была когда-то – давно тому назад – речь о „лишних“ людях, о Гамлетах? Представь: такие „лишние люди“ попадаются теперь между крестьянами! Конечно, с особым оттенком… притом они большей частью чахоточного сложения. Интересные субъекты – и идут к нам охотно; но, собственно, для дела – непригодные; так же, как и прежние Гамлеты» (т. 9, с. 327).
Почти утерянное позднее, для чуткого Чехова это очевидное родство становится способом психологической характеристики и литературной игры.
«Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди… сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это – позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю…»[482] – признается главный герой пьесы «Иванов». В финале он преодолевает гамлетизм, находя силы для решительного шага: «Куда там пойдем? Постой, я сейчас все это кончу! Проснулась во мне молодость, заговорил прежний Иванов! (Вынимает револьвер.) <…> Долго катил вниз по наклону, теперь стой! Пора и честь знать! <…> Оставьте меня! (Отбегает в сторону и застреливается)»[483].
Формула появляется и в повести «Дуэль» (1890) в сложном сочетании объективности и иронии, взгляда изнутри и взгляда со стороны, самохарактеристики персонажа и авторской характеристики. «Мы подружились, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает – и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: „Я неудачник, лишний человек“, или: „Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?“, или: „Мы вырождаемся…“ Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: „Это наши отцы по плоти и духу“. Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека»[484], – говорит фон Корен о Лаевском в «Дуэли». Фабула этой чеховской повести строится на том, что Лаевский в финале сбрасывает эти культурные маски, пытаясь жить иной жизнью.
Благодаря Тургеневу лишний человек Гамлет стал одним из главных архетипов русской литературы ХIХ века.
Писатель как теоретик
В начале 1860-х годов, будучи уже известным художником-прозаиком, сочиняющим и драмы, и стихи, Тургенев выступает в роли теоретика. Для этого ему снова понадобился принц датский, наряду с другим его героем-современником. «Гамлет и Дон-Кихот» (1860) с перерывами писался около пяти лет, а задумано было это параллельное жизнеописание вообще лет за пятнадцать до написания.
Объединив (не совсем оправданно) даты выхода двух замечательных произведений эпохи Возрождения и даже день смерти их создателей, Тургенев дал предельно общие характеристики героев шекспировской трагедии и романа Сервантеса как двух противоположных человеческих типов (схема более простая, но напоминающая характеристику четырех темпераментов по Гиппократу).
Человек живет во внешнем мире и одновременно осознает его. Его жизнь может быть подчинена сформулированному до него идеалу либо же строиться на основе рефлексии, размышления. Стремление к идеалу провоцирует активные действия, не учитывающие влияния обстоятельств, преодолевающие все преграды. Размышление же, напротив, приводит к бессилию, нерешительности, неверию, в том числе и к идеальному осуществлению добра и справедливости.
Свойства, причудливо совмещающиеся в отдельной личности, Шекспир и Сервантес реализуют в двух противоположных художественных образах.
«Что выражает собою Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле» (т. 5, с. 332).
«Что же представляет собою Гамлет?
Анализ, прежде всего, и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота» (т. 5, с. 333).
Дон Кихот – энтузиаст, подвижник, моралист, четко представляющий границы добра и зла и всегда рыцарски выбирающий сторону добра.
Гамлет – скептик, пассеист, философ, потерявший ориентиры, позволяющие сделать правильный моральный выбор. Гамлет, замечает Тургенев, в сущности, тот же Мефистофель, однако «заключенный в живой круг человеческой природы».
Соответственно основному противопоставлению Тургенев выстраивает всю систему отношений героев с миром.
Гамлет привлекателен, но его холодность отталкивает: невозможно любить того, кто сам никого не любит. Дон Кихот смешон, но этот смех привлекает к нему симпатии и даже любовь: «Чему посмеешься, тому послужишь».
Аристократ Гамлет презирает толпу, массу (на эту роль Тургенев почему-то выбирает Полония), получая в ответ снисходительное отношение взрослого к ребенку. – Бедняк Дон Кихот оказывается подлинным демократом, увлекая своим энтузиазмом такого практика, как Санчо Панса.
Простодушный и аскетичный Дон Кихот любит свою Дульцинею – точнее, идеальную Прекрасную Даму, которую он вообразил поверх реального образа простой мужички. – Чувственный Гамлет не любит прекрасную Офелию, лишь небрежно притворяясь в такой любви.
Гамлет умирает смирившимся, но все-таки скептиком: «Остальное… молчанье». – Смерть Дон Кихота есть переход в мир абсолютного добра; Тургенев комментирует ее словами апостола Павла: «Все минется, одна любовь останется».
Тургенев не раз пытается сгладить резкость исходного противопоставления, говоря то о решительности Гамлета, то о невинных хитростях и необразованности Дон Кихота.
Но торжествует в его статье все-таки не примирение, а противопоставление. «И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой – полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?
Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов.
Ограничимся замечанием, что в этом разъединении, в этом дуализме, о котором мы упомянули, мы должны признать коренной закон всей человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал. <…> Без этой центростремительной силы (силы эгоизма) природа существовать бы не могла, точно так же как и без другой, центробежной силы, по закону которой все существующее существует только для другого (эту силу, этот принцип преданности и жертвы, освещенный, как мы уже сказали, комическим светом – чтобы гусей не раздразнить, – этот принцип представляют собою Дон-Кихоты). Эти две силы косности и движения, консерватизма и прогресса, суть основные силы всего существующего. Они объясняют нам растение цветка, и они же дают нам ключ к уразумению развития могущественнейших народов» (т. 5, с. 340–341).
Начав с конкретных образов, Тургенев увидел в них вечные типы, затем – противоположности человеческой жизни, затем – универсальную диалектику бытия, всего существующего.
Возвращаясь от этой диалектики к Гамлету и Дон Кихоту, уже современники Тургенева отметили парадокс. Несмотря на все оговорки, в своей речи-статье, в теории, Тургенев явно симпатизировал подвижнику и энтузиасту Дон Кихоту. Но в его художественной практике, в повестях и романах, восходящий к Гамлету тип лишнего человека получал как количественное предпочтение, так и эстетическое оправдание.
«Если <…> разуметь под Дон-Кихотом деятельную, решительную натуру, а под Гамлетом созерцательную, колеблющуюся, то отношения Тургенева к обоим типам будет как раз обратное тому, которое мы видим в его параллели. <…> Этому складу была художественно враждебна и чужда всякая резкая определенность в образе мыслей, всякая бесповоротная решительность в образе действия. <…> Столь же фатально слабость, мягкость, колебательность, неопределенность были художественно симпатичны Тургеневу»[485]. Намеченный Тургеневым в «Гамлете и Дон-Кихоте» контраст вечных образов оказался важен для его романного творчества, бросив свет и на те произведения, которые к 1860 году уже были написаны. В главных персонажах тургеневского культурно-героического романа отчетливо проступили их вековые архетипы: донкихотство Рудина и Инсарова – гамлетизм Лаврецкого, Базарова, Нежданова («Новь»).
Тургеневская теория была практической эстетикой. Вечные образы переносились на русскую почву, изменяли имена, становились инструментом объективного исследования русской жизни и способом лирического самовыражения, сохраняя тем не менее глубинную, архетипическую связь с породившей их почвой и культурной традицией.
Фауст как повод
В круг тургеневского внимания входил и Фауст. Еще в юности Тургенев сделал перевод трагедии Гёте, который, однако, не сохранился. Позднее он написал рецензию на перевод М. Вронченко. Следующим шагом была повесть, названная так же, как великая книга великого немца, – «Фауст» (1856).
Тургенев опять обращается к повествованию от первого лица. Но его конкретная форма в очередной раз меняется: теперь, после устного рассказа в «Гамлете Щигровского уезда» и «Дневника лишнего человека», это повесть в девяти письмах, которые опять же бесфамильный персонаж Иван Александрович Б… отсылает своему другу.
Герой легко включается в уже созданный Тургеневым ряд: он учился в Германии (как Гамлет Щигровского уезда), одинок (как лишний человек), подводит предварительные – и весьма неутешительные – итоги жизни, возвращаясь через девять лет в родное имение. Взгляд в зеркало был финальной точкой в «Дневнике лишнего человека»: там герой видел свою ненужность. С взгляда в зеркало начинается фабула «Фауста»: «Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время» (т. 5, с. 90).
И в этой тургеневской повести в близком соседстве оказываются любовь и смерть.
Вернувшись домой, герой обнаруживает женщину, в которую когда-то был влюблен и даже делал ей предложение. Теперь она – жена провинциального соседа, почтенная мать семейства, кажется навсегда забывшая о прошлом. Но оно оживает в душе героини и ведет ее к трагическому концу.
Спусковым крючком, главным фабульным мотивом рассказанной истории оказывается книга Гёте.
Тургенев словно проводит лабораторный эксперимент. Двадцативосьмилетняя, похожая на девочку, Вера – культурный Маугли. Когда-то в детстве ее страстная и много пережившая мать запретила девочке чтение стихов и романов, и до встречи со своим бывшим возлюбленным та не прочла ни одного «выдуманного сочинения». «– Что же, – спросил я, – вы положили себе за правило никогда таких книг не читать? – Не пришлось, – отвечала она, – некогда было» (т. 5, с. 101–102).
Искушением для Веры, которое приготовил герой, становится любимая им книга Гёте. Публичное чтение (героиня хорошо понимает по-немецки) приводит к потрясающему результату. Книга в прямом смысле слова ломает жизнь Веры Ельцовой. Она отождествляет себя с Гретхен (Маргаритой), вновь влюбляется в чтеца-искусителя, назначает ему ночное свидание в саду и, подарив ему всего один поцелуй, умирает от тяжести содеянного со словами Гёте на устах.
«Вдруг она раскрыла глаза, устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку —
Чего хочет он на освященном месте, Этот… вот этот… —произнесла она голосом до того страшным, что я бросился бежать. Она почти все время своей болезни бредила „Фаустом“ и матерью своей, которую называла то Мартой, то матерью Гретхен» (т. 5, с. 128). Бедная Вера оказывается, впрочем, скорее не Маргаритой (ведь она так никому и не изменила), а сказочной Снегурочкой из пророчества матери. «Вспоминал я также слова Ельцовой, переданные мне Верой. Она ей сказала однажды: „Ты как лед: пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь, и следа от тебя не останется“» (т. 5, с. 123).
После смерти Веры никакая игра уже невозможна. В последнем письме герой сообщает другу, что собирается провести остаток жизни в одиночестве, в своем имении.
Идея отречения, экспонированная в начале эпиграфом из «Фауста», отчетливо, с нажимом, как моральный итог звучит в финале: «Кончая, скажу тебе: одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, – исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше; тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза» (т. 5, с. 129).
Фауст, главный образ поэмы Гёте, в этой повести мало кого интересует. Если героиню потрясает судьба Гретхен, то герой примеривает к себе роль дьявола-искусителя. «На другое утро я раньше всех сошел в гостиную и остановился перед портретом Ельцовой. „Что, взяла, – подумал я с тайным чувством насмешливого торжества, – ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу!“ Вдруг мне почудилось… ты, вероятно, заметил, что глаза en face всегда кажутся устремленными прямо на зрителя… но на этот раз мне, право, почудилось, что старуха с укоризной обратила их на меня» (т. 5, с. 109).
Эта сцена, кроме того, напоминает о «Пиковой даме» со странными отношениями Германна и старухи-графини. В «Фаусте» (это как раз отвечает книге Гёте) Тургенев вообще не раз вступает в область мистического, делая шаг к будущему циклу «таинственных повестей». В сцене несчастного свидания героине видится мать; позднее, в ночном кошмаре, герою является уже сама Вера.
В повести присутствуют многочисленные литературные ассоциации. Образованный герой сравнивает Веру с Манон Леско, а себя с Одиссеем, цитирует неизменного «Гамлета», Пушкина, Тютчева, вспоминает редкие французские книги.
Архетипом героя оказывается, впрочем, старый знакомец, уже описанный Тургеневым тип. Когда через два года появится «Ася» (1858), еще одна история роковой, незадавшейся, несчастной любви, Чернышевский в знаменитой статье о ней «Русский человек на rendez-vous» вспомнит и о «Фаусте», прочитав повесть как историю несостоятельности героя, объясняющейся условиями российской общественной жизни.
«В „Фаусте“ герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней – это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его… <…> Неудивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе как „поведением“ нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу»[486].
«Фауст» демонстрирует иной способ обращения с литературной традицией, чем «Гамлет Щигровского уезда» и «Дневник лишнего человека». В этой повести Тургенева занимает не трансформация вечного образа, а воздействие вечной книги. «Фауст» становится поводом для демонстрации огромного значения художественного слова в человеческой жизни.
Историю гётевского «Фауста» рассказывает русский Гамлет, лишний человек.
Лир как тип
В «Степном короле Лире» (1870) Тургенев осуществляет еще один вариант использования вечных образов. Воссоздавая в начале-заставке повести привычную атмосферу личного повествования (хотя перед нами очередное ее видоизменение – рассказ стороннего рассказчика), писатель сразу же обозначает способ связи этой истории с Шекспиром. «Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой „сути“. Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.
– А я, господа, – воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, – знавал одного короля Лира!
– Как так? – спросили мы его.
– Да так же. Хотите, я расскажу вам?
– Сделайте одолжение.
И наш приятель немедленно приступил к повествованию» (т. 8, с. 59).
В «Гамлете Щигровского уезда» и «Дневнике лишнего человека» был акцентирован момент трансформации, приспособления шекспировского вечного образа к русской почве. В «Степном короле Лире», напротив, важен момент неизменности, «вседневности» типа.
Герои и «Гамлета Щигровского уезда», и «Фауста» были для Тургенева-автора личными, близкими персонажами, допускающими лирическую проекцию. Герой новой повести изображен объективно, со стороны, с позиции наблюдателя, напоминающей основную часть очерков в «Записках охотника».
Итак, убоявшись смерти, провинциальный помещик Харлов отдает свое имение дочерям (их, правда, не три, а две). Дальше в русских декорациях разыгрывается та же шекспировская драма. Вместо благодарности отец получает равнодушие и неприязнь. Муж одной из дочерей всячески притесняет старика. Начиная с жалобы соседке-помещице, Харлов доходит до бунта, рушит в припадке ярости свой дом (сцена, имеющая явный символический характер, аналогичная шекспировской буре) и, упав с крыши, умирает с разбитой грудью и проломленным затылком.
К финалу Тургенев приберегает психологическую загадку. «„Конец!“ – подумал я… Но Харлов открыл еще все тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца) и, вперив его на Евлампию, произнес едва слышно: – Ну, доч… ка… Тебя я не про…»
Возвращаясь домой, повествователь пытается угадать смысл незавершенной фразы: «„Что он хотел сказать ей, умирая?“ – спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клеппере: „Я тебя не про… клинаю или не про… щаю?“» (т. 8, с. 221).
И приходит в конце концов к примиряющему выводу, вполне согласующемуся с шекспировским «Нет в мире виноватых»: «Что он собственно хотел сказать своей дочери? Простить ли он ее хотел, или проклясть? Я решил наконец, что – простить» (т. 8, с. 222).
Харлов вроде бы до конца проходит путь вечного Лира: самодурство – раскаяние – притеснение – бунт – прощение. Но среди его дочерей не находится как раз самоотверженной и верной Корделии (на это указывали слушатели в вычеркнутом впоследствии эпилоге повести).
Одна забывает прошлое в тесном кругу семейной жизни. «Не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье… это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете – и хорошее и дурное – дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще неизвестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их» (т. 8, с. 223).
Другая убегает от него в большой мир, становясь неистовой хлыстовской богородицей, едва ли не основательницей нового раскольничьего учения, «евлампиевщины». «Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кой-где виднелись морщины; но особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти – пресыщением власти дышала каждая черта; в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками – а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено!» (т. 8, с. 227).
«Степной король Лир» – трагедия без катарсиса, преступление без наказания, история о вечности «каких-то еще неизвестных, но логических законов» человеческой жизни.
И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет.Пушкинский афоризм из «Цыган» мог бы стать эпиграфом к «Степному королю Лиру».
Тургенев как Шекспир
В начале 1850-х годов Тургенев написал эпиграмму на своего приятеля, хорошего врача и плохого переводчика Шекспира Н. Х. Кетчера («Его точные прозаические переводы лишены художественных достоинств», – осторожно пишут историки литературы).
Вот еще светило мира! Кетчер, друг шипучих вин; Перепер он нам Шекспира На язык родных осин (т. 12, с. 308).Кто бы мог подумать, что смысл эпиграммы через несколько десятилетий окажется пророческим для ее автора? Не будучи переводчиком профессиональным, Тургенев стал художественным толмачом, талантливо перепирающим вечные образы и типы на язык русской культуры. В свою очередь, его персонажи, прежде всего – лишний человек на рандеву, становились архетипами русской литературы и жизни.
«Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай»[487], – иронизирует циничный чеховский герой в «Рассказе неизвестного человека» (1893), упрекая в следовании тургеневским образцам влюбленную в него женщину.
Но журналист и издатель А. С. Суворин размышлял о том же самом феномене вполне серьезно: «Среди общества юного, настроенного или меланхолией, или литературой, он явился учителем. Он создавал образы мужчин и женщин, которые становились образцами. Он давал моду. Его романы – это модный журнал, в котором он был и сотрудником, и редактором, и издателем. Он придумывал покрой, он придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались. Многие получали только единственно модный журнал и согласно Тургеневу были счастливы, потому что находили, что выкройка весьма удобна и платье шьется легко»[488].
Тургенев напоминает о традиции неспешного рассказа – с подробным описанием внешности, обстоятельной пейзажной живописью (уже Чехову эта манера казалась устаревшей), прозрачной символикой (гремит гром накануне свидания героя с Верой в «Фаусте», умирает именно первого апреля неудачливый лишний человек), эффектными афоризмами под занавес.
Тургеневские повести и романы – обязательная, неустранимая норма русской словесности, на фоне которой острее воспринимается глубинный психологизм Толстого, «бездны» героев Достоевского, гротеск Салтыкова-Щедрина, импрессионизм и краткость чеховского повествования.
Тургеневские истории любви подсвечены то мучительными сомнениями Гамлета, то безрассудной неистовостью Рыцаря печального образа. Писатель трансформировал вечные образы в национальные архетипы. В этом (хотя не только в этом) его огромное значение в русской литературе.
«От жизни той, что бушевала здесь…» Ф. И. Тютчева
От жизни той, что бушевала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась, Что уцелело, что дошло до нас? Два-три кургана, видимых поднесь… Да два-три дуба выросли на них, Раскинувшись и широко и смело. Красуются, шумят, – и нет им дела, Чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих – лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной[489]. 1871В собраниях тютчевской лирики произведение, о котором пойдет речь, обычно стоит на одном из последних мест. И это – не простая хронологическая формальность. Особая роль стихотворения в контексте творчества Тютчева отмечена неоднократно. К. В. Пигарёв, крупнейший знаток творчества поэта, считает его «едва ли не центральным в ряду его (Тютчева. – И. С.) раздумий о месте человека в природе»[490]. В другой монографии о поэте сказано еще определеннее: «Тютчев не написал своего „Памятника“, но создал в 1871 году программное стихотворение „От жизни той, что бушевала здесь…“»[491]. Стихотворение-итог, стихотворение-завещание… Разговор о нем позволяет увидеть некоторые существенные черты художественного мира Тютчева.
В лирике Тютчева обычно выделяют несколько тематических пластов: любовная, интимная лирика; лирика природы, пейзажная; медитативная, философская лирика; наконец, политические стихотворения и стихи «на случай». Такая тематическая, а не жанровая классификация не случайна. Еще Ю. Н. Тынянов отметил, что для Тютчева, в отличие от поэтов XVIII века и пушкинской эпохи, не характерно четкое разграничение жанров. Жанрообразующую роль у него приобретает фрагмент, «жанр почти внелитературного отрывка»[492]. Тем большее значение в этом случае имеет контекст творчества, углубляющий и поясняющий отдельные стихотворения: «Жанровая новизна фрагмента могла с полной силой сказаться лишь при циклизации в сборнике»[493]. Рассмотрение же всего творчества поэта как целостного текста показывает, что тематическое разделение тютчевской лирики в значительной степени условно: за разными тематическими пластами обнаруживается единый принцип видения мира – философский. «У него, – писал еще первый биограф Тютчева И. С. Аксаков, – не то что мыслящая поэзия – а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее – а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли»[494]. «У Тютчева, – подхватывает современный исследователь, – философией были пропитаны все клетки существа. Это не материал для стихов, а самая атмосфера, которая окружает образные миры»[495].
Каков же он, тютчевский «мирообраз» (термин Я. О. Зунделовича), в какой «картине Вселенной» воплощается тютчевская философская мысль? Для нее характерна предельная обобщенность, грандиозность (которую обычно связывают с традицией XVIII века, с Державиным и Ломоносовым) и антиномичность, постоянное диалектическое сопоставление противоположных начал. Я. О. Зунделович считал основополагающей оппозицией тютчевской Вселенной контраст дня и ночи и строил мирообраз его лирики как борьбу «дневного» и «ночного» начал[496]. Другие (Л. Озеров, В. Н. Касаткина) как исходную выдвигают антиномию «хаос – космос». Так или иначе, в лирике Тютчева очевиден тот ряд противопоставлений, которые намечает В. Н. Касаткина: «В мировом бытии Тютчев выделил два начала: космос (мать-земля) и хаос. Космос получил определения: светлый, гармоничный, молодой, радостный, телесный, одушевленный, день, жизнь. Хаос стоит в ряду определений: мрак, дисгармония, страх, бестелесность, бессознательность, сон, сновидения, ночь, смерть, бездна»[497]. Конкретизацией этих оппозиций могут быть выделенные и описанные Б. Я. Бухштабом контрасты холода и тепла, севера и юга, лета и зимы, шума и безмолвия и др.[498] И в эту грандиозную Вселенную, несущую противоположности в каждом своем атоме, брошен человек, «мыслящий тростник», одинокий странник с ощущением хаоса и бездны не только вовне, в мире, но и в собственной душе и с обязательной нравственной необходимостью осмыслить свое место в мироздании.
Тютчевский человек (а это, как правило, человек вообще, Я, лишенное конкретных бытовых и психологических черт и в этом смысле вполне соизмеримое с миром) может чувствовать свою гармонию с природой. Знаменитые тютчевские «весенние» и «летние» стихи схватывают как раз мгновения гармонии:
Так, в жизни есть мгновения — Их трудно передать, Они самозабвения Земного благодать. Шумят верхи древесные Высоко надо мной, И птицы лишь небесные Беседуют со мной. <…> И любо мне, и сладко мне, И мир в моей груди, Дремотою обвеян я — О время, погоди! (с. 160)Таков светлый полюс тютчевского бытия. Но он лишь мгновение. Гораздо чаще при осмыслении мира человек испытывает совсем другие чувства:
А я здесь в поте и в пыли, Я, царь земли, прирос к земли!.. (с. 77) О, бурь заснувших не буди — Под ними хаос шевелится!.. (с. 57) О нашей мысли обольщенье, Ты, человеческое Я… (с. 130)Трагическое одиночество в мироздании, трагическая невозможность конечного познания мира, трагедия любви, трагедия смерти, небытия с разных сторон окружают человека. И тщетно ищет он точку опоры в мире тревожащих, скользящих противоположностей:
И, как виденье, внешний мир ушел… И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен и гол, Лицом к лицу пред пропастию темной. На самого себя покинут он — Упразднен ум, и мысль осиротела — В душе своей, как в бездне, погружен, И нет извне опоры, ни предела… (с. 118)Таким предстает мирообраз тютчевской лирики в произведениях, разделенных десятилетиями. Для его лирической системы вообще характерен момент сосуществования, пути как позиции, а не как развития, эволюции[499]. Восстановив этот мирообраз в самых общих чертах и помня об особом значении контекста для понимания тютчевских фрагментов, вернемся теперь к нашему стихотворению.
Двучастная его структура очевидна. Ее своеобразно подчеркнул Л. Толстой, уже тяготеющий к прямому моральному выводу, назиданию. Первые две строфы он зачеркнул, а две последние пометил: «Т. Г!!!» – Тютчев, Глубина[500].
На первый взгляд такое композиционное построение достаточно традиционно для поэта. Но это впечатление обманчиво. Чаще всего две композиционные части тютчевского стихотворения соотносятся путем параллелизма состояния природы и человеческих переживаний («Фонтан», «Поток сгустился и тускнеет…», «Когда в кругу убийственных забот…» и др.). Другой композиционный принцип тютчевской лирики – прямое изображение чувства (в стихотворениях «денисьевского цикла»), пейзажная зарисовка, «этюд с натуры» (классический пример – «Есть в осени первоначальной…») или же прямое философское размышление («Природа – сфинкс…»). В любом из этих случаев стихотворение развертывается однопланово, однолинейно. В нашем тексте соотнесение двух частей оказывается едва ли не уникальным для тютчевской лирической системы. Части соотносятся не путем параллелизма, а по принципу: конкретный пейзаж – философское обобщение. В рамках одного стихотворения здесь как бы сходятся «пейзажная» и «медитативная» линии тютчевского творчества. Причем «эмпирическая» и «обобщающая»[501] части взаимно уравновешены: каждая занимает две строфы.
Сопоставление основного текста с сохранившимся первоначальным наброском позволяет выявить направление поэтической мысли:
От жизни той, во дни былые Пробушевавшей над землей, Когда здесь силы роковые Боролись слепо меж собой, И столько бед здесь совершалось, И столько крови здесь лилось, Что уцелело и осталось? Затихло все и улеглось. Лишь кое-где, как из тумана Давно забытой старины, Два-три выходят здесь кургана (с. 270).В общем виде такое сравнение проделал К. В. Пигарёв: «Все содержание первоначальной незавершенной редакции сведено к четырем первым строкам (окончательного текста. – И. С.)… Возможно, что если бы первая редакция была доведена до конца, то именно образом дубов, выросших на месте древних погребений, и завершалась бы вторая строфа… Зато в наброске стихотворения нет никакого намека на глубокую философскую мысль, которая будет развита поэтом в третьей и четвертой строфах окончательной редакции»[502]. Представляется, что наблюдения К. В. Пигарёва можно несколько дополнить. Еще до прямого введения философской темы Тютчев не только «сжимает» первую часть стихотворения внешне, поэт одновременно расширяет, по-иному интонирует его внутреннюю тему. В первоначальном наброске «эмпирическая» часть была – пусть очень общо – конкретизирована, допускала определенную историчность прочтения. Речь шла о какой-то борьбе между людьми, историческими силами: «Силы роковые / Боролись слепо меж собой». Примечательно, что в раннем и очень сходном с анализируемым стихотворении-дублете «Через ливонские я проезжал поля…» (1831) историческое прошлое развертывалось в целую строфу, становилось видимым и осязаемым:
Я вспомнил о былом печальной сей земли — Кровавую и мрачную ту пору, Когда сыны ее, простертые в пыли, Лобзали рыцарскую шпору (с. 37).И хотя дальше следовал трагически безнадежный вывод: «Но твой, природа, мир о днях былых молчит», – опровержением его было само воссоздающее воображение поэта, воскрешающее далекое прошлое.
Сходная тема, даже в более оптимистическом ключе, звучит в царскосельском стихотворении 1866 года:
Тихо в озере струится Отблеск кровель золотых, Много в озеро глядится Достославностей былых. <…> Здесь великое былое Словно дышит в забытьи… (с. 208)Великое былое – дышит. Оно живет в настоящем, пусть во сне, в дремоте, но живет.
Не так в анализируемом тексте. От прошлого действительно ничего не осталось, ничего конкретного, ничего из того, за что может зацепиться память современного человека. Бушевала жизнь – бурная, многообразная, но какая, чья? Лилась кровь – но она лилась всегда, во все века, а о чьей крови идет речь здесь – неизвестно. Даже следы прошлого в настоящем – курганы – сохранились только потому, что они природны, естественны. Причем оттенок предположительности вносится и в их количество: два-три кургана, два-три дуба на них. Даже самое точное и бесспорное – число – в мире стихотворения оказывается зыбким, предположительным.
Уже с первых строк Тютчев начинает спор с собой, с мирообразом, создававшимся десятилетиями. При этом многие традиционные, отмеченные выше контрастные черты тютчевской картины мира в данном пейзаже отсутствуют. Зыбким, предположительным здесь оказывается не только историческое время и пространство, но и пространство и время природное. Отсутствует противопоставление дня и ночи, весны и осени, севера и юга, нет привычной пейзажной конкретности.
Можно, конечно, предположить, что пейзаж этот – дневной (курганы – видимы) и весенне-летний (дубы – шумят). Комментарий пояснит: «В стихотворении <…> отразились впечатления Тютчева от его поездки в село Вщиж Брянского уезда Орловской губернии, некогда бывшее удельным княжеством. Близ Вщижа сохранились древние курганы» (с. 435).
Но и предположения, и комментарий будут внетекстовыми факторами и при видимом объяснении лишь закроют путь к смыслу. Для понимания же тютчевского текста как поэтической реальности важно как раз иное: пейзаж, в отличие от многих других стихотворений поэта, деконкретизирован, обобщен. Это – природа вообще, природа, взятая как целое, и противопоставлена она уже не «мыслящему тростнику», отдельному человеческому Я, а человечеству как целому, взятому во всю его историческую глубину, человеческой истории.
И еще в одном отношении пейзаж первых двух строф отличен от традиционного тютчевского.
Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык… (с. 81) —писал поэт в знаменитом «шеллингианском» стихотворении, опубликованном Пушкиным.
Эту душу природы, иногда созвучную душе человека, иногда грозную, пугающую, но всегда живую, проявлял Тютчев во многих других стихотворениях. И даже безрадостная мысль: «Но твой, природа, мир о днях былых молчит / С улыбкою двусмысленной и тайной» (с. 37) – звучит не совсем безнадежно. «Молчит» – значит может сказать. Возможность диалога – пусть потенциально – сохраняется. С годами Тютчев постепенно уходит от такого пантеистического взгляда. Представлению о природе, воплощенному в данном стихотворении, предшествует известный афоризм, созданный на два года раньше:
Природа – сфинкс. И тем она верней Своим искусом губит человека, Что, может статься, никакой от века Загадки нет и не было у ней (с. 220).То, что было страшной догадкой («может статься»), в нашем стихотворении дается уже как естественный, очевидный факт. Природа здесь – не живое существо с «двусмысленной улыбкой», даже не сфинкс. Она – вот эти курганы, вот эти дубы (метафора «дубы красуются» имеет локальный характер и не создает пантеистического образа), величественно растущие, но никак не осознающие себя, выключенные из времени.
Человеческая история сталкивается не с чьей-то злой волей, а с этой длящейся бесконечностью в ее очень простых и все же в силу своей бесконечности недоступных разуму проявлениях. Между ними нет борьбы, осознанного противостояния. Напротив, в двух первых строфах природа и история даны как явления соизмеримые в своей красоте, значительности, силе (жизнь бушевала, кровь рекой лилась – дубы раскинулись, красуются, шумят). Разрешающим противостояние оказывается не тревожный вопрос третьей строки («Что уцелело, что дошло до нас?»), а взрывной, удивительный по смелости и точности конец строфы: «…нет им дела / Чей прах, чью память роют корни их». В ней – зерно последующего философского размышления: деревья разрушают не только материальное – прах, но и духовное – память. Утрата же памяти, по Тютчеву, страшнее смерти:
Как ни тяжел последний час — Та непонятная для нас Истома смертного страданья, — Но для души еще страшней Следить, как вымирают в ней Все лучшие воспоминанья… (с. 211)В данном случае речь идет о памяти личной, в нашем же стихотворении – о памяти исторической. Мысль об окончательной победе природы в этой – необъявленной – борьбе с человеческой историей, подготовленная в «эмпирической» пейзажной части, открытым текстом звучит в «обобщающей» второй части.
Переход к ней, кстати, подчеркнут и сменой способа рифмовки: опоясывающая рифмовка в первых двух строфах сменяется перекрестной рифмовкой третьей и четвертой строф.
Субъект здесь несколько конкретизируется: вместо «бушевавшей жизни» появляется некое «мы», «наши призрачные годы», за которым по-прежнему подразумевается любой, каждый. Объект, напротив, предельно обобщается: просто «природа» вместо дубов и курганов. Но в трансформированном виде в обобщающей части продолжает осмысляться та же антиномия: «внеисторичность», «беспамятство» природы, торжествующее над «призрачной историчностью» человеческого бытия. И завершается стихотворение образом «бездны», поглощающей всех, каждого, саму историю.
Образ «бездны» – один из сквозных в лирике Тютчева. Однако он не стабилен, в разных стихах и контекстах обнаруживает разные грани. «Пылающая бездна» («Как океан объемлет шар земной…», с. 29) – это ночная Вселенная, бесконечность мироздания, в которую погружен земной шар вместе с живущими на нем. «Голубая бездна» в стихотворении «И гроб опущен уж в могилу…» (с. 63) – это, напротив, беспредельность дневного небесного свода, в котором реют птицы, и эта бездна уже противопоставляется скоротечности человеческого (пока индивидуального!) бытия. В образе «безымянной бездны» в «Дне и ночи» (с. 98) как бы снимается предыдущее противопоставление.
«В конечном итоге „бездна“, – пишет М. М. Гиршман, – вмещает в себя „день“ и „ночь“. В философской интерпретации она выступает как Универсум, Абсолют и т. п.»[503]. «Роковая бездна» в стихотворении «Смотри, как на речном просторе…» (с. 130) – это уже не первоначало бытия, а, напротив, небытие, смерть, уничтожение. В стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла…» (с. 118) присутствуют одновременно и «ночная бездна», и бездна человеческой души, в чем-то родственная бездне Вселенной.
Антиномичность, внутренняя контрастность тютчевской лирической системы отчетливо обнаруживается в этом «микрообразе», приобретающем в разных контекстах почти противоположные значения, разное эмоциональное наполнение. В анализируемом стихотворении образ «бездны» в «снятом виде» содержит многие предшествующие образные оттенки: это и бесконечность пространства и времени, и первоначало, и итог бытия, и смерть, небытие. Но найденные именно для этого стихотворения эпитеты придают образу предельно широкое, ускользающее от точного определения значение. Теперь бездна «всепоглощающая и миротворная»[504].
Внутри обобщающей части тютчевского текста отчетлива еще одна оппозиция: «грезою природы» смутно осознает себя человек, тогда как в действительности он – «дитя природы», находящийся с ней в неосознаваемом родстве. Поэтому и бездна для него – миротворная: дитя природы в конце концов возвращается в среду, его породившую, сливается с ней. Так же уходит в небытие, в бездну, исчезает под курганами история. В двух последних строфах Тютчев формулирует философско-поэтический (или поэтически-философский) итог бытия, его универсальную норму, что не снимает вопроса о субъективном отношении к ней.
Это отношение в литературе о Тютчеве оценивается крайне разноречиво. Л. В. Пумпянский увидел в данном тексте «тютчевский нигилизм», «загадочные и соблазнительные высказывания, разрушающие до основания буквально всю его систему философии природы и истории»[505]. Б. Я. Бухштаб считает, что стихотворение «особенно окрашено пессимизмом и скепсисом»[506]. Я. О. Зунделович, пытаясь отчасти спасти репутацию поэта, утверждал: «Тютчев сдержанно негодует на то, что выросшим на кургане деревьям нет дела до того, „чей прах, чью память роют корни их“… И пусть в стихотворении мы не слышим бунта против подобного порядка вещей, поэт принимает этот порядок далеко не покорно, не так, как смену дней и ночей в круговороте природы. Да, природе чужды наши призрачные годы. Но мы лишь смутно (курсив автора. – И. С.) сознаем себя грезою природы. И еще вопрос, бесполезен ли подвиг, совершаемый детьми природы – людьми!»[507] Слова о «сдержанном негодовании» поэта, бодрый восклицательный знак в конце последней фразы говорят о том, что в конечном счете в этом стихотворении исследователь увидел достаточно оптимистическую концепцию бытия, фактически оспорил тютчевский эпитет «бесполезный».
Но обязательно ли выбирать между пессимизмом («соблазнительным нигилизмом») и оптимизмом (или намеком на него)? Не воплощено ли в замечательном тютчевском тексте некое иное, третье мироотношение?
Обратимся еще раз к первоначальному варианту, цитированному выше. «Обычно, – пишет К. В. Пигарёв, – с первой же строки Тютчеву была ясна та форма, какую должно принять стихотворение: его метр, его строфика. Можно указать только один случай (курсив мой. – И. С.), когда написанное, по-видимому более чем наполовину, стихотворение было брошено поэтом и „переписано“ другим размером и с измененной строфикой. Это – знаменитые стихи „От жизни той, что бушевала здесь…“»[508]. Единственный случай! В чем же причина смены размера? Четырехстопный ямб, которым была написана первоначальная редакция – самый распространенный у Тютчева размер. Им написано 57 % тютчевских текстов[509]. Но и ямб пятистопный окончательного варианта у Тютчева тоже не редкость. В репертуаре тютчевских размеров он занимает второе место (13 % текстов), правда резко отставая от четырехстопного ямба. Так что сам по себе факт смены одного ямба другим, вероятно, семантически нейтрален. Более существенно, что пятистопный ямб стиховеды относят к числу длинных стихов, представляющих отклонение от средней нормы четырехстопного ямба[510]. И действительно, в окончательном варианте стихотворение приобрело широкое, ровное дыхание в отличие от убыстренного движения первоначального текста. Самое же важное, вероятно, заключается в том, что пятистопный ямб имел для поэта определенный «семантический ореол». Уже самим выбором (сменой!) размера Тютчев (может быть, неосознанно) устанавливал связь и с написанным в 1870 году «Брат, столько лет сопутствующий мне…», и с белым пятистопным ямбом пушкинского «…Вновь я посетил…»[511]. Кроме того, как отмечал Б. В. Томашевский, пятистопный ямб долгое время считался «трагическим стихом», ибо получил широкое распространение в стихотворной трагедии начала XIX века[512]. Тютчевская тема потребовала именно этого «трагического», «рефлексивного» размера. Внутри же намеченной связи и обнаруживается (тоже, вероятно, неосознанная) полемика с Пушкиным, мнение Тютчева в «великом споре» с первым русским поэтом.
Разрешение коллизии человека, его истории и природы Пушкин видел в бесконечной череде поколений, которые как раз воссоединяются через природу: деревья, которые поэт видит молодыми, увидят и его внуки. Тютчев тоже однажды наметил сходный выход:
Когда дряхлеющие силы Нам начинают изменять И мы должны, как старожилы, Пришельцам новым место дать, — Спаси тогда нас, добрый гений, От малодушных укоризн, От клеветы, от озлоблений На изменяющую жизнь… (с. 209)Однако он сделал акцент не на будущем («Здравствуй, племя // Младое, незнакомое!»), а на уходящем, отчего стихи приобрели более драматический, чем у Пушкина, характер. Но в мире данного стихотворения такой выход был невозможен. Перед лицом «всепоглощающей бездны» любое «поочередно» (бесконечная череда поколений) неизбежно превращается в «равно». Остается одно: трезвое осознание этого закона мироздания и – продолжение «бесполезного подвига».
Мирообраз тютчевской лирики не подвергается здесь «нигилистическому отрицанию». Он переосмысляется, преодолевается во имя более глубокого знания о мире. Не об оптимизме или пессимизме надо, вероятно, говорить в применении к этому стихотворению Тютчева, а о беспощадном трагизме поэтической мысли, преодолевающей как романтические, пантеистические иллюзии, так и нигилистическое отрицание. «Мужайся, сердце, до конца!» (с. 84), – сказал когда-то поэт. Сдержанное мужество человека, бесстрашие его мысли перед угрозой и реальностью не только личного, но и исторического небытия воплотились в самой структуре замечательного стихотворения – эпилога тютчевской лирики.
Художественный мир Фета: мгновение и вечность
Поэт без истории: мир как красота
Фет писал стихи больше пятидесяти лет. Он был студентом, военным, помещиком, мировым судьей, прижимистым хозяином, публицистом «Русского вестника», собеседником Толстого, Тургенева, Вл. Соловьева – менялся, как всякий человек. Но люди, знавшие его, отмечали и иное, прямо противоположное.
«Ты человек во сто раз более цельный, чем я. Ни про кого нельзя сказать, что можно сказать про тебя: сразу ты был отлит в известную форму, никто тебя не чеканил и никакие веяния времени не были в силах покачнуть тебя! Если ты пессимист, то вовсе не по милости Шопенгауэра; ты в студенческие годы был почти таким же» (Я. П. Полонский)[513].
«В течение более чем полувековой литературной деятельности Фет сохранил все тот же неизменный, своеобразный отпечаток, который сразу выделяет его из плеяды современных ему поэтов. Несмотря на все перемены во внешней обстановке, его внутренний мир остается все тем же»[514].
И сам поэт говорил в конце жизни: «Я с первых лет ясного самосознания нисколько не менялся, и позднейшие размышления и чтения только укрепили меня в первоначальных чувствах, перешедших из бессознательности к сознанию»[515].
Это противоречие конструктивно, принципиально для понимания фетовского творчества.
В тридцатые годы была написана статья М. Цветаевой «Поэты с историей и поэты без истории», в которой была предложена проницательная – изнутри! – типология художников: «Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов с историей и поэтов без истории. Первых графически можно дать в виде стрелы, пущенной в бесконечность, вторых в виде круга <…>. О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать – они все уже знают отродясь <…>. Они пришли в мир не узнавать, а сказать. Сказать то, что уже знают, все, что знают (если это много), единственное, что знают (если это одно)»[516].
Позднее и независимо от Цветаевой (ее статья лишь в семидесятые годы стала известна русскому читателю) к сходным идеям пришли историки литературы, уже непосредственно связывая их с творчеством Фета.
«Поэзию Фета, например, отличает чрезвычайное единство лирической тональности, притом единство в своих истоках романтическое. И все же для понимания лирического субъекта поэзии Фета термин лирический герой является просто липшим; он ничего не прибавляет и не объясняет. И это потому, что в поэзии Фета личность существует как призма авторского сознания, в которой преломляются темы любви, природы, но не существует в качестве самостоятельной темы»[517].
«Понятие писательского пути предполагает возможным по крайней мере два основных истолкования. В одном случае можно говорить о пути писателя прежде всего как о его позиции, в другом, включающем и первый случай, – как о его развитии <…>. Писатель, как и всякий человек вообще, в какой-то мере эволюционирует. Но в первом случае эта эволюция не является характеризующим, демонстративным признаком писателя и, конечно уж, не составляет особой темы в его творчестве. Главное здесь – не столько развитие, изменение, а лицо, угол преломления действительности, поэтический мир, система ценностей. Таковы Кольцов, Тютчев, Фет. У этих поэтов линия авторской эволюции не выдвигается вперед, а тема развития лирического героя звучит приглушенно или почти не звучит, поскольку – у Тютчева и Фета – и сам образ лирического героя задвинут в подтекст…»[518]
«Фет постоянно говорит в лирике о своем отношении к миру, о своей любви, о своих страданиях, о своем восприятии природы; он широко пользуется личным местоимением первого лица единственною числа: с „я“ начинается свыше сорока его стихотворений. Однако это „я“ отнюдь не лирический герой Фета: у него нет ни внешней, биографической, ни внутренней определенности, позволяющей говорить о нем как об известной личности. Лирическое „я“ поэта – это взгляд на мир, по существу отвлеченный от конкретной личности. Поэтому, воспринимая поэзию Фета, мы обращаем внимание не на человека, в ней изображенного, а на особый поэтический мир»[519].
Итак, Фет – поэт без истории, его художественная система – это поэтический мир без лирического героя, в котором эволюция не составляет особой темы и подробностям эмпирической биографии закрыт прямой путь в стихи.
Всю жизнь Фет писал о «внутреннем человеке» (Полонский), всячески отделяя его от трудов и дней Шеншина. Толстому могло нравиться, что на том же листке, где переписано замечательное стихотворение «Среди звезд», «излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек»; он считал это «побочным, но верным признаком поэта»[520]. Но керосину, работнику Семену, спорам с Тургеневым, тысячам других прозаических вещей в творчестве места не было.
В общеэстетическом плане об этом сказано в программной статье «О стихотворениях Тютчева»: «Пусть предметом песни будут личные впечатления: ненависть, грусть, любовь и пр., но чем дальше поэт отодвинет их от себя как объект, чем с большей зоркостью провидит он оттенки собственного чувства, тем чище выступит его идеал»[521].
О собственных стихах говорится в предисловии к «Вечерним огням»: «Конечно, никто не предположит, чтобы в отличие от всех людей мы одни не чувствовали, с одной стороны, неизбежной тягости будничной жизни, а с другой – тех периодических веяний нелепостей, которые действительно способны исполнить всякого практического деятеля гражданской скорбью. Но эта скорбь никак не могла вдохновить нас. Напротив, эти-то жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии»[522].
Мир Фета – это мир со строго охраняемыми границами. А воздухом его, субстанцией, «идеальным солнцем» (Полонский) оказывается красота.
Фет не устает напоминать, что именно воспроизведение мира как красоты является главной задачей поэта. В статье «О стихотворениях Тютчева» утверждается: «Художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания и численность. Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существования»[523].
И в конце жизни, в воспоминаниях, Фет повторяет столь же уверенно и твердо: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты»[524].
Красота в фетовском понимании универсальна и всеобъемлюща. Может быть, точнее было бы определить ее греческим термином «калокагатия» (прекрасное и доброе). «В античной калокагатии, – замечает А. Ф. Лосев, – совершенно нет ничего отдельно „прекрасного“ и отдельно „доброго“. Это – один человеческий идеал, нерасчленимый ни на „внутреннее“ или „внешнее“, ни на „душу“ или „тело“, ни на „прекрасное“ и „доброе“»[525].
Кажутся сомнительными распространенные идеи о романтическом в своей основе характере лирики Фета. Будучи таковой по психологическим предпосылкам (отталкивание от прозы жизни), она противоположна романтизму по результату, по осуществленному идеалу. У Фета практически отсутствуют характерные для романтизма мотивы отчуждения, ухода, бегства, противопоставления «естественной жизни искусственному бытию цивилизованных городов» и пр.[526].
Фетовская красота (в отличие, скажем, от Жуковского и, впоследствии, от Блока) полностью земная, посюсторонняя. Одну из оппозиций обычного романтического конфликта он попросту оставляет за границей своего мира. А то, что в него входит, сразу приобретает эстетически обработанный характер, как, например, немногочисленные приметы цивилизации: «Полны смущенья и отваги, / С тобою, кроткий серафим, / Мы через дебри и овраги / На змее огненном летим» («На железной дороге»); «Злой дельфин, ты просишь ходу, / Ноздри пышут, пар валит, / Сердце мощное кипит, / Лапы с шумом роют воду» («Пароход»; в последней строфе он превращается еще и в «коня морского», за которым вереницей пляшут нереиды).
Художественный мир Фета однороден. И самым существенным в нем является категория соположения, сосуществования. Действительно, фетовские стихи даны нам как бы «сразу все», синхронно, вне динамики развития их автора и конкретных условий их написания. Граница между ранним сборником «Лирический пантеон» и последующими стихами не так принципиальна, как это обычно представляется. Во всяком случае, она менее заметна, чем разница между поздними стихами Фета и писавшимися «на случай» мадригалами Шеншина, которые, за редкими исключениями, когда посвящение, конкретная привязка текста оказываются чисто формальными, строятся совсем по другим законам, оказываются за пределами фетовского мира.
Предельно отчетливо такая однородность проявляется в композиции фетовских книг. Уже в ранних сборниках и первых публикациях появились тематические и жанровые разделы. Фет вспоминал: «Все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозваниями производились трудами Григорьева»[527]. Но и итоговый план осуществленного лишь после смерти собрания стихотворений тоже сохранил эту структуру из 15 тематических (большей частью) и жанровых разделов. Дело здесь не только в «природной вражде с хронологией»[528] (Фет редко датировал отдельные стихи). Такое построение, при котором рядом мирно уживались тексты, разделенные по времени написания годами или даже десятилетиями (у поэта с историей такое вряд ли возможно, неизбежно вызовет реакцию отторжения), решало две важные задачи. Композиция книги становилась «машиной по уничтожению времени» («Времеборец» – называется одна из лучших статей о поэте, принадлежащая Н. Недоброво) и одновременно задавала структуру фетовского мира, обозначала его опорные точки и направляющие линии.
Усадьба как идиллический мир: мгновение и вечность
Перечень его основных мотивов, исходный инвентарь, опираясь на фетовские стихи, великолепно представил Вл. Соловьев в юбилейном приветствии поэту: «Дорогой и многоуважаемый Афанасий Афанасьевич! Приветствуют Вас звезд золотые ресницы и месяц, плывущий по лазурной пустыне, и плачущие степные травы, и розы, весенние и осенние; приветствует Вас густолистый развесистый лес, и блеском вечерним овеянные горы, и милое окно под снежным каштаном. Приветствуют Вас голубые и черные ангелы, глядящие из-под шелковых ресниц, и грот Сивиллы с своею черною дверью. Приветствует Вас лев Св. Марка и жар-птица, сидящая на суку, извилистом и чудном. Приветствуют Вас все крылатые звуки и лучезарные образы между небом и землей. Кланяется Вам также и меньшая братия: слепой жук, и вечерние мошки, кричащий коростель, и молчаливая жаба, вышедшая на дорогу. А наконец, приветствую Вас и я, в виде того серого камня, который Вы помянули добрым словом. Плачет серый камень, в пруд роняя слезы»[529].
Что же такое фетовский мир? Это природа, увиденная вблизи, крупным планом, в подробностях, но в то же время чуть отстраненно, вне практической целесообразности, сквозь призму красоты. Это – мир, увиденный из усадебного окна, и усадьба как центр мироздания.
«Художественный мир усадьбы имеет свое пространство и время, свою систему ценностей, свой „этикет“ и нормы поведения. <…> Усадьба образует замкнутую модель мира, отношения которого с окружающим не просты, а часто и конфликтны… <…> В усадьбе словно синтезировалась вся история, вся география, вся природа, вся культура… В усадьбе был, пользуясь словами современника, „Эдема сколок сокращенный“. Она являла собой некое обетованное место счастья, покоя и тишины»[530], – замечает исследователь русской усадебной культуры.
Понятию «усадебная лирика» пора придать не упрощенно-социологический и не тематический, а культурологический смысл, о чем уже внятно сказал А. Тархов: «Что такое русская дворянская усадьба с точки зрения духовно-эстетической? Это – „дом“ и „сад“, устроенные на лоне природы: когда „человеческое“ едино с „природным“ в глубочайшей органичности роста, цветения и обновления, а „природное“ не дичится облагораживающего культурного возделывания человеком; когда поэзия родной природы развивает душу рука об руку с красотой изящных искусств, а под крышей усадебного дома не иссякает особая лирика домашнего быта, живущего в смене деятельности труда и праздничного веселья, радостной любви и чистого созерцания»[531].
Усадьба для Фета – не просто предмет изображения, а, как сказал бы М. М. Бахтин, форма художественной мысли, формообразующая идеология. Даже «просто» стихи о природе, где нет эмпирических деталей усадебного быта («Это утро, радость эта…»), демонстрируют ту же самую точку зрения: такую картину нельзя увидеть из многоэтажного петербургского дома или крестьянской избы.
А. Тархов отмечает, что усадьба сыграла определенную роль в «становлении мировоззрения, формировании эстетических представлений и развитии художественного вкуса» Державина и Карамзина, Жуковского и Пушкина, Толстого и Тургенева, Блока и Бунина. Роль Фета в этом ряду (речь о лирике) трудно переоценить. Воссоздание мира дворянской усадьбы как «идеального мира природы, жизни и искусства» (В. Турчин) становится доминантой его художественной системы. Державин и Жуковский, Пушкин и Некрасов, как и впоследствии Блок и Бунин, решали иные задачи. Для них картина усадебной жизни входила в более широкие контексты. Фет же был длиннобородым Адамом («И я, как первый житель рая…» – обмолвился он в одном из своих лучших стихотворений), который неутомимо называл, давал имена, различал все новые оттенки – создавал практически самую объемную модель усадебного национального ландшафта. Основные разделы его книг («Весна», «Лето», «Снега», «Осень», «Вечера и ночи», «Море») были знаками вечного возвращения и круговорота природы, а конкретные стихотворения – признаками столь же вечного обновления. «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…», «Опять осенний блеск денницы…», «Опять весна! Опять дрожат листы…» – характерные начала фетовских стихотворений.
Если усадьба – предметная основа фетовского мира, то идиллия — его архитектоническая форма, основной эмоциональный тон. В лирике Фета органично воплощены все отмеченные М. М. Бахтиным свойства идиллического хронотопа: единство места; строгая ограниченность только основными немногочисленными реалиями жизни, придание любой бытовой подробности универсального, бытийного статуса; сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни[532]. В этой связи далеко не случаен постоянный интерес Фета к античной поэзии, как и то, что первый успех ему принесли антологические стихотворения. Соответствующий раздел остался и в итоговой книге, хотя последний текст в нем помечен 1859 годом. Самое же существенное в том, что граница между этим разделом с традиционной антологической тематикой («Вакханка», «Диана», «Венера Милосская», «Нимфа и молодой сатир» и т. д.) и другими главами фетовской книги бытия проницаема в обе стороны, то есть условна. Идиллическое настроение является всеобъемлющим, не нуждающимся при своем воплощении в специфической образности.
Солнце низко. Легкой мглою Вечер долы напояет. Вход в пещеру раззолочен. С наклоненной головою Старый Ментор засыпает. Сын Улисса озабочен. («Телемак у Калипсы») Клубятся тучи, млея в блеске алом, Хотят в росе понежиться поля, В последний раз, за третьим перевалом, Пропал ямщик, звеня и не пыля. («Степь вечером»)Мифологический Телемак и прозаический ямщик помещены в одну и ту же предметную и эмоциональную среду: солнечный закат, туман, роса, море и похожая на море степь.
Пожалуй, Фет связан с античностью и в более глубоком смысле. А. Ф. Лосев считал основой античной культуры «чувственный космос, чувственно-материальный космологизм»[533]. С этой доминирующей чертой соотносятся идея вечного возвращения, аисторизм, прекрасная телесность античной культуры. Все эти свойства и принципы легко обнаруживаются в фетовском мире. Поэтому тот же А. Ф. Лосев называет «Венеру Милосскую» одной из «поэтических формул» классического периода античной эстетики[534].
Действительно, при всей его конкретности («Стихи Фета изображают природу, окружающую в средней полосе России пахаря и землевладельца»[535]) фетовский хронотоп не акцентирует, подобно кольцовскому или даже пушкинскому, какие-то национальные черты и приметы. Он имеет вневременную природу, тяготеет к вечности. Фетовская усадьба открыта всем стихиям: где-то рядом блещет море; горит в лесу костер, в свете которого, «точно пьяных гигантов столпившийся хор, раскрасневшись, шатается ельник»; прямо над головой начинается беспредельный космос.
На стоге сена ночью южной Лицом ко тверди я лежал, И хор светил, живой и дружный, Кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, Безвестно уносилась прочь, И я, как первый житель рая, Один в лицо увидел ночь. Я ль несся к бездне полуночной, Иль сонмы звезд ко мне неслись? Казалось, будто в длани мощной Над этой бездной я повис. И с замираньем и смятеньем Я взором мерил глубину, В которой с каждым я мгновеньем Все невозвратнее тону. («На стоге сена ночью южной…»)Стог сена и живая бездна Вселенной, человеческое «я» и сонмы звезд близки и соизмеримы в этом программном фетовском шедевре.
Пожалуй, это редкий случай в лирике нового времени: отношения человека и мира имеют у Фета бесконфликтный характер. Гармония, радость бытия – не мгновения («Все во мне, и я во всем» Тютчева), а устойчивое состояние фетовского мира. Даже трагедия, смерть, растворяясь в музыке сфер, приобретают успокоительно-примиряющий характер. В стихотворении «Был чудный майский день в Москве…» красота природы, состояние влюбленности лирического субъекта, вечная музыка претворяют страдание в тихую, грустную печаль, преодолевают его:
Весенний блеск, весенний шум, Молитвы стройной звуки — Всё тихим веяло крылом Над грустию разлуки. За гробом шла, шатаясь, мать. Надгробное рыданье! — Но мне казалось, что легко И самое страданье.Чудная картина: статика и динамика
Фетовские «времеборчество», аисторизм нельзя, однако, абсолютизировать. То, что было для античности безальтернативной мировоззренческой позицией, становится, скорее, принципом художественного моделирования и корректируется иными установками.
В соответствии с установленным Лессингом законом временного развертывания пространственной картины, Фет никогда не прибегает к чистой описательности. Остановленное мгновение всегда полно внутренней динамики, пейзаж необычайно подвижен.
«Фетовские описания природы и чувств… очень бедны движением. Здесь картины до того застыли, что, изображая их, можно было реже, чем это обыкновенно делается в человеческой речи, прибегать к глаголу – этому грамматическому выразителю времени»[536], – доводил до предела свой взгляд на Фета-времеборца Н. Недоброво. С этим трудно согласиться.
Всмотримся в самое известное из «безглагольных» стихотворений, которое и некоторым современникам Фета казалось беспорядочным нагромождением предметных деталей.
Шепот, робкое дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И заря, заря! («Шепот, робкое дыханье…»)На самом деле эти двенадцать стихов без единого глагола внутренне упорядочены и полны движения. В стихотворении две повествовательные перспективы, два сюжета: природный и человеческий. Каждая строфа при этом строится на смене кадров в обоих сюжетах: сначала вечер, пенье соловья, потом – ночь, потом – рассвет, утренняя заря; сначала шепот, потом – ночные разговоры, наконец – утреннее расставание и прощальные поцелуи. Не о статичности, а о стремительном, калейдоскопическом движении времени и развитии чувства можно говорить в данном случае[537].
Еще одно стихотворение шестидесятых годов вызывало сходные упреки:
Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне, Травы степные унизаны влагой вечерней, Речи отрывистей, сердце опять суеверней, Длинные тени вдали потонули в ложбине. В этой ночи, как в желаньях, всё беспредельно, Крылья растут у каких-то воздушных стремлений, Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно, Свет унося, покидая неверные тени. Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине? Как не забыть, хоть на время, язвительных терний? Травы степные сверкают росою вечерней, Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне. («Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…»)Д. Минаев, постоянный фетовский преследователь, предлагал читать подобные тексты снизу вверх: от этого, мол, ничего не изменится, что ярко доказывает бессмысленность поэзии г. Фета. Современные стиховеды мотивируют подобную операцию статическим характером композиции и импрессионистичностью деталей.
Но дело в том, что прочитанное наоборот (а такая возможность существует из-за относительной самостоятельности, автономности ритмико-синтаксических единиц), стихотворение как раз и превращается в импрессионистический хаос, его авторский смысл разрушается.
Первая строфа задает привычную для Фета двуплановость изображения: картина прекрасного вечера, пустыня лазурного неба, покрытая росой степь – и томление лирического субъекта (как обычно, его состояние не конкретизируется и не мотивируется, как это бывает у лирического героя). Во второй строфе происходит психологический сдвиг – лирический субъект хочет уподобиться этой прекрасной ночи, раствориться в ней. В третьей строфе (в лирике это возможно) желание мгновенно осуществляется, полет души превращается в реальный полет[538]. Тот же самый пейзаж из первой строфы за счет двух метафорических сдвигов дается уже в ином ракурсе, с иной точки зрения: при быстром движении капли росы на траве уже сверкают, а медленно плывущий месяц бежит. Композиционное кольцо стихотворения тонко подчеркивает временное и психологическое развитие. Таким образом, и здесь перед нами не статическое, а динамическое развертывание, необратимое движение предметных деталей и художественного смысла от начала к концу.
«Самый частый эпитет, который прилагает Фет к явлениям природы, – „трепещущий“ и „дрожащий“»[539]. «Трепет» действительно одно из ключевых состояний фетовского мира, в равной степени относящееся к жизни природы и жизни души. Трепещут – хоровод деревьев, звук колокольчика, сердце, одинокий огонек, ивы, совесть, руки, звезды счастья.
Покуда на груди земной Хотя с трудом дышать я буду, Весь трепет жизни молодой Мне будет внятен отовсюду. («Еще люблю, еще томлюсь…»)Трепет – это движение без движения, в конечном счете – метафора круговорота, вечного возвращения: весна, пенье соловья, пух на березе все те же и каждый раз новые. Фетовское чисто формальное разнообразие в рамках классического стиха («В русской литературе XIX в. нет другого поэта с таким стремлением к ритмической индивидуализации своих произведений, – прежде всего с таким разнообразием строфических форм»[540]) – манифестация внутренней динамики его идиллического хронотопа в жестко обозначенных границах.
Фет не только находился в сложных отношениях с Шеншиным. Его эстетические высказывания и художественная практика тоже далеко не адекватно отражают друг друга.
В теоретических высказываниях и обнаженно-программных стихотворных текстах Фет разделяет романтическое представление о художнике, одержимом вдохновением, далеком от практической жизни, служащем богу красоты и проникнутом духом музыки.
В ранней статье «О стихотворениях Тютчева» Фет эпатировал публику афоризмом: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с неколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик»[541]. В позднем письме Полонскому он заявит: «Кто развернет мои стихи, увидит человека с помутившимися глазами, с безумными словами и пеной на устах, бегущего по камням и терновникам в изорванном одеянии»[542].
Эти безумные слова, «темный бред души», кажется, лучше всего может передать лишь музыка, мелодия: «О, если б без слова / Сказаться душой было можно»; «Что не выскажешь словами, / Звуком на душу навей…»; «Больного безумца вдвойне / Выдают не реченья, а трепет…».
Потому так важна для Фета была похвала Чайковского, сказавшего, что «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область», что он «не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом»[543].
«Чайковский тысячу раз прав, – комментировал Фет, – так как меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих»[544].
Однако преодолению слова и тяготению к музыке в мире Фета далеко до последующих художественных экспериментов. В цитированной статье о Тютчеве рядом с высказыванием о броске с седьмого этажа не должны остаться незамеченными слова о «величайшей осторожности, тончайшем чувстве меры», необходимых поэту. И в творческом процессе, и в его результатах Фет постоянно учитывает не только звук, но и вес слова, не только неопределенность, но – точность. Неопределенные, смутные состояния души он стремится выразить графически-отчетливо.
В «Моих воспоминаниях» с юмором набросана сцена коллективной разгадки одного фетовского текста: «Весьма забавно передавал Тургенев в лицах недоумения и споры, возникавшие в кругу моих друзей по поводу объяснения того или другого стихотворения. Всего забавнее выходило толкование стихотворения:
О, не зови! Страстей твоих так звонок Родной язык…кончающегося стихами:
И не зови – но песню наудачу Любви запой; На первый звук я как дитя заплачу — И за тобой!Каждый, прислушиваясь к целому стихотворению, чувствовал заключающуюся в нем поэтическую правду, и она нравилась ему, как гастроному вкусное блюдо, составных частей которого он определить не умеет.
– Ну позвольте! Не перебивайте меня, – говорит кто-либо из объясняющих. – Дело очень просто: не зови меня, мне не следует идти за тобою, я уже испытал, что этот путь гибелен для меня, а потому оставь меня в покое и не зови.
– Прекрасно! – возражают другие, – но почему же вы не объясняете до конца? Как же связать – „о, не зови…“ с концом:
…я как дитя заплачу — И за тобой!– Ясно, что эта решимость следовать за нею в противоречии со всем стихотворением.
– Да, точно! – в смущении говорит объяснитель, и всеобщий хохот заглушает слова его.
– Позвольте, господа! – восклицает гр. Л. Толстой. – Это так просто!
Но и на этот раз толкование приходит в тупик, покрываемое всеобщим хохотом. Как это ни невероятно, среди десятка толкователей, исключительно обладавших высшим эстетическим вкусом, не нашлось ни одного, способного самобытно разъяснить смысл стихотворения; и каждый, раскрыв издание 1856 года, может убедиться, что знатоки, не справившись со стихотворением, прибегли к ампутации и отрезали у него конец».
Фет берется за дело сам, и необъяснимое, иррациональное вдруг становится простым и ясным: «А кажется, легко было понять, что человек влюбленный говорит не о своих намерениях следовать или не следовать за очаровательницей, а только о ее власти над ним. «О, не зови – это излишне. Я без того, заслышав песню твою, хотя бы запетую без мысли обо мне, со слезами последую за тобой»[545].
И в других случаях, предоставляя друзьям и литературным советчикам (Тургеневу, Страхову, Полонскому, Соловьеву) право исправлять собственные тексты, Фет всегда оказывался неуступчив, когда речь шла о сути замысла, представлявшегося ему рельефно и точно. Практически всегда он способен не пропеть, а объяснить, что он хочет сказать. «В большинстве случаев неясность – обвинительный приговор поэта».
Не «музыка прежде всего», а музыка смысла оформляет фетовскую лирику[546].
Лирическое «я»: меняющееся и вечное
Каким же образом вписывается в фетовскую картину мира лирический субъект? Это человек вообще, первый человек, лишенный конкретных биографических и даже бытовых примет. Он восхищается красотой, наслаждается природой, любит и вспоминает. Образ его любимой тоже обобщен и фрагментарен. Женщина в фетовском мире – не субъект, а объект любви, некий бесплотный образ, скользящая прекрасная тень. Как в кинематографе, взгляд выхватывает отдельные детали и ситуации, заменяющие последовательное описание. «В моей руке – какое чудо! – / Твоя рука…»; «Я знаю, кто в калитку / Теперь подходит к пруду»; «Ах, как пахнуло весной!.. / Это, наверное, ты!».
Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый Детски задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый Милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый Влево бегущий пробор. («Только в мире и есть, что тенистый…»)И уже становится безразлично, когда, где и с кем это было. В усадьбе, в саду, всегда…
В лирике Фета поэтому трудно (хотя это обычно делается) выделить стихи, посвященные, скажем, Марии Лазич (как выделяют у Пушкина стихи, посвященные Керн или Олениной, «денисьевский цикл» Тютчева или «панаевский» Некрасова). Конкретные биографические и психологические детали, попадая в художественный мир, подчиняются его логике, приобретая динамически вневременной характер.
В год своего семидесятилетия Фет пишет стихотворение «На качелях»:
И опять в полусвете ночном Средь веревок, натянутых туго, На доске этой шаткой вдвоем Мы стоим и бросаем друг друга.И в ответ на предостережения желчевика и вечного зубоскала В. Буренина («Представьте себе семидесятилетнего старца и его „дорогую“, „бросающих друг друга“ на шаткой доске… Как не обеспокоиться за то, что их игра может действительно оказаться роковой и окончиться неблагополучно для разыгравшихся старичков!») пожалуется Полонскому: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марией Петровной качаюсь»[547].
Биографическое истолкование лирического субъекта у поэта без истории только закрывает путь к смыслу произведения.
Но сдвиги в мире Фета на пути от 1840–1850-х к 1870–1890-м годам все-таки происходят. Описать их можно, пользуясь фетовскими же размышлениями из статьи «О стихотворениях Тютчева», в которой предлагается четкая, рациональная концепция[548] лирического образа.
Избранный поэтом «предмет» рассматривается прежде всего со стороны его красоты и воплощается в образ, «передающий внешнюю сторону явления». Одновременно в образе находят выражение поэтические мысль и чувство. Причем Фет специально подчеркивает отличие поэтической мысли от философской: «Чем резче, точнее философская мысль, чем вернее обозначена ее сфера, чем ближе подходит она к незыблемой аксиоме, тем выше ее достоинство. В мире поэзии наоборот. Чем общей поэтическая мысль, при всей своей яркости и силе, чем шире, тоньше и неуловимей расходится круг ее, тем она поэтичней»[549].
Но между этими компонентами поэтического целого могут устанавливаться разные отношения. Поэтическая мысль может непосредственно вытекать из образа, формулироваться, а может отодвигаться в «архитектоническую перспективу», «тонко и едва заметно светить в ее бесконечной глубине». «У одного мысль выдвигается на первый план, у другого непосредственно за образом носится чувство и за чувством уже светится мысль…»[550] Причем какой-то из этих элементов обязательно оказывается доминирующим: «Искусство ревниво; оно в одном и том же произведении не допускает двух равновесных центров. Хотя мысль и чувство постоянно сливаются в художественном произведении, но властвовать раздельно и единовременно всей пьесой они не могут»[551].
Ранний Фет обычно выводит мысль за пределы произведения или удаляет ее далеко в архитектоническую перспективу. В его лирике безусловно доминирует чувство. Позднее, не отказываясь от такого композиционного построения, Фет все чаще идет тютчевским путем. «Второй год я живу в крайне для меня интересном философском мире, и без него едва ли можно понять источник моих последних стихов»[552], – написано Толстому в пору увлечения Шопенгауэром.
Раздел «Элегии и думы» пополняется думами главным образом в семидесятые-восьмидесятые годы.
Обычными для Фета становятся философско-обобщающие заглавия: «Alter ego», «Смерть», «Ничтожество», «Добро и зло», «Никогда». Некоторые фетовские стихотворения кажутся «почти „стилизованными“ под Тютчева» (Б. Я. Бухштаб)[553], воспроизводя его интонации, стилистику, любимый прием развернутого психологического сравнения:
Жизнь пронеслась без явного следа. Душа рвалась – кто скажет мне куда? С какой заране избранною целью? Но все мечты, всё буйство первых дней С их радостью – всё тише, всё ясней К последнему подходят новоселью. Так, заверша беспутный свой побег, С нагих полей летит колючий снег, Гонимый ранней, буйною метелью, И, на лесной остановясь глуши, Сбирается в серебряной тиши Глубокой и холодною постелью. («Жизнь пронеслась без явного следа…»)Поэтическая мысль все отчетливее выходит у Фета на первый план, становясь «равновесным центром» произведения.
Параллельно с этим процессом закономерно происходит другой. Изменяется «основная точка отсчета» (термин Т. И. Сильман) в воспроизведении обычного фетовского усадебно-идиллического хронотопа. Из непосредственного переживания он все чаще становится воспоминанием. Настоящее лишь напоминает, свидетельствует о красоте прошлого, уже недоступной, но тем более желанной.
Вот два сходных пейзажа, разделенные сорока пятью годами.
Еще весна, – как будто неземной Какой-то дух ночным владеет садом. Иду я молча, – медленно и рядом Мой темный профиль движется со мной. Еще аллей не сумрачен приют, Между ветвей небесный свод синеет, А я иду – душистый холод веет В лицо – иду – и соловьи поют. Несбыточное грезится опять, Несбыточное в нашем бедном мире, И грудь вздыхает радостней и шире, И вновь кого-то хочется обнять. Придет пора – и скоро, может быть, — Опять земля взалкает обновиться, Но это сердце перестанет биться И ничего не будет уж любить. («Еще весна, – как будто неземной…»)Мысль о конце возникает в этом стихотворении 1847 года легкой тенью на фоне пробудившейся, ликующей природы.
Ночь лазурная смотрит на скошенный луг. Запах роз под балконом и сена вокруг: Но зато ль, что отрады не жду впереди, — Благодарности нет в истомленной груди. Всё далекий, давнишний мне чудится сад, — Там и звезды крупней, и сильней аромат, И ночных благовоний живая волна Там доходит до сердца, истомы полна. Точно в нежном дыханьи травы и цветов С ароматом знакомым доносится зов, И как будто вот-вот кто-то милый опять О восторге свиданья готов прошептать. («Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…»)Предметные детали, внешняя сторона явлений здесь, в сущности, одинаковы: та же ночь, луна, сад, соловьи… Но планы изображения сменились. В первом стихотворении основная точка отсчета находится в настоящем, тема будущего возникает лишь в последней строфе.
Во втором тексте лирический сюжет практически полностью развертывается в плане прошлого. Этот сад является лишь опорной точкой для скачка в тот далекий, давнишний сад, где все то же и все-таки – иное. Фет словно переговаривается с самим собой.
«Но это сердце перестанет биться…» В мире идиллии тоже умирают. Как и всякого большого поэта, Фета занимает эта тема.
В мрачной балладе «Никогда» (Толстой в связи с ней вспомнил о Жюле Верне, на что Фет обиделся: «Слово Жюль Верн ужасное слово для поэта. Это слово мелькало у меня в голове при самом зарождении стихотворения – и – и не остановило меня»[554]) воображается восстание из домовины на безлюдной, замерзшей земле. Первый человек, Адам, становится здесь и последним обитателем планеты. Привычный фетовский мир – дом, парк, церковь с ветхой колокольней – предстает здесь как «царство смерти», лишенным красок и звуков, зимних птиц и мошек на снегу. И потому герой возвращает билет:
Куда идти, где некого обнять, Там, где в пространстве затерялось время? Вернись же, смерть, поторопись принять Последней жизни роковое бремя. А ты, застывший труп земли, лети, Неся мой труп по вечному пути!Возвращаясь из будущего («Не забудьте, что это уже эпос, сказка…» – предупреждал Фет Толстого[555]), Фет и в конце жизни оставался «Рейхенбахом», не верующим в грядущее воскресение.
Я в жизни обмирал и чувство это знаю, Где мукам всем конец и сладок томный хмель; Вот почему я вас без страха ожидаю, Ночь безрассветная и вечная постель! Пусть головы моей рука твоя коснется И ты сотрешь меня из списка бытия, Но пред моим судом, покуда сердце бьется, Мы силы равные, и торжествую я. Еще ты каждый миг моей покорна воле, Ты тень у ног моих, безличный призрак ты; Покуда я дышу – ты мысль моя, не более, Игрушка шаткая тоскующей мечты. («Смерти»)Идя к неизбежному, он может и хочет предъявить на высший суд единственную веру – в искусство, в слово. И к угасшим звездам, и к «деве» из будущего поколения он обращается, в сущности, с одной и той же мольбой.
Мой прах уснет забытый и холодный, А для тебя настанет жизни май; О, хоть на миг душою благородной Тогда стихам, звучавшим мне, внимай! <…> Приветами, встающими из гроба, Сердечных тайн бессмертье ты проверь, Вневременной повеем жизнью оба, И ты и я – мы встретимся – теперь! («Теперь»)Землю и небо, прошлое и будущее замыкает в мгновенный, трепетный контур зыбкая материя стиха. Поэт заменяет Творца, возводя все преходящее в ранг вечности.
Сердце трепещет отрадно и больно, Подняты очи и руки воздеты. Здесь на коленях я снова невольно, Как и бывало, пред вами, поэты. В ваших чертогах мой дух окрылился, Правду проводит он с высей творенья; Этот листок, что иссох и свалился, Золотом вечным горит в песнопеньи. («Поэтам»)Прошло совсем немного времени, и реальная культурная основа фетовского мира рухнула. Вырубили вишневый сад, выветрился из усадеб запах антоновских яблок, сгинули и сами усадьбы, соловьиный сад превратился в «игрушку шаткую тоскующей мечты» где-то на берегу далекого южного моря.
В начале 1926 года загнанный, замордованный жизнью литератор («Эта среда была для меня днем катастроф. Все беды обрушились на меня сразу») возвращается домой с судебного процесса каких-то растратчиков и записывает в дневнике: «Неужели никто им ни разу не сказал, что, напр., читать Фета – это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит – но не мог представить себе, что где-то есть люди, для которых это мертво и ненужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета – это „одно из высших достижений русской лирики“, а что эта лирика – есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает…»[556]
Кажется, если сегодня приехать в Степановку или Воробьевку и поднять к небу глаза, там увидишь уже другие звезды.
Фетовская идиллия стала утопией.
Местом, которого нет.
И только теперь стало ясно, насколько он был прав, когда говорил:
Этот листок, что иссох и свалился. Золотом вечным горит в песнопеньи.Чехов: биография как проблема (Несколько положений)
1. Речь у нас пойдет даже не о биографии, а – если воспользоваться сегодняшним волапюком – о метабиографии, то есть о существующих уже чеховских жизнеописаниях и проблемах, с ними связанных. Причем они, эти проблемы, не только ретроспективны, но и перспективны: они позволяют увидеть трудности, которые ожидают чеховских биографов ХХI века.
Два полюса любого биографического исследования – летопись и роман (или другой беллетристический жанр). В пушкиноведении это будут «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского и «Пушкин» Ю. Тынянова; аналогично в чеховедении «Летопись жизни и творчества А. П. Чехова» Н. И. Гитович (или ее продолжающийся современный вариант) и, скажем, книга В. Рынкевича «Ранние сумерки» (речь идет не об уровне произведения, а о жанре[557]). Между полюсами, посередине, на экваторе располагается то, что называют научно-художественной биографией (далее мы будем говорить просто о биографии).
В чем своеобразие этой экологической ниши? В установке на объективность описания судьбы главного героя и его окружения. Подобная биография должна соответствовать изобретенной когда-то А. Мариенгофом формуле: роман без вранья.
Почему без вранья, в общем, понятно. Биограф, в отличие от романиста, не может, не имеет права делать шагов в сторону от летописи: придумывать несуществующих людей, поступки и события.
Однако, как мы хорошо знаем от того же Юрия Тынянова, а также из собственного опыта, жизнь не может быть документирована вся сплошь, документ где-то оканчивается, документы (предположим, мемуары) могут противоречить друг другу. Там, где составитель летописи, как древний летописец, молчит, обнаруживая пробел среди бумаг, биограф может предположить, домыслить по вероятности и необходимости, предложить собственную версию, то есть оказаться в роли романиста поневоле, угадывающего своего героя.
Психологическая интерпретация, конструирование образа оказываются совершенной неизбежностью, как только мы выходим за пределы летописно-комментаторского кто-с-кем («Ах, вы написали примечания? – сказал мне К. И. Чуковский. – Это значит: кто с кем и кто кого?»[558]).
Проблема биографа, следовательно, не просто в знании фактов, но – в конструктивной идее, которая может их склеить, объединить. В случае с нашим писателем поиск такой идеи приобретает особую остроту, ибо, как уже когда-то замечал автор этих строк (и не только он), «чеховская жизнь (имелась в виду жизнь чеховских героев, специфика чеховского мира. – И. С.) легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы»[559].
2. Внешняя простота, бесфабульность жизни и самого писателя сразу бросается в глаза на фоне его предшественников и – особенно – ближайших потомков. За свои неполные сорок четыре года Чехов:
– не скрывал тайны происхождения;
– не ожидал наследства и не боролся за него;
– не страдал от неразделенной любви (по крайней мере, всю жизнь);
– не волочился за женщинами (по крайней мере, молчал об этом) и, с другой стороны, не превращал своих спутниц в мистических Прекрасных Дам;
– не проигрывался в карты;
– не стрелялся на дуэлях;
– не служил и не воевал;
– не стоял на эшафоте и не был на каторге;
– не боролся с властями и цензурой;
– не говорил истину царям с улыбкой (а также без оной);
– не печатал произведений за границей и в подполье;
– не конфликтовал смертельно с братьями-писателями;
– не сжигал демонстративно свои главные книги (а просто недемонстративно уничтожал рукописи);
– не бежал из дома ночью.
«Какую биографию делают Рыжему!» – говорила А. А. Ахматова про последнего нобелевского лауреата. История – к счастью – не позаботилась об оформлении чеховской биографии. Но ему, как и каждому человеку, не удалось избежать драмы судьбы. Его биографы – угадывая и ошибаясь – ищут, как сказали бы формалисты, доминанту, конструктивный принцип, способ превращения жизни в судьбу.
3. Жанровое поле между летописью и романом засевается в чеховедении больше девяноста лет. За это время в национальном контексте появилась чертова дюжина полноценных книг (включая две переводные и исключая критико-биографические очерки с уклоном в критику, а не биографию).
Перечислим их в порядке публикации на русском языке.
Измайлов А. А. Чехов. 1860–1904. Биографический набросок. М., 1916. 592 с.
Коган П. С. А. П. Чехов. Биографический очерк. М.; Л., 1929. 110 с. (Серия «Жизнь замечательных людей», далее – ЖЗЛ).
Соболев Ю. Чехов. М., 1934. 336 с. (ЖЗЛ).
Дерман А. Б. А. П. Чехов. Критико-биографический очерк. М., 1939. 212 с.
Роскин А. Чехов. Биографическая повесть. М.; Л., 1939. 232 с. (ЖЗЛ).
Ермилов В. В. Чехов. М., 1946. 333 с. (ЖЗЛ).
Бердников Г. П. Чехов. М., 1974. 512 с. (ЖЗЛ).
Малюгин Л. А., Гитович И. Е. Чехов. Повесть-хроника. М., 1983 (отдельные издания первой и второй частей – 1969, 1977). 576 с.
Чудаков А. П. Антон Павлович Чехов. М., 1987. 176 с.
Громов М. П. Чехов. М., 1993. 304 с. (ЖЗЛ).
Труайя А. Чехов. М., 2004 (французское издание – 1984). 608 с.
Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2005 (английское издание – 1997). 864 с.
Кузичева А. П. Чехов. Жизнь «отдельного человека». СПб., 2011. 880 с. (Сокращенное издание: Кузичева А. П. Чехов: Жизнь «отдельного человека». М., 2010. 847 с.; ЖЗЛ).
Чехов, как видим, оказывается самым популярным героем серии «Жизнь замечательных людей» за все эпохи ее существования. Хронологическими полюсами чеховских биографий являются шестисотстраничный «биографический набросок» Измайлова и почти девятисотстраничная «жизнь» Кузичевой. Первый полюс – несомненный и неподвижный, второй – условный и преходящий.
4. Давно замечено: биографы – даже внешне – часто становятся похожи на портретируемого автора. Больше всего подобных (как и прочих) наблюдений накопили пушкинисты. Мемуаристы дружно утверждают: в молодости Тынянов был поразительно похож на изучаемого поэта. Другой, иронический, вариант подобного уподобления сохранился в филологическом фольклоре конца 1940-х годов: «У Мейлаха Пушкин все время оглядывается, чтоб не сказать чего-нибудь лишнего, а у Гуковского так и шастает, так и шастает».
Однако писатель похож на биографа также в той степени, в какой сам биограф существует в историческом времени и похож на него. (Здесь к месту еще один афоризм: «Дети больше похожи не на отцов, а на свое время».)
Меняющиеся облики, конструктивные образы Чехова, созданные в ХХ веке, свидетельствуют об этом достаточно очевидно.
Скажем, в последние годы императорской России, на излете Серебряного века с его безудержным идеализмом и психологическими безднами, Чехов казался наследником шестидесятников, сомневающимся позитивистом, простым, хорошим, нормальным человеком, «сыном своей семьи, своего сословия и своего времени». «Идеалистам сороковых годов, пожалуй, не о чем было бы говорить с Чеховым, но Помяловский и Писарев увидели бы его и возрадовались. Вышедший не из головы романиста и не из критической реторты, этот человек не дал до конца прямолинейно выдержанный тип. Мы видели Чехова и в борьбе сомнений, и в жажде „кусочка веры“, и в жалобах на недостаточность характера. Чем-то в высшей степени живым и свободным был он, чем-то органически враждебным всяким теориям. Но старшие собратья преклонились бы пред его спокойным и мудрым умом, великолепно приспособленным для земли, перед его мастерством решения противоречий, отвращением к фразе, „медицинскою“ простотою его взгляда на вещи, ясною прямотою отношений, честным заявлением, что он не верит там, где он не верил. Если бы такие, как он, шли не единицами, а целым поколением, к земле скорее спустилось бы „небо в алмазах“ и стала бы ближе мечта двух благородных безумцев из „Палаты № 6“ и „Черного монаха“[560]. Таковы финальные фразы, резюме измайловского «биографического наброска».
В 1920-е годы А. Б. Дерман во внешнем спокойствии и нормальности усмотрел дисгармонию художника и человека, возмещающего недостаток любви к людям имитацией этого чувства. «Дисгармония в природе Чехова состояла в том, что при уме обширном и поразительно-ясном он наделен был „молчанием сердца“, – слабостью чувства любви. То, что мы называем непосредственностью чувства, было ему незнакомо. И это обстоятельство сыграло и в жизни, и в творчестве Чехова роль определяющего значения. <…> Природа лишила Чехова дара сильного и непосредственного чувства, и он, осознав это, возмещает внутреннюю пустоту тем, что поступает так, как поступал бы человек с горячим сердцем: ласково, участливо, внимательно – совершенно почти не входя в существо тех нужд, с которыми к нему обращаются»[561].
В 1940-е годы чеховская обыкновенность вдруг обернулась иной стороной. Биографу явился не дисгармоничный нытик и меланхолик, а энтузиаст-общественник, горячий патриот, почти член Союза советских писателей и едва ли не член ВКП(б) (кажется, З. С. Паперный пошутил, что Чехов в это время начал по-горьковски окать). «Он жил и работал и для своего времени, и для будущего, для нас. Он верил в нас, в наш разум, в нашу волю, в наше счастье. <…> Простые обыкновенные люди – основа всей нашей жизни. Это они, под руководством Коммунистической партии, строят прекрасные города, возводят дворцы, свершают новые подвиги смелого творчества, неутомимого созидания, отстаивают мир во всем мире против покушений на него врагов человечества, всех врагов счастья и красоты на земле. И в каждой новой победе простых людей участвует своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простого русского человека, Антона Павловича Чехова»[562]. Это тоже заключительные слова, кода книги.
А в девяностые годы с берегов туманного Альбиона был увиден совсем иной образ «…Многие чеховские биографы стремились воссоздать из подручного материала житие святого… <…> Жизнь Чехова была короткой, непростой и далеко не лучезарной. <…> Работа над самой полной чеховской биографией по срокам могла бы перевесить жизнь самого писателя. Я позволил себе сосредоточиться на его взаимоотношениях с семьей и друзьями. В некотором смысле биография Чехова – это история его болезни. Туберкулез определил течение жизни писателя, и он же оборвал ее. Попытки Чехова сначала игнорировать болезнь, а затем побороть ее составляют основу любой из его биографий»[563].
Герой довлатовского «Заповедника» утверждал, что большевики скрывают истинную могилу Пушкина, и показывал заплатившим тридцать копеек невзрачный холмик в лесу. Новейший биограф Чехова, кажется, убежден, что чеховеды (какие?) за маской светского святого много лет скрывали истинный облик писателя. Он «проливает свет на частную и творческую жизнь писателя» и показывает обманутого мужа, больного не только туберкулезом, но и эротоманией. Доказательства – несколько десятков цитат из писем чеховских современников (прочитанных впервые) и результаты заочного (но – «точного») диагноза доктора с о. Корфу и некой медсестры. Правда, предваряя свою версию судьбы, биограф все-таки несколько успокаивает возможного читателя: «В результате фигура писателя становится еще более неоднозначной. И хотя теперь его никак не назовешь святым или хозяином своей судьбы, ни гениальности, ни очарования в нем не убавилось»[564]. Несмотря на это предупреждение, так и остается непонятным, как этот глава сумасшедшего семейства, больной, измученный чахоткой человек и одновременно – неутомимый охотник за женщинами каким-то непонятным образом ухитрился написать собрание собственных сочинений.
Любопытно, однако, что наибольший резонанс среди чеховских биографий имели как раз не наиболее уравновешенные, а наиболее экстремальные жизнеописания В. Ермилова и Д. Рейфилда; видимо, они оказались больше всего похожи на свое время.
Представленным образам Чехова можно подыскать других авторов, но их трудно поменять местами. Однако так же трудно без оговорок прописать эти биографические версии в новом веке. Автор мог бы сказать своим биографам примерно то, что он говорил своему товарищу и издателю по поводу философии Толстого: «Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне надоели. <…> Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: „чего-нибудь кисленького“. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений» (А. С. Суворину, 27 марта 1894)[565].
Возможно, это желание парадоксально реализуется в «Античехове», «Чехове без грима» (или без глянца), на фоне которых прежние биографические экстремисты покажутся людьми весьма уравновешенными (подобные биографические модели уже опробованы на классиках ХIХ и ХХ веков). Но возможны и иные варианты. Главная проблема, кажется, заключается не в принципиально новых сведениях (сомнительно, что расширение корпуса текстов нам их предоставит), а в новых конструктивных идеях.
5. Поскольку в наших положениях уже возникало имя Пушкина, еще раз обратимся к нему. В «школьной» биографии поэта, которая стала одной из лучших работ о нем вообще, Ю. М. Лотман выдвигал на первый план идею как самосозидания, сотворения Пушкиным собственной личности (не случайно другая книга Лотмана называлась «Сотворение Карамзина»). «Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. <…> Пушкин всегда строил свою личную жизнь…»[566]
Когда же его друг и коллега Б. Ф. Егоров не согласился с такой идеей, Лотман предложил дополнительное объяснение: «Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. <…> Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать определяющей логикой его жизни. Все равно важнейшим остается внутренняя трагедия, а не пассивный переход от одного «обстоятельства» к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом (случайно!) и погибает. Но не сифилис, а „Неоконченная симфония“ – трагический ответ души на „обстоятельства“ – становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось в применении к Пушкину – показать внутреннюю логику его пути» (Б. Ф. Егорову, 20–21 октября 1986 г.)[567].
Трудно найти другого русского писателя (включая даже Пушкина!), которому больше, чем Чехову, подходила бы идея самосозидания, сознательного строительства собственной жизни. Если спроецировать замечательное лотмановское суждение на нашу проблему, следует признать, что ответом чеховской души на «обстоятельства» были не туберкулез, а «Вишневый сад» и «Архиерей», и смысл его внутренней трагедии стоит искать не в неверности (или равнодушии) близких, а в чем-то ином.
Когда-то я определил доминанту чеховского художественного мира как «сосредоточенное нравственное усилие»[568]. Кажется, с мира ее можно перенести и на автора. Внутренняя логика чеховского пути представляется судьбой самоломанного человека в стеклянном мире: здесь нужно было двигаться очень осторожно, потому что вокруг живые и очень разные люди, и в то же время – вопреки всем обстоятельствам – выдержать заранее выбранное направление.
Модус торжествующего победителя или напрасной жертвы в чеховской биографии можно заменить модусом долга. Вместо разгадки мнимых загадок – продемонстрировать драматизм обычной судьбы, противостоящей времени.
Опыт чеховской жизни (и смерти) – универсален и уникален, даже если забыть о собрании его сочинений, «вычесть» писателя из человека.
Может быть, лучшим способом чеховского жизнеописания окажется язык документа, «повествование в тоне и духе героя» (жанр, созданный В. В. Вересаевым опять-таки для биографии Пушкина)[569]. Но выбор формы жизнеописания все-таки вторичен. Речь прежде всего должна идти о поиске формулы судьбы.
«Трагедия Пушкина – одна из немногих трагедий девятнадцатого века, выдерживающих резкий воздух двадцатого. И нам, которых не удивишь зрелищем боли человеческой, до сих пор от этого больно»[570], – записала в середине прошлого века Л. Я. Гинзбург. От биографов тоже зависит, выдержит ли серьезная чеховская драма, обыкновенная история, скептическую, расслабленно-ироническую атмосферу века двадцать первого.
Чехов и Толстой в свете двух архетипов (Несколько положений)
1. Личные и творческие связи Чехова и Толстого хорошо изучены. Стоит вспомнить хотя бы тремя изданиями вышедшую книгу В. Я. Лакшина, коллективный сборник-спутник академического собрания сочинений и сравнительно недавнюю антологию, подготовленную А. С. Мелковой[571]. Поэтому задача наших «положений» – не в расширении круга исследуемых материалов (их сводка если не исчерпывающа, то велика), а в попытке взглянуть на них под иным углам зрения. Речь пойдет не о контактных или типологических связях между текстами, а об отношениях между авторами, в которых проявляются некие общие принципы, модели, архетипы[572].
2. Один из вечных культурных архетипов: учитель – ученик.
На русской почве, в русской традиции его можно конкретизировать благодаря одному биографическому эпизоду и одной надписи. В 1820 году В. А. Жуковский дарит юному Пушкину портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“. Марта 26. Великая Пятница». Оставляя в стороне историческую интерпретацию сюжета[573], мы имеем право на уточняющую формулировку: побежденный учитель – победитель-ученик.
Эта модель хорошо объясняет отношения не только Жуковского и Пушкина, но и Державина – Пушкина, Пушкина – Гоголя, Гоголя – Достоевского (заочно) и Гоголя – Островского, Тургенева – Гаршина (отчасти).
3. Каковы структурные составляющие этого архетипа, его элементы, микромотивы?
а) Отношения учитель – ученик строятся в координатах не соперничества, но приязни, взаимного притяжения, согласного выбора.
б) Объединяет учителя и ученика не столько поэтика, сходство эстетических принципов, сколько понимание культурных ролей, связанное с идеей общего дела, наследования и преемственности («Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться»).
в) Взаимный выбор должен быть точен, связан с культурной перспективой: Жуковский избирает Пушкина – тот оправдывает надежды. Если бы Жуковский выбрал Дельвига, а Пушкина благословил старик Шишков, мы бы имели дело с иными архетипами.
г) Эти отношения строятся по принципу не простой, а двойной иерархии, асимметрии, ситуации-перевертыша. В связке победитель-ученик акцент делается на разных частях.
Победителем признает ученика учитель. Но младший ощущает себя как раз не победителем, а именно учеником. При взгляде с разных сторон позиции верха и низа, старшего и младшего, победителя и побежденного меняются.
4. Отношения Толстого и Чехова прекрасно укладываются в этот архетип, подтверждаются множеством биографических фактов.
Толстой постоянно восхищается как Чеховым-человеком, так и Чеховым-прозаиком, выбрав его из всех окружавших его литераторов (включая Горького) и, в сущности, назначив его своим учеником.
Это особое отношение Толстого к Чехову замечали современники и, соглашаясь с ним, формулировали ту же самую идею преемственности.
«Прочтя Ваше письмо, я подумал: слава Богу! Если Толстой умрет, останется человек того же духа – Вы. Великая традиция идеализма в русской литературе не будет прервана. И если для Вас Толстой, как пишете, служит поддержкой, то Вам же придется и сменить старика. И я рад, что это будет Вам по силам» (М. О. Меньшиков – Чехову, 27 февраля 1900 г.; с. 168).
«Если Толстой в литературе подобен Христу, то Вы Петр, а Горький Иоанн… а я хотел бы у Вас быть хоть Фомою» (Б. А. Лазаревский – Чехову, 10 ноября 1901 г.; с. 181).
Иоанн-Горький придал сопоставлению уж совсем родственный характер: «Чехова любит отечески, и в этой любви чувствуется гордость создателя» («Лев Толстой. Заметки», 31 марта 1902; с. 266).
Характерно, что и Чехов правильно понимал смысл этого архетипа, регулярно подчеркивая противоположное: не только собственную подчиненную, ученическую позицию по отношению к Толстому, но и мизерную роль в сравнении с ним всей современной литературы и даже жизни.
«Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски…» (Бунин И. А. О Чехове. Ялта, 12 сентября 1901 г.; с. 254).
«Вот умрет Толстой, все пойдет к черту! – повторял он не раз. – Литература? – И литература» (Бунин И. А. О Чехове. Ялта, 31 марта 1902 г.; с. 264).
До поры до времени не очень заметное нарушение конвенции тоже происходит с двух сторон.
У Толстого – в отношении к чеховской драматургии. Здесь он категорически отказывается считать себя и побежденным, и учителем.
У Чехова – при вторжении Толстого в область науки (медицины) или обсуждении с ним религиозных (и шире – мировоззренческих) вопросов. Младший в таких случаях мягко, но решительно выходит из роли почтительного ученика.
«Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил: „Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских“. Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.
– Чехов – не религиозный человек, – говорил отец»[574].
Однако в целом этот архетип существовал до конца жизни одного из участников. Самую высокую оценку Чехова современники услышали от Толстого в знаменитом, позднее зацитированном до дыр интервью корреспонденту газеты «Русь». Чехов здесь назван художником жизни, создателем совершенно новых для всего мира форм письма, поставлен, со ссылкой на книгу некоего немца, выше всех современных писателей. В конце этого монолога Толстой произносит слова, почти синонимичные формуле победитель-ученик: «Я повторяю, что новые формы письма создал Чехов, и, отбрасывая ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель» (Зенгер А. У Толстого. Ясная Поляна, после 9 июля 1904 г.; с. 287).
5. После смерти Чехова ситуация резко меняется. Суждения о высокой технике, уникальности чеховского письма больше не повторяются. Добродушно-ворчливое отрицательное отношение к чеховской драматургии превращается в отзывы преимущественно раздраженные, тотально-пренебрежительные.
«И теперь уже получил два письма от революционеров. Один цитирует Чехова. „Надо учиться, учиться науке спасения“. Искусственная, насилу придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове (как видят в Горьком, Андрееве в том их великое влияние, придаваемое им значение) таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они – молодежь – учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин» (Маковицкий Д. П. Дневник. 17 августа 1905 г. Ясная Поляна; с. 294).
Чехов здесь уже не выделен, а поставлен в ряд, правда, пока еще не с Семеновым, а с Горьким и Андреевым.
«Долгоруков о 50-летии со дня рождения Чехова, о Чехове.
Л. Н.: Самый пустяшный писатель.
Кто-то: Но его вещи художественные?
Л. Н.: Очень художественные, <но> содержания нет никакого, нет raison d’être <разумного основания>, и даже какая-то неясность, нытье постоянное. Даже то, что мне нравится, «Душечка»… он хотел посмеяться, а вышло…» (Маковицкий Д. П. Дневник. 31 января 1910 г. Ясная Поляна; с. 307).
Из этого суждения вытекает, что автор «Душечки» не только выше всех, даже самого Толстого, по технике, но даже не может справиться с собственными замыслами.
И осенью этого последнего года, накануне ухода, Толстой столь же непримирим к бывшему победителю-ученику: «Лев Николаевич написал довольно резкое письмо гимназистке 6-го класса.
Говорил:
– Это одна из тех, которые ищут ответа на вопрос о смысле жизни у Андреева, Чехова. А у них – каша. И вот если у таких передовых людей – каша, то что же нам-то делать? Обычное рассуждение. Ужасно жаль» (Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Ясная Поляна, 30 сентября 1910 г.; с. 310).
Итог – уже с некоторой дистанции – подводит жена: «…К сожалению, о Чехове мало могу сообщить. Помню, что одно время Л. Н. очень им восхищался, но потом как будто стал холоднее к нему относиться» (С. А. Толстая – В. Ф. Булгакову, Ясная Поляна, 13 августа 1915 г.).
Таким образом, после смерти Чехова Толстой практически разрушил архетип учитель-ученик, не только отказавшись от роли побежденного, но даже отлучив Чехова от себя как ученика. Объяснение этому, кажется, находится при обращении к другому архетипу, на русской культурной почве, как и первый, связанному с Пушкиным, хотя имеющему корни в предшествующей культуре.
6. «Традиционное место церкви как хранителя истины заняла в русской культуре второй половины XVIII в. литература. Именно ей была приписана роль создателя и хранителя истины, обличителя власти, роль общественной совести. При этом, как и в средние века, такая функция связывалась с особым типом поведения писателя. Он мыслился как борец и праведник, призванный искупить авторитет готовностью к жертве. Правдивость своего слова он должен был быть готов гарантировать мученической биографией»[575].
Здесь, в сущности, описывается архетип русского творца — борца, учителя, мученика, – определяющий разные пушкинские тексты от «Пророка» до «Памятника» и реализованный в биографиях, жизненных текстах Гоголя, Достоевского и, конечно, Толстого.
Архетип имеет и другую сторону, четко сформулированную в «Поэте» (1827): «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира; / Душа вкушает хладный сон, / И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он».
Однако подобная ничтожность имеет особый характер. Разъяснение ее, прозаическая расшифровка – в пушкинском письме П. А. Вяземскому (вторая половина ноября 1825 г.) по поводу смерти Байрона. «Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. – Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе»[576].
Вопрос таков: как сочетаются в тексте жизни просто человек и поэт, биографический автор и автор-создатель, автор как знак художественной системы?
Высокое призвание (поэзия) и высокое ничтожество (быт) – таков традиционный ответ, таков архетипический образ Творца, который может быть реализован в исторических вариантах Поэта, писателя, литератора[577].
«Альтернатива: плохая жизнь – хорошие стихи. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни»[578].
7. Поздний Толстой решает вопрос парадоксально. Он вроде бы ликвидирует проблему, отрицая искусство, художество и, следовательно, только что описанный архетип. Однако в его жизни та же оппозиция приобретает еще более острый характер. Высокое (его собственное учение, толстовство) никак не может прийти в соответствие с ничтожным, низким (образ жизни его и его семьи). Это противоречие завершилось (но не разрешилось) уходом.
Чеховский ответ тоже парадоксален, но совсем по-иному. Формально Чехов отказывается от роли хранителя истины, борца, праведника, мученика и пр., выбирая скромную позицию литератора, не хранителя, а соискателя истины.
Но фактически он задает (не вербально, а практически) дополнительные вопросы: «А почему он обязательно должен быть мал и мерзок, пусть даже иначе, чем подлая толпа? Почему на него не распространяются десять заповедей и другие нравственные максимы?»
Уже раннее чеховское письмо брату – едва ли не буквальный ответ пушкинскому Поэту. «И средь детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он». – «Ничтожество свое сознаешь? <…> Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство» (М. П. Чехову, не ранее 5 апреля 1879 г.)[579].
И дальнейший его путь – это жизнь, без извинительных ссылок на писательство, творчество, вдохновение, священные жертвы ради Аполлона.
Десять заповедей существуют и для художника. Искусство (даже талантливое) не оправдывает бездарную жизнь.
«У него была педантическая любовь к порядку – наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность» (выделено мной. – И. С.), – заметил много общавшийся с Чеховым в последние годы Бунин[580].
Однако это свойство в чеховской жизни реализовывалось странно, в форме, которую иногда называют апофатической этикой. (Хотя может ли этика быть апофатической? Наука, вероятно, – да, практическое же поведение – нет, ибо воздержание от поступка – тоже поступок.)
Это было не учение (хотя четкие этические формулировки мы без труда можем обнаружить в письмах и даже в прозе), а конкретно реализуемая жизненная программа, просто жизнь.
Что бы ты ни свершил, нельзя оправдывать себя тем, что ты художник, творец, «избранник божий». Дар – не извиняющее многое привилегия, а тяжелое бремя, которое нужно с достоинством нести.
«Вы пишете, что писатели избранный народ божий. Не стану спорить. Щеглов называет меня Потемкиным в литературе, а потому не мне говорить о тернистом пути, разочарованиях и проч. Не знаю, страдал ли я когда-нибудь больше, чем страдают сапожники, математики, кондуктора; не знаю, кто вещает моими устами, Бог или кто-нибудь другой похуже. Я позволю себе констатировать только одну, испытанную на себе маленькую неприятность… <…> Дело вот в чем. Вы и я любим обыкновенных людей; нас же любят за то, что видят в нас необыкновенных. <…> Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей. Отсюда следует, что если завтра мы в глазах добрых знакомых покажемся обыкновенными смертными, то нас перестанут любить, а будут только сожалеть. А это скверно» (А. С. Суворину, 24 или 25 ноября 1888 г.)[581].
Таким образом, Чехов и Толстой совершенно по-разному решают «пушкинский» вопрос о «священной жертве», связи человека и художника.
Философско-эстетическая система М. М. Бахтина начинается с постановки проблемы «искусства и ответственности», тоже с отсылкой к пушкинским вопросам: «Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности: в творчество человек уходит на время из „житейского волненья“ как в другой мир „вдохновенья, звуков сладких и молитв“. <…> И нечего для оправдания безответственности ссылаться на „вдохновенье“. <…> Правильный не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство, и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности»[582].
Пушкин (как автор «Поэта») разъединяет, разводит области искусства и жизни, отделяет Поэта от человека.
Толстой (в бытовом поведении и философии, но не на практике) отрицает искусство во имя жизни, тем не менее перенося в нее то же самое противоречие.
Чехов словно проводил какой-то необъявленный эксперимент: на собственном примере доказывая, что жизнь художника должна подчиняться тем же законам, что жизнь любого человека. Чехов объединяет искусство и жизнь, подчиняет их критерию ответственности, от чего, конечно, сама проблема никуда не исчезает.
Но расхождение между учителем и учеником временами вело к тому, что они становились двойниками.
8. Всмотревшись в приведенные выше поздние суждения Толстого о Чехове, можно заметить, что они провоцировались сходными поводами. Толстой с удивлением стал замечать, что отведенная им Чехову роль «художника жизни» оказалась слишком узкой. Появились какие-то революционеры и какие-то гимназистки (крайние точки спектра, внутри которого множество «просто людей»), и оказалось, что решение своих вопросов они ищут не в толстовстве, а в еще не определенном чеховстве. И с этим они обращаются к основоположнику толстовства!
Современники, особенно люди чеховского и следующего поколений, увидели в Чехове, его мире и личности, не просто художника, но – учителя жизни. Но эту роль Толстой уступать не хотел. И потому раздражался на автора «Дамы с собачкой», как когда-то – на Шекспира: Чехов учит соблазнять женщин, а не способен понять даже Ольгу Семеновну Племянникову.
9. Вопреки краткости отпущенного ему века, в архетипе учитель-ученик Чехов успел занять и другую позицию. В отношениях с Буниным и Горьким он оказался в роли учителя, после нескольких попыток (Н. Ежов, А. Лазарев-Грузинский) точно угадав вектор литературного процесса, его следующие ступени. И избранные писатели достойно сыграли роли учеников.
Затем с этим архетипом что-то произошло. Бунин и Горький, прожив существенно больше Чехова, так и не стали учителями в пушкинском, толстовском, чеховском смысле.
Бунин, вероятно, был слишком эгоцентричен, сосредоточен на прошлом и не угадывал вектор литературного развития. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, стойкая неприязнь к модернизму, с другой – выбор в качестве учеников Г. Кузнецовой и Л. Зурова.
Горький же подменил поиск настоящего ученика массовой литературной учебой. А это – совсем иное дело.
Для понимания этих процессов необходимо обращение к иным архетипам.
Два скандала: Достоевский и Чехов
Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге.
И. Бабель. Как это делалось в ОдессеЧем глубже человек погружен в ту или иную сферу существования, тем сложнее объективировать ее. Сон легче определяется, чем жизнь, а «чихание» легче, чем «переживание». Разговор о семиотике, семантике, поэтике и культуре скандала должен начинаться с предварительного его определения. У школьного, популярного С. И. Ожегова скандал: «1. Случай, происшествие, позорящее его участников; 2. Происшествие, ссора, нарушающие порядок (руганью, дракой и т. д.)». У вечного В. И. Даля (приводящего, кстати, немецкий, французский, латинский и греческий варианты) – «срам, стыд, позор; соблазн, поношение, непристойный случай, поступок».
В наших целях необходимо различать в скандале некое событие бытия (случай, происшествие), наряду с автомобильной аварией или научным симпозиумом, ядром которого становится речевой жанр, подобный светской беседе, докладу и совсем близкий ссоре (ссору можно определить как недоразвитый, не дошедший до кульминации скандал, хотя ссора гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича – уже чистый скандал).
Семиотика реального бытового скандала находит в культуре двойное отражение. Во-первых, она порождает литературный скандал как сознательное нарушение норм и эстетических конвенций – феномен, особенно распространенный на любом крутом переломе – при смене школы, метода, направления.
Существует книга, описывающая с такой точки зрения пушкинскую эпоху[583].
О. Мандельштам в «Египетской марке» (1928) возводил эту форму литературной борьбы к следующей эпохе: «Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он – исчадие ее, любимое детище»[584].
Для Писарева скандал был обязательной приметой именно его времени, шестидесятых годов. Он определяет и осуждает его как продукт консервативной журналистики: «Сколько мне кажется, редакция „Русского вестника“ под названием литературного скандала подразумевает разные печатные разбирательства о литературных и нелитературных предметах. <…> Скандалом, на языке образованной полиции, называется, как известно, всякое происшествие, нарушающее обычный ход действия в каком-нибудь публичном месте и возбуждающее в собравшейся толпе зевак какие бы то ни было толки» («Московские мыслители», 1862)[585]. Однако его собственная критическая деятельность подчиняется законам скандала, будь ли это нелегальная статья против Шедо-Ферроти (1862), за которую он был арестован и посажен в крепость, или написанный в заключении «Пушкин и Белинский» (1865), одна из самых скандальных статей в истории русской критики.
Скандал – нарушение обыденной, естественной логики, правил хорошего тона, однако, в свою очередь, подчиняющееся другим нормам и тем самым становящееся культурным стереотипом и речевым жанром (как война, в старом ее понимании, была нарушением норм и запретов мирной жизни, однако предполагавшим свои конвенции). Когда бытовой скандал становится предметом литературного изображения – темой, эпизодом, мотивом, приобретает сюжетное и композиционное значение, он выявляет и отражает какие-то существенные черты художественного мира.
Достоевский и Чехов в этом смысле – удобный предмет для наблюдений. Они – писатели, использующие один и тот же материал и одновременно – при хронологической близости – в культурном сознании находящиеся едва ли не на противоположных полюсах.
Общепризнанно, что сцены скандалов имеют структурообразующее значение для Достоевского. На них построены ключевые эпизоды «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых». Скандал лежит в основе «Скверного анекдота», «Дядюшкиного сна», «Села Степанчикова и его обитателей». Достоевский не только изображал скандалы в романах и повестях, но и несколько раз концептуализировал понятие в любопытных контекстах. «Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях» (1863) представляет скандал нарушением логических связей: «Это уже скандал, а не логика!»[586] Письмо, написанное жене с пушкинского праздника (27 мая 1880 г.), связывает скандал с анекдотом: «…Войдет в анекдот, в скандал» (т. 30, кн. 1, с. 165).
Чеховское изображение этого феномена не столь известно. Но в воссоздаваемой писателем универсальной картине современного мира скандалу тоже находится соответствующее место. Один из ранних чеховских рассказов так и называется – «Два скандала» (1882). На скандальных ситуациях построены сюжеты «Маски» (1884) и «Соседей» (1894). Скандал становится формой развертывания важных эпизодов (причем всегда – в третьем действии) внешне бессобытийных чеховских пьес (ссора Треплева и Аркадиной в «Чайке», продуманная истерика Наташи в «Трех сестрах», страсти вокруг продажи дачи в «Дяде Ване», пьяный монолог нового владельца вишневого сада в последней пьесе).
Попробуем проследить логику подобных сцен более подробно.
В VIII главе первой части второй книги «Братьев Карамазовых» «Скандал» завершается сюжетный эпизод, уже намеченный в главе VI «Зачем живет такой человек!». Приехавший в монастырь для примирения с сыном, старый шут Федор Павлович Карамазов начинает скандал в келье старца Зосимы и продолжает его в монастырской столовой, обвиняя уже не только сына в замысле отцеубийства, но и монахов в нарушении тайны исповеди: «Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедываться? <…> Так ведь это скандал! Нет, отцы, с вами тут, пожалуй, в хлыстовщину втянешься… Я при первом же случае напишу в Синод, а сына своего Алексея домой возьму…» (т. 14, с. 82).
Таким образом, оправдываются слова Дмитрия: «Батюшке нужен лишь скандал, для чего – это уж его расчет. У него всегда свой расчет. <…> Этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал» (т. 14, с. 66).
Образная семантика скандала у Достоевского складывается из следующих элементов: публичное пространство, функцию которого выполняют не только привычная монастырская трапезная, но и монашеская келья – персонаж-провокатор – динамика, две фазы скандала, сопровождающиеся все более напряженными речевыми партиями (вызов сына на дуэль, ответное рычание Дмитрия «Зачем живет такой человек!») и неожиданными жестами (земной поклон старца Зосимы Дмитрию) – отъезд, венчающийся «еще одной паяснической и невероятной почти сценой, восполнившей эпизод», появлением помещика Максимова: «И я, и я с вами! – выкрикивал он, подпрыгивая, смеясь мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовый, – возьмите и меня!» (т. 14, с. 84).
Сцена в третьем действии «Дяди Вани» развертывается по сходной схеме. Персонажи (члены семьи, Вафля) собираются в публичном пространстве (гостиная). Инициатор-провокатор, профессор Серебряков, излагает свое намерение продать имение. Скандальная интрига раскручивается по спирали: Войницкий переспрашивает, произносит резкий монолог, признается в ненависти к профессору, мать его обрывает; Соня поддерживает и пытается вразумить профессора; новый монолог дяди Вани усложняет ситуацию.
Кульминацией скандала и здесь оказывается не слово, а жест: неудачные выстрелы Войницкого, венчающиеся детски-парадоксальным «бац». Развязка и в данном случае связана с отъездом. Истеричная реплика Елены Андреевны «Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но… я не могу здесь оставаться, не могу!» реализуется в четвертом действии.
В изображении скандала, его общей схеме можно найти некоторые отличия. Один персонаж-провокатор (Карамазов) действует сознательно: «Он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. „А коль начал, так и кончить“, – решил он вдруг. Сокровеннейшее ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами: „Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства: не стыжусь, дескать, вас, да и только!“» (т. 14, с. 80). Другой (Серебряков) – скорее всего, неосознанно: «Иван Петрович, почем же я знал? Я человек не практический и ничего не понимаю»[587]. Архитектоника развязки у Достоевского – парадоксально-ироническая, у Чехова – ожидаемо-драматическая. Резюмирующая квалификация сцены в романе повторяется неоднократно («В происшедшем скандале мы все виноваты! – Да тут скандал; значит, не было обеда! – Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Все произошло „по вдохновению“») и подчеркивается заголовком, в пьесе – прямо не названа ни разу, проявляясь, однако, не только в репликах, но и в жестах-ремарках (гневно – нервно, сквозь слезы – в изнеможении – ошеломлен; ей дурно – в отчаянии). Однако подобные различия не представляются принципиальными. Логика изображения, бытовая семантика скандала в значительной степени нивелирует индивидуальную стилистику.
Однако интерпретация подобных сцен обычно существенно различается.
С. А. Аскольдов в начале 1920-х годов утверждал: скандал и преступление – две стадии, две взаимосвязанные формы «пафоса личности», ее «конфликта с общепринятым и общепризнанным» («Религиозно-этическое значение Достоевского», 1922)[588]. М. М. Бахтин, цитируя Аскольдова, связывает скандал с жанром мениппеи и принципом карнавализации, тем самым делая его одним из доминантных понятий для понимания мира Достоевского. «Скандалы и эксцентричности разрушают эпическую и трагическую целостность мира, пробивают брешь в незыблемом, нормальном („благоообразном“) ходе человеческих дел и событий и освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок»[589]. Разобранную нами «сцену скандала» Бахтин называет «исключительно яркой по своему карнавально-мениппейному колориту»[590]. В скандалах героев Достоевского видят способ обнаружения философских поисков его героев, квинтэссенцию идеологического, полифонического романа.
У Чехова подобные сцены предполагают иную, едва ли не противоположную интерпретацию. Скандалы, если оттолкнуться от только что приведенного суждения Бахтина, не «разрушают», не «пробивают брешь», не «освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок», а, напротив, подтверждают незыблемость и картины мира, и сложившихся отношений. «Все будет по-старому» (с. 112), – говорит Серебрякову взбунтовавшийся Войницкий, возвращаясь в финале к безнадежно-привычному подведению итогов: «Второго февраля масла постного двадцать фунтов… Шестнадцатого февраля опять масла постного двадцать фунтов…» (с. 115).
«Пьеса быстро восстанавливает его в прежних, внешне горьких буднях», – замечал о Войницком один из лучших интерпретаторов чеховских пьес. И сразу же давал общую формулу чеховской драмы, в которой скандал оказывался величиной не постоянной, а переменной, случайной: «В протекании общей жизни сохраняется тонус обыкновенности во всем строе и ходе для всех общего и привычного порядка жизни. <…> Каждый участник ведет свою драму, но ни одна драма не останавливает общего потока жизни. Внешне все остается обыкновенным. Страдая своим особым страданием, каждый сохраняет общие привычные формы поведения, то есть участвует в общем обиходе, как все»[591].
Анализ скандального мотива приводит, таким образом, к важному общему выводу. Художественный мир классического типа (в модернистской поэтике дело может обстоять и по-другому) строится по центростремительному принципу. Примерно в той же точке мы могли оказаться, сопоставляя не мотивы, а персонажей, фабулы, речевые характеристики. Разные структурные элементы подчиняются какому-то единому принципу, реализуют архетип, несут отсвет целого. Общность бытовой семантики скандала неизбежно трансформируется в индивидуальность его поэтики.
Жизнь и судьба чеховского подтекста
«Подтекст – а когда, собственно, это слово пришло в язык? У Ушакова его еще нет»[592], – удивлялся М. Л. Гаспаров.
В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова (Т. 1–4; 1935–1940) этого слова действительно нет. В это время оно только завоевывало свои права. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (первое издание – 1949 г.) оно уже присутствует.
Подтекст и подводное течение в применении к чеховской драматургии, вероятно, первоначально появились в работах режиссеров МХТ, интерпретаторов чеховской драматургии и принадлежат разным «основоположникам».
«Подводное течение» легализовал и объяснил Вл. И. Немирович-Данченко.
«Ни в одной предыдущей пьесе, даже ни в одной беллетристической вещи Чехов не развертывал с такой свободой, как в „Трех сестрах“, свою новую манеру стройки произведения. Я говорю об этой, почти механической, связи отдельных диалогов. <…> Все действие так переполнено этими, как бы ничего не значащими диалогами, никого не задевающими слишком сильно за живое, никого особенно не волнующими, но, без всякого сомнения, схваченными из жизни и прошедшими через художественный темперамент автора и, конечно, глубоко схваченными каким-то одним настроением, какой-то одной мечтой.
Вот это настроение, в котором отражается, может быть, даже все миропонимание Чехова, это настроение, с каким он оглядывается на свой личный, пройденный путь жизни, на радости весны и постоянное крушение иллюзий и все-таки на какую-то непоколебимую веру в лучшее будущее, это настроение, в котором отражается множество воспоминаний, попавших в литераторский дневничок, – оно-то и составляет то подводное течение всей пьесы, которое заменит устаревшее „сценическое действие“»[593], – заметил Вл. И. Немирович-Данченко в предисловии к книге-альбому Н. Эфроса о постановке «Трех сестер» (1919).
К «подтексту» долгим и трудным путем пришел К. С. Станиславский.
В воспоминаниях «А. П. Чехов в Художественном театре», написанных через несколько лет после смерти Чехова (1907?), есть примеры нескольких «шарад», которые Чехов загадывал Станиславскому-актеру.
Актер играл Тригорина как модного красавца в элегантном белом костюме, а автор, похвалив исполнение, сказал, что это не то лицо, которое он писал, что его Тригорин носит клетчатые панталоны и дырявые башмаки.
«Эту шараду я разгадал только через шесть лет, при вторичном возобновлении „Чайки“, – признается Станиславский. – В самом деле, почему я играл Тригорина хорошеньким франтом в белых панталонах и таких же туфлях „bain de mer“? Неужели потому, что в него влюбляются? Разве этот костюм типичен для русского литератора? Дело, конечно, не в клетчатых брюках, драных башмаках и сигаре. Нина Заречная, начитавшаяся милых, но пустеньких небольших рассказов Тригорина, влюбляется не в него, а в свою девическую грезу. В этом и трагедия подстреленной чайки. В этом насмешка и грубость жизни. Первая любовь провинциальной девочки не замечает ни клетчатых панталон, ни драной обуви, ни вонючей сигары. Это уродство жизни узнается слишком поздно, когда жизнь изломана, все жертвы принесены, а любовь обратилась в привычку. Нужны новые иллюзии, так как надо жить, – и Нина ищет их в вере».
Аналогичное наблюдение сделано и по поводу чудесных галстуков, которые носит Войницкий. «И тут дело было не в галстуке, а в главной идее пьесы. Самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня глохнут в захолустье, а тупица профессор блаженствует в С.-Петербурге и вместе с себе подобными правит Россией. Вот затаенный смысл ремарки о галстуке»[594].
«Главная идея пьесы» извлекается здесь не из текста, а из смысловой интерпретации предметной детали.
В «Моей жизни в искусстве» (1926) К. С. Станиславский тоже, подобно Немировичу-Данченко, рассуждает о «чеховском настроении» – «сосуде, в котором хранятся все невидимые часто не поддающиеся осознанию богатства и ценности чеховской души», о «внутреннем и внешнем действии»[595].
Он снова возвращается к исполнению роли Тригорина, меняя отдельные детали, но сохраняя логику интерпретации: расхождение между внешним и внутренним в характеристике персонажа.
«Прошел год или больше. Я снова играл роль Тригорина в „Чайке“ – и вдруг, во время одного из спектаклей, меня осенило:
„Конечно, именно дырявые башмаки и клетчатые брюки, и вовсе не красавчик! В этом-то и драма, что для молоденьких девушек важно, чтоб человек был писателем, печатал трогательные повести, – тогда Нины Заречные, одна за другой, будут бросаться ему на шею, не замечая того, что он и незначителен как человек, и некрасив, и в клетчатых брюках, и в дырявых башмаках. Только после, когда любовные романы этих „чаек“ кончаются, они начинают понимать, что девичья фантазия создала то, чего на самом деле никогда не было“»[596].
Режиссер уже фактически обнаружил и описал феномен театрального подтекста, но еще не нашел подходящего определения. Оно появляется лишь позднее, в книге «Работа актера над собой» (1938) – и вне прямой связи с Чеховым.
«Мы знаем, что Шекспир пересоздавал чужие новеллы. И мы пересоздаем произведения драматургов, мы вскрываем в них то, что скрыто под словами; мы вкладываем в чужой текст свой подтекст, устанавливаем свое отношение к людям и к условиям их жизни; мы пропускаем через себя весь материал, полученный от автора и режиссера; мы вновь перерабатываем его в себе, оживляем и дополняем своим воображением»[597].
«Роль Сатина далась мне сравнительно легко, за исключением монолога „о Человеке“ в последнем акте. От меня требовали невозможного: общественного, чуть ли не мирового значения сцены, безмерно углубленного подтекста, для того чтоб монолог стал центром и разгадкой всей пьесы»[598].
При последующем использовании «подводное течение» и «подтекст» плотно приросли к характеристике чеховской драмы и слиплись до полной неразличимости. «Не только „декадент“ Треплев из чеховской „Чайки“ полагал, что искусству „нужны новые формы“. Сам Чехов сетовал на исчерпанность ресурсов современной прозы и открывал новые возможности реалистического изображения, вводя в него „подводное течение“, подтекст, пользуясь импрессионистской палитрой»[599].
Поэтому договоримся сначала о терминологии.
Подводное течение — «настроение», архитектоническая форма (если воспользоваться термином М. М. Бахтина) драматического действия. Подводное течение, следовательно, феномен драмы как целого (в понимании Немировича-Данченко оно оказалось синонимом устаревшего «сценического действия»). В таком случае это понятие приобретает общий, «рамочный», в значительной степени метафорический характер.
Подтекст — несовпадение значения и смысла высказывания. Значение мы получаем в результате лингвистической интерпретации, смысл – в результате анализа ситуации.
Подтекст – категория конкретная, структурная, аналитическая. Подтекст обнаруживается в конкретном фрагменте – от слова и реплики до сцены и диалога. Подтекст – один из способов (но не единственный) создания подводного течения. Подтекст должен быть как-то маркирован. В словесном тексте – ближайшим контекстом. Причем (в этом близость подтекста – иронии) его опознание имеет предположительный, вероятностный характер.
Наиболее очевидный случай – разрыв, провал коммуникации, при котором следующая реплика не отвечает на предшествующую, а строится как самостоятельная «монада» и, следовательно, заставляет подозревать за ее внешним значением более глубокий психологический смысл.
Не случайно моделью, примером-образцом чеховского подтекста стала реплика доктора Астрова о жарище в Африке, где подобный разрыв коммуникации наиболее явен и парадоксален.
«Астров… (После паузы.) Моя пристяжная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка водил поить.
Войницкий. Перековать надо.
Астров. Придется в Рождественном заехать к кузнецу. Не миновать. (Подходит к карте Африки и смотрит на нее.) А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища – страшное дело!
Войницкий. Да, вероятно.
Марина (возвращается с подносом, на котором рюмка водки и кусочек хлеба). Кушай.
Астров пьет водку.
На здоровье, батюшка. (Низко кланяется.) А ты бы хлебцем закусил.
Астров. Нет, я и так… Затем, всего хорошего! (Марине.) Не провожай меня, нянька. Не надо.
Он уходит…»[600]
А много ли таких Африк в этой пьесе? Количественно-операционно поставленный вопрос приводит к неожиданному результату. Обнаруживается всего 16 случаев очевидных подтекстных реплик или фрагментов диалога и еще несколько подтекстных пауз (иногда они входят в диалогическую структуру).
В одних случаях смысл подтекста достаточно очевиден и лежит близко к поверхности текста.
К примеру, в экспозиции, в самом начале первого действия, Соня произносит «Так вот, кстати, и пообедаем. Мы теперь обедаем в седьмом часу. (Пьет.) Холодный чай!» (т. 13, с. 69). Последняя «шарада» расшифровывается достаточно очевидно: Соня недовольна утвердившимися после приезда семейства Серебрякова порядками.
В начале второго действия, в ночном разговоре профессора с женой, есть такой фрагмент:
«Серебряков. <…> Который теперь час?
Елена Андреевна. Двадцать минут первого.
Пауза.
Серебряков. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
Елена Андреевна. А?
Серебряков. Поищи утром Батюшкова. Помню, он был у нас. Но отчего мне так тяжело дышать?» (т. 13, с. 75).
Подтекстом прагматического диалога о времени и книге Батюшкова становится взаимное недовольство: репликой о Батюшкове Серебряков проверяет покорность жены, своим ответом невпопад она выражает недовольство, стремление избавиться от надоевшей ноши верного супружества. В развитии этого же диалога подтекст станет текстом: «Замолчи! Ты меня замучил! – Я всех замучил. Конечно» (т. 13, с. 76).
Однако когда в сцене отъезда Серебрякова Астров, Марина, Соня и Мария Васильевна четырежды подряд повторяют уехали, а потом то же слово произносят Соня и Марина после отъезда Астрова, мы имеем дело не с речевой избыточностью, а с более сложным случаем подтекста. В повторяющееся слово актеры могут вложить совершенно разные эмоции (радость освобождения, сожаление о несбывшемся, тоску, безнадежность). Такой же вероятностный, «плавающий» характер приобретает и реплика доктора Астрова о жарище в Африке.
Расстояние между текстом и подтекстом, значением и смыслом становится здесь большим, чем в предшествующих примерах. Поэтому можно поставить вопрос о глубине подтекста, о более жесткой или более свободной связи его с опорным текстом.
Конкретно-статистическая постановка проблемы позволяет провести сквозной анализ этого приема – от первой драмы до «Вишневого сада» – и поставить вопрос о его генезисе. Причем поиск придется вести, скорее, не в драматургии, а в психологической прозе чеховских ближайших предшественников и его собственной прозе.
Один из источников «звука лопнувшей струны» обнаружился в «Войне и мире»[601]. Аналогия наиболее эффектному использованию подтекста в «Дяде Ване» тоже находится в толстовской эпопее.
«„Боже мой, Боже мой, всё одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?“ И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Иогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Иогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала.
– Остров Мадагаскар, – проговорила она. – Ма-да-гас-кар, – повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты.
Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью.
– Петя! Петька! – закричала она ему, – вези меня вниз. – Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. – Нет, не надо… остров Мадагаскар, – проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз» (т. 2, ч. 4, гл. IХ).
Наташин (и толстовский) остров Мадагаскар и астровская (чеховская) карта Африки находятся на одной и той же эстетической карте.
Чрезвычайно существенно, что Чехов не злоупотребляет приемом. Подтекст у него охвачен твердой оправой текста, живет органической жизнью внутри него – тем значительнее эффект его применения.
Судьба подтектста в искусстве ХХ века связана с серией фундаментальных трансформаций.
В авторитетном справочном пособии, своеобразной энциклопедии театральных событий и экспериментов ХХ века, Чехов упоминается многократно, но – по другим поводам.
Статья же об интересующем нас предмете такова: «Подтекст – то, что эксплицитно не сказано в тексте пьесы, но проистекает из того, как текст интерпретируется актером. Подтекст – это своего рода комментарий, данный постановкой и игрой актера, сообщающий зрителю необходимое для правильного восприятия спектакля освещение.
Это понятие теоретически высказано Станиславским, для которого подтекст – психологический эксперимент, информирующий о внутреннем состоянии персонажа, устанавливающий дистанцию между тем, что сказано в тексте, и тем, что показано на сцене. Подтекст – психологический и психоаналитический отпечаток, оставляемый актером на облике своего персонажа в процессе игры»[602].
Вероятно, такое понимание отвечает новым реальностям. Подтекст (что заметно уже в приведенных ранее суждениях Станиславского) из словесного ряда переводится в театральный дискурс и – что более существенно – приобретает тотальный характер.
Основоположники узурпировали подтекст у драматурга. Двадцатый век наследовал подтекст у основоположников.
Логика развития мировой драматургии (театр абсурда) и режиссерского театра приводит к тому, что понятие подтекста безмерно расширяется, включая в себя весь драматический текст.
Подтекст съедает текст. Текст становится поводом для тотального подтекста.
Режиссерский театр ХХ века, прежде всего благодаря Чехову, получил возможность бесконечной игры архитектоническими формами, подмен, отражений и превращений. Но это открытие оказалось ящиком Пандоры.
После Станиславского и особенно Мейерхольда стало возможно «ошинелить» «Женитьбу», превратить «Свадьбу» в «Пир во время чумы» и даже телефонную книгу поставить как «Гамлета», увидев в ней трагический подтекст.
Обратной стороной режиссерского своеволия оказывается упрощение, уравнивание смысла «Гамлета» или «Вишневого сада» с телефонной книгой.
Чеховская драматургия в подобных поисках остается по ту сторону обрыва (разрыва). Подтекст у Чехова не становится тотальным приемом, но знает свое место в художественной иерархии и иерархии бытия.
Закончим – по принципу композиционного кольца – предостережением трезвого и неподкупного эмпирика М. Л. Гаспарова, обращенным к «Интерпретаторам» и имеющим прямое отношение к проблеме подтекста: «Не спешите по ту сторону слов! несказанное есть часть сказанного, а не наоборот»[603].
Добычин и Чехов: два «события» и метафизика прозы
«Ты читал книгу „Чехов“? – краснея, наконец спросила она». – «Я много читаю. Два раза уже прочел „Достоевского“. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного». – «Как демон из книги „М. Лермонтов“, я был – один. Горько было мне это»[604].
Имена в кавычках – не опечатка, а продуманная метафора, плодотворная эстетическая идея.
Настоящий писатель становится для последующих поколений читателей не реальным человеком, а знаком художественной системы, текстом, книгой, материализующейся в многотомном академическом собрании, монументальном однотомнике-кирпиче (всего «Пушкина» или «Гоголя» под одним переплетом любили издавать в сороковые годы, эта мода возвращается сегодня), россыпи «золотых», «классических», «школьных», «домашних» библиотек, с подверстанными к ней биографиями – от максимально достоверных, «научных», до откровенно скандальных, эпатажных, – исследованиями, инсценировками, просто культурными пересудами.
Когда скрытые кавычки вокруг фамилии не появляются, имя так и не становится книгой. Тогда редкие переиздания сопровождаются извиняющимися предисловиями специалистов: да, не «Булгаков», но все-таки… «Булгаков для бедных».
Писателя как книгу придумал Л. Добычин в романе «Город Эн», герой которого – мальчишка-провинциал, неистовый книгочей, живущий в текстах с большей страстью, чем в собственном детстве и юности. Он не только сравнивает себя с демоном (тут он не очень оригинален), но и превращает изруганный гоголевский город в Эдем. «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов мерзавцы. Я посмеялся над этим» (с. 148). «Город был очень красив и как будто знаком мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький» (с. 175).
Сам Леонид Добычин, автор двух десятков рассказов и короткого, скорее похожего на повесть романа, приобрел в последние годы статус странного классика «второй прозы» (так называлась посвященная его столетию конференция). Попытки четко описать поэтику книги «Л. Добычин» ведут к парадоксу, согласно отмеченному разделенными во времени и пространстве квалифицированными читателями-исследователями: легче всего определить, чего в этой прозе нет.
«Первое, что замечаешь при чтении добычинских рассказов, – это отсутствие действия. И еще: его истории не поддаются пересказу. Отсутствует какая-либо (видимая) цепь, состоящая из „почему“, „каким образом“ и „к чему“» (Э. Маркштейн).
«Персонажи существуют как бы вне сюжета, они с легкостью могут сойти один за другого, поскольку изначально не скрепляют собой художественное пространство, которое, проявляясь почти мистично, оказывается совершенно неуправляемым, бесконтрольным» (И. Мазилкина).
«Как уже было отмечено, герои во многом уподоблены друг другу. Так, например, почти единообразны их портреты, где набор деталей существует как бы независимо друг от друга и от целого. Причем детали, даже самые мелкие, живут, как и многое в художественном мире рассказа, по закону анонимности, дополненному еще и принципом своеобразной автономии» (А. Неминущий).
«Такое повествование может длиться бесконечно, увязая во все новых и новых подробностях» (Вик. Ерофеев).
«Принцип „отсутствия автора“ доведен в произведениях Добычина до предела. Это тот антипсихологизм, который как бы превращает писателя в простого регистратора фактов. Жизнь начинает говорить сама за себя – автор превращается в человека-невидимку» (В. Каверин).
Наконец, итоговое ошарашивающее суждение: «Модель мира в романе Добычина есть гротескный каталог фактов… где опущены фабула, образы, оценочная система…» (Д. Угрешич)[605].
Понятая таким образом, добычинская проза становится похожа на персонажа, описанного Д. Хармсом в «Голубой тетради № 10»: «Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно».
У Добычина, оказывается, отсутствуют практически все элементы и уровни «нормальной прозы»: действия, сюжета нет; персонажи тавтологичны, анонимны, автономны и антипсихологичны; пространство бесконтрольно, неуправляемо, заполнено случайными подробностями; и сам автор превратился в человека-невидимку.
«Ничего у него не было! Так что непонятно, о ком идет речь».
В поисках ответа на вопрос, что же в этой прозе все-таки есть, поищем на книжных полках что-то похожее на добычинскую прозу – хотя бы по контрасту, как точку писательского самоопределения и отталкивания.
Многовалентность, разнообразные параллели с предшественниками и современниками – непременное свойство всякого серьезного писателя. В связи с Л. Добычиным уже припоминали Бальзака, Андрея Белого, Джойса, Достоевского, Гоголя, Вагинова, Пруста, Салтыкова-Щедрина, Ф. Сологуба, Толстого, Тынянова, Флобера, А. Франса и еще полдюжины авторов.
Но главной для понимания добычинской прозы оказывается книга «Чехов».
«Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. – Это, – пожимая плечами, сказал я, – который телеграфистов продергивает?
Он принес мне в училище „Степь“, и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал» (с. 177).
Чеховский мир (как и гоголевский) – область притяжения для героя романа «Город Эн». Чеховская поэтика – точка отталкивания для Добычина-рассказчика.
Современники Чехова, как известно, часто упрекали писателя за случайность тем и деталей, отсутствие последовательно рассказанной истории (фабулы) и четко обозначенной авторской позиции.
Живое читательское чувство такого рода хорошо передала позднее В. Вулф, включив его, однако, в иной ценностный контекст, поменяв плюс на минус. «Ощущение не простоты, а замешательства – вот наше первое впечатление от Чехова. О чем это и почему он сделал из этого рассказ? – спрашиваем мы, читая рассказ за рассказом… Рассказ кончается. Но конец ли это, скажем мы? У нас, скорее, чувство, будто мы проскочили сигнал остановки, или как если бы мелодия вдруг резко оборвалась без ожидаемых нами заключительных аккордов. Эти рассказы не завершены, скажем мы и будем анализировать их, исходя из представления, что рассказ должен быть завершен так, как мы привыкли… Нужно долго ломать себе голову, чтобы обнаружить смысл этих странных рассказов» («Русская точка зрения», 1925)[606].
Теоретическим выходом из читательского замешательства были: концепция случайностности чеховского предметного мира; мысль о бесфабульности действия, несостоявшемся событии как основе сюжета; обоснование рассказа как русского, чеховского жанра, противопоставленного европейской новелле.
Таким представал Чехов при взгляде назад – в сопоставлении с его предшественниками и современниками. Взгляд вперед, в том числе на добычинские тексты, существенно меняет картину.
В сопроводительном письме после окончания рассказа «Савкина» Добычин предупредит адресата, М. Слонимского: «Савкину я пошлю вам двенадцатого. Заглавия у нее нет, а Захватывающей Фабулы еще меньше, чем в Ерыгине и в истории о Кукине, которая была напечатана в Современнике» (с. 272–273).
Одно из немногих эксплицитных эстетических суждений Добычина интересно четко выраженным отношением к категории фабулы. Оно тем более симптоматично, что в других письмах Добычин со вкусом пересказывает фабулы своих современников и жизненные фабулы, из которых вполне мог вырасти провинциальный «Декамерон».
«Зощенко здесь нравится девицам. В особенности – как в лавку пришли с лошадью. Лавочник гонит, а лошадиный хозяин удивляется: только что сидели в пивной, и заведующий даже очень веселился», – излагает он М. Слонимскому фабулу недавно опубликованного (1925) рассказа «Тяжелые времена» (январь 1926 г.; с. 280).
«Я прибыл сюда в разгар весеннего сезона и кипения страстей. У нас в саду (при доме) несколько дней жил соловей», – информирует он того же адресата, вернувшись из Ленинграда в Брянск.
В 1925 году Зощенко напишет сентиментальную повесть «О чем пел соловей». В ней соловей, по мнению главного героя Васи Былинкина, поет потому, что хочет жрать.
Добычинский соловей поет вот о чем: «Гремело происшествие с летчиком. Познавая вблизи города одну свою знакомую, он Вошел к Ней и не смог выйти. Утром их нашел пастух и побежал за скорой помощью. Человеки собрались смотреть. Участники события были женаты – не друг на друге, а на третьих лицах. Разыгрались Жизненные Драмы. Через четыре дня дама умерла» (4 июня 1930 г.; с. 306).
Следом идет еще один анекдот – о Федориной дури. Служащая суда по имени Федора, к тому же инвалид, сходит с ума на эротической почве, ее подпаивают водкой и пьяную сдают в больницу; матери удается ее освободить, и теперь она «расхаживает по РКИ и профсоветам и подает жалобы».
«Много и других историй произошло с участием Любви», – иронически-меланхолически заканчивает Добычин.
Ничего подобного не обнаруживается в его собственной прозе.
Что же заменяет Добычину Захватывающую Фабулу?
В письме К. Чуковскому есть еще один высказанный мимоходом, но важный эстетический постулат. «Многоуважаемый Корней Иванович, Вы не правы, – защищает Добычин начало рассказа „Ерыгин“. – Первый абзац нужен: там следы от волос на песке, а в четвертой главе – следы сена на снегу. Отсюда – „что-то припомнилось“» (с. 254).
На следующий день Добычин будет объяснять это важное для него положение в письме другому адресату. «Чуковский пишет, что он начал бы Ерыгина со второго абзаца. Первый абзац необходим. Там следы от волос на песке, в четвертой главе – следы от сена на снеге, оттого и написано: „что-то припомнилось“. Не выкидывайте, пожалуйста, первого абзаца» (М. Л. Слонимскому, 27 января 1925 г.; с. 269).
На смену Захватывающей Фабуле, следовательно, приходят лейтмотив, повтор, акцентированная деталь.
В «Савкиной» около четверти печатного листа, четыре кратких главы. В первой героиня сидит в канцелярии, принимает участие в похоронах соседки, некой Олимпии Кукель, обедает дома, сидит за сараями с книжкой стишков. Во второй она по совету матери приходит в костел поставить свечку за покойную, заглядывает в канцелярию, потом идет в кино. В третьей ей снится сон (рассказанный в двух предложениях), потом идут прогулка по городу и домашний обед с разговорами. В четвертой главке она валяется на траве в палисаднике и встречается за сараями с новыми соседями, поселившимися вместо уехавшего вдовца Кукеля.
Однако при более пристальном рассмотрении каждая главка строится как последовательность фрагментов, эпизодов, которые стыкуются друг с другом кинематографически-монтажно, без привычных повествовательных переходов.
«Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов. Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки. – Там все так прилично одеты, – уверяла Олимпия и таращила глаза. – У некоторых приколоты розы… Ах, родина, родина!» (с. 64).
В коротком абзаце первой главки спрессованы, наложены друг на друга сразу три кадра: Савкина идет за гробом соседки – вспоминает о встречах и разговорах за сараями – покойная мечтает о так и не увиденной родине.
Следующее предложение сразу же, без всяких мотивировок, вводит домашний эпизод: «Мать, красная, стояла у плиты».
Еще очевиднее этот прием монтажной склейки явлен во второй главке. Героиня вместе с Колей Евреиновым идет в кино, ее спутник издевается над окружающими («– Буржуазно одета, – показывал он. – Ах, чтоб ее!..»). Сразу же, после незаметного многоточия, начинается описание мелодрамы, которую смотрят герои («На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах…»), выходом из нее становится реакция героини («Савкина была взволнована. Ей будто показывали ее судьбу».)
Заполнив лакуны, развернув эти лаконичные сцепления кадров в привычные повествовательные ряды, мы получим достаточно длинные событийные цепочки.
У соседа, Кукеля, умирает молодая жена, мечтавшая уехать на родину (в Польшу?), ее хоронят без отпевания, потому что сам Кукель «партейный», отпевание в костеле по совету матери заказывает Савкина, сам Кукель снова женится, переезжает в Зарецкую, а в его доме поселяется новая семья.
Павлушенька (брат?) умывается, участвует в семейном обеде, приходит с купания, спорит о Боге, снова возвращается с купания, пишет в газету корреспонденцию про модницу Бабкину: «Наробраз, обрати внимание» – узнает о ее публикации, общается и дружит с появившимся новым соседом.
Коля Евреинов (дважды упоминается воротник его расстегнутой рубашки, в третий раз – просто рубашка) в первой главе появляется в доме, во второй – идет с Савкиной в кино, в четвертой – отправляется с ней же за сараи.
На фоне этих динамичных персонажей существуют статичные фигуры: дважды упоминается сидящая в киоске Морковникова, также дважды мелькает в рассказе модница Бабкина, которую обличает в корреспонденции Павлушенька, четырежды упомянута хлопотливо-хозяйственная мать.
Еще больше персонажей даже не изображены, а просто названы и, кажется, толкутся в рассказе без всякого толку. «Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина», «Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией», «Мимо палисадника прошел отец Иван», «Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы». Больше ничего, кроме имен и фамилий, об этих персонажах «Савкиной» читатель не узнает, причем и сами номинации лишены гоголевской или зощенковской колоритности. Поэтому, при всей их краткости, подобные описания кажутся избыточными, а добычинские рассказы – растянутыми.
Однако почему рассказ называется «Савкина»?
Дело не только в том, что героине посвящено больше всего кадров и реплик. Она работает в нелюбимом учреждении, что-то переписывает, любит мечтать и читать стихи, ходит в кино и на кладбище, известно даже ее имя («Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел»).
В разбросанных по тексту деталях можно увидеть конструкцию, в какой-то степени заменяющую Захватывающую Фабулу.
«Дунуло воздухом. – Двери! Двери! – закричали конторщики. Вошел кавалер – щупленький, кудрявый, беленький…» – начинается рассказ (с. 64).
«После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу», – начало третьей главы (с. 65).
«Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот щупленький» – последние фразы, концовка (с. 67).
Соединяя эти три кадра, мы получаем вполне новеллистическую фабулу: в Савкину влюблен молчаливый Коля Евреинов, она ходит с ним на прогулки и в кино, но, кажется, рассчитывает на другого – щупленького, кудрявого кавалера. И вдруг оказывается, что он – сын-алиментщик новой жилицы-соседки («Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка…»).
Точно так же, как след – на песке и на снегу – скрепляет начало и концовку «Ерыгина», щупленький кавалер окольцовывает фрагментарную структуру «Савкиной».
Однако выделение этой структурной доминанты носит вероятностный характер. Сюжетная конструкция растворена в потоке подробностей, дана ускользающим намеком.
Устройство добычинского текста позволяет наглядно увидеть сопоставление двух описаний. Включая рассказ в сборник «Матерьял», Добычин существенно переделал лишь один абзац – описание канцелярии во второй главке.
«Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Пахло табачищем и кислятиной. Стенная газета „Красный луч“ продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка…» (с. 65).
«Леса горели. Дым стоял над горизонтом. Пахло гарью. Сор шуршал по мостовой. В конторе окна были заперты. Воняло табачищем и кислятиной. Висел, отрезанный от объявления о займе, портрет Михайловой, выигравшей сто тысяч. Стенгазета „Красный луч“ продергивала тов. Самохвалову…» (выделено мной. – И. С.; с. 377).
Во втором варианте конкретизируются причины запаха гари, конторской вони и выигрыша Михайловой, но зато исчезают мотивы продергивания тов. Самохваловой.
Добычинское описание, следовательно, строится по тем же принципам, что и действие. Конкретные подробности свободно варьируются: то появляются, то исчезают. Но при этом сохраняется смысловое, функциональное ядро: контраст низкой прозы (гарь, сор, вонь) и идеологических знаков (заем, выигрыш, стенгазета).
Парадоксальное устройство другого добычинского текста отметил В. С. Бахтин, публикуя две редакции рассказа «Отец». Обнаружив в архиве вариант, примерно на треть короче вошедшего в сборник «Портрет», заканчивающийся фразой «Огоньки зажглись у станции и переливались», исследователь предположил: «Возможно, поначалу рассказ так и завершался. Внутренняя цельность в этом тексте тоже есть. Печатный вариант, не добавляя ничего по существу (главное: „Но зато я не плохой отец“), расширяет видимый мир, добавляет новые штрихи к психологическому портрету отца» (с. 534).
Предположение о другом окончании весьма вероятно, но тогда оно ставит под сомнение идею внутренней цельности. В прозе Добычина внутри некоторых опорных точек повествования материал располагается настолько свободно, что принцип целостности отступает перед идей фрагментарности, своеобразного повествовательного пуантилизма.
Дремлющая в киоске Морковникова, Гоголь с черными усиками на обложке тетради, шуршащий по булыжникам сор, сидящие на мосту рыболовы и десятки других подробностей располагаются в хронотопе настолько свободно, что дают повод говорить о принципиальной – авангардистской, предельной – трансформации принципа связности, когда части художественной структуры освобождаются от власти целого.
И в рассказе «Отец» важно исходное смысловое ядро, протосюжет (муж, недавно потерявший жену, идет вместе с детьми мимо ее могилы на купание к реке, собираясь вечером навестить некую Любовь Ивановну), а кончиться, оборваться он может в пяти-шести различных местах.
«Лекпом» (1930), как и «Савкина», содержит некий намек на фабулу: телеграфистка встречает на станции помощника лекаря, приводит его к больной матери, они пьют чай, светски любезничают, выясняется, что она чем-то взволнована или больна. Но само действие здесь не проявлено и не направлено, психологические акценты не расставлены, конкретный смысл отношений персонажей остается загадкой – поэтому вся описательная часть текста приобретает автономно-самоценный характер.
«Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик. / С трех сторон темнели сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. / Под окном лежал снег, и из снега торчала ботва». Три микропейзажа можно предъявить в любом порядке или склеить из них один: швы будут практически незаметны.
«Мери Пикфорд играет прекрасно». – «Женни Юго брюнетка». Две реплики лекпома тоже легко меняются местами.
«Он оглянулся и повертел головой: – Закрыта. (Речь о форточке. – И. С.) Наденьте пальто. Я дам вам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, перед выходом из дому – есть. – Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся, прошел на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал романс. Мать проснулась».
Это – концовка, главный элемент малого жанра. «Без правильно завязанного последнего узелка гипотетическая вышивка распадается. Точно так же без грамотно выбранной концовки текст окажется никчемным обрубком, – строго предупреждает современный новеллист (К. Плешаков). – Сам по себе сюжет до самой последней страницы не предопределяет решительно ничего. Концовка и, соответственно, смысл рассказа (или романа) зависят от нескольких последних слов, кои и автор, и пьяный наборщик могут верстать в любом ключе».
Добычин-автор и ведет себя как пьяный наборщик. В абзаце-концовке «Лекпома» можно мысленно убирать фразу за фразой – она все равно будет сохранять многозначительно-оборванный смысл.
Краткость и длина произведения – категории не формальные, а эстетические и психологические. В сравнении с добычинским «Лекпомом» «Дама с собачкой» и «Анна Каренина» – вещи короткие, ибо они подчиняются принципу связности и реализуют определенное тематическое и жанровое задание.
Недоброжелательно настроенный анонимный современник, увидевший в рассказе «Портрет» (1930) «аналитическое» восприятие мира, разлагающее этот мир на отдельные «„предметные“ детали, еще не соединенные между собой никакой органической связью» (с. 472), по сути дела, был прав.
Смысловое ядро текста окружено у Добычина многочисленными флуктуирующими подробностями.
Специфической формой добычинского завершения чаще всего становится сама внезапная оборванность повествования.
Чехов в свое время советовал молодым последователям, написав рассказ, оборвать, отбросить начало и конец. Добычин выполняет этот совет в самом радикальном, вряд ли предполагаемом автором «Дамы с собачкой» варианте.
Это в сравнении с «Повестями Белкина» или «Ожерельем» Мопассана чеховские тексты казались расслабленным, меланхолическим, бессобытийным русским жанром («О чем это и почему он сделал из этого рассказ?»).
На фоне Добычина Чехов оказывается жестким, динамичным, едва ли классическим новеллистом. Его лирические концовки («Какова-то будет эта жизнь?», «Прощай, мое сокровище!», «Мисюсь, где ты?», «…самое сложное и трудное только еще начинается») так же однозначны и неоспоримы, как пуанты старой новеллы.
«Жанр смещается, – утверждал Юрий Тынянов, – перед нами ломаная линия, а не прямая линия его эволюции…»[607]
Чеховский рассказ о несостоявшемся событии превращается у Добычина в рассказ о возможном несостоявшемся событии. Несбывшееся трансформируется в ожидание несбывшегося. Категория события подвергается двойному остранению.
Добычин испытывает привычные повествовательные принципы на излом, выходит за флажки, потому и негативные определения его прозы даются легче: это взгляд с другой стороны.
Этот загримированный под чеховского последователя, обличителя мещанства и провинциального убожества писатель на самом деле оказывается одним из самых последовательных экспериментаторов, «формалистов», авангардистов в нашей прозе 1920–1930-х годов.
Главным, основополагающим, аксиоматическим и потому, как правило, даже словесно не формулируемым принципом классической структуры образа (от Гомера до Булгакова, от Апулея до современной беллетристики) можно считать не целостность, а связность. М. Бахтин, как известно, определял текст как «всякий связный знаковый комплекс». Связность глубже и важнее целостности. Даже текст-фрагмент, текст-отрывок, явно лишенный цельности (скажем, так называемая десятая глава «Евгения Онегина»), обладает связностью, что, собственно, и позволило понять пушкинский шифр.
В образе классического типа связность обычно реализуется в пределах семантического квадрата: на языковом, пространственно-временном, действенном и персонажном уровнях текста. Знаками, манифестациями такой связности на каждом уровне являются интегрирующие понятия стиля – хронотопа – сюжета и фабулы – типа, характера и пр. Связь уровней демонстрируют категории художественного целого, смысла, авторской идеи и т. п. «Произведение – это сложно построенный смысл» (Ю. М. Лотман).
Смысл авангардистских экспериментов – в борьбе с понятиями целостности и смысла в их прежнем, классическом понимании.
Может показаться, что главной мишенью Добычина-писателя оказывается Захватывающая Фабула. Однако, вернувшись к приведенным выше определениям, можно заметить, что негативный пафос Добычина связан с иным структурным уровнем.
Что же в конечном счете остается в этой прозе, если персонажи стерты, клишированы, психологизм рудиментарен, фабула отсутствует, автор скрыт, стилистическая игра, словесное щегольство неприемлемы?
Регистрация фактов, все новые и новые подробности, независимые от целого детали, гротескный каталог.
Логичнее и естественнее всего (помня о том, что М. Бахтин часто сводил сюжет к хронотопу) рассматривать малую прозу Добычина как бескомпромиссную борьбу с принципом связности на пространственно-временном уровне, как авангардистский подрыв, разрушение классического типа хронотопа.
У Добычина не только «связи между временем личным и временем историческим не установлены», и, вообще, изображается «дискретное время» (И. Белобровцева)[608]. В его прозе, даже в описательных кусках, хронотоп предстает неорганизованным, лишенным привычной связности, динамически-повествовательного, центростремительного развертывания.
Аналогичное описание можно представить и обнаружить в старой прозе, но там оно было бы обязательно мотивировано спецификой воспринимающего сознания (больной, ребенок и т. п.). Здесь же изображение дается в «отсутствие героя и автора», вне всякой видимой мотивировки.
Добычинская подробность не столько характеризует что-то или кого-то, сколько заполняет текстовое пространство. Связь между соседними точками хронотопа чаще всего случайна, немотивированна – абсурдна. Поэтому при всей краткости добычинских рассказов (их объем, как правило, от двух до пяти страниц) кажется, что повествование увязает в подробностях, хотя их, конечно, намного меньше, чем у Чехова, не говоря уже о Гоголе.
Образ добычинского повествования – это бесстрастная камера с крупнофокусным объективом, выделяющая, приближающая к глазам разные фрагменты реальности, но именно в силу их разноплановости создающая впечатление абсурдного, бессмысленного, бессвязного мира.
Примечательно, что в своей большой прозе Добычин отказывается от бескомпромиссности эстетических установок ранних рассказов.
Сюжетная и предметная связность в романе «Город Эн» (1935) резко возрастают. Обозначена вполне классическая тема – взросление героя. Главный герой (он же рассказчик) теряет отца, поступает в городское училище, находит друга, тайно влюбляется в девочку из другого круга, в конце сдает выпускные экзамены и получает «свидетельство».
У большинства романных персонажей обнаруживаются прототипы (лекпом, телеграфистка или Савкина настолько типологичны, что говорить об их реальных проекциях невозможно).
В «Городе Эн» четко прописан не только ближний (топография Двинска), но и дальний культурно-исторический фон: пунктирно изображены революционные события пятого года, в одной строфе-абзаце упоминается полет Уточкина на аэроплане, рассказывается о торжествах по случаю юбилея Гоголя и «освобождения крестьян» (роман, стало быть, заканчивается в 1911 году).
Характерные и для рассказов лейтмотивы (книга, смерть, исповедь) в романе образуют более плотную, отчетливую вязь, но главное – приобретают не статичный, а динамический характер. В «Город Эн» возвращается не только календарное, но и историческое время.
О другом Добычине изредка напоминают гротескные детали. «В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял у входа в колбасную». Но они лишь оттеняют фабулу, но не отменяют, не взрывают, не пародируют ее.
Особенно важна концовка «Начала романа» (один из первоначальных вариантов заглавия). Случайно взглянув в купленное товарищем пенсне, герой узнает, что он до сих пор неправильно видел мир.
«Раз, идя с ним и отстав от него на полшага, я случайно попал взглядом в стекло.
– Погоди, – сказал я изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла.
Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве теперь видел я все листики. <…>
Ночью, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали была далеко. Лето она в этом году проводила в Одессе» (с. 184).
В отличие от рассказов, финал романа так же незаменим и непереносим, как чеховские финалы. Он переводит действие в лирико-символический план, придает ему центростремительность, что резко сближает Добычина со старой поэтикой (ср. хотя бы по-иному реализованную тему «новой жизни» в финале чеховской «Степи»).
«Город Эн» тем самым довольно плотно включается в традицию автобиографической прозы, романа взросления: это добычинские «Детство», «Отрочество» или «Гимназисты».
Добычинский хронотопический абсурд часто интерпретируется в тематическом плане: бессмысленность мира, бессмертная пошлость, профиль смерти. Однако тема здесь становится принципом поэтики. Перед нами – предельный прозаический эксперимент, устремление к некой невидимой границе, за которой чудится Иное.
Но и в том и в другом случае они непродолжимы, неспособны к качественным изменениям, допускают лишь количественное наращивание.
Дальше возможен либо переход в иную систему эстетических координат (записанный в манере «Опавших листьев» Розанова любой рассказ Добычина уже не выглядел бы столь абсурдным, оказавшись цепочкой мгновенных дневниковых наблюдений), либо возвращение к принципу связности (пусть понимаемому предельно широко).
«Черный квадрат» можно придумать лишь однажды, обозначив границу фигуративной живописи. Все последующее в том же духе будет никому не нужным эпигонством или прикладным искусством. Не объявлять же гением автора желтых треугольников на обоях!
Один современный иронический рассказчик (Б. Жердин) в книжке «Ничего кроме правды» провокативно заявляет, что знаменитые полотна К. Малевича малевала по трафарету гомельская артель слепых.
Добычин поставил красный флажок, обозначил границу классической парадигмы – и вышел за ее пределы. Разрушителями других сторон семантического квадрата можно считать борцов с Захватывающей Фабулой (Хармса и других обэриутов), авторов орнаментальной прозы, «романов без героев» (в духе Белого или Пильняка), практиков «самовитого слова» (вроде Крученых и экстремального Хлебникова).
Этот опыт общезначим, но вряд ли органически продолжим. Пародирование сюжета, ликвидация героя, деконструкция пространства и времени, наконец, отказ от привычного языка демонстрируют конец уже не мира («Вот как кончится мир, не взрывом, а взвизгом»), но – прежнего связного текста.
Долгая жизнь на развалинах, однако, невозможна. Нужно снова что-то строить и куда-то идти.
Такова драма любого предельного авангардистского эксперимента.
Стеклянная стена аквариума прозрачна и, кажется, призрачна, но все-таки объективно существует как невидимая граница. Аквариумная рыбка обнаруживает это, натолкнувшись на нее. Далее возможны два варианта: возвращение в привычную среду существования по какой-то новой траектории или самоубийственный жест разрушения хрупкого сооружения, бросок в какое-то иное, неизвестное, неопределяемое пространство.
Добычин и Чехов оказываются по разные стороны невидимой прозрачной стены.
Чеховед Скафтымов: размышления о методе (Несколько положений)
1. Статьи А. П. Скафтымова о Чехове – чудо и парадокс[609].
Чудом представляется время их появления и их удивительная жизнестойкость. Написанные во второй половине 1940-х годов, во времена В. Ермилова, включавшего Чехова в число строителей социализма и новой жизни, они выдержали уже больше двух лотмановских сроков, что ученый считал уделом единичных гениев[610].
Кое-что в их судьбе объяснили архивные публикации скафтымовских учеников уже третьего поколения. За четырьмя печатными листами завершенных работ стоит не менее двадцати лет размышлений и поисков, исторических и личных трагедий (см.: т. 3, с. 315–367).
Но мы редко задумываемся над парадоксом скафтымовских работ: бесспорный и значительный научный результат достигнут при отсутствии или, по крайней мере, неочевидности, неясности методологических установок ученого.
2. Это тем более странно, потому что в размышлениях о методе А. П. Скафтымов вроде бы помогает исследователям и последователям. Ранняя его работа, статья «К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы» (1923), имеет отчетливый методологический характер. В ней представлена вполне последовательная и определенная система взглядов, четкая концепция анализа литературного произведения.
Теоретический подход здесь противопоставлен историческому.
Специально отмечено, что генезис, исторические и биографические обстоятельства создания произведения не поясняют его смысла.
Далее четко постулировано, что объективный смысл произведения есть (что противоречит как современным Скафтымову психологическим установкам на индивидуальность чтения, так и будущим постмодернистским утверждениям о множественности и равнозначности любых прочтений текста).
«Цель теоретической науки об искусстве – постижение эстетической целостности художественных произведений, и если в данный момент пути такого постижения несовершенны, то это говорит лишь о том, что мы далеки от идеала и долог путь, по которому мы приблизимся к решению предстоящей проблемы. Но это не освобождает науку от самой проблемы. Не нашли, так нужно искать» (т. 1, с. 33).
3. Опорой в этих поисках становится представление о центростремительной структуре произведения, о его доминанте, или, по-старинному говоря, идее: «В художественном произведении много идей – это правда, но за этой правдой следует другая: эти идеи здесь существуют во взаимной связи, в иерархической взаимозависимости и, следовательно, среди многих есть одна центральная обобщающая и для художника направляющая все остальное» (т. 1, с. 36).
Чуть позднее, в статье «Тематическая композиция романа „Идиот“» (1924), представление о центростремительно-иерархической структуре произведения будет детализировано: «Компоненты художественного произведения по отношению друг к другу находятся в известной иерархической субординации… <…> Концепция действующих лиц, их внутренняя организованность и соотношение между собою, каждая сцена, эпизод, каждая деталь их действенно-тематических отношений, каждое их слово и поступок, каждая частность их теоретических суждений и разговоров – все обусловлено каждый раз некоторой единой, общей для всего произведения идейно-психологической темой автора. Внутренний тематический смысл безусловно господствует над всем составом произведения» (т. 3, с. 57–59).
4. Эти эстетические суждения подкрепляются крайне важной этической установкой: «Исследователю художественное произведение доступно только в его личном эстетическом опыте. В этом смысле, конечно же, его восприятие субъективно. Но субъективизм не есть произвол. Для того чтобы понять, нужно уметь отдать себя чужой точке зрения. Нужно честно читать. Исследователь отдается весь художнику, только повторяет его в эстетическом переживании, он лишь опознает те факты духовно-эстетического опыта, которые развертывает в нем автор» (т. 1, с. 34).
5. Легко заметить, что намеченная теоретическая система через четверть века органически реализовалась в анализе «Вишневого сада» и чеховской драматургии в целом.
Скафтымов исходит из того, что воспроизведение быта, а не событий является исходной тематической установкой чеховской драматургии. «Будни жизни с их пестрыми, обычными, внешне спокойными формами в пьесах Чехова выступили как главная сфера скрытых и наиболее распространенных конфликтно-драматических состояний» (т. 3, с. 458). (Эта мысль близка идее Замятина о воспроизведении в «молекулярной драматургии» Чехова органических, а не катастрофических эпох.)
Отсюда вытекает новый тип конфликта, имеющего не персонально-личностный, а трагически-обобщенный характер: «Драматически-конфликтные положения у Чехова состоят не в противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных противоречиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна» (т. 3, с. 458).
С ним связан «маятниковый» характер драматического действия, которое не столько движется, сколько колеблется вокруг исходного состояния «привычной, тягучей, давно образовавшейся неудовлетворенности». «Дальнейшее движение пьес состоит в перемежающемся мерцании иллюзорных надежд на счастье и в процессах крушения и разоблачения этих иллюзий» (т. 3, с. 476).
Подобной структуре действия отвечает и система персонажей, не противопоставленных друг другу по принципу герой – антигерой, порок и добродетель, а объединенных сходством судьбы, удела человеческого. «В „Чайке“, в „Дяде Ване“, в „Трех сестрах“, в „Вишневом саде“ „нет виноватых“, нет индивидуально и сознательно препятствующих чужому счастью <…> Кто виноват? Такой вопрос непрерывно звучит в каждой пьесе. И каждая пьеса говорит: виноваты не отдельные люди, а все имеющееся сложение жизни в целом. А люди виноваты только в том, что они слабы» (т. 3, с. 470–471).
Наконец, в подобной структуре конфликта и персонажей находит объяснение и чеховский драматический диалог. «„Случайных“ реплик у Чехова множество, они всюду, и диалог непрерывно рвется, ломается и путается в каких-то, видимо, совсем посторонних и ненужных мелочах <…> Подобные диалоги и реплики в общем сценическом контексте у Чехова осуществляют свое назначение не прямым предметным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них проявляется» (т. 3, с. 460). Другими словами, именно такой диалог и является одним из главных средств создания подводного течения или подтекста.
Система чеховской драматургии действительно убедительно и наглядно объяснена из единого принципа, начиная с предельно общих вещей (отношение произведения к реальности) и заканчивая мельчайшими особенностями формы («случайные» реплики и детали). Статья с непритязательным, скромным заглавием «К вопросу о…» стала этапной. Созданная А. П. Скафтымовым концептуальная рамка и до сих пор служит основой анализа чеховской драмы.
6. Вернемся к проблеме научного метода.
Кто же такой А. П. Скафтымов как автор статей о драматургии Чехова?
Не формалист, не социолог, не сторонник психологического или биографического метода. Напоминание о саратовской филологической школе лишь усложняет проблему, потому что свидетельство о прописке не отменяет вопроса о методе.
В противовес отчетливым методологическим концепциям В. М. Маркович недавно напомнил о традиционном литературоведении, объединив под этим знаком таких разных ученых ленинградской филологической школы, как Д. Е. Максимов, Г. А. Бялый, Г. П. Макогоненко, В. Э. Вацуро[611]. (Любопытно, что о методологически определенной стадиальной концепции реализма Г. А. Гуковского идет речь в предшествующем разделе «Странные судьбы идей».)
Характерно, что А. П. Скафтымов последовательно избегал термина метод, говоря (в статье «Тематическая композиция романа „Идиот“») о «телеологическом принципе в формировании произведения искусства» (Б. М. Эйхенбаум в спорах двадцатых годов тоже предпочитал говорить о формальном принципе, а не методе[612]).
И в более позднем методологическом рассуждении последовательно проведена та же позиция: Скафтымов говорит не о своем методе, а о некоторых четких и фундаментальных принципах, позволяющих наиболее точную – честную – интерпретацию произведения. «Меня интересовала внутренняя логика структуры произведения (взятого, конечно, во всем целом). <…> И никогда я не навязывал автору никакой „философии“. О философствующей мысли всегда говорилось лишь изнутри, то есть насколько к этому обязывали все данные, заключенные в содержании и соотношении всех частей и элементов, составляющих целое. <…> Я старался сказать о произведении только то, что оно само сказало. Моим делом тут было только перевести сказанное с языка художественной логики на нашу логику, то есть нечто художественно-непосредственное понять в логическом соотношении всех элементов и формулировать все это нашим общим языком. Тут о какой-то преднамеренной „психологизации“ или „социологизации“ и речи не могло быть. И все вышеперечисленные „психологи“ никакой помощи мне не могли оказать» (письмо Ю. М. Оксману 28 июля 1959 г.; цит. по: т. 1, с. 18–19).
7. В этом методологическом отказе видится большой методологический смысл.
Многие литературоведческие открытия персональны и воспроизодимы в науке лишь в форме повторения, цитирования. (Потому, возможно, А. П. Скафтымов не написал о других чеховских пьесах. Принципы чеховской драматургии были открыты и описаны в целом, проверены на примере «Вишневого сада». Дальнейшие уточнения и корреляции были уже менее интересны.) Причем «последний смысл» произведения, центральная обобщающая идея может быть сформулирована не на методологически-категориальном, а на нашем общем языке.
8. А. П. Скафтымов – не единственный большой ученый без метода. Таковы Н. Я. Берковский, поздний Б. М. Эйхенбаум (в отличие от «среднего» – формалиста), поздний Ю. М. Лотман (в отличие от прежнего структуралиста) и т. д.
Верность методу в области интерпретации – удел эпигонов. Она предопределяет результаты работы, подменяет постижение процедурой.
Вероятно, нужны не только формальная, структуральная, психо- и прочие поэтики, но систематическая поэтика до метода: общее представление о структуре художественного текста, которое может быть встроено в разные методологические системы.
Но и эта поэтика не заменит смыслового прыжка, инсайта, без которого невозможна глубокая интерпретация-постижение.
Чеховские статьи Скафтымова наталкивают на важные, принципиальные выводы, касающиеся специфики литературоведения в той его – важнейшей – части, которая связана с пониманием конкретного произведения и художественного мира писателя.
Поэтический образ как архетип («Соловьиный сад» Блока и «вечный дом» Булгакова)
Сюжет «Мастера и Маргариты» строится на переплетении трех фабул: истории Иешуа и Понтия Пилата, московской дьяволиады, главным героем которой оказывается Воланд, и романа о любви мастера и Маргариты, этих новых Тристана и Изольды или Ромео и Джульетты.
В развязке третьей фабулы измученный и сломленный безымянный творец благодаря верной любовнице получает в награду «покой» (вечный покой, воплощением которого становится «вечный дом»):
«Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.
– Слушай беззвучие, – говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, – слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом»[613].
Сочетание предметных деталей (ручей, каменный мостик, песчаная дорога, вьющийся виноград, венецианское окно), кажется, позволяет опознать возможный источник-налог этого булгаковского образа. Сходный хронотоп является центральным символом поэмы А. Блока «Соловьиный сад»[614].
В соловьином саду тоже есть ручьи, прохладная дорога, вьющиеся по камням ограды цветы, голубое окно. Совпадает и время действия шестой главки блоковской поэмы и булгаковского эпизода: «мглистый рассвет» – «рассвет первых утренних лучей».
Аналогична и функция образа: сад оказывается приютом влюбленных, местом красоты, гармонии и счастья, скрывающим от «дольнего горя» окружающего мира.
Противоположны, однако, пути героев. Блоковский безымянный персонаж, лирический герой, приходит в сад, чтобы потом покинуть его, подчиняясь велению долга. Безымянный булгаковский мастер вместе с любимой остается в саду навсегда.
Любопытно, что в первой редакции последней главы Булгаков выдвигал на первое место не «дом», а именно «сад»: «Ты будешь жить в саду и всякое утро выходить на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как, цепляясь, ползет по стене»[615].
Таким образом, булгаковский «вечный дом» – это «сад», где соловьиную песнь заменяет «беззвучие» и музыка Шуберта. С признанием этой связи обнаруживается, что и некоторые другие формулы третьего тома блоковской лирики перекликаются с существенными мотивами булгаковского романа.
Ночи зимние бросят, быть может, Нас в безумный и дьявольский бал… (с. 10) И так давно постыли люди, Уныло ждущие Христа… Лишь дьявола они находят… Их лишь к отчаянью приводят Извечно лгущие уста… (с. 82)В цикле «Итальянские стихи» обнаруживается и виноград с тишиной («Где прежде бушевало море, / Там – виноград и тишина»; с. 100), и идея будущей жизни («Очнусь ли я в другой отчизне, / Не в этой сумрачной стране?»; с. 103).
Стихотворение «Последнее напутствие» кажется просто лирическим аналогом, описанием чувств мастера при расставании с этим миром и обретением вечного дома.
«– Навсегда! Это надо осмыслить, – прошептал мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а оно – предчувствием постоянного покоя»[616].
Блоковский текст содержит практически тот же комплекс тем: переход от боли к покою, тишина, «легкий образ рая», активная роль любимой.
Боль проходит понемногу, Не навек она дана. Есть конец мятежным стонам. Злую муку и тревогу Побеждает тишина. <…> Это – легкий образ рая, Это – милая твоя. Ляг на смертный одр с улыбкой, Тихо грезить, замыкая Круг постылый бытия. Протянуться без желаний, Улыбнуться навсегда, Чтоб в последний раз проплыли Мимо сонно, как в тумане, Люди, зданья, города… <…> А когда пройдет все мимо, Чем тревожила земля, Та, кого любил ты много, Поведет рукой любимой В Елисейские поля (с. 272–273).Соответствия могут быть переведены в биографическую плоскость. Возможными прототипами булгаковского героя (в самом широком смысле) называют Гоголя и, естественно, самого автора[617]. Между тем поэтическая немота мастера, его сломленность, разочарование в своем искусстве напоминают и о последних годах жизни Блока.
Вернемся, однако, к текстам. Самым сложным вопросом при установлении подобных соответствий является следующий: а что позволяет нам связать булгаковский «вечный дом» с блоковским «соловьиным садом»? Почему это, скажем, не библейский Эдем, привычный идиллический топос или индивидуальный образ?
Поэтика интертекстуальности в таких случаях, как правило, не задается вопросом о степени знакомства последующего автора с текстами предшественника, апеллируя к единому культурному контексту. Традиционное сравнительное литературоведение, напротив, обычно ищет внетекстовые аргументы, подтверждающие факт знакомства, чтения, непосредственного контакта между авторами или текстами.
Кажется, можно предположить и еще один вариант ответа на этот коварный вопрос. Помимо привычных архетипов-универсалий как феноменов коллективного бессознательного, можно говорить также об индивидуальных архетипах (хотя это оксюморон), то есть авторских образах и мотивах, приобретающих впоследствии характер универсалий и становящихся посредниками между собственно архетипами и последующими их культурными (литературными) воплощениями. Блоковский «Соловьиный сад» (как и чеховский «Вишневый сад») относится к числу таких индивидуальных архетипов, образующих культурный слой последующего литературного развития. Из блоковских образов на статус сразу опознаваемых индивидуальных архетипов могут претендовать также «Прекрасная Дама», «Незнакомка», «Русь-жена», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».
Понятие индивидуального архетипа позволяет не просто вычленить из большого числа образов-мотивов наиболее важные, но и перенести их с уровня конкретного текста или индивидуального художественного мира на уровень литературы как системы и тем самым реализовать не раз высказываемую, но ни разу не осуществленную идею истории литературы без имен, историю литературы как развертывания и преобразования разноуровневых тем и мотивов.
Источником, резервуаром таких мотивов часто становится лирика как искусство не только наиболее суггестивное, но и наиболее «формульное». В индивидуальные архетипы могут превращаться тематические образы (в понимании В. Е. Холшевникова). Функционально индивидуальные архетипы, вероятно, аналогичны семантическому ореолу метра: возникшая в конкретном тексте смысловая связь становится культурной универсалией, воспринимающейся, однако, не с обязательной принудительностью, а при соответствующей эстетической установке – исследовательской или читательской.
Осип Мандельштам: поэзия как поэтика (Несколько положений)
Помимо традиционных учебников и пособий по теории литературы и поэтике, давно следовало бы составить антологию, на страницах которой об этих материях размышляют художники – и на языке искусства. Наблюдения, метафоры, прозрения и самоописания часто объясняют суть проблем точнее, чем привычные рефлексии профессиональных литературоведов (хотя и они нуждаются в филологической интерпретации). В этой пока несуществующей хрестоматии «Поэтической поэтики» О. Э. Мандельштам должен занять почетное место.
Из собрания стихотворений Мандельштама (оставляем в стороне прозаические этюды из сборника «О поэзии», «Разговор о Данте» и пр.) более тридцати текстов имеют право войти в подобную антологию (точнее, по нашим подсчетам, 32–25 из основного собрания и 7 ранних стихотворений, не вошедших в основное собрание)[618]. Причем больше всего таких поэтологических произведений обнаруживается в первом мандельштамовском сборнике «Камень».
Первоначальная типология/систематизация стихотворений (она может стать основой разделов/глав антологии) представляется следующей (упомянем не все, а лишь наиболее характерный тексты каждой группы):
I. Стихи о поэзии (процесс творчества, вдохновение, образ читателя и т. п.): «Отравлен хлеб и воздух выпит…» (1913; с. 115–116), «Как облаком сердце одето…» (1910; с. 316); «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» (1933; с. 229).
II. Поэтические портреты: «Ахматова» (1914; с. 117), «Батюшков» (18 июня 1932; с. 218), «Стихи о русской поэзии», I. «Сядь, Державин, развалися…» (2–7 июля 1932; с. 218–219), «Ариост», две редакции (4–6 мая 1933; с. 222–223; 1935; с. 486).
III. Поэтические метасюжеты (мотивная мозаика на основе других литературных произведений, сюжетов театра и кинематографа): «Кинематограф» (1913; с. 112–113), «Домби и сын» (1913; с. 115), «Бессонница, Гомер, тугие паруса…» (1915; с. 126), «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917; с. 139), «За то, что я руки твои не сумел удержать…» (1920; с. 158); три последних – тройчатка, своеобразный триптих на гомеровские мотивы.
IV. Стихи о поэтике (осмысление на поэтическом языке традиционных проблем поэтики и теории литературы: от тропов до специфики литературного направления и поэтической эпохи): «Нет, не луна, а светлый циферблат…» (1912; с. 102), «Я не слыхал рассказов Оссиана…» (1914; с. 120), «Есть ценностей незыблемая скала…» (1914; с. 339), «Я не увижу знаменитой „Федры“…» (1915; с. 127–128) – двойчатка о своеобразии классической трагедии.
Первые две группы текстов вообще традиционны для поэтической поэтики. Стихи о поэте и поэзии традиционно выделяются и анализируются у многих авторов, они не раз собирались в антологиях[619]. Финальная строфа-афоризм из стихотворения «Отравлен хлеб и воздух выпит…» органично входит в большой круг текстов, описывающих процесс поэтического вдохновения, творческую одержимость в восприятии и изображении мира.
И, если подлинно поется И полной грудью, наконец, Все исчезает – остается Пространство, звезды и певец! (с. 116)Однако третья и четвертая группы намеченной типологии если и не специфичны для Мандельштама, то относительно редки, в сравнении с первыми двумя для русской поэзии.
В поэтических метасюжетах отчетливо проявляется не раз описанное свойство таланта поэта: умение мыслить культурно-историческими эпохами, не пересказывать претексты, а замечательно воспроизводить их общий знаменатель.
Есть рассказ К. Мочульского (по первоначальному образованию – филолога-античника) об университетских занятиях Мандельштама. «В 1912 году Осип Эмильевич поступил на филологический факультет Петербургского университета. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие: наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола „пайдево“ (воспитывать) звучит „пепайдекос“, он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. <…> Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер – чем непонятнее, тем прекраснее. Я очень боялся, что на экзамене он провалится, но и тут судьба его хранила, и он каким-то чудом выдержал испытание». (Согласно другому распространенному анекдоту, Мандельштам экзамен так и не сдал.)
Однако Мочульский завершает рассказ замечательным итогом: «Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его. Впоследствии он написал гениальные стихи о золотом руне и странствиях Одиссея:
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный.В этих двух строках больше „эллинства“, чем во всей „античной“ поэзии многоученого Вячеслава Иванова»[620].
Писатель совсем другой страны и культуры Х. Л. Борхес считал («Четыре цикла»), что в литературе существуют всего четыре истории. Вторая – о возвращении. «Об Улиссе, после десяти лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах приплывшем к родной Итаке…»
Провокативно-простая формулировка Борхеса хорошо поясняет мандельштамовское стихотворение. Многоплановый, разветвленный гомеровский эпос превращается у Мандельштама в сжатую лирическую балладу о связи времен, точнее – о вечном – пронизанном солнцем, негой и медом – настоящем, в котором до неразличимости слились Древняя Греция и современная Таврида, Елена и Пенелопа, Одиссей и молодая хозяйка, виноград и битва.
Сходное мнение об эссенциальности стихотворения «Домби и сын» высказывает Е. Г. Эткинд. «Эти 24 строки содержат сгусток впечатления от двухтомного романа, они передают его атмосферу, его эмоциональное содержание. <…> Двухтомный роман сжат в стихотворении, содержащем примерно 75 слов, они могут поместиться на четверти страницы. К тому же Мандельштам весьма свободно обошелся с романом. Подчиняясь законам поэтической сгущенности, он спрессовал вместе Оливера Твиста и Домби, обострил все ситуации. <…> Вот о неизбежной гибели человека и написал свое стихотворение русский поэт, выделив этот и в самом деле центральный мотив из огромного многопланового романа»[621].
Остановимся подробнее на одном из текстов четвертой группы, где Мандельштам выступает уже не как поэт-живописец, а как поэт-теоретик, однако излагающий свои теории в таких же сжатых поэтических формулах.
Стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат…» обычно сопровождается двумя историко-литературными справками. Комментаторы ссылаются на реплику безумного К. Батюшкова, записанную доктором Дитрихом (она воспроизводится и в, безусловно, известном поэту романе Д. С. Мережковского «Александр I»).
Второй, реже используемый, контекст – запись Л. Я. Гинзбург: «Гумилев рассказывал о том, что Мандельштам уже после основания Цеха поэтов еще „долго упорствовал в символистической ереси“. Потом сдался. Стихи: „Нет, не луна, а светлый циферблат…“ – были его литературным покаянием. Однажды поздним вечером, когда акмеисты компанией провожали Ахматову на Царскосельский вокзал, он прочитал их, указывая на освещенный циферблат часового магазина»[622]. Она подтверждается аналогичными суждениями Н. С. Гумилева, дважды рецензировавшего «Камень» и определявшего этот текст как переломный: «Этим он открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении <…> С этой поры поэт становится адептом литературного течения, известного под названием акмеизма»[623].
Однако в конкретном анализе исследователи обычно смотрят на это стихотворение под другим углом зрения, акцентируют иную смысловую доминанту. Выбор Мандельштамом новой акмеистской веры упоминается, но почти не принимается во внимание.
«Мандельштамовский Батюшков со „спесью“ третирует время во имя „вечности“. Так что главная тема этого стихотворения – „безумие“ поэта, вытолкнyтого из времени в „вечность“.
Главной, определяющей ценностью здесь предстает пространство, в котором место луны занимает циферблат, и царят день, а не ночь, трезвость, а не „безумие“. <…> Звезды оказывались „слабыми“ и переводились в ряд нейтральных „предметов“, которые можно „осязать“»[624].
«Так поэт приблизил к Земле недосягаемую метафизическую даль. В его понимании акмеизм – это прежде всего не противопоставление „звездного“ – „земному“ (= млечному), а „живое равновесие“ (вновь вспомним формулу из эссе „Утро акмеизма“) между „звездным“ и „земным“. Иными словами, звезды становятся в стихотворении „Нет, не луна, а светлый циферблат…“ своими, потому что и метафизика в понимании поэта – своя, она не отменена, а уравновешена любовью к Земле.
Понятно тогда, почему в первой строфе стихотворения Мандельштама возникает полуизвиняющееся: „И чем я виноват…“ Ведь поэт в данном случае объяснялся не с символистами, а с соратниками-акмеистами – Гумилевым и Городецким»[625].
В одном случае во главу угла поставлена реплика Батюшкова, в другом – образ звезд, контекстуально развернутый и диалектически примиренный с Землей.
Кажется, приняв во внимание программный характер стихотворения, эти аспекты можно объединить. Причем прочесть стихи надо «наоборот».
Кто такой Батюшков? Не реальный поэт с трагической судьбой, которого Мандельштам любил («Словно гуляка с волшебною тростью / Батюшков нежный со мною живет» – с. 218), а герой, персонаж этого стихотворения. Профессиональный символист! Простую проблему, прозрачную паутинку быта он сразу переводит в метафизическую плоскость: на бытовое «Который час?» отвечает высокопарным «Вечность».
Именно такую дурную метафизику, «лжесимволизм» Мандельштам высмеивает позднее в статье «О природе слова»: «Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического „леса соответствий“ – чучельная мастерская.
Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс „соответствий“, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой»[626].
Каков ответ лирического субъекта?
Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, и чем я виноват, Что слабых звезд я осязаю млечность?Первое трехстишие начинается как полемика с невидимыми оппонентами, возражение им (этот интонационный жест похож на начало лермонтовской «Родины», как его интерпретировал И. Л. Андроников). И конечно, это не Гумилев с Городецким, и даже не профессиональные символисты. Это – любые сторонники бытовой и поэтической высокопарности, которые слова не скажут в простоте.
Их вечному подмигиванию, контрдансу «соответствий» лирический субъект противопоставляет вещность мира и точность выражения. Вот здесь желтый циферблат уличных часов. А вот там – луна. Их, конечно, можно сравнить, но это – разные предметы. Если у тебя спрашивают «Который час?», то надо посмотреть на часы, а вовсе не в небо – и вежливо ответить реальному собеседнику, а не Канту с его «звездным небом над головой» (для этого существуют другие ситуации).
Ключевым образом стихотворения оказываются, с нашей точки зрения, не звезды, не вечность с млечностью, даже не прозаический, бытовой циферблат, но глагол осязаю.
Осязание (да еще и обоняние) – самое конкретное из данных человеку чувств. Видеть и слышать мы можем даже на большом расстоянии. Осязать – только на расстоянии вытянутой руки.
Вселенная Мандельштама (здесь) предстает домашним очеловеченным миром, где млечность звезд так же понятна, доступна и тепла, как земное молоко.
Стихотворение Мандельштама – манифест акмеизма, его идеальная формула, далеко не всегда столь четко обнаруживаемая и в его собственный текстах. Но задачей поэзии как поэтики и является поиск таких идеальных формул, которые потом развертываются в «пароходы, строчки и другие долгие дела» (статьи, исследования и другие формы уже собственно рефлексивной поэтики).
«Новая проза» Варлама Шаламова: теория и практика (Несколько положений)
1. Теория и практика писателя-творца (в нашем случае – В. Шаламова), текст и его автометаинтерпретация не обязательно должны рифмоваться. Их контрапункт, даже конфликт – нормальное явление, требующее исследовательского внимания и объяснения. Авторские суждения и рассуждения должны быть соотнесены с научными представлениями и проверены его собственными текстами.
Начнем с простого примера. Отрицая метод Льва Толстого, перебирающего в черновиках несколько вариантов цвета глаз Катюши Масловой («абсолютная антихудожественность»), Шаламов заявляет: «Разве для любого героя „Колымских рассказов“ – если они там есть – существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не аберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней»[627].
Но заглянем в тексты «Колымских рассказов». «…Черноволосый малый, с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз…» («На представку»; т. 1, с. 50). «Темно-зеленым, изумрудным огнем ее глаза вспыхивали как-то невпопад, не к месту» («Необращенный»; т. 1, с. 275). «Голубые глаза, большой лоб с залысиной…» («Потомок декабриста»; т. 1, с. 293). «Темноглазая…» («Аневризма аорты»; т. 1, с. 327).
Цвет глаз у героев, оказывается, вполне различим. И даже попадает в ударное начало рассказа: «Синие глаза выцветают. В детстве – васильковые, превращаются с годами в грязно-мутные, серо-голубые обывательские глазки; либо в стекловидные щупальцы следователей и вахтеров; либо в солдатские „стальные“ глаза – оттенков бывает много. И очень редко глаза сохраняют цвет детства…» («Первый чекист»; т. 1, с. 529).
Таким образом, если даже в реальности Колымы цвета глаз для узников не существовало, он понадобился в «Колымских рассказах», чего автор как теоретик не замечал или не признавал.
2. Автокомментарии В. Т. Шаламова, его теория «новой прозы», изложенная в эссе (1965) и примыкающих к нему письмах и заметках, – одно из ключевых, личных высказываний, чрезвычайно важное для понимания этики и эстетики писателя. Мы сосредоточимся лишь на последней.
При всей фрагментарности и тезисности шаламовские суждения представляют стройную концепцию современной автору литературной ситуации, в которую вписывается собственное творчество.
«Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму» («О прозе»; т. 5, с. 144). (Это – не только реакция на споры о судьбе романа в 1960-е годы, но и, возможно, отзвук мандельштамовской идеи «конца романа», вырастающей из совсем иных источников.)
Научная фантастика, популярный массовый жанр – «жалкий суррогат литературы», она не может спасти положение, вывести словесность из кризиса.
«Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано» (т. 5, с. 144).
Выходом, спасением в этой ситуации Шаламову видится противоположный беллетристике полюс: документальные жанры, очерк, мемуары, «проза бывалых людей» (как пример в разных местах упоминаются произведения А. де Экзюпери, биографии А. Моруа, мемуарная книга Н. Я. Мандельштам и даже «Моя жизнь» Ч. Чаплина, «вещь в литературном отношении посредственная»).
Однако место «Колымских рассказов» определяется не на полюсах чистого вымысла и документа как такового, а посередине, но в сфере художественного. «Колымские рассказы» – «не проза документа, а проза, выстраданная как документ» («О моей прозе»; т. 5, с. 157).
Главные принципы новой прозы Шаламов тоже обозначает и неоднократно описывает.
Сюжетность. «Сюжетная законченность. Жизнь – бесконечно сюжетна, как сюжетны история, мифология; любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни». Хотя о сюжете здесь же говорится парадоксально: «Для „Колымских рассказов“ не важно, сюжетны они или нет. Там есть и сюжетные и бессюжетные рассказы, но никто не скажет, что вторые менее сюжетны и менее важны» («О прозе»; т. 5, с. 149).
Краткость. «Пухлая многословная описательность становится пороком, зачеркивающим произведение. <…> Чем достигается результат? <…> Краткостью, простотой, отсечением всего, что может быть названо „литературой“» (т. 5, с. 145, 152).
Новизна и точность деталей. «В рассказ должны быть введены, подсажены детали – необычные новые подробности, описания по-новому. Само собой новизна, верность, точность этих подробностей заставят поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану. Но роль их гораздо больше в новой прозе. Это – всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающая „подтекст“, служащий воле автора, важный элемент художественного решения, художественного метода» (т. 5, с. 152).
При этом автор манифеста новой прозы постоянно апеллирует к пушкинским исканиям, пушкинским заветам и, с другой стороны, к опыту Андрея Белого и вообще модернизма, резко отталкиваясь от линии Льва Толстого, Солженицына, Пастернака-прозаика.
3. В столь последовательно изложенной эстетической системе выпадает важное звено. Шаламов почти никогда не конкретизирует жанр своей новой прозы.
Определение рассказы в заглавии одной из книг и всего цикла «Колымских рассказов» имеет не жанровый смысл. Это, скорее, обозначение формы повествования, его вероятный синоним – как раз заглавие заметок: проза.
Казалось бы, жанровую подсказку содержит уже первая опубликованная Шаламовым вещь. Подзаголовок «Трех смертей доктора Аустино» (1936) – новелла. Однако в заметке «Кое-что о моих стихах» (1969) он фактически аннулируется, заменяется синонимом: «Есть и рассказы, полностью написанные во сне. Рассказ „Три смерти доктора Аустино“ – в нем две журнальные странички, написан весь во сне… Утром я записал, не одеваясь, весь этот текст, не изменяя ни одного слова, ни одного абзаца…» (т. 5, с. 107). (Здесь и далее курсивы в цитатах мои. – И. С.)
Соответственно, один из поздних текстов Шаламова называется «Вставная новелла», но в первом же его абзаце как синонимы употребляются слова «новелла» и «рассказ».
В одном из стихотворений литературный термин приобретает уже не эстетические, а этические коннотации, становится воплощением той самой лжи, с которой ожесточенно боролся автор «Колымских рассказов».
Безымянные герои, Поднимаясь поутру, Торопливо землю роют, Застывая на ветру. А чужая честь и доблесть, В разноречье слов и дел, Оккупировала область Мемуаров и новелл. Но новеллам тем не веря, Их сюжетам и канве, Бродит честь походкой зверя По полуночной Москве… (т. 3, с. 228)Таким образом, в эстетическом словаре В. Шаламова новелла упоминается случайно, эпизодично и в разных значениях. Аналогично и в исследованиях «Колымских рассказов» говорится о принципе новеллистичности (Е. В. Волкова, А. А. Антипов), затрагиваются проблемы новеллистической структуры при разборе конкретных текстов, но жанр «Колымских рассказов», кажется, еще не осознан в его универсальном, всеобъемлющем значении.
Отброшенный теоретиком-строителем камень должен быть поставлен во главу угла.
Ключевым представляется позднее суждение Шаламова: «Как и всякий новеллист, я придаю чрезвычайное значение первой и последней фразе. Пока в мозгу не найдены, не сформулированы эти две фразы – первая и последняя, – рассказа нет. У меня множество тетрадей, где записаны только первая фраза и последняя – это все работа будущего» (т. 6, с. 491).
Новелла – жанровая доминанта «новой прозы», эстетическое ядро «Колымских рассказов». Варлама Шаламова можно назвать одним из самых значительных русских новеллистов ХХ века.
Автор «Исторической поэтики новеллы» отказывается от строгого определения жанра. «Историческому обзору возникновения и эволюции новеллы следовало бы предпослать хотя бы приблизительное теоретическое определение новеллы, но такого не существует, скорее всего, потому, что при всей своей структурной концентрированности новелла предстает в реальности в виде достаточно разнообразных вариантов, обусловленных культурно-историческими различиями»[628].
Однако здесь же есть ссылка на знаменитое определение, которое может служить ядром, исходной точкой, фундаментом этих разнообразных вариантов: «– Знаете что, – сказал Гёте, – назовем ее просто „Новеллой“, ибо новелла и есть свершившееся неслыханное событие. Вот истинный смысл этого слова, а то, что в Германии имеет хождение под названием „новелла“, отнюдь таковой не является, это скорее рассказ, в общем – все, что угодно. В своем первоначальном смысле неслыханного события новелла встречается и в „Избирательном сродстве“»[629].
Новелла – малый эпический фабульный жанр, необыкновенная история, в отличие от обыкновенной истории (бесфабульный рассказ), невыдуманной истории (очерк), фантастической истории (сказка), дидактической истории (притча), сверхкраткого конспекта, контура истории (анекдот).
Как квинтэссенция, ядро малого жанра новелла противостоит роману.
«Новелла <…> демонстрирует противоречие, в то время как роман раскрывает его с широтой и обстоятельностью»[630].
Структурным костяком новеллы является знаменитая фабульная пятичленка с обязательной пуантой, кульминацией.
4. Поэтика шаламовской прозы может быть понята прежде всего как новеллистическая поэтика: внутрижанровая типология, строение фабулы, подробности-детали. Именно внутри старого нового жанра новеллы автор «Колымских рассказов» оказывается по-настоящему понятен, разнообразен и оригинален. Ключевые шаламовские тексты – «На представку», «Одиночный замер», «Аневризма аорты», «Последний бой майора Пугачева», «Сентенция», «Почерк», «За письмом» – новеллы.
Некоторые пути их исследования подсказаны в автокомментариях Шаламова.
а) «Не нужно думать, что „Колымские рассказы“, проза моя – так-таки одним материалом и держится. Материал я мог бы привести в тысячу раз сенсационней. Нет, каждый рассказ есть подобие литературного опыта, эксперимент. Там есть рассказ, написанный по всем канонам сюжетной классики, есть обнаженные до предела, вроде последних коротких рассказов Пушкина, есть рассказы, написанные по плану – экономное изложение события и подробнейшим образом – новым, не показанным нигде и никем – описанная деталь или две детали. Этот способ, четкое описание детали, заставляет читателя верить всему остальному, внимательно читать рассказ.
Из рецензий, из писем, полученных мной, я убедился, что расчет мой – верен, а метод – удачен. Есть рассказы, где один мотор движет два сюжета» («Стихи и стимулирующее чтение», 1960-е гг.; т. 5, с. 93).
В этом пассаже разграничены минимум четыре или пять жанровых вариантов новеллы. Интересно было бы как определить подразумеваемые тексты (классическая новелла, новелла-деталь, двухсюжетная/фабульная новелла), так и вообще выстроить типологию «Колымских рассказов». В частности, важно разграничение традиционных, классических новелл-ситуаций и новелл-смыслов (Л. Пинский), в которых пуантой становится не событие, а фраза, реплика, сентенция (такие новеллы мы находим в «Конармии»).
Шаламов подсказывает и другие аспекты исследования «Колымских рассказов»: связь с очерком и отталкивание от него («Очерки преступного мира», с нашей точки зрения, не входят в главный цикл: в двух последних книгах новелла уступает очерку); формы поэтичности (лиризма); характеристика персонажа (знаковость, типологичность, специфический психологизм или отсутствие его); начала и концовки (первая и последняя фразы).
б) Признание ключевой роли новеллы позволяет резко расширить культурный контекст – далеко за пределы так называемой лагерной литературы. В круг возможных валентностей, сопоставлений «Колымских рассказов» с другими текстами должны войти новеллистика Пушкина (а не только упоминаемая в связи с новеллой «На представку» повесть «Пиковая дама), И. Бабеля (при резкости поздних отзывов зависимость от которого Шаламов тем не менее признавал), Мих. Зощенко, Л. Добычина, Д. Хармса, Ю. Тынянова, А. Бирса (тоже упомянутого критически), Г. де Мопассана, Э. Хемингуэя и т. д. – вплоть до ренессансных истоков жанра.
в) Философия «Колымских рассказов» тоже уточняет прямые высказывания автора.
«Тюремное время – длинное время. Тюремные часы бесконечны, потому что они однообразны, бессюжетны. <…> В тюремном времени мало внешних впечатлений – поэтому после время заключения кажется черным провалом, пустотой, бездонной ямой, откуда память с усилием и неохотой достает какое-нибудь событие. <…> Потом это время будет казаться бессюжетным, пустым; будет казаться, что время пролетело скоро, тем скорее пролетело, чем медленнее оно тянулось» («Очерки преступного мира», «Как „тискают“ романы»; т. 2, с. 94).
Колыма, тюрьма, каторга, если верить этому наблюдению, не только убивают людей, но и убивают, вычеркивают время тех, кто выжил. «Автор „Колымских рассказов“ считает лагерь отрицательным опытом для человека – с первого до последнего часа» (т. 5, с. 148). «Лагерный опыт – целиком отрицательный, до единой минуты» («Инженер Киселев»; т. 1, с. 469).
Но философия новеллы опирается на прямо противоположную предпосылку: мир насыщен событиями, разнообразными «вдруг», из которых вырастает очередная фабула.
Постоянно обнаруживая событийность в этом мертвом мире, Шаламов-новеллист корректирует собственные воспоминания и сентенции. Живая жизнь пульсирует и в этом мертвом мире.
Сон: эстетическая феноменология и литературная типология
«В одной из пустынь Ирана стоит невысокая каменная башня без дверей и окон. Внутри – единственная каморка (с круглым земляным полом), и в ней – деревянный стол и скамья. В этом круглом застенке похожий на меня человек непонятными буквами пишет поэму о человеке, который в другом круглом застенке пишет поэму о человеке, который в другом круглом застенке… Занятию нет конца, и никто никогда не прочтет написанного»[631].
Самый знаменитый «вавилонский библиотекарь» ХХ века демонстрирует очередной парадокс. Уходящая в бесконечность череда сочинителей поэм занимается бессмысленным и бесполезным делом: у этих произведений никогда не будет читателей. Но ведь мы читаем этот текст о невозможности чтения!
Миниатюра Х. Л. Борхеса называется «Сон», что задает еще один аспект ее проблематики: это трансформация сновидения в литературное произведение, один из вариантов модели сон – текст.
В своей последней книге «Культура и взрыв» Ю. М. Лотман назвал соответствующую главу «Сон – семиотическое окно»[632]. То, что обнаруживается при взгляде в окно, прежде всего определяется позицией наблюдателя, его профессиональной и методологической установкой.
Фрейдист увидит там подавленные инстинкты и трансформированные неврозы, последователь Юнга – культурные архетипы, гадалка – будущие события, ребенок – всего лишь интересную историю и т. п.
П. Флоренский сопоставляет сон с иконой по признаку «границы между миром видимым и миром невидимым»[633]. Б. Успенский усматривает параллелизм между восприятием сна и восприятием истории, поскольку они «моделируют наши представления о иной действительности»[634].
Предельной в этом ряду оказывается метафора «жизнь есть сон», придуманная Кальдероном (правда, с опорой на тысячелетнюю традицию, идущую еще от античности) и философски обоснованная А. Шопенгауэром.
«Таким образом, хотя отдельные сновидения и отличаются от действительной жизни тем, что входят в связь опыта, беспрерывно длящуюся в жизни, и пробуждение указывает на это различие, тем не менее такая связь опыта принадлежит действительной жизни как ее форма, и сновидение, в свою очередь, также обладает в себе связью, которую может противопоставить ей. Если стать на точку зрения вне жизни и сна, то мы не обнаружим в их существе определенного различия и должны будем признать, что поэты правы, утверждая, что жизнь есть длинное сновидение»[635].
Не сон ли жизнь и здешний свет? Но тот, кто видит сон, – живет. (Н. М. Карамзин, 1825 г.)В свете этой рамочной метафоры уже не покажется странным отождествление сна с искусством и – у́же – с литературой.
Уже Шопенгауэр превратил метафорический двучлен в трехчлен: «Жизнь и сновидения – страницы одной и той же книги»[636].
А. Ремизов, автор уникальной в своем роде книги-исследования сновидений «Огонь вещей», заявлял: «Творчество Гоголя представляю себе как ряд беспробудных сновидений с пробуждением во сне. Всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне»[637].
Упомянутый Борхес (еще один писатель, который постоянно обращался к сновидениям как источнику творчества и материалу исследования) определял автора «Дон Кихота» и его героя как «сновидца и его сон», а Шекспира – как поэта, который «двадцать лет провел, управляя своими сновидениями»[638].
Ю. М. Лотман завершал заметки о сне как семиотическом окне утверждением связи между сном и искусством: то и другое – нереальная реальность[639].
«Экая славная вещь сон, подумаешь! Вся жизнь наша сон, и лучшее в ней опять-таки сон. – А поэзия? – И поэзия сон, только райский» (И. С. Тургенев. «Андрей Колосов»).
В подобных суждениях можно усмотреть нечто большее, чем парадокс, превратившийся в трюизм (как в трюизм превратилось сравнение «жизнь есть сон»). В пользу сопоставления можно привести достаточно весомые аргументы.
Сон, во-первых, абсолютно индивидуален, если не уникален. Даже сам сновидец, не говоря уже о других, как правило, не способен вернуться в свой сон, но может лишь увидеть что-то похожее заново. «Следовательно, это принципиальный „язык для одного человека“. С этим же связана предельная затрудненность коммуникативности этого языка: пересказать сон так же трудно, как пересказать словами музыкальное произведение»[640], – развертывал Лотман свою параллель.
Это справедливо, однако сравнение сна с искусством вообще представляется широким и неопределенным. Музыкальное произведение можно услышать или сыграть самому, а иных способов приобщения другого к моему сну, кроме пересказа, не существует. Станцевать, сыграть или спеть, сфотографировать или снять сон невозможно (во всяком случае, это требует гораздо большей условности и вторично по сравнению с пересказом). Мой сон, таким образом, становится доступным другому, включается в коммуникативную ситуацию лишь в форме рассказа, повествования.
Во-вторых, словесный образ, как и сон, видим неким внутренним интеллектуальным зрением; его восприятие не тотально, а пунктирно, фрагментарно и никогда не достигает интенсивности прямого чувственного восприятия. Во всяком случае, во сне мы видим, слышим, говорим по-иному.
В-третьих, литература (а не искусство вообще) подчиняется критерию достоверности, правдивости, а не истинности (невозможно «проверить» литературный образ или чужой сон, можно в него лишь поверить).
Наконец, эмпирическое время сновидения (даже если его можно зафиксировать) никак не входит во время сна. Они разноприродны. Точно так же время чтения – и это пока плохо осознано – никак не связано с сюжетным временем, они тоже имеют разную природу.
Таким образом, на выходе, для другого, в прагматическом аспекте сон есть первая литература, попытка с помощью слова, в линейном развертывании речи передать объемное, чувственное восприятие мира, никогда не достигающее его реальности для сновидца, но стремящееся к этому пределу.
Утверждение литература есть сон ничуть не менее и не более парадоксально, чем иные (жизнь есть сон, смерть есть сон, история есть сон).
Однако такая эстетическая аналогия слишком абстрактна и, как правило, без рефлексии переводится на уровень истории литературы (сон Татьяны у Пушкина, Тургенев-сновидец и т. п.).
Медиатором, промежуточной ступенью между верхом и низом должна служить типология литературных снов.
Модель сон = текст при данном подходе трансформируется в иную – сон = текст в тексте. Сон как литературный прием тем самым встает в ряд с такими феноменами, как рассказ в рассказе, сцена на сцене, подробное описание зеркального отражения, автометаинтерпретация, и другими способами двухуровневого повествования.
Первый, и самый простой, типологический критерий – величина текста в тексте. Исходная точка – краткий сон, чаще всего даже не пластически изображенный, а пересказанный.
«Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали и пошли прочь» («Ревизор», д. 1, явл. I).
«„Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – столы пели: Il mio tesoro, и не Il mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины“, – вспоминал он» («Анна Каренина», ч. 1, гл. I).
«Сны в два слова – самые пронзительные. Я думаю, городничий до сих пор вспоминает крыс, как каждый из нас, прочитав „Ревизора“»[641], – утверждал Ремизов.
Таким сжатым «двусловным» описаниям противостоят развернутые сцены, эпизоды, главы сновидений, где текст в тексте превращается в ряд описательных картин или даже приобретает собственную фабулу.
Краткие сны обычно органично включены в первичную «фабулу действительности». Для развернутых снов важным критерием типологической классификации оказывается проблема границы.
Нормальный, немаркированный вариант – четкое отделение сна от художественной реальности на входе и на выходе по формуле: заснул – увидел – проснулся.
«И снится чудный сон Татьяне… нестерпимый крик / Раздался… хижина шатнулась… И Таня в ужасе проснулась…» («Евгений Онегин», гл. 5, строфы ХI – ХХI).
«Мне приснился сон, которого никогда я не мог позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни… Ужас и недоумение овладели мною… И в эту минуту я проснулся…» («Капитанская дочка», гл. II, «Вожатый»).
На противоположном полюсе – размывание границы между повествовательными уровнями, причем наиболее распространенным является немаркированное, маскирующее границу сна начало и отмеченный конец.
«С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.
На дворе было темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом» – такова вводка в сон героя «Гробовщика».
И лишь в его конце, на выходе, станет ясно, что пробуждение гробовщика, визит к покойнице Трюхиной, возвращение домой и встреча с обманутыми мертвецами – часть того же кошмарного сна. «Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, раздувающую самовар…
– Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили» («Гробовщик»).
Аналогичен способ включения сна в текст «Страшного гадания» А. Бестужева-Марлинского или «Дара» В. Набокова (сон героя об отце). И там пробуждение оказывается частью сна, настоящие границы между текстами обнаруживаются лишь в концовке.
Усложненный вариант демонстрирует «Портрет». В гоголевской повести размыто не только начало, вход в сновидение, но и выход из него маскируется трижды: пробуждение всякий раз оказывается частью длящегося сонного кошмара.
«Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул и – проснулся.
Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. „Неужели это был сон?“ – сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явленья не была похожа на сон».
Однако это пробуждение оказывается мнимым, потому что после него Чартков продолжает видеть старика с ожившего портрета: «И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто хотели его высосать… С воплем отчаянья вскочил он и проснулся.
„Неужели и это был сон?“ С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул».
Но и это второе пробуждение тоже оказывается сном во сне. Кошмар продолжается. Чартков освобождается от него, просыпаясь в третий раз.
«„Господи, Боже мой, что это?“ – вскрикнул он, крестясь отчаянно, – и проснулся. „И это был также сон!“ Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. <…> Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец, почувствовал он дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.
Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова болела».
Гоголевские сновидения в «Портрете», как матрешки, вставляются друг в друга. И заканчивается все еще сном – уже без сновидений и, следовательно, без подробного описания. Состояния заснул – проснулся здесь не раздвигаются за счет увидел, а следуют друг за другом. «Крепкий сон» остается мотивом бытового сюжета, уже не имея отношения к поэтике сновидения.
Следующий типологический критерий в поэтике сновидения – его внутренняя организация, повествовательная структура.
Полюсами сновидения, согласно этому критерию, оказываются рациональное развертывание повествования и иррациональная композиция с резкими скачками, описательными и смысловыми сдвигами.
Классическим вариантом первого типа можно считать «Сон Обломова», построенный по общим законам пластической первой фабулы. Его вводная мотивировка свободно может быть заменена иной (скажем, найденной рукописью или рассказом в рассказе).
Сон, вообще, распространенный прием утопического дискурса («Сон „Счастливое общество“» А. П. Сумарокова, «Сон» А. П. Улыбышева, «Сон счастливого мужика» из романа Н. Н. Златовратского «Устои», «Четвертый сон Веры Павловны» из «Что делать?» Чернышевского, «Сон смешного человека» и сон о золотом веке Версилова из «Подростка» Достоевского).
Подзаголовок булгаковского «Бега» – восемь снов. Но фабула этой пьесы выстраивается в тех же гротесковых, но в целом рациональных координатах, что и «Дней Турбиных», «Кабалы святош» или «Александра Пушкина». Хотя персонажи здесь не входят и уходят, а являются, проваливаются, исчезают, иррациональная логика сновидения, заданная подзаголовком, практически не отражается в самой структуре пьесы. «Сон» в данном случае становится синонимом понятия «картина» или «акт».
На противоположном полюсе – попытки создания «вселенной странностей», сновидения как «второго пространства», отменяющего законы первого (термины принадлежат Андрею Белому).
Это «второе пространство» Аблеухова-старшего не раз воспроизводится в «Петербурге»: вихрь крутящихся ассоциаций в лихорадочно ритмизированной прозе.
«И безвестный, бесчувственный, вдруг лишенный весомости, вдруг лишенный самого ощущения тела, превращенный лишь в зренье и слух, Аполлон Аполлонович представил себе, что воздел он пространство зрачков своих (осязанием он не мог сказать положительно, что глаза им воздеты, ибо чувство телесности было сброшено им), – и, воздевши глаза по направлению к месту темени, он увидел, что и темени нет, ибо там, где мозг зажимают тяжелые крепкие кости, где нет взора, нет зрения, – там Аполлон Аполлонович в Аполлоне Аполлоновиче увидел круглую пробитую брешь в темно-лазурную даль (в место темени); эта пробитая брешь – синий круг – была окружена колесом летающих искр, бликов, блесков; в ту роковую минуту, когда по расчетам Аполлона Аполлоновича к его бессильному телу (синий круг в том теле – выход из тела) уже подкрадывался монгол (запечатленный лишь в сознании, но более уж невидимый) – в то самое время что-то с ревом и свистом, похожим на шум ветра в трубе, стало вытягивать сознание Аполлона Аполлоновича из-под крутня сверканий (сквозь темянную синюю брешь) в звездную запредельность. <…>
У сознания открылись глаза, и сознание увидело то самое, в чем оно обитает: увидело желтого старичка, напоминающего ощипанного куренка; старичок сидел на постели; голыми пятками опирался на коврик он.
Миг: сознание оказалось самим этим желтеньким старичком, ибо этот желтенький старичок прислушивался в постели к странному удаленному цоканью, будто цоканью быстро бившихся копытец:
– „Тра-та-та… Тра-та-та…“
Аполлон Аполлонович понял, что все его путешествие по коридору, по залу, наконец, по своей голове – было сном.
И едва он это подумал, он проснулся: это был двойной сон.
Аполлон Аполлонович не сидел на постели, а Аполлон Аполлонович лежал, с головой закутавшись в одеяло (за исключением кончика носа): цоканье в зале оказалось хлопнувшей дверью» («Петербург», гл. 3, «Второе пространство сенатора»).
Наконец, еще один параметр литературного сновидения – функциональный: соотнесение его как целого, «текста в тексте» с общей структурой большого текста.
В зависимости от того, на какой уровень художественной структуры работает семантика сновидения, можно говорить о его собственно живописной (предметной), психологической и символической функции (в ее разнообразных вариантах: психологический символизм, авторская символика, социальная прогностика и т. п.):
«– пришел Пришвин, на себя не похож, расстроенный, хохол взбит, из носу волос, из ушей волос. „Я каменный мост проглотил!“ – сказал раздельно не своим голосом, зевнул и пропал»;
«– обедали с Ю. К. Балтрушайтисом на Курском вокзале. Тут был и Гершензон, и Рачинский, и Бердяев, и Шестов – весь столп московский. А потом попали в какой-то дом – и полезли наверх, уж лезли-лезли, едва ноги идут, а поднялись на какую высоту – не знаю, очень высоко! а спустились сразу. А нам говорят: „Вы попали в публичный дом!“ Вот тебе и раз».
Подобными снами, героями которых являются Блок, Шаляпин, Керенский, Горький, Щеголев, Шкловский, переполнена ремизовская «Взвихренная Русь». Недаром Андрей Белый запрещал (вполне безуспешно, потому что и он фигурирует в этих снах) Розанову видеть его во сне.
Одно из двух страшных сновидений, которое осталось в памяти «вероятно, на всю жизнь», пересказывает Л. Толстому Горький: «Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге шагают серые валяные сапоги – пустые».
Было бы неосмотрительно видеть в подобных снах по отношению к структуре целого нечто большее, чем «сон в себе» (сам по себе). Хотя можно и здесь усмотреть мифологические, психиатрические или иронические (в ремизовских снах) обертоны, они совершенно не обязательны.
Иной вариант – сон Стивы Облонского из «Анны Карениной», процитированный раньше. «Самое любопытное заключается в том, что автор искусно изображает легкомысленную и незатейливую, распутную, эпикурейскую природу Стивы через призму его сна. Это способ представить Облонского: мы знакомимся с ним через его сон, – замечал В. Набоков. – И еще сон с маленькими поющими женщинами будет разительно непохож на сон с бормочущим мужичком, который приснится Анне и Вронскому»[642].
Сны Анны и Вронского (они практически видят один и тот же сон) относятся уже к типу символических, «вещих» снов, построенных как художественное предсказание, предвестие гибели центральной героини.
«Я покажу связь между кошмаром и самоубийством Анны, когда она понимает, что маленький страшный мужичок из ее сна делает с железом то же, что ее греховная жизнь сделала с ее душой: растаптывает и уничтожает – и что с самого начала идея смерти присутствовала на заднем плане ее страсти, за кулисами ее любви, что теперь она будет двигаться по направлению, указанному ей во сне, и поезд, то есть кусок железа, уничтожит ее тело»[643], – точно объяснял художественный замысел Толстого Набоков.
К тому же типу символических снов принадлежат сны Татьяны и Гринева, сон Чарткова.
«Белая гвардия» М. Булгакова заканчивается целой сюитой сновидений. И все они, в отличие от «снов» «Бега», имеют психологический или символический характер.
Алексей Турбин убегает от пуль и все-таки гибнет во сне, хотя ему удалось избежать смерти в романной реальности.
Василисе снится «нелепый и круглый» сон, «будто бы никакой революции не было, все была чепуха и вздор», но это «сомнительное, зыбкое счастье» заканчивается появлением страшных поросят с острыми клыками, взрывающими ее огород.
Часовому у бронепоезда видятся то пятиконечная звезда Марс, заполняющая в конце концов отражениями весь небосвод, то зарытая в снегах родная деревня Малые Чугры.
В сне Елены тоже попеременно появляются Тальберг с рождественской звездой, поющий арию демона, и Николка с окровавленной шеей и венчиком с иконками на лбу, поющий частушку «А смерть придет, помирать будем».
Наконец, Петька Щеглов видит сверкающий алмазный шар на лугу, обдающий его сверкающими брызгами.
Включенные в эту партитуру сновидений эпизод с библиотекарем Русаковым, читающим Апокалипсис, и звезды на фоне креста, превращающегося в острый меч, подчеркивают символическую доминанту: булгаковские герои колеблются, как свеча на ветру, между жизнью и смертью, миром и войной, родным домом и страшным миром, пятиконечной звездой на груди часового и вечными звездами.
Символический сон обычно вырастает из психологии персонажа-сновидца, но перерастает ее, включаясь в сферу авторского замысла и смысла.
Еще одно типологическое членение литературных сновидений предлагает А. Жолковский. В модернистских «снах нового типа», в отличие от классических сновидений, он видит «технику цитации и обнажения приема» и «новую тему» (мотив) навязывания снов[644].
Однако автор этой гипотезы сам находит предвестие указанного мотива в «Селе Степанчикове» Достоевского. Точно так же пародийная цитатность снов нового типа предваряется многочисленными классическими примерами.
Дополнить типологию сновидений классификацией по направлениям возможно, но эту типологию трудно провести до конца (если есть модернистские или романтические сны, то как быть со снами сентиментальными или реалистическими?). Скорее перед нами коллизия, аналогичная той, которую А. Ф. Лосев описывал в применении к символу у символистов: «Разница между реализмом и символизмом (в узком значении этого слова как известного предреволюционного направления в искусстве) вовсе не структурная, но предметная, содержательная. Символисты просто интересовались другими предметами изображения, не теми, которыми интересуется реализм. Но использование идейно-образной структуры как принципа конструирования действительности, как разложения ее в бесконечный ряд при помощи каждый раз особого закономерного метода, как системно-порождающей модели – совершенно одно и то же и в полноценном реализме, и у символистов»[645].
В «модернистских» снах (и вообще в литературе ХХ века), конечно, происходят тематические сдвиги и типологические переакцентуации. Периферийные приемы введения и строения литературных снов («сон во сне», «спираль снов», «двойной сон») становятся распространенными и доминирующими, но качественно типология и структура литературных снов вряд ли изменяются.
Объем, граница, структура, функция – эти критерии достаточно четко описывают поэтику сновидения, задают параметры системного подхода к нему.
Типологический подход к литературным сновидениям позволяет осторожно предположить, что «буйство сновидческой фантазии» на самом деле довольно однообразно. Это частный случай другой аксиомы: экстремальные поэтики «стираются» гораздо быстрее, чем поэтики нормальные.
Когда границы сна перерастают текст в тексте и раздвигаются до пределов целого текста, мы снова возвращаемся к проблеме, обозначенной в начале: сон – текст.
Произведение как целое тоже можно рассматривать в параметрах рациональное – иррациональное. По отношению к рационально изложенному, пусть даже специально маркированному (как в утопии), повествованию сновидческая мотивировка имеет лишь условный, метафорический характер.
Напротив, можно говорить о тотальном «сновидческом» характере некоторых художественных систем или отдельных произведений (например, Кафки, Хармса, обэриутов вообще, поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» или модного русского романа последнего десятилетия «Чапаев и Пустота» В. Пелевина), даже если формально они никак не маркированы в качестве сновидений.
Таким образом, вопреки выдвинутому и обоснованному в начале тезису «литература есть сон», на практике с областью сновидений связан лишь особый тип литературных текстов, противопоставленный текстам жизни.
Точно так же формулы «жизнь есть сон» или «смерть есть сон», «история есть сон» приобретают смысл на фоне первоначальной, исходной интуиции жизни, которую потом можно сопоставлять или уравнивать с чем угодно.
Список литературы
Справочная литература
Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель / Под общ. ред. Е. А. Цургановой и А. Е. Махова. М., 2010.
Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. И. Николюкина. М., 2001.
Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М., 1987.
Пави П. Словарь театра / Пер. с фр. М., 1991.
Поэтика: актуальный словарь терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2008.
Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. М., 1999.
Словарь литературоведческих терминов / Ред. – сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. М., 1974.
Чупринин С. И. Жизнь по понятиям: Русская литература сегодня. М., 2007.
Учебные пособия
Бройтман С. Н. Историческая поэтика: Хрестоматия-практикум. М., 2004.
Введение в литературоведение / Под ред. Л. В. Чернец. М., 2004.
Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. СПб., 1996.
Зенкин С. Н. Введение в литературоведение: Теория литературы. М., 2000.
Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум. М., 2004.
Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2004.
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
Томашевский Б. В. Стилистика. Л., 1983.
Хализев В. Е. Теория литературы. 6-е изд. М., 2013.
Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. 6-е изд. СПб., 2008.
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы / Пер. с англ. А. Зверева, В. Харитонова, И. Ильина. М., 1978.
Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004.
Источники и исследования
Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
Анализ драматического произведения / Под ред. В. М. Марковича. Л., 1988.
Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.
Аристотель. Поэтика / Пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 111–163.
Аристотель. Об искусстве поэзии / Пер. В. Г. Аппельрота. М., 1957.
Ауэрбах Э. Мимесис / Пер. А. В. Михайлова. М., 1976.
Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1997–2010.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Барт Р. S/Z. М., 2009.
Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964.
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976–1982.
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989.
Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук. М., 2000.
Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М., 1993 (Бахтин под маской. Вып. 3).
Гаспаров М. Л. Избранные труды: В 4 т. М., 1997–2012.
Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984.
Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974.
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., 1979.
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике. Тула, 2000.
Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ – ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. М., 1987.
Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. М., 1998.
Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996.
Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986.
Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. П. А. Гринцер. М., 1994.
Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М., 2001.
Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Пер. с нем. Е. Н. Эдельсона // Лессинг Г. Э. Избранное. М., 1980. С. 378–546.
Литературные манифесты: От символизма до «Октября» / Под ред. Н. Л. Бродского, В. Львова-Рогачевского, Н. П. Сидорова. М., 2001.
Литературные манифесты от символизма до наших дней / Сост. С. Б. Джимбинов. М., 2000.
Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение. СПб., 2001.
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.
Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980.
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. М., 1993 (Бахтин под маской. Вып. 2).
Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994.
Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. / Сост. Л. Г. Андреев. М., 1986.
Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 2003.
Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века: Динамика жанра. Общие проблемы. Проза / Науч. ред. В. В. Келдыш, В. В. Полонский. М., 2009.
Поэтический строй русской лирики / Отв. ред. Г. М. Фридлендер. Л., 1973.
Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000.
Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М. Марковича и В. Шмида. СПб., 1993.
Семиотика / Сост. Ю. С. Степанов. М., 1983.
Семиотика и искусствометрия / Сост., общ. ред. Ю. М. Лотмана и В. М. Петрова. М., 1972.
Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л., 1977.
Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
Современная литературная теория: Антология / Сост. И. В. Кабанова. М., 2004.
Структурализм: «за» и «против»: Сборник статей. М., 1975.
Теория литературных жанров / М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа; под ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2011.
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. П. Нарумова. М., 1997.
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995.
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. М., 2002.
Тюпа В. И. Анализ художественного текста. 3-e изд. М., 2009.
Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995.
Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских классиков. М., 1992.
Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М., 1990.
Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983.
Шмид В. Нарратология. М., 2003.
Эйхенбаум Б. М. О литературе: Работы разных лет. М., 1987.
Эко У. Открытое произведение. СПб., 2004.
Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста. М.; СПб., 2005.
Эткинд Е. Г. Материя стиха. 3-е изд. СПб., 1998.
Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы ХVIII – ХIХ вв. М., 1998.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М., 2006.
Примечания
1
Белинский В. Г. Идея искусства (1841) // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. М., 1978. С. 278. Авторские выделения оговариваются особо. Другие выделения в цитатах – мои. – И. С.
(обратно)2
Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Подступы к Хлебникову (1921) // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 275.
(обратно)3
Бахтин М. М. Проблема текста (1959–1960) // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 306.
(обратно)4
Лотман Ю. М. Структура художественного текста (1970) // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 24.
(обратно)5
Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1982. С. 174.
(обратно)6
Вестник древней истории. 1969. № 1. С. 189.
(обратно)7
Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 7. М., 1972. Стлб. 976.
(обратно)8
Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук (1945). М., 2000. С. 65.
(обратно)9
Аверинцев С. С. Филология. Стлб. 979.
(обратно)10
URL: .
(обратно)11
См., например: Кандель Б. Л., Федюшина Л. М., Бенина М. А. Русская художественная литература и литературоведение: Указатель справочно-библиографических пособий с конца XVIII в. по 1974 г. М., 1976.
(обратно)12
Мейлах Б. С. Литературоведение // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М., 1967. Стлб. 331.
(обратно)13
Гаспаров М. Л. Критика как самоцель // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 109–110.
(обратно)14
Конецкий В. Третий лишний. Л., 1983. С. 251.
(обратно)15
Белецкий А. И. Из последних тетрадей // Литературная газета. 1984. № 44, 31 октября.
(обратно)16
Довлатов C. Уроки чтения. СПб., 2012. С. 111.
(обратно)17
См.: Гаспаров М. Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 295–296.
(обратно)18
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика (1931). М., 1996. С. 25.
(обратно)19
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977. С. 10.
(обратно)20
См. также: Фоменко И. В. Практическая поэтика. М., 2006. Однако эта книга посвящена нескольким частным, преимущественно лингвистическим, аспектам: ключевым и служебным словам, цитатности и пр.
(обратно)21
Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981. С. 298 (23 марта 1829 г.).
(обратно)22
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии (1766) // Лессинг Г. Э. Избранное. М., 1980. С. 434.
(обратно)23
Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды (1841) / Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 3. С. 296–298.
(обратно)24
Шпет Г. Г. Литература (1929) // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. М., 2007. С. 164–165.
(обратно)25
Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры (1962). Киев, 2004. С. 47–48.
(обратно)26
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека (1964). М.; Жуковский, 2003. С. 15, 261.
(обратно)27
Фрумкин К. Откуда исходит угроза книге // Знамя. 2010. № 9 ().
(обратно)28
Бродский И. А. Нобелевская лекция (1987) // Бродский И. А. Сочинения: В 4 т. Т. 1. СПб., 1992. C. 11–12.
(обратно)29
Борхес Х. Л. Аналитический язык Джона Уилкинса (1952) // Борхес Х. Л. Сочинения: В 3. Т. 2. Рига, 1994. С. 85.
(обратно)30
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 210.
(обратно)31
См.: Платон. Соч.: В 3 т. Т. 1. Ч. 1. М., 1971. С. 174–176.
(обратно)32
Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 115. Перевод М. Л. Гаспарова с его же редакторскими дополнениями в скобках. Ср. вольный перевод В. Г. Аппельрота: «Именно, подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии как о чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собою, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных» (Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 45).
(обратно)33
Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 419–421.
(обратно)34
Краткий обзор проблемы см.: Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980. С. 169–199 (глава «Литературные роды и жанры»); ср. также: Хализев В. Е. Драма как род литературы. М., 1986. С. 22–38 (глава «Деление литературы на роды»).
(обратно)35
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы (1949). М., 1978. С. 245.
(обратно)36
Гёте И. В. Природные формы поэзии // Гёте И. В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 229. Правда, сразу после этого определения Гёте превращает формы (роды) в способы (приемы), которые «творят либо совместно, либо обособленно» и «нередко… совмещаются в самом небольшом стихотворении».
(обратно)37
Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. С. 346.
(обратно)38
Ср. аналогичное рассуждение, однако, с апелляцией не к речевым жанрам, а к коммуникативным ситуациям: «Для каждого литературного рода можно найти разные аналогичные внелитературные явления (например, отчет и эпика, молитва и лирика, практическая беседа и драма)» (Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. С. 182).
(обратно)39
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения (1935–1936). М., 2006. С. 49–50.
(обратно)40
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 502.
(обратно)41
Бахтин М. М. Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров» (начало 1950-х гг.) // Собр. соч. Т. 5. С. 243.
(обратно)42
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении (1928). М., 1993. С. 144.
(обратно)43
См. соответственно: Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 379, 120; Т. 3. С. 599; Т. 6. С. 455.
(обратно)44
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. С. 150.
(обратно)45
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 16.
(обратно)46
Панков А. В. Разгадка Бахтина. М., 1995. С. 127. В эстетике эта проблема формулируется также как противопоставление классификации и систематизации, имеющих, соответственно, индуктивный и дедуктивный характер (см.: Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972. С. 164).
(обратно)47
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 17.
(обратно)48
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 50–51.
(обратно)49
Битов А. Пятое измерение. На границе пространства и времени. М., 2002. С. 417–419.
(обратно)50
Гинзбург Л. Записи 1925–1926 гг. // Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 17.
(обратно)51
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Л., 1979. С. 115–116.
(обратно)52
Виноградов И. А. О теории новеллы // Виноградов И. А. Борьба за стиль. М., 1936. С. 24.
(обратно)53
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. 4-е изд., испр. М., 1971. С. 360.
(обратно)54
Скобелев В. П. Поэтика рассказа. Воронеж, 1982. С. 53.
(обратно)55
См.: Русская новелла. Проблемы теории и истории. СПб., 1993. Термин «новелла» выступает здесь как общее обозначение всех малых жанров: в сборник входят исследования о прозаической новелле, стихотворной новелле, рассказе, апологе, сказке, очерке и даже повести.
(обратно)56
См. антологию: Русская басня ХVIII – ХIХ веков. Л., 1977 (Библиотека поэта. Большая серия).
(обратно)57
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 474.
(обратно)58
Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. С. 324.
(обратно)59
Бахтин М. М. Роман как литературный жанр (1941) // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 617.
(обратно)60
См. об этом: Бахтин М. М. Из предыстории романного слова (1941) // Там же. С. 513–551.
(обратно)61
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. Т. 46. Ч. I. М., 1968. С. 48.
(обратно)62
Надеждин Н. И. Летописи отечественной литературы… (1832) // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1971. С. 321.
(обратно)63
Там же. С. 521.
(обратно)64
Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя (1835) // Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 1. С. 150.
(обратно)65
Там же. Т. 3. С. 327.
(обратно)66
Битов А. Пятое измерение. С. 418–419.
(обратно)67
См.: Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2-е Л., 1968.
(обратно)68
См.: Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001.
(обратно)69
Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 136.
(обратно)70
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 37. М., 1965. С. 35 (Энгельс – М. Гаркнесс, начало апреля 1888 г.).
(обратно)71
Пушкин А. С. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Соч. М. Н. Загоскина (1830) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 72.
(обратно)72
Толстой С. Л. Тургенев в Ясной Поляне // Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 309.
(обратно)73
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15. СПб., 1996. С. 405. (Н. Н. Страхову, 26 февраля /10 марта 1869 г.).
(обратно)74
Лихачев Д. С. «Небрежение словом» у Достоевского // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Т. 3. Л., 1987. С. 287.
(обратно)75
Толстой Л. Н. Несколько слов по поводу книги «Война и мир» (1968) // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 7. М., 1983. С. 356.
(обратно)76
Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 272.
(обратно)77
Термин принадлежит М. М. Бахтину. «Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся бывания», – писал он об одной из форм романного времени, замечая, впрочем, что «оно не может быть основным временем романа, оно используется романистами как побочное время, переплетается с другими…» (Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 287).
(обратно)78
См.: Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма (1936–1938) // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 180–336. Далее используются сохранившиеся материалы.
(обратно)79
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе (1937–1938) // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 340–512.
(обратно)80
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского (1963) // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 115–120.
(обратно)81
Бахтин М. М. Роман как литературный жанр // Там же. Т. 3. С. 639.
(обратно)82
См.: Вайнштейн О. Розовый роман как машина желаний // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 303–330.
(обратно)83
См.: Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул (1976) // Там же. С. 33–64.
(обратно)84
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 50.
(обратно)85
Аристотель и античная литература. С. 120.
(обратно)86
Там же. С. 118. Фабула знаменитого романа У. Эко «Имя розы» (1980) связана с утраченной рукописью второй части «Поэтики» Аристотеля, посвященной комедии.
(обратно)87
Пушкин А. С. О народной драме и драме «Марфа Посадница» <планы статьи> (1830) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 436.
(обратно)88
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 575–576.
(обратно)89
Пушкин А. С. О трагедии (1825) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 27.
(обратно)90
Аристотель и античная литература. С. 114.
(обратно)91
См.: Пави П. Словарь театра (1987). М., 1991. В дальнейшем некоторые определения драматических жанров цитируются по этому изданию.
(обратно)92
Дидро Д. Беседы о «Побочном сыне» (1757) // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 177–178.
(обратно)93
См., например: Фролов В. Судьбы жанров драматургии. М., 1979. С. 407–409. В помещенной здесь морфологической таблице выделено больше пятидесяти жанровых разновидностей драматического рода, однако понять, чем трагическая драма («Три сестры» Чехова) отличается от драмы-трагедии («Дни Турбиных» Булгакова), решительно невозможно.
(обратно)94
Балухатый С. Д. Поэтика мелодрамы (1927) // Балухатый С. Д. Вопросы поэтики. Л., 1990. С 30.
(обратно)95
См.: Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 496–503, 519–527.
(обратно)96
См.: Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. С. 190–192.
(обратно)97
Валери П. Об искусстве. М., 1993. С. 114–115.
(обратно)98
Гоголь Н. В. Учебная книга словесности для русского юношества (1844–1845) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 472.
(обратно)99
См.: Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. С. 381–382.
(обратно)100
Гаспаров М. Л. Поэзия и проза – поэтика и риторика // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. C. 156.
(обратно)101
Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве (1923) // Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. М., 2002. С. 286.
(обратно)102
Гаспаров М. Л. Стихотворение // Литературный энциклопедический словарь. С. 425.
(обратно)103
Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве. С. 292.
(обратно)104
Истории отдельных жанров русской лирики последних столетий посвящены антологии, изданные в Большой серии «Библиотеки поэта»: Русская элегия. Л., 1991; Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907). Л., 1969; Русская стихотворная сатира 1908–1917 годов. Л., 1974; Русская эпиграмма второй половины ХVII – начала ХХ в. Л., 1975; Русская эпитафия. Л., 1998; Песни и романсы русских поэтов. Л., 1975. См. также: Греческая эпиграмма. СПб., 1993; Эолова арфа: Антология баллады. М., 1989 (помимо русских образцов жанра ХVIII – начала ХХ в. в сборник входят также литературные баллады английских, немецких, французских и др. авторов и фольклорные баллады).
(обратно)105
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 58, 60.
(обратно)106
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. С. 503.
(обратно)107
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 58–59.
(обратно)108
См.: Пави П. Словарь театра. С. 217, 373.
(обратно)109
Статья американского литературоведа Л. Фидлера «Пересекайте границы, засыпайте рвы» (1969) считается одним из манифестов постмодернистской эстетики.
(обратно)110
Левицкий Л. А. Мемуары // Литературный энциклопедический словарь. С. 216.
(обратно)111
Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья вторая // Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 8. С. 372.
(обратно)112
См.: Никитенко А. В. Дневник. Т. 1–3. М., 1955–1956 (дневник охватывает 1826–1855 гг.).
(обратно)113
См.: Чуковский К. И. Дневник. Т. 1–3. М., 2012 (дневник охватывает 1901–1969 гг.).
(обратно)114
Розанов В. В. Листва // Розанов В. В. <Собр. соч. Т. 30. Т. 30>. СПб., 2010. С. 192–193.
(обратно)115
Муравьев В. С. Эссе // Литературный энциклопедический словарь. С. 516. См. также: Эпштейн М. Н. На перекрестке образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени) // Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны. М., 1988. С. 334–380.
(обратно)116
В применении к биографии, мемуарам и близким им явлениям документальной литературы иногда используются термины промежуточные жанры, промежуточная проза (См.: Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 8–10).
(обратно)117
Геллер Л. Поиски в инаком. О литературной фантастике // Поиски в инаком. Фантастика и русская литература ХХ века. М., 1994. С. 10.
(обратно)118
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 212.
(обратно)119
Тынянов Ю. Н. О пародии (1929) // Русская литература ХХ века в зеркале пародии: Антология. М., 1993. С. 363. См. также другие антологии пародии: Русская стихотворная пародия (ХVIII – начало ХХ в.). Л., 1960; Русская театральная пародия ХIХ – начала ХХ века. М., 1976; Советская литературная пародия. Т. 1–2. М., 1988.
(обратно)120
Кушлина О. Б. Кислые рассказы // Русская литература ХХ века в зеркале пародии. С. 181.
(обратно)121
Тынянов Ю. Н. О пародии. С. 366–367.
(обратно)122
Цит. по: Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С. 226.
(обратно)123
Брехт Б. Театр удовольствия или театр поучения? (1936) // Брехт Б. Театр. Т. 5/2. М., 1965. С. 67.
(обратно)124
Брехт Б. Театр удовольствия или театр поучения? C. 67.
(обратно)125
Термин, аналогичный остранению в концепции формалистов. «Прием остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз произошедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах, – объяснял смысл термина его изобретатель В. Б. Шкловский, позднее признавшись, что слово ненамеренно было написано с ошибкой. – И я тогда создал термин „остранение“; и так как уже могу сегодня признаваться в том, что делал грамматические ошибки, то я написал одно „н“. Надо „странный“ было написать. Так оно и пошло с одним „н“ и, как собака с отрезанным ухом, бегает по миру» (Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 15–16, 73).
(обратно)126
Там же.
(обратно)127
Пави П. Словарь театра. С. 434.
(обратно)128
Брехт Б. О литературе. М., 1988. С. 399.
(обратно)129
Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 491 (В. Д. Оболенской, 20 января 1872 г.).
(обратно)130
Переверзев В. Ф. Основы эйдологической поэтики (Введение в литературоведение) // Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский: Исследования. М., 1982. С. 498–501.
(обратно)131
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 16.
(обратно)132
Петровский М. А. Морфология новеллы // Ars Poetika. Вып. 1. М., 1927. С. 69–70.
(обратно)133
Рыбникова М. А. Один из приемов композиции у Тургенева // Рыбникова М. А. Избранные труды. М., 1958. С. 195.
(обратно)134
Тынянов Ю. Н. Литературный факт (1924) // Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. С. 169–170.
(обратно)135
См. исследования некоторых исторических жанровых «смещений»: Мелетинский Е. М. 1) Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986; 2) Историческая поэтика новеллы. М., 1990; Эпштейн М. Н. Природа, мир, тайник вселенной…: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990.
(обратно)136
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 22.
(обратно)137
См.: Лужановский А. В. Рассказ в русской литературе: Становление жанра. Иваново, 1996. С. 36–94.
(обратно)138
Гоголь Н. В. Учебная книга словесности для русского юношества // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 478–479.
(обратно)139
Битов А. Г. История в четырех измерениях. II. Пушкинский дом. Харьков; М., 1996. С. 392–393.
(обратно)140
См.: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 274–281.
(обратно)141
Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 33.
(обратно)142
Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул. С. 38–39.
(обратно)143
Булгаков М. А. Записки покойника (Театральный роман) // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М., 1990. С. 434–435.
(обратно)144
Соколов В. Н. «Как я хочу, чтоб строчки эти…» (1948) // Соколов В. Н. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 10.
(обратно)145
См.: Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии (1961) // Семиотика. С. 462–482.
(обратно)146
Якобсон Р., Леви-Стросс К. «Кошки» Шарля Бодлера (1962) // Структурализм: за и против. М., 1975. С. 231–255. Ср.: Мунэн Ж. Бодлер в свете критики структуралистов (1967) // Там же. С. 395–403.
(обратно)147
Жирмунский В. М. Задачи поэтики (1919) // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 22.
(обратно)148
Риффатер М. Формальный анализ и история литературы (1970) // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 40.
(обратно)149
Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества (1924) // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 302, 304–305 (авторская разрядка в текстах Бахтина здесь и далее заменяется курсивом).
(обратно)150
Там же. С. 308.
(обратно)151
Там же. С. 309.
(обратно)152
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996. С. 213, 214, 215, 226, 262–263.
(обратно)153
Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева (1990) // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллин, 1993. С. 170.
(обратно)154
Гаспаров М. Л. «За то, что я руки твои…» – стихотворение с отброшенным ключом // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. О стихах. М., 1997. С. 187.
(обратно)155
Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…» Методика анализа // Там же. С. 14.
(обратно)156
Гаспаров М. Л. Художественный мир М. Кузмина. Тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Там же. С. 416.
(обратно)157
Ингарден Р. Двумерность структуры литературного произведения (1940) // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 26.
(обратно)158
Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста (1979). М.; СПб., 2005. С. 29.
(обратно)159
Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 309.
(обратно)160
Ср.: Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74–87; Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 101–194; Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971. С. 3–8; Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. С. 11–14; Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. С. 83–112. Характерно, что в разных статьях «Литературного энциклопедического словаря» (М., 1987) – «Образ художественный», «Поэтика», «Структура литературного произведения», «Структурная поэтика» – дается крайне противоречивая информация об уровнях и элементах и констатируется: «Не достигнуто единство в выделении структурных уровней литературного произведения» (с. 426, В. С. Баевский); «Казалось, что художественный мир ничем не отличается от действительного мира; поэтому здесь еще не выработана даже общепринятая классификация материала» (с. 295, М. Л. Гаспаров).
(обратно)161
Стилистике художественной речи посвящены многочисленные работы лингвистов и теоретиков художественной речи. См.: например: Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959; Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971; Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991; Кожевникова Н. А. Избранные работы по языку художественной литературы. М., 2011; Томашевский Б. В. Стилистика. Л., 1983.
(обратно)162
См.: Топоров В. Н. Тропы // Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М., 1998. С. 520–521.
(обратно)163
Белый А. Магия слов (1909) // Белый А. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 323–324.
(обратно)164
Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург (1833–1834) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 205.
(обратно)165
Маяковский В. В. Как делать стихи? // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 105–106.
(обратно)166
Чехов А. П. Чайка (1896) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 13. М., 1978. С. 12–13.
(обратно)167
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 341.
(обратно)168
Чехов М. А. <О многоплановости актерской игры> (1955) // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. М., 1986. С. 342.
(обратно)169
Чудаков А. П. Предметный мир литературы // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 254, 289, 290. См. также исследования предметов с разных методологических позиций в отдельном произведении, творчестве писателя, литературе определенного периода: Белкин А. А. Чудесный зонтик. Об искусстве художественной детали у Чехова // Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. М., 1973. С. 221–229; Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии // Труды по знаковым системам. Вып. 20. Тарту, 1987. С. 135–143; Тименчик Р. Д. К символике телефона в русской поэзии // Труды по знаковым системам. Вып. 21. Тарту, 1988. С. 155–163; Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. М., 1992; Жолковский А. К. Место окна в поэтическом мире Пастернака // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. С. 209–239.
(обратно)170
Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 304, 307.
(обратно)171
Чехов А. П. Чайка // Полн. собр. соч. и писем. Т. 13. С. 55.
(обратно)172
Бунин И. А. Чехов (1904) // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 483.
(обратно)173
Подробное сравнение Гоголя и Чехова в этом аспекте см.: Добин Е. С. Искусство детали. Л., 1975. О хронотопе моря см.: Топоров В. Н. О «поэтическом комплексе» моря и его психофизиологических основах // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 575–622. Из чеховских произведений здесь упоминается только «Степь» в связи со сравнением степи с морем.
(обратно)174
Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 275.
(обратно)175
Щемелева Л. М. Пейзаж // Литературный энциклопедический словарь. С. 272.
(обратно)176
См. работу, в которой оппозиция безграничного фантастического и замкнутого бытового пространства является основной: Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избранные труды. Т. 1. С. 413–447.
(обратно)177
Чжан Чао. Тени спокойных снов // Листая вечные страницы. М., 1983. С. 133.
(обратно)178
Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма. Т. 1. С. 242 (Ал. П. Чехову, 10 мая 1886 г.).
(обратно)179
См. антологии разных жанров «петербургского текста» и его тематических окрестностей: Петербург в русском очерке ХIХ века. Л., 1984; Качурин М. Г., Кудырская Г. А., Мурин Д. Н. Санкт-Петербург в русской литературе: В 2 т. СПб., 1996; Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград в русской поэзии. СПб., 1999; Петербург в русской поэзии ХVII – первой четверти ХХ века. СПб., 2002; Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна). СПб., 2006 (Новая Библиотека поэта).
(обратно)180
Бродский И. А. Колыбельная Трескового мыса (1975) // Бродский И. А. Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб., 2011. Т. 1. С. 375. (Новая Библиотека поэта).
(обратно)181
Манн Т. Волшебная гора (1924) // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1959. С. 145–146.
(обратно)182
Толстой Л. Н. История вчерашнего дня (1851) // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 1. С. 343.
(обратно)183
Манн Т. Иосиф и его братья (1926–1943). Т. 2. М., 1968. С. 595.
(обратно)184
Толстой Л. Н. Севастополь в мае // Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. 2. С. 133–134.
(обратно)185
Пушкин А. С. Примечания к «Евгению Онегину» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 167.
(обратно)186
Пумпянский Л. В. «Отцы и дети» (1929) // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 403–404.
(обратно)187
Пумпянский Л. В. Тургенев-новеллист (1929) // Там же. С. 444.
(обратно)188
Баевский В. С. Время в «Евгении Онегине» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 130.
(обратно)189
См.: Сухих И. Н. Живаго жизнь: стихи и стихии // Сухих И. Н. Русский канон. Книги ХХ века. М., 2013. С. 536–537, 554–555.
(обратно)190
Набоков В. В. Дар (1937–1938) // Набоков В. В. Собр. соч.: В 5 т. Русский период. Т. 4. СПб., 2002. С. 191.
(обратно)191
Набоков В. В. Предисловие к английскому переводу рассказа «Круг» («The Circle») (1973) // В. Набоков: pro et contra. СПб., 1997. С. 105.
(обратно)192
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 495–496.
(обратно)193
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 490–494.
(обратно)194
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 191.
(обратно)195
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 497.
(обратно)196
Подробнее о хронотопе большого города в нашем понимании см.: Сухих И. Н. К проблеме чеховского хронотопа // Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. 2-е изд., доп. СПб., 2007. С. 284–301.
(обратно)197
Долгоруков И. М. Прогулка в Кусково // Сочинения князя И. М. Долгорукова. Т. 1. СПб., 1848. С. 148.
(обратно)198
См. об усадебном хронотопе:…В окрестностях Москвы: Из истории русской усадебной культуры ХVII – ХIХ веков. М., 1979; Сухих И. Н. Шеншин и Фет: жизнь и стихи // Фет А. А. Стихотворения. СПб., 2001. С. 42–46. (Новая Библиотека поэта. Малая серия).
(обратно)199
Чехов А. П. «Вишневый сад» (1903) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 227.
(обратно)200
См.: Русская провинция: миф – текст – реальность. М.; СПб., 2000; Геопанорама русской культуры. Провинция и ее локальные тексты. М., 2004.
(обратно)201
Анненков П. В. Романы и рассказы из простонародного быта в 1853 г. // Анненков П. В. Критические очерки. СПб., 2000. С. 98.
(обратно)202
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 499–500, 503.
(обратно)203
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 186.
(обратно)204
Там же. С. 187.
(обратно)205
Там же. С. 208.
(обратно)206
Там же. С. 213.
(обратно)207
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 214.
(обратно)208
Там же. С. 221.
(обратно)209
Там же. С. 223.
(обратно)210
Там же. С. 225.
(обратно)211
Там же. С. 226–227.
(обратно)212
Аристотель. Об искусстве поэзии. С. 57, 59, 60 (перевод В. Г. Аппельрота). М. Л. Гаспаров отмечает, что «аристотелевское понятие „сказание“, „миф“ в латинском переводе стало общеупотребительным литературоведческим термином „фабула“», но сам предпочитает исходный термин, ибо «для Аристотеля „фабула“ не свободно вымышленный сюжет, а именно „сказание“, миф из традиционного фонда трагических преданий» (Аристотель и античная литература. С. 121).
(обратно)213
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. С. 167.
(обратно)214
Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. С. 431 (статья А. И. Ревякина).
(обратно)215
См.: Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. С. 245, 259.
(обратно)216
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Л., 1925. С. 137.
(обратно)217
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика (6-е изд., 1931). М., 1996. С. 180, 181–182.
(обратно)218
Краткий обзор истории понятий интрига и фабула см.: Пави П. Словарь театра. С. 126–127, 398–403.
(обратно)219
Островский А. Н. Проект «Правил о премиях» Дирекции императорских театров за драматические произведения (1885) // Островский А. Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 1978. С. 276–277.
(обратно)220
Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе» (1923) // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 104.
(обратно)221
Бремон К. Логика повествовательных возможностей (1966) // Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С. 133.
(обратно)222
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 305, 302, 301.
(обратно)223
Там же. С. 301.
(обратно)224
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 182.
(обратно)225
Там же. С. 182–183.
(обратно)226
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 44.
(обратно)227
Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…» Методика анализа // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. С. 14.
(обратно)228
См.: Тодоров Ц. Поэтика (1973) // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 84–88.
(обратно)229
Там же. С. 88.
(обратно)230
Аристотель и античная литература. С. 123–124.
(обратно)231
Словарь литературоведческих терминов. С. 63, 307, 394.
(обратно)232
См.: Чехов А. П. Смерть чиновника (1883) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. С. 164–166.
(обратно)233
Тынянов Ю. Н. Иллюстрации (1923) // Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. С. 465.
(обратно)234
Белый А. Мастерство Гоголя (1934). М., 1996. С. 55, 58.
(обратно)235
Аристотель. Об искусстве поэзии. С. 96. М. Л. Гаспаров вместо термина эпизоды использует иной: вставки (Аристотель и античная литература. С. 140).
(обратно)236
См.: Гаспаров М. Л. Фет безглагольный // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. С. 21–32; Сухих И. Н. Шеншин и Фет: жизнь и стихи. С. 48–51.
(обратно)237
Шенгели Г. О лирической композиции (1925) // Поэтика: Хрестоматия по вопросам литературоведения. М., 1992. С. 44.
(обратно)238
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 183.
(обратно)239
Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 2. С. 270 (Н. А. Лейкину, 11 мая 1888 г.).
(обратно)240
Там же. Т. 3. С. 188 (Ал. П. Чехову, 11 апреля 1889 г.).
(обратно)241
Куприн А. И. Памяти Чехова (1904) // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 531.
(обратно)242
Вулф В. Современная литература (1919) // Вулф В. Обыкновенный читатель. М., 2012. С. 122.
(обратно)243
Теоретики школы Г. Н. Поспелова используют иную систему понятий, различая концентрические и хроникальные сюжеты. См.: Хализев В. Е. Сюжет // Введение в литературоведение. М., 2004. С. 220. Однако это противопоставление лишь отчасти совпадает с оппозицией фабульный-бесфабульный сюжет, ибо в группу хроникальных сюжетов отнесены «Одиссея», «Дон Кихот» и даже «Анна Каренина», произведения вполне фабульные.
(обратно)244
Андерсон Ш. История рассказчика (1924). М., 1935. С. 243.
(обратно)245
Аристотель и античная литература. С. 128.
(обратно)246
Цит. по: Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум. М., 2004. С. 152.
(обратно)247
См.: Набоков В. В. Пассажир (1927) // Набоков В. В. Собр. соч. Т. 2. С. 480–486.
(обратно)248
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. С. 242.
(обратно)249
Макаренко А. С. Стиль детской литературы // Русские писатели о литературном труде. Т. 4. М., 1956. С. 791–792.
(обратно)250
Левидов А. М. Литература и действительность. Л., 1987. С. 94.
(обратно)251
Аристотель. Об искусстве поэзии. С. 58–59.
(обратно)252
Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности> (1923–1924) // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 92.
(обратно)253
Там же. С. 205.
(обратно)254
Барт Р. S/Z (1970). М., 1994. С. 112–113.
(обратно)255
Там же. С. 82.
(обратно)256
Андреев Д. Роза мира // Андреев Д. Л. Собр. соч.: В 3 т. М., 1995. С. 148, 397.
(обратно)257
Шкловский В. Б. Как сделан Дон Кихот // Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1929. С. 77.
(обратно)258
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 202.
(обратно)259
Аристотель и античная литература. С. 122.
(обратно)260
Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 247.
(обратно)261
Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности>. С. 102–104.
(обратно)262
Там же. С. 254–255.
(обратно)263
Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика: Объяснительный словарь теории языка // Семиотика. С. 483.
(обратно)264
Пави П. Словарь театра. С. 8.
(обратно)265
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 89–90.
(обратно)266
Там же. С. 18.
(обратно)267
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 108.
(обратно)268
Гоголь Н. В. Шинель (1842) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 142.
(обратно)269
Десницкий В. А. Задачи изучения жизни и творчества Гоголя // Десницкий В. А. Статьи и исследования. Л., 1979. С. 138.
(обратно)270
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита (1928–1940) // Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. С. 61.
(обратно)271
Довлатов С. Д. Филиал. Записки ведущего (1987) // Довлатов С. Д. Рассказы из чемодана. СПб., 2012. С. 263.
(обратно)272
Успенский Б. А. Поэтика композиции (1970) // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 40.
(обратно)273
Там же. С. 48.
(обратно)274
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени (1840) // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Л., 1981. С. 220.
(обратно)275
Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 1. М., 1962. С. 186 (6 октября 1856 г.).
(обратно)276
Чехов А. П. Ионыч (1898) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 24–25.
(обратно)277
Там же. С. 32, 37, 40.
(обратно)278
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 17.
(обратно)279
Аристотель и античная литература. С. 121–122. Ср. выше тот же фрагмент в переводе В. Г. Аппельрота.
(обратно)280
Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки (1966) // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. С. 146.
(обратно)281
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 361.
(обратно)282
Там же. С. 329.
(обратно)283
О сложной истории понятия см.: Михайлов А. В. Из истории характера; Проблема характера в искусстве: живопись, скульптура, музыка // Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 176–268.
(обратно)284
Пушкин А. С. Table-talk (1830) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 65–66.
(обратно)285
Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. С. 46. См. подробнее о психологизме: Гинзбург Л. Я. О психологической прозе; Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы ХVIII – ХIХ вв. М., 1998.
(обратно)286
Толстой Л. Н. История вчерашнего дня // Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. 1. С. 347–348.
(обратно)287
Битов А. Г. Черепаха и Ахиллес // Битов А. Г. Статьи из романа. M., 1986. С. 162–163.
(обратно)288
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 71.
(обратно)289
Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя (1914) // Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. С. 79–82.
(обратно)290
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 69–70.
(обратно)291
См. признаковую классификацию персонажей «Бедной Лизы», созданную В. Н. Топоровым, в которой эти персонажи включены в общую систему, персонажную матрицу (Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М., 1996. С. 126).
(обратно)292
Пушкин А. С. Заметки на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях Озерова» (1826) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т 7. С. 380–381.
(обратно)293
Гоголь Н. В. Театральный разъезд после представления новой комедии // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 169.
(обратно)294
Важное разграничение, введенное Л. Я. Гинзбург: «Толстой широко пользовался в своих произведениях обстоятельствами собственной жизни – это общеизвестно. Но, изображая Левина или Николеньку Иртеньева, Толстой столь же свободно прибегал к вымыслу. („Детство“, „Отрочество“, „Юность“ – произведения скорее автопсихологические, нежели автобиографические.) „Документальность“ Толстого – факт не внешнего порядка. Подлинная ее сущность в той прямой и открытой связи, которая существовала между нравственной проблематикой, занимавшей Толстого, и проблематикой его героев» (Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 299).
(обратно)295
Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу (1963) // Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч.: В 11 т. Т. 3. Донецк; М., 2001. С. 578.
(обратно)296
См.: Нусинов И. М. 1) Вековые образы. М., 1937; 2) История литературного героя. М., 1957; Айхенвальд Ю. А. Дон Кихот на русской почве. Т. 1. М.; Минск, 1996; Сухих И. Н. Русская литература для всех: От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова. СПб., 2013. С. 26–66.
(обратно)297
См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 290–312.
(обратно)298
См.: Роль традиции в литературной жизни эпохи: Сюжеты и мотивы. Новосибирск, 1995; От сюжета к мотиву: Сб. науч. тр. Серия «Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы». Вып. 1. Новосибирск, 1996.
(обратно)299
См.: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 215, 282.
(обратно)300
См.: Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. С. 16–19. Там же ряд конкретных разборов мотива окна у Пастернака, мотива «превосходительного покоя» у Пушкина. В статье «Черты поэтического мира Ахматовой» Ю. К. Щеглов специально оговаривается: «Термином „мотив“ у нас обозначаются единицы разного уровня и разной степени конкретности. Среди мотивов фигурируют, например, событийно-ситуативные элементы (большинство мотивов); особенности актантной структуры лирического сюжета; типичные для ахматовской героини модусы отношения к действительности и лирические позы; типичные характеристики, черты предметов, ситуаций и др.» (с. 263).
(обратно)301
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 40.
(обратно)302
См.: Панченко А. М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 236–250.
(обратно)303
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 42.
(обратно)304
Юнг К. Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству (1922) // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ – ХХ вв. М., 1987. С. 229–230.
(обратно)305
Фрай Н. 1) Критическим путем (1971) // Вопросы литературы. 1991. № 9/10. С. 167; 2) Анатомия критики (1957) // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ – ХХ вв. С. 240–241. См. также: Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994.
(обратно)306
Панченко А. М. Топика и культурная дистанция. С. 236.
(обратно)307
Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…» Методика анализа (1997) // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. С. 13.
(обратно)308
Маяковский В. В. Наша словесная работа (1923) // Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 448.
(обратно)309
Гоголь Н. В. Тарас Бульба (1842) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 51–52.
(обратно)310
Гоголь Н. В. Страшная месть (1831) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 268.
(обратно)311
Белый А. Мастерство Гоголя. С. 281, 286.
(обратно)312
Проблемы повествования в современной западной теоретической традиции исследуются и в иной плоскости – скозь призму нарратива. См.: Шмид В. Нарратология. М., 2003. Однако этот аспект анализа представляется одновременно и более громоздким, и более абстрактным в сопоставлении с традицией, идущей от Бахтина и формалистов, на которую мы ориентируемся.
(обратно)313
См. важные, проведенные на большом материале исследования, результаты которых используются далее: Атарова К. Н., Лескисс Г. А. 1) Семантика и структура повествования от первого лица // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1976. Т. 35. № 4. С. 343–356; 2) Семантика и структура повествования от третьего лица в художественной прозе // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1980. Т. 39. № 1. С. 33–46.
(обратно)314
Рыбникова М. А. Один из приемов композиции у Тургенева // Рыбникова М. А. Избранные труды. С. 195.
(обратно)315
Тургенев И. С. Лес и степь (1848) // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 3. М., 1979. С. 354–355.
(обратно)316
Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 435–436.
(обратно)317
Эйхенбаум Б. М. Иллюзия сказа (1918) // Поэтика. Труды русских и советских поэтических школ. Будапешт, 1982. С. 422.
(обратно)318
Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919) // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969. С. 306.
(обратно)319
Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике (1925) // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 45, 49.
(обратно)320
Там же. С. 51.
(обратно)321
Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции (1927) // Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. С. 196.
(обратно)322
Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 213–215.
(обратно)323
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка (1929). М., 1993. С. 130–131.
(обратно)324
Чудаков А. П. Тургенев: повествование – предметный мир – герой – сюжет // Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. М., 1992. С. 79–80.
(обратно)325
Чехов А. П. Скрипка Ротшильда (1894) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Т. 8. С. 297.
(обратно)326
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 406.
(обратно)327
Там же. С. 222; Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 125–174.
(обратно)328
См.: Корман Б. О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 202.
(обратно)329
Бахтин М. М. Из предыстории романного слова // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 519, 521.
(обратно)330
Чехов А. П. В усадьбе (1894) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Т. 8. С. С. 338.
(обратно)331
См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. С. 7–218.
(обратно)332
См.: Манн Ю. В. Автор и повествование. С. 462–478.
(обратно)333
См.: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971. С. 61–136.
(обратно)334
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 221–222.
(обратно)335
Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. С. 195–196.
(обратно)336
Гаспаров М. Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь. С. 295.
(обратно)337
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 10.
(обратно)338
См.: Эйзенштейн С. М. Монтаж. М., 2000.
(обратно)339
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 48.
(обратно)340
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 264.
(обратно)341
См.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 179–193.
(обратно)342
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. С. 235.
(обратно)343
Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2002. С. 318.
(обратно)344
См.: Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 134.
(обратно)345
Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий // Кржижановский С. Д. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. СПб., 2006. С. 7.
(обратно)346
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 4. С. 183.
(обратно)347
Набоков В. В. Отчаяние (1934) // Набоков В. В. Собр. соч. Т. 3. С. 507.
(обратно)348
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 252.
(обратно)349
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. С. 372, 380.
(обратно)350
См.: Пави П. Словарь театра. С. 217, 373.
(обратно)351
Поспелов Г. Н. К методике историко-литературного исследования (1928) // Поэтика. С. 706. В этой старой работе, правда в ином, чем у нас, смысле, тоже различаются «вертикальный и горизонтальный разрезы повествования».
(обратно)352
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 18. М., 1984. С. 820 (С. А. Рачинскому, 27 января 1878 г.).
(обратно)353
Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов (1966) // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ – ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. М., 1987. С. 416–418.
(обратно)354
См.: Общая риторика (1970). М., 1986. С. 300–347.
(обратно)355
Зощенко М. Землетрясение (1929) // Зощенко М. Собр. соч.: <В 7 т. Т. 2.> Нервные люди. М., 2006. С. 589.
(обратно)356
Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 118.
(обратно)357
Гаспаров М. Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь. С. 295–296.
(обратно)358
Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. С. 313.
(обратно)359
См.: Бонецкая Н. К. «Образ автора» как эстетическая категория // Контекст, 1985. М., 1986. С. 241–271; Проблемы методологии анализа образа автора // Методология анализа литературного произведения. М., 1988. С. 60–85.
(обратно)360
Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х – начала 70-х годов // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 422.
(обратно)361
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. С. 139.
(обратно)362
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 44–45.
(обратно)363
Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 1. С. 241 (Ал. П. Чехову, 10 мая 1886 г.).
(обратно)364
Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 2. С. 331 (А. Н. Плещееву, 15 сентября 1888 г.).
(обратно)365
Там же. Т. 2. С. 78 (А. С. Суворину, 24 или 25 ноября 1888 г.).
(обратно)366
Довлатов С. Д. From USA with love // Довлатов С. Д. Уроки чтения. С. 249.
(обратно)367
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. С. 292.
(обратно)368
Гаспаров М. Л. Предисловие // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. С. 7.
(обратно)369
См.: Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. С. 18.
(обратно)370
Довлатов С. Д. From USA with love. С. 249.
(обратно)371
Блок А. А. «Да. Так диктует вдохновенье…» (сентябрь 1911 г. – 7 февраля 1914 г.) // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3 М.; Л., 1960. С. 93.
(обратно)372
Маяковский В. В. Про это (1923) // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 4. М., 1957. С. 139.
(обратно)373
Ахматова А. А. Поэма без героя (1940–1962) // Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 369.
(обратно)374
Вайсфельд И. Художник исследует законы искусства // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 23.
(обратно)375
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 176. Исходя из приведенных выше суждений А. К. Жолковского, Ю. К. Щеглова и М. Л. Гаспарова, можно было бы возразить, что заумное произведение тоже имеет свою тему, но это тема языковая, орудийная, стилистическая.
(обратно)376
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. С. 148.
(обратно)377
См.: Шенгели Г. О лирической композиции. С. 44–49.
(обратно)378
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. С. 292.
(обратно)379
Там же. С. 6.
(обратно)380
Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. 18. С. 784 (Н. Н. Страхову, 23 и 26 апреля 1876 г.).
(обратно)381
Толстая С. А. Дневники: В 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 502 (3 марта 1877 г.).
(обратно)382
Толстой Л. Н. Предисловие к Сочинениям Гюи де Мопассана (1893–1894) // Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. 15. С. 240–241.
(обратно)383
Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда (1869–1879) // Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1955. С. 67.
(обратно)384
Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1956. С. 101 (К. К. Сараханову, 24 сентября 1888 г.).
(обратно)385
Борхес Х. Л. По поводу классиков // Борхес Х. Л. Сочинения. Т. 2. С. 157.
(обратно)386
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М., 2001. С. 101.
(обратно)387
Выготский Л. С. Мышление и речь (1934) // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 347.
(обратно)388
Бахтин М. М. <Ответ на вопрос редакции «Нового мира»> // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. С. 454.
(обратно)389
См., например: Шестаков В. П. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. М., 1983. К числу общих категорий здесь отнесены прекрасное, безобразное, трагическое, комическое и возвышенное. Здесь же дается обзор предшествующих опытов систематизации.
(обратно)390
«Мы определяем этос как аффективное состояние получателя, которое возникает в результате воздействия на него какого-либо сообщения…» (Общая риторика. С. 264). Авторский пафос, следовательно, должен вызывать соответствующий читательский этос.
(обратно)391
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 240–241.
(обратно)392
Белинский В. Г. «Сочинения Александра Пушкина». Статья пятая (1844) // Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 6. С. 258.
(обратно)393
Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 253.
(обратно)394
Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Там же. С. 279.
(обратно)395
Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 250–251.
(обратно)396
Гаспаров М. Л. Антиномичность поэтики русского модернизма (1992) // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. С. 454.
(обратно)397
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. С. 390, 391, 414, 417, 359. Цитируются соответственно статьи «Смерть автора» (1968), «От произведения к тексту» (1971), «Критика и истина» (1966).
(обратно)398
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. С. 111.
(обратно)399
См.: Эко У. Открытое произведение (1967). СПб., 2004.
(обратно)400
Эко У. О некоторых функциях литературы (2000) // Эко У. О литературе. М., 2016. С. 14.
(обратно)401
Овсянико-Куликовский Д. Н. Лирика как особый вид творчества // Овсянико-Куликовский Д. Н. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. СПб., 1914. С. 206.
(обратно)402
Кожинов В. В. К проблеме литературных родов и жанров // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: В 3 т. Т. 2. М., 1964. С. 44.
(обратно)403
Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 4.
(обратно)404
Однако многие, даже серьезные, теоретики – от В. Кайзера до В. М. Жирмунского и Ю. М. Лотмана – настаивают на бессюжетности лирики: «Лирика – несюжетный жанр. Лирика передает чувства поэта; элементы рассказа, действия, сюжета растворены здесь в эмоциональном переживании» (Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. СПб., 1996. С. 375); «Бессюжетные тексты имеют отчетливо классификационный характер, они утверждают некоторый мир и его устройство. Примерами бессюжетных текстов могут быть календарь, телефонная книга или лирическое бессюжетное стихотворение» (Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 226–227). Можно предположить, что сюжет здесь, даже у когда-то близкого формалистам В. М. Жирмунского, отождествляется с фабулой. Однако уравнивание бессюжетного лирического стихотворения с календарем и телефонной книгой все равно представляется слишком сильным.
(обратно)405
Сильман Т. И. Заметки о лирике. С. 137–167.
(обратно)406
Роднянская И. Б. Лирический герой // Литературный энциклопедический словарь. С. 185.
(обратно)407
Цветаева М. И. Поэты с историй и поэты без истории (1934) // Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1994. C. 398, 402.
(обратно)408
Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 10.
(обратно)409
См.: Корман Б. О. Лирика Некрасова. 2-е изд. Ижевск, 1978.
(обратно)410
См.: Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999.
(обратно)411
См.: Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 2012.
(обратно)412
См.: Соколов А. Н. Теория стиля. М., 1968; Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. С. 113–137 (глава «Стиль литературного текста и его исследование»); Теория литературных стилей. Т. 1–4. М., 1976–1982; Общая риторика. С. 265–278.
(обратно)413
Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994. С. 226.
(обратно)414
Жанры через стили, вопреки традиции, определял В. Ф. Переверзев: «Что такое жанр? Мы определяем его как стилистически окрашенный, конкретизированный в стиле род поэтических произведений со всеми его разновидностями. Стилистически окрашенные виды поэтического творчества называются жанрами. Теоретически рассуждая, количество жанров неисчерпаемо. Чтобы получить число жанров, нужно умножить число видов поэтического творчества на число стилей, ибо каждый вид образует столько же жанров, сколько стилей сложилось и еще сложится в процессе их исторического развития» (Переверзев В. Ф. Основы эйдологической поэтики // Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. С. 505).
(обратно)415
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 40.
(обратно)416
Общая риторика. С. 51, 56.
(обратно)417
Компаньон А. Демон теории. С. 225.
(обратно)418
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 499–500.
(обратно)419
Гаспаров М. Л. Введение // История всемирной литературы: В 9 т. Т. 1. М., 1983. С. 309.
(обратно)420
Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. С. 20.
(обратно)421
Михайлов А. Д. Введение // История всемирной литературы. Т. 2. С. 23.
(обратно)422
Тарнас Р. История западного мышления. С. 187–188.
(обратно)423
Виппер Ю. Б. О «семнадцатом веке» как особой эпохе в истории западноевропейских литератур // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969. С. 27.
(обратно)424
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 18.
(обратно)425
Там же. С. 18–19.
(обратно)426
Баратынский Е. А. Последний поэт (1835) // Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 274.
(обратно)427
Гоголь Н. В. Портрет (1842) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 117.
(обратно)428
Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для философии (1856) // Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. М., 2007. С. 265.
(обратно)429
Островский А. Н. Бешеные деньги (1869) // Островский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 173.
(обратно)430
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы (1879–1880) // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 83.
(обратно)431
См.: Сквозников В. Д. Метод // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М., 1967. Стлб. 801–805.
(обратно)432
Гуревич А. М. Течение и направление // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972. Стлб. 487–491.
(обратно)433
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 17.
(обратно)434
Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 45, 49.
(обратно)435
См.: Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии (1888). СПб., 2004; Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве (1915). М., 2009.
(обратно)436
Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма (1923–1924) // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. С. 59–60.
(обратно)437
Шефнер В. С. Василию Тредиаковскому посвящается (1958–1966) // Шефнер В. С. Стихотворения. СПб., 2005. С. 213–214 (Новая Библиотека поэта).
(обратно)438
См.: Макогоненко Г. П. От Фонвизина до Пушкина: Из истории русского реализма. М., 1969.
(обратно)439
Критика ХVIII века. М., 2002. С. 359.
(обратно)440
Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М, 1984. С. 395 (В. А. Жуковскому, 23 декабря 1824 г.).
(обратно)441
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель» (1827) // Гюго В. Собр. соч.: В 14 т. Т. 14. М., 1956. С. 105–106.
(обратно)442
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 88–89, 236.
(обратно)443
Белинский В. Г. Речь о критике (1842) // Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 5. С. 64.
(обратно)444
Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Там же. Т. 8. С. 371.
(обратно)445
Белый А. Первое свидание (1921) // Белый А. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 2. СПб., 2006. С. 28–29, 31–32.
(обратно)446
Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е изд. М., 1995. С. 136.
(обратно)447
Белый А. «Вишневый сад» (1904) // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 364.
(обратно)448
Блок А. А. О современном состоянии русского символизма (март-апрель 1910 г.) // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 433.
(обратно)449
Соловьев В. С. Милый друг, иль ты не видишь… (1892) // Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1973. С. 93 (Библиотека поэта. Большая серия).
(обратно)450
Брюсов В. Я. Скитания (1896) // Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М., 1973. С. 111.
(обратно)451
Иванов В. И. Две стихии в современном символизме (1908) // Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 143.
(обратно)452
Белый А. Символизм как миропонимание // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 2. С. 212.
(обратно)453
Ходасевич В. Ф. Конец Ренаты (1928) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 7.
(обратно)454
Слово как таковое (1913) // Критика русского постсимволизма. М., 2002. С. 234.
(обратно)455
Там же. С. 236.
(обратно)456
Россиянский М. Перчатка кубофутуристам (1914) // Там же. С. 285.
(обратно)457
Хлебников В. Наша основа (1919) // Хлебников В. Творения. М., 1987. С. 624, 628.
(обратно)458
Замятин Е. И. Очерк новейшей русской литературы (1918) // Замятин Е. И. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 2011. С. 303–305.
(обратно)459
Литературные манифесты: От символизма до «Октября». М., 2001. С. 294.
(обратно)460
См.: Русская поэзия: Антология русской лирики от символизма до наших дней / Сост. И. С. Ежов и Е. И. Шамшурин. М., 1925 (репринт – М., 1991).
(обратно)461
Горький М. Советская литература // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. М., 1953. С. 330.
(обратно)462
Синявский А. Д. Что такое социалистический реализм (1957) // Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 447.
(обратно)463
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000. С. 746.
(обратно)464
Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 4.
(обратно)465
Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987. С. 458.
(обратно)466
Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 135.
(обратно)467
Тюпа В. И. Анализ // Литературный энциклопедический словарь. С. 23.
(обратно)468
Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 2008. С. 51.
(обратно)469
Тюпа В. И. Анализ. С. 23.
(обратно)470
Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. С. 16.
(обратно)471
Гаспаров М. Л. Поэтика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 785.
(обратно)472
Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы (1923) // Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М., 2007. С. 28.
(обратно)473
Там же. С. 29.
(обратно)474
Гаспаров М. Л. Антиномичность поэтики русского модернизма // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. С. 452.
(обратно)475
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. Там же. С. 302 (запись 1970-х гг.).
(обратно)476
Лотман Ю. М. Письма. М., 1997. С. 80 (Л. М. Лотман, 23 июля 1984 г.).
(обратно)477
Пушкин А. С. Table-talk (1830) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 8. С. 65–66.
(обратно)478
Иванов Вяч. Кризис индивидуализма (1905) // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 21.
(обратно)479
Тургенев И. С. Гамлет Щигровского уезда (1849) // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1978–1981. Т. 3. С. 249. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы.
(обратно)480
Чехов А. П. Три сестры (1901) // Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1974–1983. Т. 13. С. 131.
(обратно)481
Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (1905) // Шестов Л. Избранные сочинения. М., 1993. С. 349.
(обратно)482
Чехов А. П. Иванов (1888) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 37.
(обратно)483
Там же. С. 76.
(обратно)484
Чехов А. П. Дуэль (1890) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 370.
(обратно)485
Михайловский Н. К. О Тургеневе (1883) // Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 273, 285.
(обратно)486
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 193.
(обратно)487
Чехов А. П. Рассказ неизвестного человека (1893) // Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 157.
(обратно)488
Суворин А. С. Дневник. London; М., 1999. С. 216–217 (запись 14 апреля 1896 г.).
(обратно)489
Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. Т. 1. М., 1965. С. 225. Далее ссылки на страницы первого тома даются в тексте.
(обратно)490
Пигарёв К. В. Ф. И. Тютчев и его время. М., 1978. С. 311.
(обратно)491
Орлов О. В. Поэзия Тютчева. М., 1981. С. 125.
(обратно)492
Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 181.
(обратно)493
Там же. С. 188. Ср. также: «Циклизация является методом Тютчева» (Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 227); «Тютчевское стихотворение всегда предполагает знакомство читателя с предыдущим творчеством поэта, давая синтез образных исканий автора на данный момент. Вместе с тем оно открыто для ассоциативных связей с новыми стихотворениями, которые могут быть созданы поэтом» (Орлов О. В. Поэзия Тютчева. С. 62).
(обратно)494
Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 344.
(обратно)495
Озеров Л. Поэзия Тютчева. М., 1975. С. 56.
(обратно)496
Зунделович Я. О. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971. С. 28, 30 и след.
(обратно)497
Касаткина В. Н. Поэзия Ф. И. Тютчева. М., 1978. С. 34.
(обратно)498
История русской литературы. Т. 7. М.; Л., 1955. С. 711.
(обратно)499
О различии писательского пути как позиции и пути как развития см.: Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. 2-е изд., доп. Л., 1981. С. 10. Тютчев назван здесь в качестве характерного художника первого типа.
(обратно)500
Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 147.
(обратно)501
Об «эмпирической» и «обобщающей» частях как необходимых элементах структуры лирического произведения см.: Сильман Т. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 7–10.
(обратно)502
Пигарёв К. В. Тютчев и его время. С. 311.
(обратно)503
Гиршман М. М. Анализ поэтических произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. М., 1981. С. 61.
(обратно)504
Возможно, что образ «бездны», как и «мыслящего тростника» в стихотворении «О чем ты воешь, ветр ночной?», восходит к Паскалю. Ср.: «Таков наш удел. Мы не способны ни к всеобъемлещему познанию, ни к полному неведению. Плывем по безбрежности, не ведая куда, что-то гонит нас, бросает из стороны в сторону. Стоит нам найти какую-то опору и укрепиться на ней, как она начинает колебаться, уходит из-под ног, а если мы бросаемся ей вдогонку, ускользает от нас, не дает приблизиться, и этой погоне нет конца. Вокруг нас нет ничего незыблемого. Да, таков наш природный удел, и вместе с тем он противен всем нашим склонностям: мы жаждем устойчивости, жаждем обрести наконец твердую почву и воздвигнуть на ней башню, вершиной уходящую в бесконечность, но заложенный нами фундамент дает трещину, земля разверзается, а в провале – бездна» (Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 124–125).
(обратно)505
Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева. С. 237.
(обратно)506
История русской литературы. Т. 7. С. 708.
(обратно)507
Зунделович Я. О. Этюды о лирике Тютчева. С. 71.
(обратно)508
Пигарёв К. В. Тютчев и его время. С. 310. Уникальность смены метра уже начатого стихотворения подтверждает на более широком материале творчества разных поэтов Л. И. Тимофеев: «Как правило, избранный поэтом метр остается неизменным, случаи перемены метра… буквально единичны» (Тимофеев Л. И. Слово в стихе. М., 1982. С. 187).
(обратно)509
Здесь и далее цифровые данные приводятся по: Новинская Л. П. Метрика и строфика Ф. И. Тютчева // Русское стихосложение XIX века. М., 1979. С. 355–413.
(обратно)510
Там же. С. 365.
(обратно)511
Орлов О. В. Поэзия Тютчева. С. 126.
(обратно)512
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 365.
(обратно)513
Письмо А. А. Фету от 20 декабря 1890 г. // Фет А. А. Стихотворения, поэмы. Современники о Фете. М., 1988. С. 432–433.
(обратно)514
Цертелев Д. Н. А. А. Фет как человек и как художник // Русский вестник. 1899. № 3. С. 217.
(обратно)515
Письмо К. Р. (великому князю К. К. Романову), 1891 г. // Русские писатели о литературе. Т. 1. М., 1939. С. 432.
(обратно)516
Цветаева М. И. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 395–396, 399.
(обратно)517
Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974. С. 159.
(обратно)518
Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 10.
(обратно)519
Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. С. 62.
(обратно)520
Письмо А. А. Фету от 6–7 декабря 1876 г. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. С. 294.
(обратно)521
Фет А. А. Соч. Т. 2. С. 148.
(обратно)522
Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 238.
(обратно)523
Фет А. А. Соч. Т. 2. С. 146.
(обратно)524
Фет А. А. Мои воспоминания. Ч. 1. С. 225.
(обратно)525
Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 289.
(обратно)526
См.: Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 19–22, 142–153.
(обратно)527
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 210.
(обратно)528
Фет А. А. Мои воспоминания. Ч. 1. С. I.
(обратно)529
Соловьев В. С. Письма: В 3 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 119.
(обратно)530
Турчин В. С. Годы расцвета подмосковной усадьбы //…В окрестностях Москвы: Из истории русской усадебной культуры ХVII – ХIХ веков. М., 1979. С. 174. 179, 183.
(обратно)531
Тархов А. Комментарии // Фет А. А. Соч. Т. 2. С. 377.
(обратно)532
См.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 374–375.
(обратно)533
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 154.
(обратно)534
Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 550.
(обратно)535
Федина В. С. А. А. Фет (Шеншин): Материалы к характеристике. Пг., 1915. С. 108.
(обратно)536
Недоброво Н. Времеборец (Фет) // Вестник Европы. 1910. № 4. С. 239.
(обратно)537
Подробнее об этом и аналогичных стихотворениях Фета см.: Гаспаров М. Л. Фет безглагольный // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 139–149.
(обратно)538
О важном и распространенном у Фета мотиве полета см.: Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. С. 119–121.
(обратно)539
См.: Эпштейн М. Н. Природа, мир, тайник вселенной…: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 222.
(обратно)540
Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. С. 104.
(обратно)541
Фет А. А. Соч. Т. 2. С. 156.
(обратно)542
Письмо Я. П. Полонскому от 22 июня 1888 г. // Там же. С. 180.
(обратно)543
Письмо К. Р. от 26 августа 1888 г. // Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. 3. М.; Лейпциг, 1903. С. 266–267.
(обратно)544
Письмо К. Р. от 8 октября 1888 г. // Фет А. А. Соч. Т. 2. С. 181.
(обратно)545
Фет А. А. Мои воспоминания. Ч. 1. С. 127–128.
(обратно)546
Подробнее об этой проблеме и с иными выводами см.: Федина В. С. А. А. Фет (Шеншин): Материалы к характеристике. С. 57–85.
(обратно)547
Письмо от 30 декабря 1890 г. // Цит. по: Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 775.
(обратно)548
Концепция – тоже слово из фетовского лексикона. См. письмо Толстому от 3 февраля 1897 г., где говорится о «концепции всего стихотворения» (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2. С. 44).
(обратно)549
Фет А. А. Соч. Т. 2. С. 150.
(обратно)550
Там же. С. 151.
(обратно)551
Там же. С. 157.
(обратно)552
Письмо от 3 февраля 1879 г. // Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2. С. 44–45.
(обратно)553
Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. С. 114. Там же и другие примеры «тютчевских» стихотворений Фета.
(обратно)554
Письмо от 3 февраля 1879 г. // Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2. С. 44–45.
(обратно)555
Там же. С. 45.
(обратно)556
Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 359–360.
(обратно)557
О качестве этого романа см.: Гитович И. Про «это», но и про другое тоже // Чеховский вестник. № 6. М., 2000. С. 42–52.
(обратно)558
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 59.
(обратно)559
Сухих И. Жизнь человека: версия Чехова // Чехов А. П. Рассказы из жизни моих друзей. СПб., 1994. С. 9.
(обратно)560
Измайлов А. А. Чехов. М., 2003. С. 461–462.
(обратно)561
Дерман А. Б. Творческий портрет Чехова. М., 1929. С. 130, 163.
(обратно)562
Ермилов В. В. А. П. Чехов. Изд. дополненное. М., 1954. С. 401.
(обратно)563
Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2004. С. 11–12, 14, 15.
(обратно)564
Там же. С. 12.
(обратно)565
Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма. Т. 5. С. 284.
(обратно)566
Лотман Ю. М. А. С. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981. С. 43, 117.
(обратно)567
Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. С. 179, 181.
(обратно)568
См.: Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987. С. 167. Ср.: Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. СПб., 2007. С. 326.
(обратно)569
См.: Сухих И. Н. Чехов в жизни. Сюжеты для небольшого романа. М., 2010.
(обратно)570
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 195.
(обратно)571
См.: Лакшин В. Я. Толстой и Чехов: В 2 т. Т. 1. М., 2009 (1-е изд. – 1963 г., 2-е изд. – 1975 г.); Чехов и Лев Толстой. М., 1980; Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Рассказывают современники, архивы, музеи… / Сост. и автор комментариев А. С. Мелкова. М., 1998 (далее это издание цитируется в тексте с указанием страниц, датировки встреч и времени высказываний также приводятся по этой антологии).
(обратно)572
Это понятие используется не в специальном, фрейдистском или юнгианском, понимании, а в самом общем смысле, в ракурсе практической поэтики: архетип – мотив, ситуация или персонаж, регулярно повторяющиеся в истории литературы и культуры, выявляющие ее специфические, глубинные, свойства. Попытку культурно-биографического истолкования архетипа см.: Абрамов П. В. Гёте как архетип поэта: Дис… канд. филол. наук. М., 2006.
(обратно)573
См., например: Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 52–55.
(обратно)574
Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 206.
(обратно)575
Лотман Ю. М. Архаисты-просветители // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллин, 1993. С. 362.
(обратно)576
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Л., 1979. С. 146.
(обратно)577
Подробнее см.: Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. Изд. 2-е. СПб., 2007. С. 338–344.
(обратно)578
Малоизвестный Довлатов. СПб., 1996, С. 487.
(обратно)579
Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 1. С. 29.
(обратно)580
Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 172.
(обратно)581
Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 2. С. 78.
(обратно)582
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 5–6.
(обратно)583
Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.
(обратно)584
Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 76.
(обратно)585
Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1955. С. 281.
(обратно)586
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. М., 1980. С. 70. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
(обратно)587
Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 13. М., 1978. С. 101. Далее в ссылках на пьесу страница указывается в тексте.
(обратно)588
См.: Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Сб. 1. М.; Л., 1922. С. 5.
(обратно)589
Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 133.
(обратно)590
Там же. С. 165.
(обратно)591
Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1970. С. 432–433.
(обратно)592
Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 396.
(обратно)593
Немирович-Данченко Вл. От редактора // Эфрос Н. «Три сестры», пьеса А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра. Пг., 1919. С. 8–10.
(обратно)594
Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 5. С. 336–337, 338.
(обратно)595
Там же. Т. 1. С. 221, 224.
(обратно)596
Там же. С. 228.
(обратно)597
Там же. Т. 2. С. 63–64.
(обратно)598
Там же. С. 236.
(обратно)599
Корецкая И. В. Символизм // История всемирной литературы: В 9 т. М., 1983. Т. 8. С. 80.
(обратно)600
«Дядя Ваня», д. 4. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 13. С. 114. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
(обратно)601
См.: Сухих И. Н. «Вишневый сад» А. П. Чехова // Анализ драматического произведения. Л., 1988. С. 363–364.
(обратно)602
Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 237.
(обратно)603
Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 134.
(обратно)604
Добычин Л. Полн. собр. соч. и писем. СПб., 1999. С. 137, 149, 157. Далее тексты Добычина цитируются по этому изданию с указанием страницы.
(обратно)605
Писатель Леонид Добычин: Воспоминания. Статьи. Письма. СПб., 1986. С. 131, 84, 276, 55, 17, 285.
(обратно)606
Писатели Англии о литературе. М., 1981. С. 284.
(обратно)607
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 256.
(обратно)608
Писатель Леонид Добычин. С. 79.
(обратно)609
Исследования А. П. Скафтымова о Чехове естественно разделяются на две группы. Первая – статьи-интерпретации, дающие целостную концепцию чеховской драматургии: «О единстве формы и содержания в „Вишневом саде“ А. П. Чехова» (1946) и «К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова» (1948). К ним примыкают более ранние незавершенные работы «Драмы Чехова» (датируемая публикатором А. А. Гапоненковым концом 1920-х гг.) и <«О Чайке»> (1938–1945). Вторая группа – источниковедческие и фактологические работы «О повестях Чехова „Палата № 6“ и „Моя жизнь“» (1948) и «Пьеса Чехова „Иванов“ в ранних редакциях» (1948). Далее речь пойдет о статьях первой группы.
Цитаты даются по наиболее полному собранию трудов: Скафтымов А. П. Собр. соч.: В 3 т. Самара, 2008, с указанием тома и страницы в тексте. Курсивы в цитатах – наши.
(обратно)610
«Наше короткое бессмертие состоит в том, чтобы нас читали и через 25 лет (дольше в филологии – удел лишь единичных гениев)…» – писал Ю. М. Лотман Л. М. Лотман 23 июля 1984 г.
(обратно)611
См.: Маркович В. М. Традиционное литературоведение в лицах // Маркович В. М. Мифы и биографии. Из истории критики и литературоведения в России. СПб., 2007. С. 237–312.
(обратно)612
См.: Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 375: «Понятие „метода“ вообще несоответственно расширилось и стало обозначать слишком многое. Принципиальным для „формалистов“ является вопрос не о методах изучения литературы, а литературе как предмете изучения. Ни о какой методологии мы, в сущности, не говорим и не спорим. Мы говорим и можем говорить только о некоторых теоретических принципах, подсказанных нам не той или другой готовой методологической или эстетической системой, а изучением конкретного материала в его специфических особенностях».
(обратно)613
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1990. С. 372.
(обратно)614
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 240–245. Далее ссылки на страницы этого тома даются в тексте.
(обратно)615
Цит. по: Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд., доп. М., 1988. С. 588–589.
(обратно)616
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 365.
(обратно)617
См.: Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983. С. 297–299 (там же ссылки на другие работы); Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. М., 1989. С. 522 (комментарий Б. В. Соколова).
(обратно)618
Ссылки даются на издание: Мандельштам О. Э. Полное собрание стихотворений / Составление, подготовка текста и примечания А. Г. Меца. СПб., 1995 (Новая Библиотека поэта). Страница указывается в тексте в скобках после даты.
(обратно)619
См. например: Жизнь и поэзия – одно. М., 1987.
(обратно)620
Мочульский К. В. Кризис воображения. Томск, 1999. С. 136–137.
(обратно)621
Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М., 1970. С. 202–204.
(обратно)622
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 21.
(обратно)623
Гумилев Н. С. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1991. С. 132, 159.
(обратно)624
Мусатов В. В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 91.
(обратно)625
Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С. 61.
(обратно)626
Мандельштам О. Э. О природе слова // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Т. 2. М., 2010. С. 77.
(обратно)627
Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. <Т. 7, доп.>. Т. 6. М., 2013. С. 493 (И. П. Сиротинской, 1971 г.). Далее ссылки на это собрание даются в тексте с указанием тома и страницы.
(обратно)628
Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990. С. 3.
(обратно)629
Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981. С. 215–216.
(обратно)630
Виноградов И. О теории новеллы // Виноградов И. Борьба за стиль. Л., 1937. С. 24.
(обратно)631
Борхес Х. Л. Сочинения: В 3 т. Т. 1. Рига, 1994. С. 383.
(обратно)632
См.: Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 219–226.
(обратно)633
См.: Флоренский П. В. Иконостас // Богословские труды. Вып. 9. М., 1972. С. 88, 97–98.
(обратно)634
Успенский Б. А. Семиотика и история (Восприятие времени как семиотическая проблема) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. М., 1994. С. 20.
(обратно)635
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т. 1. М., 1993. С. 154–155. К Шопенгауэру, кстати, восходит и сопоставление история – сон: «Все, о чем повествует история, в сущности лишь длинный и тяжелый сон» (Там же. Т. 2. С. 463).
(обратно)636
Там же. Т. 1. С. 154.
(обратно)637
Ремизов А. М. Огонь вещей. М., 1989. С. 58.
(обратно)638
Борхес Х. Л. Сочинения. Т. 1. С. 181, 186.
(обратно)639
Лотман Ю. М. Культура и взрыв. С. 224.
(обратно)640
Там же. С. 225.
(обратно)641
Ремизов А. М. Огонь вещей. С. 121.
(обратно)642
Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 234.
(обратно)643
Там же. С. 256.
(обратно)644
Жолковский А. К. Замятин, Оруэлл и Хворобьев: о снах нового типа // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 169, 188.
(обратно)645
Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 164.
(обратно)





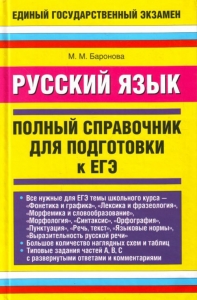

Комментарии к книге «Структура и смысл: Теория литературы для всех», Игорь Николаевич Сухих
Всего 0 комментариев