В. Г. Костомаров Язык текущего момента: понятие правильности
От автора
Эта книга была задумана Алексеем Алексеевичем Леонтьевым и мною в пору расцвета нашей большой и сердечной дружбы, ежевечерних домашних встреч, совместной службы в Институте языкознания АН СССР, а затем в Институте русского языка имени А.С. Пушкина, который мы вместе создавали и любили.
Потом в силу разных причин и семейных неурядиц Алексей Алексеевич покинул институт и даже в пику оставшимся создал сходный институт имени Л.Н. Толстого. Хотя доброжелательность личных отношений сохранилась, наши встречи стали редкими, и творческое сотрудничество нарушилось.
Здесь важно вспомнить об известной профессиональной раздвоенности Алексея Алексеевича: будучи доктором филологии, он потрудился защитить вторую докторскую диссертацию по психологии, баллотировался и был избран академиком РАО по этой специализации. Семейная традиция (отец и сын – известные психологи) взяла верх. Среди выступавших на траурном митинге 12 августа 2004 года я был единственным, кто вспомнил языковедческие заслуги замечательного учёного. Алексей Алексеевич (1936–2004) умер безвременно, нелепо и неожиданно.
Алексей Алексеевич жил крайне напряжённой жизнью во всём – в профессии, в дружбе, в любви. Следуя своим бескрайним интересам и увлечениям, он не знал, что такое отдых и тем более безделье. Он обладал изобретательным умом, феноменальной памятью и работоспособностью, бесконечно много читал, был энциклопедически образован, универсально эрудирован и творчески логичен. Он был влюбчивым, увлекающимся и щедро раздавал идеи и познания, не щадя свой талант, зажигал окружающих и сжёг себя, по натуре своей не мог не сжечь. По себе знаю, как умел он заворожить замыслом и завербовать своим энтузиазмом.
Именно так мы оба окунулись с головой в проект книги, связывающей преподавание языка с установлением нормы. Осмысление этого понятия было заботой сектора культуры речи, который создал С.И. Ожегов и которым после его смерти я недолго заведовал. В ту пору сделано было немало: отсылая читателя к библиографии в конце этой книги, упомяну лишь замечательные работы моих коллег В.А. Ицковича, Л.И. Скворцова, Л.К. Граудиной, Л.П. Крысина. Взгляды ряда единоличных статей Алексея Алексеевича и моих, а также нашей общей итоговой статьи «Некоторые теоретические вопросы культуры речи» (Вопросы языкознания. 1966. № 5. С. 3–15) как раз и предполагалось представить в виде практического пособия для преподавателей русского языка иностранцам. Отчасти уже упомянутые обстоятельства не способствовали совместной работе, и проект оказался под спудом.
Сейчас, во время нового взлёта общественного интереса к культуре языка, к его норме мне захотелось вернуться к заготовкам чуть ли ни пятидесятилетней давности. В моём архиве остался лишь проект оглавления, написанный своеобразной мелкой вязью, ни с чем не сравнимым леонтьевским бисерным почерком. Мои наброски нуждались в коренной переработке, а собранный языковой материал – в полном обновлении. Резко изменившаяся языковая жизнь требовала пересмотреть и взгляды на норму.
Получилась книга другого замысла и назначения: уже не для узкого круга преподавателей русского языка как иностранного, а для всех, кому интересны проблемы языка. От первоначального замысла осталось лишь желание сохранить задорный, детективно-ироничный стиль сочинительства, который мы с Алексеем Алексеевичем выработали в большой серии изданных в конце 1970-х годов русско-иноязычных разговорников «для занятых дельцов и беззаботных туристов» («For Busy Businessmen and Lazy Tourists»). Мы мечтали сделать изложение лёгким и доступным, даже развлекательным, но не раздражающим упёртых педантов. Чтобы было понятно и забавно.
Среди того, что кажется самоочевидным, есть много и не вполне очевидного, а то и совсем неочевидного. Немало загадочного таит язык, которым мы пользуемся, который мы знаем. Ставлю цель – не сообщить новые факты, но структурировать и осмыслить вполне известные, пристально вглядеться в отдельные места картины привычного и тем лучше понять её в целом, понять самого себя в ней, уберечься от недоумений и недоразумений.
Представляя на суд читателей свой нынешний труд, я посвящаю его светлой памяти моего незабвенного друга, великого учёного, замечательного человека, лингвиста и психолога, академика Алексея Алексеевича Леонтьева.
Москва, август 2014 года
1. Правильный язык
1.1. К определению понятия
Многие авторы, среди которых М.В. Ломоносов, Н.В. Гоголь, называют язык живым как самая жизнь, уподобляя его подвижному океану, едва пределы имеющему. Иначе и быть не может: язык служит многообразным потребностям общества, меняющимся на разных отрезках истории, и позволяет людям самоутверждаться как личностям. Чем больше людей пользуется языком, тем безбрежнее океан.
Важную роль играет динамика языка. Как любая сложная, иерархически организованная система, язык развивается по присущим ему внутренним законам. Эти законы действуют беспрерывно, но неодинаково в открытых уровнях лексики и стилистики, в разной степени закрытых, исчислимых уровнях фонетики, морфологии, синтаксиса, в юридически утверждаемой орфографии.
Естественно восторгаться размахом вечно бурлящего океана – языка, но нельзя не заметить его избыточности: в нём много устаревающего и новейшего, необходимого и ненужного, прекрасного и отвратительного, всплывающего из глубин во время шторма. Чтобы незатруднённо понимать друг друга, люди одной породы прежде всего нуждаются в общепонятном единстве языка. Без него немыслимо осознать своё духовно-культурное родство, создать нацию и государство, сотрудничать в хозяйстве и других областях жизни. Сплочение нации, общее взаимопонимание требуют порядка, дисциплины, согласия о правильности языка.
ПетербурЖанки и петербурЖцы (всё-таки не петербурГцы, хотя они сейчас сами предпочитают петербурГский старому петербурЖский) булкой называют не только булки, но батоны, булочки, ситники, халы, калачи, весь белый хлеб. Курицу, под которой разумеем и петуха, называют логичнее – курой в согласии с куры (сейчас в гастрономическом смысле у нас повсюду по английскому образцу начали говорить цыплёнок, цыплята). Бордюр, как все горожане называют камень, отделяющий тротуар от проезжей части, петербуржцы именуют поребриком. Звонят друг другу на трубочку, а не по мобильнику. А главное – потешаются над сердеШным другом москвичом, говорящим булоШная, Што, доЩь, доЖьЖьа вместо сердеЧный, булоЧная, Что, доЖДь. Впрочем, и москвичи теперь многие пристрастились говорить булоЧная, а некоторые – даже Что.
Можно ли упорядочить употребление слов силою общественного мнения, школы, прессы? Можно, но… жалко, почитая авторитет двух столиц и уважая своеволие самого языка, дарящего нам простор выражения. К тому же и в Москве, путая скуЧно и скуШно, разумеют разницу между тоЧно и тоШно. Если говорить серьёзно, то правильный язык питается из обоих источников.
Академик Л.А. Вербицкая показала, что общерусское произношение сложилось к середине ХХ столетия в единую произносительную норму в ходе своеобразных рокировок. Например, москвичи стали мягко, в согласии с написанием произносить глагольную частицу – с, – ся (раньше говорили твёрдо (учуС, училСА). Коренные петербуржцы забыли в пользу московско-всеобщей формы сосулька производящее слово сосуля, которое употребляли раньше: «С выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой» (Набоков В.В. Рождество). Героиня В.В. Набокова вспоминает слово и в другом, неизвестном для Москвы виде: «Там холодная зима и сосулищи с крыш» (Набоков В.В. Подвиг). Некоторые авторитеты и сегодня так говорят, им и греча приятнее московско-общего уменьшительного гречка. Но пример взаимоуважения прекрасен. Главное же в том, что, так утверждаясь, люди всё же вполне понимают друг друга, находясь в пределах одного языка.
Вот если чужое вовсе непонятно, то это вроде и не язык. В старой России людей, говоривших совсем непонятно, считали немыми и называли немцами, не разбирая, германцы ли они или французы, голландцы, шведы… Древние греки и римляне всех, не владевших их языками, именовали варварами – обходившимися какими-то непонятными выкриками вар-вар-вар вместо человеческой речи. Правда, варварами обзывали и стиляг моей юности, которые оберегали свои музыкальные предпочтения, одежду и словарь, отстаивали свою манеру поведения, хотя в остальном их понять было нетрудно. Древние, конечно, знали, что среди «варваров» есть разные народы, как-то понимающие друг друга. Тем не менее уже в войске Александра Македонского всех славян ставили на один фланг сражения как взаимно разумеющих, несмотря на то что внутри такого «сообщества» славяне различали своих и чужих.
Дело в том, что этническое и государственное единство, военное в том числе, нуждаясь в консолидации и сплочении, неизбежно ослабляет как индивидуальные, так и территориальные, профессиональные, социальные, возрастные и иные отличия, а в многонациональной стране – отчасти даже этнические и языковые. Уважительное взаимодействие всех «своих» языков и, конечно, различий внутри одного общего языка должно избегать коллизий вроде тех, когда людей, говоривших непонятно, считали немыми чужаками.
* * *
Правильный русский язык, который становится общим, гордо повторяет в своём названии имя государства и народа, кому он родной, – русский, Русь, Россия (раньше писали о языке Российском, подчёркивая уважение заглавной буквой). Он принципиально един, устойчив и всеобщ. Он возвышается над океаном наречий, жаргонов, даже общего просторечия, не говоря уж об особенностях речи отдельных личностей. Он служит дисциплинирующим орудием, наводящим порядок в обществе.
Невозможно, конечно, не задать вопрос: кто, где, когда и, главное, почему объявил основой общего и самого правильного язык именно Москвы, а не язык, например, Орла, Саратова, Иркутска и тем более не язык явно претендующего на это Санкт-Петербурга? И не ущемляет ли этот факт права и претензии других регионов? Ограничимся ссылкой на М.В. Ломоносова, считавшего, что язык вырос и возмужал на основе говора Москвы – «по важности столичного города и для своей отменной красоты».
Каждый школьник слышал о теории «трёх штилей» и об изданном в 1755 году первом учебнике собственно русского языка – «Российской грамматике». В них М.В. Ломоносов – великий русский гений, учёный и стихотворец – утверждал превосходство русского языка над другими главными языками человечества, находя в нём «великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского и сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков».
Правильный, общий язык научно исследуют, запечатлевают в многочисленных, пусть не всегда убедительных, грамматиках, словарях, справочниках, учебниках, пособиях. Его охраняет общество, государство печётся о нём законодательно, усердно насаждают школа и вся система образования. Отход от правильного языка не одобряется, высмеивается, иной раз и наказывается – провалом на экзамене, лишением должности. Кое-кто всерьёз предлагает штрафовать за искажение языка.
Естественно желать, чтобы правильный русский язык был богатым, гибким, выразительным, но в то же время и обозримым в объёме, по возможности неизменным во времени, рациональным, строго коммуникативным. Ясно, что он меньше языкового океана, когда выступает предметом всеобуча и обучения иностранцев, тех, у кого иной родной язык. Однако совсем не легко дать ему точное определение, потому что его употребление различается в зависимости от цели, темы, характера общения.
* * *
Языковая правильность – это то, чему обучают в школе и чему всё время учит жизнь, что всех объединяет в повседневности семьи и труда. Особая языковая правильность остро нужна в управлении страной и политике. Говорят, например, о государственном языке, границы которого отличаются от границ русского как родного, о подъязыках отраслей науки, производства и искусства. Постараемся показать, что, хотим мы этого или нет, состав, объём и, главное, понимание правильности языка будут различными в зависимости от его функциональных предназначений.
В русской истории правильность естественно задавалась Псалтырью, богослужебными книгами. В советское время она сводилась к языку «Краткого курса истории КПСС» и передовиц центральной газеты «Правда». Партийно-государственно-управленческая деятельность, агитация и пропаганда так углубляли пропасть между правильным языком и несанкционированно человеческим, что они казались разными языками.
В противовес ленинскому тезису о двух культурах в национальной культуре (культуре эксплуататоров и культуре эксплуатируемых) Н.И. Толстой в статье «Язык – словесность – культура – самосознание» (Русский язык за рубежом. 1994. № 5–6) и других работах связывал языковую правильность с разными внутринациональными культурами в структуре общества и их актуальными «кругами чтения» или «кругами слушания». Впрочем, народ, следуя духу своего вольнолюбивого языка, никогда не рядил его в тесный сословный или тем более прозападный мундир.
Ещё более важное качество правильного языка – то, что, возвышаясь над неопределённым языковым многообразием, он упорядочен, сознательно обработан. Он разумно рукотворен, искуственен, по удаче и искусен, когда из чего-то природного и стихийного выращивается что-то, безусловно, наилучшее.
М. Горький писал: «Язык создаётся народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, сырой язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его» (Горький М. О литературе. М., 1937. С. 220).
Под мастерами понимались прежде всего писатели. Раньше писателями называли вообще пишущих, первоначально даже просто умеющих писать (английское заглавие «Teaching First-Grade Writers» на русский надо перевести как «Обучение письму первоклассников»). Беллетристов – тех, кто пишет с изобразительной фантазией, с вымыслом, – из них выделяли, называя сочинителями. В созидании правильного языка участвуют, конечно, не только и даже не столько они, но все образованные, хорошо пишущие люди (и хорошо говорящие!), а не исключительно сочинители.
Тексты художественных произведений стали образцом для всех ревнителей языка – учёных, общественных деятелей, рядовых умельцев меткого слова. Назидательно «учившие жить» писатели-классики сыграли важнейшую роль в коммуникативно-информационном отборе языковых богатств да и в личном творческом изобретательстве. Именно поэтам принадлежит заслуга этической и эстетической, музыкальной шлифовки языка.
Уместно заметить, что потребность в общепонятном правильном языке обострялась при формировании наций и политико-экономической целостности всех государств. В протестантских странах его базой служили тексты Ж. Кальвина, М. Лютера, других религиозных деятелей. В Англии важную роль играл «Билль о правах» и прочие юридические тексты, чему последовали и США с их Декларацией независимости и неизменной Конституцией. Ситуация диалектной разобщённости в Испании и Италии, а также во Франции обрела опору в созданных филологами, историками, философами энциклопедиях и словарях. Как не вспомнить гениальный словарь Академии делла Круска, отпраздновавшей в 2012 году 400-летний юбилей. Словарь был составлен в 1583 году во Флоренции, издан в Венеции в 1612 году и послужил образцом для французов.
Итак, многоконфессиональная и сложноэтническая Россия со своим в то же время поразительно монолитным во времени и пространстве языковым хозяйством самобытно обретала общий, единый, правильный язык в духовных исканиях писателей, которые у нас «больше, чем писатели». Тут можно вспомнить авторов и орловско-курского, и южного, и сибирско-волжского происхождения. Не возносясь горделиво, язык постоянно, но осторожно вбирает в себя полезное отовсюду.
Острым чутьём правильности, по верному мнению В. Ходасевича, обладал Г.Р. Державин. Живший в бурный век становления, «когда все бродили в потёмках, он, преодолев подчинение по ученической робости советам друзей и правилам языка, в которых не видел установленного закона, почувствовал себя вправе поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более – свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же вольность… По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом. Но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Ещё слишком глубока была его связь с той первобытной, почвенною, народной толщей, где происходит само зарождение и образование языка и куда грамматист принуждён спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана. Для грамматиста благо есть то, что правильно, то есть учтено и зарегистрировано. Для Державина правильно всё, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели – выразить мысль и чувство. Его эстетика полностью подчинена выразительности. В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. Он любил всё «попышнее, пожирнее, пошумнее». Таков и язык его, пышный, жирный и шумный… В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело. Нетерпеливый, упрямый и порой грубый, он и со словом обращался так же: гнул его на колено. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута. Но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нём абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев» (Ходасевич В. Державин. М., 1988. С. 199).
Так была подготовлена почва для карамзинско-пушкинской реформы, от которой идёт наш современный язык. Классики художественной литературы облагородили его, уже второе столетие он упорядочивается и шлифуется мастерами слова и чувствительными к языку любителями.
* * *
Поиск правильности исторически связан с письменностью. Алфавитно-буквенное опредмечивание устранило недостатки летучего звукового общения, дало возможность передавать его результаты в пространстве и во времени, породив два величайших института человечества – почту и библиотеку. Но заметим сразу, письменность не сохраняет многого, что несёт значение в контактном общении: интонации, особенностей произнесения, мимики и жестикуляции, движения, изображения, настроения.
Значение письменности в её орфографической одежде, особенно с изобретением печати, неоспоримо и велико. С нею связано даже самое понятие знающего, культурного человека – грамотного, то есть умеющего читать и писать. Роль письменности не сводится лишь к фиксации звучащего слова. Без печатного дела не сложились бы стилистическое богатство и многообразие языка и, главное, массовое распространение текстов. Наиболее существенные для общества сферы – государственность, экономика, наука, культура и искусство – неразрывно связаны с книжностью, создавшей особую, книжную разновидность языка. Рождённая в лоне письма, она завоёвывает и звуковое общение, вообще воспринимается как единственно правильная.
Выводимая из книг правильность печатно и фиксируется, а правила орфографии и пунктуации на запись естественных разговоров и не покушаются. Сегодня многие всё ещё отождествляют правильность с книжностью, хотя сами вряд ли ограничиваются этой разновидностью языка. Озвучиваясь при чтении, книжная разновидность языка облагораживает и звучащее общение, но, в принципе, для последнего дан, по словам французского лингвиста Ж. Вандриеса, всем людям на земном шаре один язык – звуковой человечий.
* * *
Создание языка – таинственный процесс, идущий сокровенно, постоянно, но малозаметно, часто противоречиво, иногда необъяснимо.
Признание мерилом правильного языка его узаконение в качестве общего, извлечённого из языкового океана и обособленного кристаллизацией и обработанностью заставляет задуматься над тем, допустима ли вообще такая регулятивная деятельность. Если да, то насколько, каковы пределы и способы вмешательства человека в дела языка? Надо учесть ещё и то, что вследствие технических изобретений ныне утрачивается увязанность языка только с книжностью, с письмом и печатью.
1.2. Регуляция в теории
Многим авторитетам мысль упорядочить языковой океан чудится столь же кощунственной, что и своевольно изменить течение сибирских рек. Вмешательство человека в дела языка для них – неправомерная и обречённая на неудачу попытка насильственно насаждать абстракции, искусственно получаемые из фактов реального употребления.
Негативный взгляд выражен, например, Л. Ельмслевом: «Что касается нормы, то это – фикция, и притом единственная фикция среди интересующих нас понятий. Узус вместе с актом речи и схема отражают реальности. Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса. Строго говоря, она приводит к ненужным осложнением, и без неё можно обойтись. Норма означает подстановку понятий под факты, наблюдаемые в узусе, но современная логика показала, к каким опасностям приводит гипостазирование понятий и попытка строить из них реальности» (Ельмслев Л. Язык и речь // История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях: В 2 ч. М., 1960. Ч. 2).
На схожей позиции стоял великий отечественный языковед А.А. Шахматов, признавая употребление единственной основой правильного языка. В своей словарной работе он отказался от установления норм, выдвинув идею документации, точных ссылок на источник, ибо «характер источника ясно предопределяет, насколько то или другое слово следует считать общеупотребительным, насколько то или иное выражение можно признать достойным подражания» (Словарь русского языка, составленный 2-м отделением Академии наук: В 3 т. СПб., 1897. Т. II. Вып. 1. С. 7).
Против этого мнения возражал учитель гимназии И.Х. Пахман, высказывая нормативно-педагогическую точку зрения. А.А. Шахматов так отвечал на критику учителя гимназии: «Странно было бы вообще, если бы учёное учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось бы указывать, как надо говорить» (Шахматов А.А. Несколько замечаний по поводу записки И.X. Пахмана // Сб. ОРЯС. 1899. Т. XVII, № 1. С. 33).
В том же сборнике учёный А.Г. Горнфельд писал, что доводы от разума, науки и хорошего тона действуют на язык не больше, чем курсы геологии на землетрясение: «В том-то и беда, что ревнителей чистоты и правильности родной речи, как и ревнителей добрых нравов, никто слушать не хочет. За них говорят грамматика и логика, здравый смысл и хороший вкус, благозвучие и благопристойность, но из всего этого натиска грамматики, риторики и стилистики на бесшабашную, безобразную, безоглядную живую речь не выходит ничего».
Полемику на ту же тему позже продолжил К.И. Чуковский: «Люди так представляли себе, будто мимо них протекает могучая речевая река, а они стоят на берегу и с бессильным негодованием следят, сколько всякой дребедени и дряни несут на себе её волны… Но можем ли мы согласиться с такой философией бездействия и непротивления злу? Неужели мы, писатели, педагоги, лингвисты, способны только плакать, негодовать, ужасаться, наблюдая, как портят русский язык, но не смеем и думать о том, чтобы мощным усилием воли подчинить его своему коллективному разуму?.. Неужто у нас нет ни малейшей возможности хоть отчасти воздействовать на стихию своего языка?.. Для разумного воздействия на языковое существование людей у нас есть могучий комплекс сил, мощные “рычаги просвещения”, школа, радио, кино, телевизор, множество газет и журналов».
В самом деле, трудно согласиться со взглядом на язык как имманентную стихию, недоступную для человека. Нельзя забывать, что «не общество для языка, а язык для общества» (афоризм А.И. Бодуэна де Куртенэ, учению которого следуют Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, Г.О. Винокур, пражские структуралисты, большинство современных авторов), и отрицать саму́ю идею осознанного влияния людей на язык.
Из соотношения схема->узус следует не только, что литературно-языковой идеал недосягаем, но и что конкретный анализ способен обнаружить правильное как объективное явление, которое коренится в самой системе языка и которое может быть использовано по воле людей для эффективного общения. Учёт направлений языковой эволюции способен определить регулятивные действия, нацеленные на воспитание вкуса и умения строить тексты в рамках заданной социально-культурной традиции. Более того, он как раз и определяет извлечение и обработку единого правильного языка в интересах культурно-языкового единства и порядка.
Долг учёных – создать надёжный лингвистический компас, дать прогнозы и рекомендации, а не пассивную геологическую и топографическую карту языковой округи. Для этого полезно изучать отстоявшиеся формы «на всех уровнях языковой системы в их противоречиях и вновь развивающихся тенденциях» (Виноградов В.В. Проблема культуры речи и некоторые задачи русского языкознания //Вопросы языкознания. 1964. № 3. С. 9).
«Лингвисты должны стать практиками: не только коллекционировать обороты, но и активно вмешиваться в процессы языка, объяснять его, предсказывать тенденции, смело браться за новое. В общем – взять язык в руки!» Процитировав эти слова старичка-филолога из романа «Заноза» Л. Обуховой, академик В.В. Виноградов заметил, что они представляют некоторый интерес.
Самым сильным (и самым успешным!) вмешательством людей в самостийное развитие языка явилось изобретение письменности. Не найти лучшего доказательства могущества человеческой воли, чем способность, опредмечивая, овеществляя тексты, фиксировать, хранить и воспроизводить их, работать над ними и с ними. Ущербная условность фиксации обернулась великим достоинством, вынудив хитроумно компенсировать её усложнением самого языка – расширением словаря, изощрением морфологии, логизацией синтаксиса.
Поколениями творцов создался книжный язык, отличный от первородного звукового. Он отвечал усложнению жизни людей, росту разнообразия и объёма информации, а также количества общающихся. Роль книжного языка возросла, а сам он предстал величайшей ценностью национальной культуры. Книжность стала мощнейшим рычагом нормализации, порождаемое ею печатное дело, множительная техника революционно изменили коммуникативную жизнь общества и устройство самого языка, как минимум разбив его на книжную и разговорную разновидности. Письменной фиксацией традиция неразрывно связала самую́ идею правильности с книгой.
* * *
Как все величайшие достижения, письменность имеет и отрицательные следствия. Излишне обожествляя её, люди насилуют данный им звуковой язык. Во многом безразличные к звуку, принятые ныне орфография и пунктуация полностью ориентированы на книгу, часто даже противоречат живому произношению (картинка 7.7[1]). Возвышение и обожествление книжного языка неразумно приводили к пренебрежению первичным и исходным звуковым языком, ему отказывали в звании законного и достойного общего правильного языка, считали неправильным, неграмотным, хаотичным, стихийным.
Языковеды до сих пор недооценивают звучащие тексты, хотя наиболее прозорливые из них, например И.А. Бодуэн де Куртенэ, давно призывали к «демократизации языкознания», его «энергичному освобождению от аристократизма филологии… от предрассудков и безосновательных мнений… освобождению от влияния филологии, от перевеса буквы над звуком» и в различении устной речи от написанного текста (Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. М., 1963. Т. 2. C. 6). М. Шагинян считала, что пора обновить язык «устной речью, прислушаться к изменениям и новизне в разговорах живых людей, современников, сойти из книжного шкафа в уличную толпу» (Рубрика «Нам пишут» // Новый мир. 1975. № 3). Сегодня к этому призывает уже вся жизнь.
Правильность «выступает с чертами общего для определённой эпохи письменного и устного языка, характеризующегося нормотетическими по своей целенаправленности законами развития, действующими в определённое время с обязательностью общеязыковой нормы» (Трнка Б. и др. К дискуссии по вопросам структурализма // Вопросы языкознания. 1957. № 3. С. 44). Историю правильного языка «в целом характеризуют две общие, противоположные друг другу тенденции развития: 1) стремление к сохранению и укреплению действующей в нём нормы и 2) стремление к преобразованию сложившейся нормы» (Havranek B. Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur // Actes du IVe Congrès international des linguists. Copenhague, 1938. P. 154).
* * *
В учёном мире нет полного согласия по поводу пределов дозволяемого регулирования правильности (Крысин Л.П., Скворцов Л.И., Шварцкопф Б.С. Проблемы культуры русской речи // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1961. Т. XX, Вып. 5. С. 428–432). Всё же ясно, что недопустим произвол субъективизма, личного вкуса, будь то дремучее ретроградство или, напротив, безудержное обновление.
Разумеется, в силу непрерывного развития языка «всегда и везде есть факторы, которые грызут норму» (Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения // Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. Т. 1. C. 15). Их консервация в благом стремлении к порядку грозит омертвлением принятой правильности, отчего необходимо разумно поддерживать «вновь созреваемые нормы там, где их проявлению мешает бессмысленная косность» (Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Там же. C. 65–66).
Предпочтение сухого консерватизма тормозит живые процессы в языке. Зато такое предпочтение – в интересах общества, потому что помогает сохранить его единство, отвечает справедливым требованиям педагогов, всех ревнителей культурной традиции обеспечить языковую устойчивость и определённость. Люди хотят знать, что правильно и что нет, нуждаются в рекомендациях, в точном лингвистическом ориентире. Не утаивая, конечно, от учеников современные новшества, школа обязана в первую очередь консервативно передавать проверенное временем. Упорядоченная часть языка должна быть тем, чему стоит учить иностранцев, овладевающих русским языком.
* * *
Итак, в языке, отрегулированном и узаконенном в качестве правильного, общего, можно видеть систему обязательных манифестаций – принятых единиц и правил их использования. Они рисуются одновременно как неподвижная данность и – за пределами непосредственного наблюдения – как процесс непрерывных точечных смен, по мере накопления которых возникают серьёзные преобразования.
Постоянная, но медленная, почти не замечаемая людьми текущая саморегуляция – это существенный признак правильного языка. Стихийно она протекает как поиск баланса саморазвивающейся структуры в сторону регулярности, «выталкивания» исключений. Именно согласием с этой природно-системной регуляцией, уловленной Г.Р. Державиным в виде его субъективного ощущения правильного и неправильного, кроется удача его языкотворчества. В наше время эта задача осознанно предстаёт научно обоснованной деятельностью специалистов, чьи оценки внедряются с одобрения и общественного мнения, и властных структур государства в интересах сплочения общества.
Опрометчиво утверждать, что правильность языка коренится только в саморазвитии его системы или только в его функционировании, зависимо от потребностей людей. В коммуникативной деятельности заложено стремление к разумному порядку, определению правильности. Оно предполагает сознательные действия в интересах эффективного общения, то есть регулятивную нормализацию, приводящую к нормативности, которую общество внедряет прежде всего через школу (Ожегов С.И. Очередные вопросы культуры речи // Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955. C. 14–15).
Утверждая своё право и способность воздействовать на язык, даже обязанность его регулировать во имя национально-государственного единства, ради образования, дисциплины и порядка в нём, люди обязаны знать и границы дозволяемого. Посягательство на самостоятельность делах языка неизбежно ведёт к беде.
Великий В. Гумбольдт видел в языке эргон (вещь, предмет) и энергию. Это различение продолжено многими учёными, чаще выделяющими три аспекта языковых явлений: язык, речь и речевую деятельность (Л.В. Щерба), систему, норму, речь (Ф. де Соссюр) и т. д. Связь этих ипостасей с языкотворчеством различна: нечто, рождаясь стихийно и случайно в живом общении, может, повторяясь и фильтруясь в норме, речи, речевой деятельности, закрепляться в системе языка. Здесь и детерминируются границы допустимого нарушения сложившегося состояния. Не считаться с вековыми традициями объёма, состава и пределов допустимых изменений в правильном языке – значит неизбежно ущемить его главную роль – быть средством общения, мышления и чувствования людей, обеспечивая их взаимопонимание и национально-государственное единство.
Назидательный пример тому, как язык мстит тем, кто жаждет ослабить его диктат: нынешние думские «спецы» хотели предписать под угрозой штрафа «избегать иностранных слов, когда есть русские аналоги». Они не заметили, что обрекают самих себя на наказание! Опасно своевольно влиять на то свойство русского языка, которое А.С. Пушкин сформулировал словами: «Язык наш общежителен и переимчив».
Безусловно, поэты имеют право творить свой язык. Однако поэты-«заумники» Серебряного века, переоценившие возможности своего языкотворчества, потерпели поражение и наказаны утратой понимания. Даже поклонники отвергли как невнятное закононепослушное посягательство на создание особого, «нового» языка и осмеяли непочтение «заумников» к традиции. Хотя многих читателей и сегодня восторгает смелое словотворчество Виктора (или Велимира, то есть того, кто велит миру, повелевает им, как он себя переименовал) Хлебникова: могун, могач, моглец, мечатырь, можество, личанствовать, моженята, отмочь, смехачи смеются смехами, смеянствуют смеяльно или программное «Я свирел в свою свирель / И мир хотел в свою хотель».
В. Брюсов сначала одобрял В. Соловьёва, в устах которого «иные слова часто имеют совершенно новое и неожиданное значение», и Вяч. Иванова, который «не довольствуется безличным лексиконом расхожего языка, где слова похожи на бумажные ассигнации, не имеющие самостоятельной ценности». Однако позже Брюсов писал осторожнее: «Более жизненной оказалась группа самых непримиримых футуристов – та, которая именовалась то кубофутуристами, то будетлянами (от корня “буду”, аналогично future), то заумниками. Стойкость её зависела от того, что она ставила себе задачи прежде всего технические, желала создать новый поэтический язык, “заумь”, который дал бы поэзии более совершенный материал для творчества, нежели язык разговорный. В этой тенденции есть своё здоровое ядро. Поэзия – искусство словесное, как живопись – искусство красок и линий. Извлечь из слова все скрытые в нём возможности, далеко не использованные в повседневной речи и в учёных сочинениях, где преследуются цели практические и научные, – вот подлинная мысль заумников» (Брюсов В. Среди стихов. М., 1990. С. 57, 75, 591).
Но и на этот счёт могут быть разные мнения. Нарушать законы языка не позволено никому. Не надо обольщаться тем, будто язык и его носители потерпят тотальную инвентаризацию, оценку и упорядочение всего и вся. Начитанные люди, конечно, помнят находки, с удовольствием цитируют И. Северянина, который «повсеместно оэкранен… взорлил гремящий на престол». Однако в состав языкового ядра, в круг норм не вошли даже самые удачные находки поэта, претендовавшие именно на звание всеобщих норм, они запомнились как примеры неразумного самочинства, отвергаемого языком.
В конечном счёте нормализация языка − во власти людей, в интересах общества. Но и интересы языковой системы не могут игнорироваться, её силы дают постоянно о себе знать. Они ставят ограничения возможностям человека своевольно «редактировать» её законы, тем более их попирать.
В то же время в поисках выразительной образности своих «языков», ставших прообразом общего образованного языка, писатели обращались к меткости и живой многогранности народной речи. Л.В. Щерба призывал не ограничиваться, вслед за старыми учёными, древними памятниками и текстами классиков, но вовлечь в рассмотрение «всё написанное и говоримое». По его мнению, все новации куются и накопляются в кузнице звучащей разговорной речи; фильтруясь, они обеспечивают истинный прогресс всего литературного языка. Справедливость этого мнения подтверждается нынешним замедлением динамики образованного языка в его письменной форме.
Подводя итоги сказанному о взаимоотношении самостийного развития языка и сознательного влияния на него людей, можно прибегнуть к теории взаимодействий, метафорически изображающей взаимоотношения языка и людей как всадника и коня. Язык – средство общения людей, а люди – средство развития языка. Оба одинаково важны, пока люди не осознаю́т первичность своей роли. В случае разумной необходимости конь поскачет, куда велит всадник, хотя и стремится остаться в стойле.
Обычно же их взаимоотношения вариативны и зависят уже от того, хорошо ли объезжен или своеволен конь, зол или в добром настроении всадник. Не должен всадник злоупотреблять властью, понуждая коня по своей прихоти скакать быстрее и дольше, чем конь может. Так же и люди должны уважать родной язык, если они его любят. Отношения в этом союзе переплетаются: всадник и конь не борются, а считаются с интересами друг друга, понимают силы, возможности, желания, цели, приёмы друг друга и взаимно их почитают. При удаче в этом союзе процветают любовь и согласие, но ежели нет понимания и уважения, неизбежна беда. Всадник может загнать своего коня, а конь в силах сбросить и затоптать всадника.
Пределы человеческого вмешательства в дела языка мониторятся, если прибегнуть к модному слову и понятию, общим процессом нормализации, в котором (каждый по-своему) участвуют оба партнёра – как социум, так и язык.
1.3. Регуляция в истории
В истории оценка языка и человеческое воздействие на него происходили всегда – в естественном ли виде или в волевом, намеренно созданном, вплоть до своеволия «заумников» придумать новый язык. Единое средство общения, которое в интересах взаимопонимания людей кристаллизуется в безбрежном языковом океане, обрабатывается, регулируется и используется просвещёнными слоями общества, всегда соотнесено с настроением, потребностями, жизненными притязаниями эпохи. Базисно его правильность сводима к вечному и бесхитростному различению чужого и своего, которое и предстаёт натурально правильным.
В конце 40-х годов ХХ столетия как участник диалектологической экспедиции (полевое изучение говоров входило тогда в программу обучения студентов-филологов) я слушал в деревне рассказ одной милой девушки: «Отец-От на вОйне, мать-та в ВОлОгду О ту пОру была уехавши, Оставили меня сОвсем Одной таку маленьку…» Я увлечённо записывал, что говор развил постпозитивный артикль, но хранит архаические черты (у нас уже был курс истории древнерусского языка): «окают» (не редуцируют безударные гласные), склоняют краткие прилагательные, предпочитая их полным, используют плюсквамперфект, причём с деепричастием в именной части, а не с причастием.
Девушка вдруг сказала, что ходила в школу, может и по-московскому говорить, хотя это чудно́ как-то: «Мать тОгда, то есть тАгда на время уехала, тАчнее уезжала в ВолАгду, кАгда этА случилАсь… Недаром вас дразнят “был в МАскве, хАдил пА дАаске, гАвАрил кАровА дА кАза”. Пи́шете-то хоть правильно?» Правильность, как видно, исходно определяется различиями своего и чужого.
Проявляясь в противопоставлении «свой – чужой», оценка «правильно», существующая всегда и во всём, должна быть сделана всё же с умом. С северянкой из этого рассказа мы при всех различиях понимали друг друга, находясь в пределах одного языка, причём она хорошо знала, что в столице, по радио, в школе говорят пусть и чудно́, но правильно, и понимала, что это необходимо для беспрепятственного взаимопонимания людей в огромной единой стране.
Среди языковедов есть оптимисты, уверенные в прогрессивном улучшении, и пессимисты, видящие в развитии языка порчу первоначального «свыше данного» средства общения. Разумно полагать, что лучше всего способен обслуживать нужды своего народа его родной язык. Своеобразие его устройства свидетельствует лишь о гении этноса, творчески, национально-самобытно решающего даже сходные задачи общения в истории человечества.
* * *
Поиск своего языка охватывает всю историю этноса с момента возникновения самих явлений, будучи порождён бессознательным ощущением отличия одних явлений от других. Задача найти свой язык становится всё более важной с ростом этноязыкового самоосознания, по мере углубления хозяйственного, торгового, военного дела, монорелигии, народной поэзии на этапах, предшествующих созданию государства. Её актуальность растёт с ростом удачных образцов и грамотности, письменно узаконивающей правильность, описывая её в форме орфограмм. Единицы языка питаются талантом, умом и тщанием кудесников – любимцев богов, монахов-богословов, вещих певцов, законодателей, толмачей, стряпчих и писцов. Правильный язык внедряют семейное и общественное воспитание и обучение.
Со временем понятие своего правильного языка, как и сами приёмы его обработки, возвысилось до уровня самосознания и патриотизма, условия сплочения, единения и прогресса, государственного, хозяйственного, торгового, военного, художественного. По мере возбуждаемого личным и общенародным разумом перехода от варварства и последующих формационных процессов к цивилизации, развитому производству, системной экономике, науке, общественному устройству меняются и требования к языку как основе общения, обмена мыслями и опытом. Происходило это весьма различно в разных странах – в двадцать одной форме по А. Тойнби, мозаично по Л.Н. Гумилёву. Советская историография, а за ней и языкознание тесно связывали этот переход с формированием наций, появление и становление которых знаменовались заботой о национальном языке, его описанием и поддержанием статуса.
Возникающая проблема определения объёма и характера всеобщего образованного языка господствующего класса, религии, искусства, науки и просвещения в России счастливо решалась взаимодействием близкородственной общеславянской книжности и особенностей восточнорусского разнообразия наречий. Наша ситуация отличалась от ситуации Западной Европы, где местные языки сочетались с малородственной латынью. Уже в эпоху народности понимание правильности языка русских княжеств ушло от различения своего и чужого в силу общей религиозной и светской литературы.
При всей уникальности своей роли не всегда книжность порождает образованный язык, задавая ему качество правильности. Так, в эпоху становления и развития нации исторический процесс создания, обработки, образования правильного языка отходит от обожествления книги. Книгопечатание удешевляет и делает книгу массово-доступной, эгалитарной, воспринимающей дух индустриального общества. Поиск правильного языка увязывается с понятием нормы, вообще актуальным для эпохи формирования нации, которая требует порядка и чёткой дисциплины в производстве, хозяйстве, науке, во всех сферах жизнедеятельности государства.
Показательно, что В.В. Виноградов и другие крупнейшие исследователи формирования русского и других славянских литературных языков прибегают к словам нормализовать, нормативность, нормы лишь применительно к пушкинской эпохе и последующей истории. Термин кодификация никогда не используют. Исследования древнерусского языка обходятся без этих терминов. Мало кто из учёных говорит о нормах языка применительно к письменным произведениям, созданным до ХVII и даже ХVIII века.
Понятие «норма» вытесняет торжествовавшее учение М.В. Ломоносова о «трёх штилях», гениально разъяснявшее ситуацию ХVIII века структурным разведением «корзин» языковых средств в согласии с тематико-содержательными сферами: 1) оды, трагедии и 2) комедии, а также «дружной пирушки», под которой подразумевалось как бытовое общение, так и начало языка науки и производства. Это полезное функциональное упорядочение своеобразной диглоссии старо-, церковнославянской книжности и живой восточнославянской стихии, всё более книжной в письменном законодательстве, приказной администрации, просвещении, науке послепетровского времени переставало соответствовать национальным интересам. Государственное единство и экономика всё сильнее нуждались в установлении не только фабричных и трудовых нормативов, но и территориального и языкового сплочения.
В ХIХ – ХХ веках «верный» оптимально-нормальный язык этнических русских предстаёт в виде книжной и некнижной разновидностей. С конца ХХ столетия ситуация усугубляется их сближением, изменением их увязки со звучанием и печатью, появлением текстов иного вида, в целом иной структурой правильного языка, по-новому образуемого всепригодно, нормативно, эстетически.
Теперь язык всё меньше сводится к искусственной книжности, поневоле скованной письмом, печатью и разлучённой со звуком, с реальностью контактного общения. Вопреки нашему желанию технический прогресс эпохи (как в своё время изобретение письменности) уводит язык от закономерностей, которые всю послепушкинскую эпоху неприкасаемо хранятся в системообразующих подсистемах языка, разве что с поправками на словарные и произносительные черты Москвы и Санкт-Петербурга, но не очень замечая даже мощные «вливания» среднерусских (орловских) и сибирских писателей.
И.А. Крылов и Г.Р. Державин, пусть не вполне обдуманно, Н.М. Карамзин и особенно А.С. Пушкин вполне осознанно, а за ним все писатели-классики и несчётные умельцы – любители слова по крупицам обогащали, шлифовали и делали русский язык здоровым и здравым. Они всё яснее верили, что неизменно единый язык нации, многонациональной страны (пусть в нескором «далёко» и всего человечества) есть залог социально-экономической, государственно-политической выгоды и общего прогресса.
* * *
Лингвистов-теоретиков интересует взаимодействие неподвижно-устойчивого центра языка с ресурсами, возникающими в образованном и непрерывно образуемом языке, но не имеющими общеязыкового масштаба. Л.В. Щерба призывал представить русский язык в виде набора концентрических кругов – «основного и целого ряда дополнительных, содержащих названия тех понятий, которые отсутствуют в нём, а также иначе называющих те понятия, которые в нём есть». Под основным кругом можно подразумевать корпус безусловных норм, а под всеми другими – куда больший объём многообразного ненормируемого материала. К сожалению, ни сам замечательный учёный, ни его ученики и последователи не исчислили и не описали эти круги, тем более основной круг, который и представил бы искомое ядро языка.
Развивая идею Л.В. Щербы, В.В. Виноградов выдвинул теорию языковых стилей как замкнутых систем языка, но она не прижилась. После дискуссии и критических замечаний в журнале «Вопросы языкознания» В.В. Виноградов не отказался от понятия языковые стили, но исключил из их определения слово «замкнутые» и добавил: «…находящиеся в постоянном взаимодействии и взаимопроникновении». Иными словами, в современном каноне нет понятия замкнутых систем языка, так же как и нет щербовских концентрических кругов.
На деле растут монолитность и гомогенность признанного общим правильного языка при повышении его внутренней стилистической неоднородности. Его стилевое употребление, пользуясь этим оценочным разнообразием, становится способным подчиняться множащимся внешним, внеязыковым факторам. Это, разумеется, не значит, что именно в таком обличье он существовал, например, в эпоху М.В. Ломоносова или будет существовать в иные времена.
В расколотом обществе, не знающем основы, на которой зиждется реальный общественный договор, трудно мечтать о том, что будет с языком, когда восторжествует научное и правовое здравомыслие свободных людей, достигших правды, справедливости, процветания и обретших доверие к власти и умение, преодолевая себя, приходить к согласию; когда они будут в силах, притормаживая и ускоряя по мере изменений жизни, так управлять постоянным и бесконечным развитием, которое задано природой языка, чтобы обеспечить желаемую его застылость. Всё же и сегодня рукотворение искомого языка тяготеет уже к системной и научно-обоснованной кодификации.
Задача оценить новейшие события в одной лишь лексике столь трудна, что порой приводит в отчаянье. Г.Н. Скляревская предпослала как эпиграф к «Толковому словарю русского языка конца ХХ века. Языковые изменения» (СПб., 1998) прекрасное, но увы невозможное (пока?) пожелание Дж. Свифта, которое стоило бы вспомнить, рассуждая о возможности вмешательства человека в язык: «Но более всего я желаю, чтобы обдумали способ установить и закрепить наш язык навечно, после того как будут внесены в него те изменения, какие сочтут необходимыми. Ибо, по моему мнению, лучше языку не достичь полного совершенства, нежели постепенно изменяться. И мы должны остановиться, в противном случае наш язык в конце концов неизбежно изменится к худшему». Последнюю мысль хочется выделить.
В то же время такая остановка может грозить чем-то ублюдочным, вроде того языка, на котором говорят марсиане в романе Лао Шэ «Записки о кошачьем городе» и в котором «всего 400–500 слов, и, переворачивая их так и этак, можно сказать что угодно. Конечно, многие понятия и мысли выразить им невозможно, на этот случай есть прекрасный способ вообще не говорить. Прилагательных и наречий очень мало, с существительными тоже небогато. Всё, что связано с растительным миром, называется так: большое дурманное дерево, маленькое дурманное дерево, круглое дурманное дерево, острое дурманное дерево, заморское дурманное дерево, большое заморское дурманное дерево, хотя в действительности это совершенно различные растения. Местоимения не слишком распространены, ибо существительные предпочитают ничем не заменять. Словом, язык очень детский. Запомни несколько существительных и разговаривай, а глаголы можешь выражать жестами. Есть у них и письменность – великое множество значков, похожих на маленькие башенки или пагоды, но их очень трудно изучить. Рядовые люди-кошки знают от силы два десятка таких значков» (М., 1981. С. 201).
Хотя и вспоминается лексикон Эллочки-людоедки из «12 стульев», не сто́ит при исчислении необходимого и достаточного оптимума насмехаться над целевым урезыванием языка на какое-то время, скажем, в учебных целях. Ущемляющее полноту общения, особенно в стилистике и словаре, урезывание меньше в синтаксисе, почти не затрагивает фонетику, морфологию, правописание. Оно не предполагает покушения на богатства языка и подчиняется намерениям, диктуемым корпусом важнейших текстов, идейным содержанием, тем, что модно стало называть тематическим контентом.
В лингвопедагогике царствуют минимумы и концентры, посильно ограничивающие и по мере усвоения расширяющие учебный материал. Различается также активное и пассивное владение языком согласно с целями и интересами учащегося-иностранца. Зная, сколько новых слов и правил способен усвоить учащийся за отрезок времени, педагог отбирает то их число, которое позволяет языку быть, пусть ограниченно, но действующим на каждом этапе обучения. Саму́ю правильность можно определить как то, чему стоит учить иностранцев.
Интересна попытка создать Basic English – именно «базисный», хотя первоначально это лишь аббревиатура: Business (деловой), Administrative (управленческий), Scientific (научный), Industrial (промышленный), Commercial (торговый). Это упрощение задумано как средство, позволяющее без серьёзного владения языком справляться с деловым, общественным, научно-производственным, бытовым общением на языке без труда и раздумий, не боясь ошибок. Умело, ловко, но скучно, тоскливо!
Над идеей ещё не созданного «базисного русского» смеяться грешно. Он, конечно, не удовлетворит русских, но покажет основу основ их взаимопонимания как народа – носителя одного языка. Родной язык вводится гулением и словами агу, мама, пить. С них начинается становление и освоение в семье и школе, а затем в жизни, по мере надобности и желания, всех богатств языка. Со скованного, первоначально малокровного и бесцветного общения начинают обучать (никогда им не заканчивая) не только родному языку, но и второму, иностранному. Просто на старте всегда лучше меньше, но лучше – правильнее и основательнее.
Искомый правильный язык в ходе своей обработки, регулировки обязан полно и гибко отразить потребности общества в данный момент его исторического существования. В соответствии с разно– и многообразием нужд он может быть таксономичным, но необязательно вариативным (см. раздел 6). Понимание сути коммуникативно и эстетически образуемого постоянно, на данный момент образованного языка не может не основываться на замысле его создателей и меняющихся потребностей людей, им пользующихся.
Говорить о правильности как заданной навечно вещи в себе наивно. Норма сама по себе – иллюзия, нечто привносимое, но, конечно, совершенно необходимое для успешной и единой организации общения людей, живущих в одном государстве в данный период. Но как трудно отбросить недоказуемый стереотип, что полученный с материнским молоком родной язык самый – даже единственно – лучший и правильный!
Возможный поиск искомой правильности конкретного родного языка по мере усложнения и глобализации жизни обозначен в работах Б.Н. Головина и других языковедов Поволжья в виде теории хорошей речи. О.Б. Сиротинина, не отбрасывая наработок принятого понимания норм единого литературного языка, удачно сообразует реальную иерархию его функционирования с его объёмом и характером здесь и сейчас, однако на базе освящённого традицией в звучании, в грамматической флексии, основном словарном фонде, без чего язык просто не существует (см. труды последних лет, особенно новейшую книгу «Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски» (Саратов, 2013)).
Теория хорошей речи позволяет не горевать по будто бы гибнущей книге, по якобы торжеству клипового мышления и другим бедам от побеждающей звуко-визуальности в информационно-коммуникативном пространстве, не ограниченном более звуковым контактом и письмом, печатью.
В жизни образованный язык в разных своих частях различно, но всегда зависит от социально, профессионально, педагогически преследуемой цели. Его объём и характер не могут не меняться исторически в целом, а в каждый данный период расчленяться функционально. Они различны, например, для школьного обучения, для преподавания иностранцам, для массового общения или группового, ограниченного возрастом, интересами, полом, для общения домашнего, трудового, научного, делового, официального и т. д.
Дальнейшее рассмотрение того, как общий язык приводится в желаемый правильный вид, то есть как протекали, протекают и могут протекать в будущем его регуляция, обработка и нормализация, требует договориться о сущностях и терминах.
2. Термины и сущности
Нелегко найти достойное наименование, которое отвечало бы качествам и свойствам искомого всеобщего правильного языка. Выловленный из безбрежного и бездонного океана как разговорного, так и книжного языка, он обособлен обработкой, шлифовкой, особым авторитетом, зафиксирован письмом и никак не может считаться просто одним, пусть и самым важным, из диалектов общенародного языка.
Ускользая от строгости термина, слово «правильный» не передаёт сущностей искомого явления и влечёт за собой оценочные уточнения. Верное, умное, прекрасное бывает выражено неправильным языком, и наоборот. Ещё В.Г. Белинский заметил, что иной семинарист говорит и пишет как олицетворённая грамматика, а его ни слушать, ни читать невозможно. Хотя напрашиваются вкусовые уточнения прекрасно, красиво, хорошо, понятно, ясно, образно, кратко или плохо, неточно, коряво, отвратительно, неправильно, старые отечественные языковеды успешно обходились именно этим термином. Всё же это человечнее, чем заковывать правильность в кандалы единой нормы, сингулярного стандарта. При нынешнем культурном императиве это, видимо, неизбежно, но в дальнейшем, вероятнее всего, его состояние изменится, ибо будущее всегда видоизменённо повторяет какие-то прошедшие исторические этапы развития.
Некоторые русские языковеды разумно и остроумно предлагали заменить выражение правильный язык выражением образованный язык – по двум значениям глагола образовать: 1) создать, учредить и 2) обучить, дать знание. Это звучит неплохо и подчёркивает суть нашего объекта: «рукотворно обработанный, искусственно и искусно сделанный» и «приличествующий просвещённой части населения». Далее и мы будем говорить образованный язык, имея в виду единый, признанно правильный язык этноса, обрабатываемый всепригодно и эстетически в интересах общенационального общения.
Так уж повелось, что шире используется термин литературный язык. Принятый по немецкому образцу (правда, немцы чаще говорят не Literatursprache, a Bühnensprache, то есть «сценический», «театральный»), он оправдан особой ролью именно писателей, а отчасти и театра в жизни России и в становлении русского языка. Великая русская классика затмила историю, философию, даже богословие, не говоря уже о точных и естественных науках. В самом деле, русские писатели, в отличие от писателей других стран, играли главную роль, образуя язык разумным, богатым, красивым, звучным.
Понимая под литературой прежде всего художественную, россияне брали за общепринятое, правильное именно словоупотребление русских классиков. Конечно, сочинительство, поэзия создают своеобычный, образный, отнюдь не общий язык, отчего похвально говорят о языке А.С. Пушкина и М. Горького, отчего не все принимают язык Н.С. Лескова и М.М. Зощенко. Однако именно писатели позаботились о богатстве, выразительности, этической и эстетической силе языка, его музыкальной звучности.
Умники, вспомнив, что под литературой надо понимать ещё и научную, деловую, учебную и прочую, подчёркивают всеобщую пригодность языка, а не ограниченность рамками художественных произведений и употребляют термин нормативно-литературный или литературно-нормативный язык. Заметим мимоходом, но с явным сожалением, что сегодня его обработка переходит от поэтов и писателей к тем, кто создаёт влиятельные, но отнюдь не всеми одобряемые и не во всём достойные печатные и звучащие тексты массмедиа, а то ещё оказывается в руках рекламщиков, часто небесталанных, но увлечённых только денежной выгодой.
Правильный язык призван обслуживать всю жизнедеятельность общества, быть основой, задавать общую правильность всех печатных и звучащих текстов. Его качества (признан общим, обособлен, обработан, неспециализирован и неиндивидуализирован, увязан с книжностью, да и с разговорностью) напрашиваются на обобщённое определение сущности искомого объекта. Ключевыми словами могут быть, кроме правильный, такие: рациональный, всепригодный, полезный, искусственно и искусно обработанный, здравый (разумный по составу и возможностям) и здоровый (обладающий здоровьем, выражающий здоровье, не больной), нормальный (как в сочетании нормальная температура). Он выращивается, кристаллизуется, согласно этим представлениям, в бесконечном процессе бессознательной и сознательной нормализации – действию по глаголу нормализовать «обрабатывать, приводя в состояние, признаваемое нормальным» (с таким же успехом можно было бы сказать стандартизации по глаголу стандартизировать). Конечный, уже неизменный результат этого постоянно длящегося действия обозначается словами норматировать, нормативный, норматив.
Применительно к узакониванию чего-то в языке было бы лучше в этом смысле обратиться к словам кодифицировать, кодифицированный, кодификация, имеющим оттенок обязательности и внедрённости, что недостижимо, по крайней мере пока. Мы просто обречены пользоваться часто сбивающим с толку понятием норма. Воспользуемся же наличием производных, чтобы различать разные сущности, для начала – нормализацию (процесс) и нормативность (её результат). Полученный в ходе нормализации язык не только нормализованный, но и исторически постоянно нормализуемый или не навечно образованный, а вечно образуемый, по счастью, почти не ощутимо для общающихся в течение данного отрезка истории, так сказать, сокровенно, вне их наблюдения. Он образуется так, чтобы обслуживать меняющиеся потребности общества, чтобы быть много и даже всефункциональным.
В англоязычных странах принят термин standard language, но русское стандартный рекомендовать трудно из-за оттенков смысла этого слова. Тем более непригодны и традиционные для Великобритании образцы King’s English, Oxford English. Но нельзя не заметить, что норма – это ведь и есть стандарт. Оба слова обозначают нечто твёрдо установленное и общеобязательное. Англо-русский словарь, например, забавно толкует norm через стандарт, а standard – через норму.
Русским пришлась ко двору норма: она расширила круг значений и область применения. Норму как раз считают и почитают отличительным признаком интересующего нас предмета. Слово стандарт, закрепив исходное значение «хоругвь, знамя, флаг» за особой немецкой огласовкой штандарт, в целом сузило смысл. Русские словари толкуют стандарт скупо: «норма, модель, типовой образец, единообразная форма чего-либо; норматив, шаблон, трафарет».
У англичан, напротив, слово norm малоупoтребительно и поясняется как standard, model or pattern regarded as typical; an average. Зато standard популярен и многозначен: 1) an acknowledged measure of comparison for quantative or qualitative value, criterion, norm; 2) an object that defines, represents, or records the magnitude of a unit of measurement; 3) a degree or level of requirement, excellence, or attainment, a requirement of moral conduct; далее – разные термины архитектуры, ботаники, математики, в частности денежного дела: the set proportion by weight of gold or silver to alloy metal prescribed for use in coinage, the commodities used to back a monetary system; gold standard).
Русские толковые словари удостаивают чести регистрации только последнее – золотой денежный стандарт. Ни один из них не обособляет (даже при слове норма!) интересующее нас лингвистическое значение, указанное в американских словарях при слове standard: conforming to established educated usage of speech or writing. В этом смысле слово стандарт, пришедшее к нам не раньше первой трети ХIХ века, стало употребляться значительно позднее.
Значение «установленное неизменное правило, узаконенный образец, общепринятая единица измерения» вообще-то не очень подходит к такому загадочно ёмкому и гибкому явлению, как язык (см. раздел 5). Раз нет возможности устранить это слово из обихода, широко принявшего его, то возникает желание приспособить его к реальности, придать ему иное значение.
* * *
В интересующей нас терминосфере разумно, кроме слов, определяющих понятие «норма», учесть и иные требования реальности: правильно, всепригодно, соответствует эстетике языка. Эти требования как-то мало замечаются, но уже очевидны и были нами упомянуты.
Проникновенный учёный, М.В. Панов своеобразно примирял противоречие между желаемой устойчивостью языка и подрывом этой устойчивости природой вечного развития языка, а также стремлением к самоидентификации людей. Он указал на две разновидности: язык книжный, «развитие которого заключается в том, что он всё меньше развивается», и более свободный разговорный. В терминологии М.В. Панова это КЛЯ (не очень благозвучное сокращение от кодифицированный литературный язык) и РЯ (разговорный язык).
Страшась обвинений в отрицании цельности языка, последователи учёного заменили РЯ на РР (разговорная речь), что алогично сополагает язык и речь, противопоставляет их друг другу вопреки дихотомии Ф. де Соссюра. Такое противопоставление языка и речи опровергается жизнью даже той эпохи, когда в этой форме обсуждались – пусть только интимно, на кухне – самые больные и острые вопросы. Заметим, что определение разговорный тоже вызывает сомнения, потому что связывает язык с бытовой, заурядной тематикой и со звуковой формой осуществления.
Реализация в звуке свойственна книжным текстам, причём не только как чтение вслух. Сегодня же книжность всё сильнее врывается в звуковое общение, которое, в свою очередь, покушается и на письмо. Если раньше второе ограничивалось стенографией, речевой характеристикой в беллетристике, научно-лингвистическими записями, то теперь перед нами просторы эс-эм-эсок (SMS – Short Message Service, служба кратких уведомлений), социальных сетей, скайпа.
Разрыв между принятыми взглядами и реальностью осознаётся не без скепсиса. Всегда трудно признать необходимость новой теории, потому что старая теряет объяснительную силу. Люди быстро перестали возмущаться «коверканьем» русского языка в мобильных телефонах, сообразив, что это всё-таки телефон, рассчитанный на передачу звука, а письмо здесь – всего лишь замена устного напоминания, а эс-эм-эски для чтения вполне приемлемы. Иное дело, что приспособленная к книжности орфография бессильна передать естественную живую разговорность. Сами же по себе SMS лишь свидетельствуют о растущей реализации некнижности в письменной форме и о необходимости иной пунктуации, потому что смайликов, то есть аналогов знаков препинания, намного больше, чем традиционных знаков пунктуации.
Наряду с монополией на запись, хранение, распространение самых разных текстов (результатов любого общения) печать и письменность теряют монополию на фиксацию определяемой, определяющейся правильности языка. Правильность звучащего общения, текстов в звуке им, органично связанным с ими же взращённой книжностью, не очень по плечу. Ведь эти тексты и их правильность накрепко связаны с интонацией, произнесением, всеми невербальными носителями смысла и не нуждаются в вербальной компенсации, необходимой при их условном, письменном изображении.
В ХХ веке технический прогресс позволил сопровождать печатный текст не только рисунками, схемами, фотографиями, цветом, но и звуком и движением. Выпустили медицинскую энциклопедию с приложением – граммпластинкой, воспроизводящей шумы сердца; пособия по иностранному языку стали издавать с кассетами, на которых записали образцы произнесения отдельных звуков и связных высказываний. Р.И. Аванесов подготовил звуковое приложение к своей «Русской фонетике». Первым тексто-звуковым периодическим изданием в СССР стал красочный журнал «Кругозор», вторым – учебно-методический журнал «Русский язык за рубежом». Эти издания ознаменовали начало слухо-изобразительной эпохи, в которой звукозапись, кино, телевизор, а затем и комбинированные приборы и устройства (гаджеты, девайсы) заметно потеснили книгопечатание, ксерокс и иные копирователи.
Изучение звучащих текстов разбило мнение о стихийности, беспорядочности живого контактного общения в звуке, даже повседневных бытовых разговоров. Стенографические и технические записи привели к анализу и описанию синтаксиса разговорного языка, специфики устных научных текстов, различий словаря. Факт фиксации сам по себе нормализировал или кодифицировал правильность некнижного общения – особую правильность, не существующую без внеязыковой поддержки или её имитации.
Характер звучания, интонация, самые разные невербальные способы, пусть не так чётко и закованно, как книжность, зато ярче и богаче передают мысли и чувства. Книжность, пытаясь передать то, что важно в звуковом контактном общении, но непередаваемо в книге, не превзошла могущества некнижности. Печатный текст может намекать на характер произнесения, вербально описывая коммуникативный акт, речь и поведение его участников. Или же прибегает к графике, шрифтовым выделениям (например, «Важно не КАК, а ЧТО»), написаниям вроде «Пшла вон!», «Па-а-звольте», «Народ, р-р-азойдись!», даже к рисункам и фото. Впрочем, и звучащее общение нередко ссылается на печать: талант в кавычках, человек с большой буквы, всё сказал и ставлю точку, замечу в скобках, ходит фертом, прописать ижицу. Они просто не могут не обращаться за опытом друг к другу.
Характерен забавный пример книжного воспроизведения устного высказывания, связанного с книжностью: «Не могу поверить, что он стал “жертвой насилия”. Кавычки она обозначила жестом» (Графтон С. «П» значит погибель. М., 2003). С античных времён на письме запятой, а в звучании паузой различают обещание поставить «статую золотую чашу держащую» или средневековый приказ «казнить нельзя помиловать». А.А. Реформатский шутил, что слитное или раздельное написание частицы определяет алкоголика: «А бутылка была не винная/невинная». В звуковом контактном общении экспрессия сильнее и её больше. Недаром Б. Шоу заметил, что есть пятьдесят способов сказать «да», пятьсот способов сказать «нет» и только один способ это написать.
Стилистика текста и неубедительно отделяемая от неё функциональная стилистика, по А.И. Горшкову, изучают: первая – отбор и организацию выразительных средств в книжном и разговорном тексте (определённо в напечатанном и смутно в звучащем) данного содержания при конкретных общающихся лицах; вторая – обобщённые особенности сходных текстов, их крупные группировки, присутствующие в сознании носителей языка как некие композиционные структуры, которые, следуя В.В. Виноградову, можно назвать стилями языка.
* * *
В последние полстолетия происходит не столько обособление, сколько сближение КЛЯ и РЯ (или РР) как двух разновидностей единого языка. Их появление связано, как уже замечено, с рождением книжности на основе изобретения письма и печати. Тонкий исследователь академик Д.Н. Шмелёв первым чётко представил современный русский литературный язык в виде органического единства этих «функциональных типов», хотя, разумеется, без утраты их особенностей, без их слияния.
Точно определить понятие разновидность языка мешает малая изученность стилевых законов, слабо данных в наблюдении, доступных, видимо, лишь векторному описанию. Это не особый язык (подъязык) с замкнутой системой средств выражения, а достаточно детерминированное функционирование системы единого языка. Уступкой традиции надо счесть и те места в книге Д.Н. Шмелева, где слово «стиль», с оговоркой об условности понятия, употребляется в функциональном плане. Показательно, однако, что ни слово «стиль», ни слово «стилистика» учёный не вынес в название книги, да и в тексте писал о разновидностях или типах функционирования.
Разновидности языка идентичны в том смысле, что обе принадлежат одному и тому же русскому языку, составляя его как одинаково достойные и правильные части. Это отнюдь не означает, что они совершенно идентичны, но лишь то, что их различия не имеют кардинальности. Их различие определяется способом реализации: естественным звучанием контактного общения и молчаливым условным письмом. У разговорного языка избыток невербальных возможностей передать мысли и чувства; литературный язык прикован к письму.
В обеих разновидностях функционируют звуки и законы их сцепления (редукция гласных, оглушение и озвончение согласных). В одной, однако, более допусти́м «неполный стиль произношения» (выражение Р.И. Аванесова). В звучании нормальны тыща, мильён, када, скока, тока, рази, Марьванна, нередко встречающиеся и в печати, например тыща («В две тыщи первом году…», Российская газета[2], 2010. 18 дек.), мильон (у Грибоедова: «Мильон терзаний… Ногам от шарканья, ушам от восклицаний, А пуще голове от всяких пустяков»), вместо узаконенных тысяча, миллион, когда, сколько, только, разве, Мария Ивановна.
Налицо некоторые произносительно-грамматические расхождения: иду к Иван Сергеичу, мы с Сергей Семёнычем (с Сергеем Семёновичем нормально на письме, но звучит напыщенно и пафосно даже в официальном обстановке), слушаю Арам Хачатуряна, читаю Марк Твена и Жюль Верна, а не к Ивану Сергеевичу, Арама Хачатуряна, Марка Твена, Жюля Верна. Пожалуй, обе разновидности допускают краткие килограмм апельсин, несколько помидор, пара сапог, сто ватт, много грузин, бурят (правда, только таджиков, узбеков) вместо строгих книжных урожай помидоров, пара сапогов, сто ваттов, много бурятов (но не грузинов). Всё это не так уж существенно, чтобы говорить о разных языках.
Больше различий в словаре, но и они общепонятны и всё слабее привязаны к той или иной разновидности общего языка. Единственно серьёзным отличием этих разновидностей является синтаксис по той причине, что подчинение и сочинение, согласование, причина и следствия, условие и иные логико-грамматические связи и отношения в контактно-звуковом общении (даже если оно проходит в книжной разновидности) естественно обращаются к огласовке, мимике и жестикуляции, междометиям и частицам, тогда как в «молчащей» письменности не имеется иных средств, кроме как объяснительно-упорядочивающих языковых единиц – союзов, типов сочетания слов и видов предложений.
Разновидностью языка следует считать достаточно свободный, постоянно творчески (общественно и индивидуально-авторски) меняющийся набор способов отбора и композиции выразительных средств единой, внутренне целостной языковой системы, отличающийся от другого подобного набора. Оба эти набора исторически складываются в соответствии с конструктивно-стилевыми векторами, отражающими внеязыковые мотивы и факторы (обобщённые коммуникативным «треугольником») при порождении конкретных смысловых и композиционных целых – текстов в их группировках по схожести.
Книжность и разговорность в нынешней языковой жизни оправдывают сомнения в том, что разновидности противопоставлены. Ещё Ф.П. Филин полагал, что взгляд на разговорную речь как на самостийную систему – явное преувеличение. Новейший технический прогресс делает языковые разновидности уже не столько обособленными, не столько даже явлениями стилистическими, закреплёнными в языке, сколько стилевыми, определяемыми внеязыковыми свойствами текстов, параметрами общения и свойствами текстов.
Позволительно уже именовать некнижностью то, что называют разговорностью. Словарные пометы книжн. и разг. перестали указывать на сферу применения, встали в ряд с шутл., высок., неодобр. и прочими, указывающими на экспрессивную окраску.
* * *
Наше языковое существование всё сильнее связывается не только с окружающим миром, но и с более широким миром и, соответственно, становится менее материально закреплённым в языке. Мы переключаемся на иной уровень коммуникации и, может быть, мышления. Перенос законов функционирования языка с собственно стилистической, то есть структурно-языковой, детерминированности на отвлечённую стилевую служит тому наиболее ярким доказательством.
Убрав изображение, невозможно следить за смыслом передаваемого телевизором только по звучанию реплик или по титрам, как бы точно они ни воспроизводили то, что звучит. Если картинка, иллюстрировавшая книжный текст, служила вспомогательным средством для его восприятия, то теперь, наоборот, вербальная составляющая дополняет изображение на экране телевизора или сайте Интернета. Изображения порой можно смотреть и понимать без словесного комментария, выключив звук. Визуальное становится важнее вербального и в письме, и в звуке. В этом можно узреть византийскую логику, всегда ясную в тенденциях, но никогда в деталях. В развиваемой нами концепции охватывается и проблема деталей – тем, что наряду со стержневой, упорядочивающей бесконечный континуум текстов ролью конструктивно-стилевых векторов признаётся и роль стилистических средств, которые, накладываясь на стилевые закономерности, теперь лишь детализируют, индивидуализируют. Они очеловечивают, украшают стилевые конструкции, занимаются интерьером и деталями жизни.
Выйдя из загона, звучащий язык вновь становится основой всех видов общения людей. Пусть он не повторит историческую ошибку Книги, долгие годы умалявшей его, и не начнёт в отместку несправедливо бороться с ней. Книга послужила и вечно будет служить цивилизационным и культурным ценностям, правильности языка, преемственности и глубине воспитания. Восприятие Книги требует напряжения ума и чувств, наличия навыка, опыта и знания. Полученное трудом органично входит в долговременную память, становится частью сознания, освоения и понимания мира, частью мировоззрения.
Характеризуя разговорную разновидность языка, Л.В. Щерба, под обаянием которого находится А.И. Горшков, имел в виду именно его некнижность: «…литературный язык прежде всего противополагается диалектам [несомненно, также жаргонам и другим, в самом деле, нелитературным, не-образованным явлениям. – В.К.], есть, однако, более глубокое противопоставление, которое, в сущности, и обусловливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков».
Вряд ли можно сомневаться в том, что речь здесь идёт о взаимодействии книжности и разговорности в пределах образованного языка, конечно же, более важного для него, нежели взаимодействие книжности и, скажем, диалектной стихии.
Тезис, будто разговорный язык не есть литературный, А.И. Горшков сопровождает многозначительной оговоркой: «Имеются в виду при этом, конечно, не какие-то особые языки (за теми исключениями, когда в качестве литературного выступает “чужой” язык), а разновидности употребления языка. Так что точные научные обозначения этих явлений были бы такие: литературная разновидность употребления языка и разговорная разновидность употребления языка. Однако выражения “литературный язык” и “разговорный язык” короче и столь прочно вошли в научный обиход, что отказываться от них было бы излишним педантизмом».
Непростительной небрежностью было бы и забывать, что речь идёт не о чем ином, как о своеобразных типах употребления единого языка. Неудачность определения разговорный тоже заставляет искать более точные обозначения для интересующего нас вполне правильного функционирования образованного языка, которое имеет место повседневно и буднично. Подошли бы слова обыденная (может быть, с устаревшим ударением обыдённая) часть некнижной (так!) разновидности.
Изучение звучащих текстов разбило мнение о стихийности, беспорядочности языка живого контактного общения в звуке, даже повседневных бытовых разговоров. Появились описания синтаксиса разговорного языка, специфики устных научных текстов, различные словари. Стала по-своему «записываться» опирающаяся не только на язык правильность некнижного языкового общения, особая, но правильность. Её и книжность не обходила, пытаясь передать то, что важно в звуке, но непередаваемо в книге. Книжный язык и сам не хранит самоуверенно своё превосходство правильности, мирясь, скажем, с аналитическими разговорными сочетаниями (ракета класса «воздух – воздух», кнопки «Громкость» и «Контрастность», принцип «Моя хата с краю») или пытаясь письменно воспроизводить разговорное неполное произношение.
О.А. Лаптева, исследуя современные устные научные тексты, показала, что в них всё больше обнаруживаются приметы разговорности. Некнижности ещё больше в текстах массмедиа, даже в их политико-официальной части, а также в блогосфере социальных сетей Интернета.
Существенно, что сознательная установка на средства выражения, ранее свойственная только книжности, стала неотъемлемым качеством и звучащих текстов. Г.О. Винокур в 20-х годах ХХ столетия заметил, что все мы беспомощны перед чистым листом бумаги. Сегодня мы беспомощны в не меньшей степени и на трибуне перед многолюдным собранием или в радио-/телестудии. При разговоре, как и при письме, мы вынуждены думать о своём языке, выбирать слова и выражения, то есть действовать стилистически. На заре этих изменений, в 1964 году легендарная телеведущая В.М. Леонтьева так писала о работе диктора: «Когда я впервые села перед камерой под яркий свет приборов, мне стало страшно. Ведя передачу, ты как бы распахиваешь дверь в жизнь, открываешь своё сердце людям. Тебе дано право искренне и живо откликнуться на всё, что волнует ум и сердце современника. И не просто рассказать о происходящем в мире, а передать огромный внутренний накал событий. Случается вести репортаж “из жизни” прямо в эфир, без всякого текста. Голос диктора должен взволновать, развеселить или вызвать гнев, приходится подолгу примериваться, прежде чем найдёшь правильный тон. Очень нелегко “просто говорить” на экране. Важнее всего установить мостик к зрителю, иначе речь идёт в никуда, в холодное стёклышко объектива. Диктор должен говорить только для вас. Если зритель ловит себя на том, что хочет ответить диктору, значит, тот нашёл правильную, жизненную интонацию».
И в условиях сближения двух разновидностей языка разные формы реализации текстов сохраняют свои особенности. Поэтому (хотя идеал: хорошо пишет тот, кто хорошо говорит, и наоборот) нередко тот, кто хорошо пишет, плохо говорит, и тот, кто хорошо говорит, плохо пишет. Известно, что одни поэты читают свои стихи лучше, другие – хуже. «Северянин имел на эстраде успех больший, чем Блок, – рассказывал К. Ваншенкин. – Я могу назвать очень слабых поэтов, восторженно встречаемых залом (они умеют читать), и поэтов значительных, не имеющих на эстраде ни малейшего успеха. Но, слава богу, у нас есть письменность. Конечно, плохие стихи суть плохие стихи, но это не резон ополчаться на тех, кто работает в жанре устной поэзии (тексты для чтения вслух могут быть отличными, точно так же, как письменный жанр может дать рыхлый стих вроде беглого конспекта)».
Есть стихи, которые можно читать вслух лишь негромко, в небольшой комнате, или только одному слушателю, или только про себя. Есть и такие, которые по-настоящему понимаешь, лишь перечитав, вернувшись к началу. «Большинство моих вещей построено на разговорной интонации, – писал В.В. Маяковский. – Несмотря на обдуманность, и эти интонации – не строго-настрого установленная вещь, а обращения сплошь да рядом меняются мною при чтении в зависимости от состава аудитории. Так, печатный текст говорит немного безразлично, в расчёте на квалифицированного читателя: “Надо вырвать радость у грядущих дней!” В эстрадном чтении я усиляю эту строку до крика: Лозунг: “Вырви радость у грядущих дней!” Поэтому не стоит удивляться, если будет кем-нибудь и в напечатанном виде дано стихотворение с аранжировкой его на несколько различных настроений, с особыми выражениями на каждый случай. Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, именно как напечатанное» (Маяковский В.В. Как делать стихи?).
Авторитет разговорности (лучше сказать некнижности) вырос. Но по-прежнему многие считают, что одно дело – живая речь, другое – печатный документ, требующий солидной сухости. Привычка часто убивает самые интересные мысли, научные наблюдения: здание не строят, а проводят строительство, заурядные фундаменты не закладывают, а осуществляют в натуре, отчего и пошло даже уже не ироническое ну, в натуре, ты что? Кто-то написал начальнику: «Надо провести ремонт оборудования. Прошу вас загодя прислать запасные части и детали, список которых прилагаю». Тот взялся за ручку: «В связи с намечающимся ремонтом оборудования возникла потребность в обеспечении участка запасными частями и деталями согласно прилагаемому перечню. Прошу не отказать и удовлетворить настоящую заявку в сроки, предшествующие ремонту», – и поучительно добавил: «Вот как надо составлять техническую документацию».
К.И. Чуковскому, по его признанию, было «легче исписать всю страницу стихами, чем учитывать вышеизложенное и получать нижеследующее». Он соглашался с тем, что нехорошо писать приказ в виде непринуждённой беседы, что должен существовать официальный язык государственных документов, реляций военного ведомства, дипломатических нот, протоколов, справок, накладных, но призывал лечиться от канцелярита – тяжёлой болезни газет, радиопередач, живого разговора.
Нелегко изменить расхожее мнение, будто написать так нельзя – неграмотно, а сказать можно, сказать всё можно. Непозволительно ни писать, ни говорить, нарушая канон правильности. При этом естественно соблюдать своеобразие двух его разновидностей, в частности почтительно относиться к некнижному словарю и синтаксису. Люди, говорящие так, как пишут и как действительно можно написать, выглядят смешно – если не шутят – и публично высмеиваются.
На наших глазах произошло второе после изобретения письменности эпохальное событие – появление возможности фиксировать тексты – акты общения – не только условно, в буквенной форме, но и в их естественной «нагой простоте» звука, мимики и жеста, движения и цвета, всей несущей смысл культурной обстановки. Эта возможность ускоряет и обостряет все языковые процессы, меняя прежде всего исторические взаимоотношения двух разновидностей образованного языка.
Пока рано судить о собственно языковых следствиях, о грядущих перестройках, которых просто не может не быть. Вероятно, они будут не менее кардинальными, чем собственно языковые следствия изобретения письменности, на базе которой возникла книжность, отчуждённая от разговорности. Надо ждать нового соотношения разновидностей, уже сейчас обладающих равными (если пока и неравноправными!) потенциями и правами. Впервые приблизилась к такой постановке проблемы (помимо прочего, уважительной и к самодвижению языка, скованного синхронной нормой) О.А. Лаптева, занимаясь взаимоотношением книжной и разговорной разновидностей русского языка.
Зачатки нового строения языка уже ощутимы и вызывают у кого-то безудержный восторг, у кого-то – горестные опасения. Поддерживаемое интонацией и другими внеязыковыми элементами в звучащей речи, введение придаточных на письме привычно компенсируется формами местоимения, отсутствие чего стало наблюдаться достаточно часто. В мемуарах знаменитого народного артиста натыкаемся на фразу: «Несмотря что он был связан с НКВД, помог отцу устроиться на работу» (ожидалось несмотря на то, что он…) (Весник Е. Дарю, что помню. М., 1998. С. 43); «Минфин обеспокоен, что зарегистрированные компании в офшорах и они не платят доходов, где фонды и рабочая сила» (РГ. 2013. 13 дек.). Без поддержки интонацией, жестами требовалось бы обеспокоен тем, что компании, зарегистрированные в оффшорах…; там, где. Такая формулировка не может, конечно, не смущать, не говоря уже о пунктуации.
Невиданные ранее способы овеществления, хранения, воспроизведения текстов в полноте контактной реальности рождают сомнения в прежней уникальности умудрённой книжности, олицетворяющей высшую истину и единолично диктующей правильность языка. В любом случае нельзя дольше мириться с традиционно сложившимся уничижением живой разговорной (обыденной) некнижности как мало серьёзной по заземлённому, сиюминутно преходящему содержанию и будто бы лингвистической недисциплинированности. Ведь на деле она отнюдь не стихийна, не хаотична, но лишь до сего дня плохо изучена и описана, так сказать, не зарегистрирована в принятом порядке.
Нельзя безоговорочно поддержать тех ревнителей самой книжности, кто упрекает её за то, что она на глазах всё с бо́льшим вкусом питается живой звучащей некнижностью, а то и откровенной небрежно-бытовой разговорностью. Как без этого, если она всё чаще и естественнее обретается в звуке контактного общения? Всегда составляя бо́льшую часть повседневного общения самого элитного общества, сегодня некнижность, разговорность смело проникает в научное, профессиональное, политическое, деловое общение.
Во всяком случае, наивно сводить её запись к речевой характеристике персонажей в художественных текстах. Разговорность врывается в описания, во все печатные тексты, хотя не так всеохватно, как книжность – в звуковые. Её претензии на звание законной части образованного языка наряду с книжной становятся всё оправданнее и правомернее. Не с руки более считать пользующихся некнижностью людей неграмотными, малообразованными.
Возможность опредмечивать общение в его естественной звуковой форме со всей невербальной культурной обстановкой отнимает у письма, печати уникальность и ущемляет многовековой авторитет книги. Книжность и разговорность естественно сближаются, что, разумеется, меняет общественное понимание правильности образуемого языка.
Есть основания полагать, что в процессах сближения двух разновидностей языка проникновение звуковой (даже собственно разговорной её части) в книжную, болезненно обсуждаемое и осуждаемое как порча, на деле оказывается менее сильным, чем почти не замечаемое воздействие книжной на звуковую. Существуя всё более естественно в звуковой, а не только в печатной форме, книжные тексты облагораживают звучащие. Назовём этот процесс вокнижением. Вокнижение звуковой разновидности языка проявляется даже в бытовых разговорах, где на месте жестов, интонации, междометий употребляются научно-технические термины и сложные синтаксические обороты.
* * *
Самое понятие правильности требует нового подхода и понимания. Любопытной аналогией может быть пересмотр нашего отношения к фольклору. Первоначально связанное с немецкой наукой И.Г. Гердера, братьев Гримм, ценивших его лишь как отправную точку для художественного пересказа, фольклор и у нас воспринимался недостойным, если не презренным. В.Г. Белинский советовал собирателям «перестать пересказывать сказки, народом уже давно сочинённые, и рассказывать свои». Деятельность А.Н. Афанасьева впервые убедила публику в красоте коллективного народного творчества, ценность которого сегодня всепризнана. Многое зависит от таланта и убеждения того, кто формирует общественный вкус.
Всё меньше становится наивного восхищения книжностью как идеалом красоты. Её приложение к бытовому содержанию куда вреднее, чем введение в серьёзный текст элементов разговорной некнижности. Знаменитый советский психолог академик А.Н. Леонтьев так при студентах просил жену приготовить обед: «Имеющая для меня глубочайший личностный смысл, не расходящийся с твоим объективным значением, жена! Основываясь на современной теории питания, аналитически углублённо разрабатываемой учёными, питающимися как высоко-, так и низкокалорийными продуктами, которыми питаются люди, как, впрочем, и различных видов животные, возьми, пожалуйста, мясо, опосредованное ближайшим продуктовым магазином, несущую в своём непосредственном содержании витамины капусту, разумеется, воду, являющуюся необходимым компонентом всякой, в том числе и скверной, пищи, и свари щи. Коротко резюмирую. Итак, структура супа, в данном конкретном случае щей, и есть его действенная пищевкусовая характеристика» (Фельдштейн Д.И. Психологическое развитие человека как личности: В. 2 т. М.; Воронеж, 2005. Т. 2. С. 376). В воспоминаниях студентов, приглашавшихся в дом учителя, подобные монологи оцениваются не только как остроумные шутки, но и как свидетельства его постоянной включённости в научное пространство.
При регулятивной деятельности в нынешнем языковом существовании должен учитываться очевидный сдвиг в соотношении печатных и звучащих текстов, а также появление новых аудио-/видеотекстов. Звуковое общение органично воспринимает книжные элементы, а печатное – некнижные, естественно сближая в реальном общении две разновидности языка. Мобильные телефоны, компьютер и Интернет освободили и ту и другую от жёсткой привязанности или к письменной, или к звучащей реализации, к той или иной тематике, изменяя самые представления о правильном общении и правильном языке.
Сближение двух разновидностей образуемого языка всё сильнее стимулируется поистине нескончаемым потоком новых технических возможностей: ISQ, Skype, SMS, социальных сетей. Освобождённые ими обе разновидности языка взаимодействуют и переплетаются, создавая новую правильность языка и общения.
Традиция жёстко увязывать книжность с письмом и печатью и некнижность с говорением теряет объяснительную силу, но уходит со скрипом злых протестов. Она мешает заметить, что первая не меньше второй связана со звучанием, а вторая, вооружившись современной техникой, вторгается, пусть пока неумело, в письменность. Тексты, рождённые в кино и телевидении, возмужавшие в сетевом общении, совмещая и дополняя языковую и невербальную передачу информации, образуют новые культурно-стилевые проблемы.
Консерваторы не замечают складывающиеся новые культурно-стилевые проблемы, как не замечают и превращения библиотек из хранилищ книг в диско– и фильмотеки. Они не обращают внимания на то, что в наш быт вошли понятия виртуальное отделение почтовой связи, электронное письмо, что из него вышло понятие телеграф, а почтамт обременён посылками больше, чем письмами и открытками. Они наивно верят, что не вырубишь топором того, что написано пером, не замечая, что звучащее слово ловится сегодня легче, чем воробьи.
Девайсы, благодаря техническим возможностям, позволяют фиксировать тексты в звуке, движении, цвете, всей культурной обстановке общения, лишают письмо монополии на фиксацию, передачу и хранение. Естественное сближение книжной и разговорной разновидностей языка облагораживает вторую через сосуществование обеих как в звуковой, так и в печатной и изобразительно-звуковой формах. Порождается новый тип текста.
В массмедиа с их жаждой удержать и увлечь аудиторию экспрессией, краткостью, доступностью, откровенностью, да и в языке в целом всё больше предпочитается связанная с этими качествами выразительная простая лексика. Торжествует синтаксис, выражающий сочинительные, причинные, подчинительные, условные, модальные, иные связи не логико-вербальными схемами и союзами, а междометиями, частицами, интонацией, возможностями голоса, мимикой, жестикуляцией.
Книжность, которую веками самобытно и изощрённо поколения лучших умов делали высшим национальным достоянием, отталкиваясь от первоначального устного языка, вновь роднится с запущенной в небрежении нынешней его некнижной разновидностью, равняется на неё. Первоначально связанные с массовой коммуникацией девайсы пронизывают личностное общение, стократно усиливая сближение разговорности и книжности.
Система нашего образованного языка складывалась из сосуществования и противопоставления старославянских книжных и живых восточнославянских элементов, а позже книжности и некнижности. Сегодня уже невозможно обожествление первых как монопольных источников правильности и уничижительное восприятие вторых как неорганизованного пространства, хаоса. Правильным всё очевиднее становится то, что лучше соответствует конкретным коммуникативным сферам и ситуациям, хотя этого и не приемлют ретрограды при защите нормативного единства.
Конечно, нелегко отказаться от сбивающих теперь с толку сочетаний письменно-книжный или книжно-письменный и уж точно от устно-разговорный, если только не потребуется различать устно-книжный и письменно-некнижный (разговорный). Уже сегодня озвучить и менее удачное запущенное В.В. Путиным опубличить, даже огласить, заявить, высказать, опубликовать, сообщить, передать как-то незаметно стали означать совокупно «довести до сведения». При этом способ ознакомления может быть и телепередачей, и печатью, и интернет-текстом, и радиосообщением.
Техника может заставить заменить всё одним оцифровать, то есть представить в виде овеществлённого факта, фиксировать, хранить и воспроизводить, но не привычным письмом и даже не звуком, а изображением, движением или их комбинацией с сохранением всех невербальных элементов контактного общения. Такие записи суды уже рассматривают как доказательные улики наряду с привычными текстами.
Слова писать, читать тоже забавно расширили значение до «вообще как-то фиксировать и воспроизводить, оцифровывать». Можно, видимо, уже сказать: эта оцифровка (кассета, диск, фильм, флешка…) не читается, мой компьютер её не читает, разрешите записать нашу беседу в цифре? Появилась шутка, что в Библиотеке им. Б.Н. Ельцина есть только одна привычная книга – книга регистрации посетителей.
Грампластинка быстро устарела, её заменили кассета, диск, флешка. Однако по привычке по-прежнему говорят поставить песню, то есть пластинку с её записью, а не проиграть, включить, вставить, воспроизвести, совсем забыв, что песни поют. Случаи упорядочения, уточнения, переименования в связи с изменением денотата (самого обозначаемого) многочисленны. Они идут как-то сами по себе и поразительно медленно замечаются лексикографами.
* * *
Внимание лингвистов и авторов сейчас привлекают тексты, которые передают информацию не только вербально – звуком или буквой. Эти тексты сочетают в себе буквы, звуки и изображение, в некоторых случаях – видеоряд. Их называют по-разному: синтезированными или даже синтетическими (что подчёркивает две их стороны – «полученные путём синтеза» и «искусственные»), диффузными, гипертекстами, креолизованными (поскольку они, подобно литературным пиджинам, смешивают разные языки), экранными. Последнее определение неудачное, так как путает разные сущности: экранная книга – это те же книжные тексты в письменной форме, что и бумажные, лишь на другом материальном носителе. Наиболее удачным представляется пока термин дисплейные тексты.
В дисплейных текстах очень важна изобразительность. Носителями смысла становятся иллюстрации, раньше лишь украшавшие, дополнявшие текст в книгах, фотографии, движущиеся кадры даже без вербального комментария, напоминая изобретённые, кажется, ВВС и теперь широко используемые немые кадры No comment. Заметим: разумное управление всеми органическими потенциями дисплея, их комбинации, исключение каких-то из них осмысляются как сильнейший способ воздействия. В отличие от книги, страдающей от недостатка иллюстративности, дисплей страдает от её избыточности, порождая задачу устранения изобилия (embarra de richesse), зеркально обратную той, которую решила книжность, компенсируя органический дефицит письменности.
Великий литовский живописец и композитор М.К. Чюрлёнис (1875–1911), опередив своё время, предсказал будущее единение или даже слияние языка, изображения и звучания. Интересны и мысли нашего современника М. Кантора о том, что всё его творчество как писателя и художника есть фрагменты одного общего повествования. В самом деле, услышать, прочитать о чём-то – это одно, а увидеть (даже если и не пощупать!) – это совсем другое.
Дисплейные тексты знаменуют вхождение людей в новую эпоху общения, связанную не только со звуковой и письменной формами. Её особенности, оценки, перспективы привлекают всё больше исследователей. Активно обсуждается мир медиа (ТВ, просторы вездесущего Интернета и цифровой контент) в Российской академии образования и Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (см. работы А.Г. Асмолова, Е.Л. Вартановой, Г.В. Солдатовой), на Украине (А.В. Онкович), в ЮНЕСКО, видимо, уже повсюду: существование в нём, медиаобразование (применительно к разным предметам знания), информационная грамотность и безопасность, преодоление рисков и самозащита.
Без дисплейных текстов не может обойтись и современная педагогика. Им посвящены многочисленные публикации (см., например: Рост Ю. Групповой портрет на фоне века // Русский язык за рубежом. 2012, № 3; работы К.А. Роговой).
* * *
Рождённое ХХI веком сетевое общение, вписываясь в жизнь, тоже изменяет самоё понятие правильного. В одинаковой степени опираясь на письмо, графику, приёмы печати, на звучание, интонацию, мимику, жестикуляцию, а также на изображение, цвет, движение, иные носители смысла, всю культурную обстановку, оно обращено к возможностям обеих разновидностей языка. Соединяя все виды передачи информации, сетевое общение развивается на базе цифровой электроники и пронизывает всё наше языковое существование.
Комбинирование возможностей членит средства передачи по краскам и оттенкам, а не по сферам, подчиняющимся не столько языку, сколько внеязыковым факторам. Оно дискурсивно и имитирует личностный контакт, но технически дистантно и опосредованно, роднясь и со звуковым общением, и с печатной книгой. Разговорная и книжная разновидности образованного единого языка в нём яростно сближают свои словари (и даже фонетику, оправдывая неполный стиль произношения). Синтаксис разговора, по природе бесхитростно неполный, с «простыми словами», экспрессией, междометиями, частицами, огласовками и опорой на экстралингвистику, оказывается успешнее, доходчивее логико-вербальных схем книжности.
В мемуарах народного артиста Е.Я. Весника «Дарю, что помню» (М., 1996. С. 180) читаем, что известный комедийный актёр и постановщик «жестом, мизансценой выражал смысл происходящего на сцене гораздо ярче и доходчивее, нежели словами», «рассказываемые истории сопровождал показом, подключая мимику и жест», «коллекционировал издания, имевшие отношение к выразительности рук и кистей, динамике тела».
Начавшись в прошлом столетии, электронно-техническая революция развивается всё больше, не позволяя сомневаться в том, что общий правильный язык необходим, но должен иметь другие основы. Легко это сказать, но совсем непросто разумно вычленить его из языкового океана. Повторим, что технический прогресс, внедрив кино, телефонию, радио, телевидение, компьютер, мобильные устройства связи, лишает письмо монополии на фиксацию, передачу и хранение текстов. Органично увязанные со звучанием, современные девайсы отнимают у него и единоличное право на определение и фиксацию правильности, тем более что алфавитно-буквенная запись столь условна и непоследовательна.
Став неотъемлемым видом языковой жизни, сетевое общение, по большей части дисплейное, вводит потенции дисплея в синтаксический строй языка. Облагораживая разговорность в звуковой и печатной, а также в изобразительно-звуковой форме, он придаёт правильность обеим разновидностям языка, а может быть, и создаст некую новую, третью. Язык при этом станет монолитнее в целом, но внутренне богаче в стилистико-оценочном отношении. Общение – пусть пока непривычно – будет опираться не столько на стилистическое устройство языка, сколько на стилевые (внеязыковые) содержательно-смысловые векторы.
Размежевать понятия устный и письменный – о формах реализации текста – и понятия книжный и некнижный (с собственно разговорной базой) – о разновидностях языка – необходимо, но это не значит, что в общении совершенно стирается различие между текстами – письменным, звучащим и смешанным дисплейным.
* * *
Не следует думать, что каждый последующий шаг развития отменяет предыдущие: письменность, например, отнюдь не устранила звуковое общение, хотя и неправомерно (явно поспешив!) унизила его в глазах общественного мнения, сведя к бытовой тематике. Также и дисплей не отменит ни звучащую речь, ни письменную.
В то же время во всех современных текстах происходит, хотя и весьма различно, смешение книжных и некнижных (даже откровенно разговорных, сниженных) элементов. Задавая пример, дисплейные тексты соблазняют всех ещё и изобразительностью. Косвенно с этим увязывается и нынешняя склонность к тому, что всё шире распространяется и может быть названо пиктографической символикой: на приборной доске автомобиля вместо надписей «бензин», «температура» изображения термометра, бензоколонки. И в кухне на плите, микроволновке, холодильнике символические рисунки передают смысл, но не огласовку, отчего понятны носителям любого языка.
Условно рисуемое сердечко всем понятно как одобрение, восхищение. Изображение не связано с определёнными языковыми формами. Флексия окружения, конечно, сдерживает эту неопределённость по-русски: «Я ♥ (сердечко) Москву» вряд ли кто прочитает «Мне нравится Москва», а вот на аналитическом английском «I ♥ New York» столь же понятно, но совсем без материально-языковых изменений легко читается как like, love, am fond of и т. д. Значок € (евро) всем понятен, но немцы произносят его как «ойро», британцы – как «юро», мы – как «евро».
Академик Н.Ю. Шведова, замечательный лингвист и пионер изучения специфики звучащих текстов – пусть ещё только по отображению её в художественных произведениях, – осмотрительно и верно писала: «Разговорная речь – это сам произносимый, звучащий язык [вспомним замечание учёного француза: всем людям на Земле дан один язык – человечий, звуковой! – В.К.], непосредственно обращённый к слушателю или слушателям и не рассчитанный на фиксацию» (Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960. C. 3).
Ушла Наталия Юльевна, не узнав, что вот-вот грядёт расчёт на его фиксацию! А вследствие этого освобождённая от жёсткой привязки только к звучащей форме некнижность начнёт генеральное наступление на привычное нормализаторство. Её синтаксис, опирающийся, как она показала, по природе своей на междометия и частицы, интонацию, возможности голоса, мимику, жестикуляцию, окажется во многом успешнее логико-вербальных схем книжного синтаксиса, нацеленного на высокие материи, возвышенного, официального.
Язык наш, несомненно, оставаясь единым, имеет разноокрашенные языковые единицы. Уровни языка детерминируются содержанием и внеязыковыми факторами, а не сферой применения. Терминология призвана отразить то, что сегодня наш язык, соединяя разное, отнюдь не портится, а обретает всё большую цельность и ценность. In varia unum.
3. Нормализация
3.1. О взаимоотношениях языка и социума
Становление и развитие образованного языка многим кажутся прерогативой учёной, научно и общественно осознанной институции. В зрелом разумном обществе так и должно быть, но пока далеко до этого. На деле всё сводится к незаметной коррекции языка в поиске нормального, здравого, правильного, разумного порядка в общении.
Чувствительные к языку люди, писатели, редакторы, общественные деятели, работники массмедиа раньше и авторитетнее других отражают и всенародно распространяют новшества. Филологи и педагоги их отвергают или узаконивают, внедряют во всенародный обиход, увы, не всегда с достаточным пониманием происходящего в природной нормализации.
Сущность нормализации можно было бы объяснить новомодной сейчас синергетикой, но понятнее представить себе как бесконечные обновляющие, освежающие и развлекающие игры социума и языка. Именно эти две силы – язык и социум – разыгрывают судьбу нового и устаревающего, стремясь совершенствовать взаимопонимание и самоутверждение людей.
Язык послушен людям, но в пределах уважительной оглядки на него самого как на сложную саморазвивающуюся систему. Нормализация преуспевает, когда меняющиеся потребности, настроения, вкусы, иные социально-человеческие факторы согласуются с устройством, законами и потенциями языка. Симфоническая их увязка подобна нескончаемым хаотичным играм во всё же как-то упорядоченном поиске «унормаленной» правильности.
Жить удобнее, когда развитие эволюционно по общему соглашению и не идёт скачками, переворотами, революциями. Агрессивных людей больше привлекают драки с кровью, чем игры с ничейным счётом. А игры уместны и приятны для тех, кто ценит именно красивую и талантливую игру, кого восхищают мастерство и успех игроков.
Так, восхищая наблюдателей, словно в слаженной игре команды, мирно и спокойно, даже как-то незаметно краткие формы мужского рода прилагательных установились в виде безнравствен, бесчувствен, воинствен, двусмыслен, естествен, искуствен, могуществен, мужествен, ответствен, родствен, свойствен, таинствен, хотя долго боролись за свою нормальность с безнравственен, бесчувственен, воинственен… В новейших опросах лица старшего поколения предпочли свойственен, родственен как «старые, более правильные». В «Российской газете» и ныне читаем заголовок «Дважды ответственен» (РГ. 2013. 4 апр.).
Вообще же ситуация великолепно исследована Н.Н. Никольским, увидевшим здесь совпадение желанной людьми экономной краткости и стремления языковой системы к балансировке с выталкиванием колебаний. В то же время он подтвердил данные В.И. Чернышёва: формы на – енен более поздние и возникли в книжности, тогда как формы на – ен ранние, аналогичные кратким формам причастий дан, сделан, написан при сомнительном даден.
Взаимодействие культурно-исторических факторов с системными силами языка действительно сопоставимо с играми, хотя далеко не всегда к ним подходят излюбленные оценки нынешних спортивных комментаторов: разбить, разгромить, разделаться, разобраться, не оставить шансов, вырвать победу, одержать верх, не разочаровать болельщиков, наши не знали жалости, превзошли, игра обошлась без валидольного конца. Для настоящих игроков и болельщиков важнее олимпийский призыв насладиться отличной игрой, чем победа во что бы то ни стало, даже путём нечестного сговора.
Освоение человеком околоземного пространства потребовало обозначить появившиеся новые реалии, прежде всего сделанные людьми небесные тела – астрономические сателлиты, или по-русски спутники. Приоритет их запуска сразу придал этому слову мировую славу, оно было заимствовано многими языками. По-английски, например, его писали с большой буквы как имя собственное первого запущенного русскими рукотворного аппарата: «Sputnik – the first artificial Earth satellite launched by the U.S.S.R., Оctober 4, 1957” и лишь потом как русское название любого сателлита Земли: «Russian name of any Earth satellite».
Сочетание запустить спутник нормализовалось в играх, правда недолгих, с привычным видел искусственного спутника, как сначала говорили. Суровое правило русской грамматики – различать имена одушевлённые и неодушевлённые: вижу шкаф, но друга, труп (бездушный предмет), но мертвеца (душа ещё не совсем покинула его), запустил бумажный змей, но посрамил Змея Горыныча (живого ворога). Отнюдь не сразу наряду с поцеловала спутника (живого попутчика) стало нормальным наблюдал спутник (космический корабль, управляемый человеком).
Не обошлось без игр и вокруг слова космонавт, как по образцу древнегреческого аргонавт назвали первого человека в космосе Ю.А. Гагарина. У многих на устах усмешка при американском астронавт (к звёздам пока никто не летал), многие радуются успехам Китая при слове тайконавт (космонавт по-китайски): «Отправили в космос экипаж в составе двух тайконавтов»; «Тайконавтам подготовили посадочную площадку в Заливе радуги»; «Тайконавты смогут высадиться на лунной поверхности уже в 2020 году» (РГ. 2010. 9 нояб.). «Корабль “Шэньчжоу-10” вчера успешно вернулся. На Земле тайконавтов Не Хайшэна, Чжана Сяогуана и женщину Ван Япин встречали овациями и цветами. Она вошла в одну из первых партий тайконавток» (РГ. 2013. 27 июня). В том же ряду и слово робонавт: «Робонавты штурмуют космос… запуск в космос “гуманоидного робота”, которого американские изобретатели нарекли Robonaut» (РБК daily. 2010. 27 окт.).
Сосуществование слов спутник, космонавт наряду с двойниками: сателлит, астронавт, тайконавт, явно чем-то ограниченными, не редкость. Такое явление усложняет процесc нормализации, ведёт к неоднозначности в искомой правильности языка в целом. Вместе с тем это явление оправдывается целями конкретных ситуаций, выразительность и правильность которых могут и не зависеть от абстрактной языковой. В то же время функциональная обусловленность единиц языка отражена в их оценке как адекватных или недостаточных в структуре. Именно поэтому коммуникативная целесообразность и правильность акта общения не могут быть критериями общеязыковой нормализации.
«Нередко в разговоре нас удивляет то или иное выражение, которое не соответствует общему тону беседы. Это выражение не обозначает чего-нибудь такого, что нам было бы неизвестно: мы его прекрасно понимаем, и, может быть, всего минуту назад мы встретили его на страницах газеты, где оно нас не удивило. Что же, собственно, произошло? Мы смутно чувствуем, что не употребили бы его сами или, точнее сказать, не употребили бы в данных обстоятельствах» (Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961. С. 241–242).
Здесь справедливо указано на соразмерность выражения 1) конкретному содержанию, условиям, цели и 2) другим выражениям языка. Правильной в данном случае может оказаться и явная языковая ошибка. Ни космонавтов, ни астронавтов не обидел окказионализм собаконавт в рассказе о полёте Ветерка и Уголька (Известия. 1966. 17 мая).
Трудно поверить, что такому привычному для нас слову лётчик не исполнилось ещё и ста лет. Его придумал В. Хлебников, чтобы назвать по-русски М. Ефимова и Н. Попова – первых в России пилотов (первоначально морские штурманы, навигаторы), или авиаторов. Изобретение возвысилось до термина, стало достоянием общего словаря в отличие от придуманного А. Блоком с той же целью менее благозвучного летуна. Кстати, не без его помощи известный по сказке о летающем ковре самолёт, в 1853 году запатентованный как название волжской компании скорых пароходов, смог вытеснить аэроплан.
Самые бурные баталии между игроками – социумом и языком – могут привести к ничейному счёту. Язык порой более податлив, чем социум. Например, наряду с синтетическими формами степеней сравнения шире, внимательнее он допускает аналитические более широко, более внимательно, если люди настаивают на их особой стилистической окраске. Так, Д.А. Медведев следует в официальном тексте книжному образцу: «Журналисты находятся в зоне риска, и государство должно более внимательно относиться к их служебной деятельности», «возможность более широко применять такие альтернативные меры наказания, как штраф» (РГ. 2010. 1 дек.). Однако язык неуступчиво противится сочетаниям более и менее широкий, внимательный, тем более избыточным посмотреть более глубже, более внимательнее. Обособив однажды, он упорно сохраняет дважды, трижды, четырежды, не приветствуя их замены аналитическими формами. Недопустимы и формы вроде более скорейшее развитие.
Немало трудностей возникает, как всегда, с женщинами. Сколько недоумений с обращениями: Уважаемый (или всё-таки Уважаемая?) врач, директор, профессор, товарищ Иванова. Не скажешь же директриса (архаично), врачиха (невежливо), профессорша (не только невежливо, но и значит «жена профессора»), товарка (это уже совсем другое). И как лучше: мой стоматолог Иванова отсутствовал или отсутствовала?
В гендерно закреплённых профессиях случаются забавные сочетания опытная машинистка Петров заболел (мужчина, печатающий на пишущей машинке) и заслуженный машинист Иванова награждена орденом (женщина – водитель тепловоза). Плохо звучит заголовок «Новая глава балета Большого» (РГ. 2013. 23 янв.; о назначении примы-балерины Галины Степаненко).
Играя просто ради игры, не стремясь изо всех сил к победе, игроки – язык и социум – порой легко соглашаются на ничью. Наиболее благодатное поле для этого предоставляет акцентология, прежде всего потому, что ударение, не фиксируемое книжным письмом как главным законодателем правильности, хранится лишь в звуковом общении, а это не очень надёжное хранилище. Иначе говоря, письмо отказалось заниматься столь сложной материей, сопротивляясь даже узаконению обязательного написания буквы ё, как ни старался этого добиться «ёфикатор» В.Т. Чумаков (картинки 7.6 и 7.7).
Наиострейший интерес рядовой публики к успехам игроков, желание пойти на стадион вызывают отдельные матчи, раунды, турниры, в которых исход борьбы соперников непредсказуем. Но на деле они не так важны, как итоги годичных чемпионатов, за чем с пристрастием следят знатоки-профи и болельщики-фанаты. На итоговых соревнованиях победа обычно остаётся за командой людей, но в отдельных встречах выигрыш нередко достаётся и команде языка. Если случается ничья и ситуация долго остаётся неизменной, то надо ждать коренных сдвигов и перестроек в языке, вплоть до выхода за пределы, дозволяемые его системой. Если же язык первенствует подряд много раз, то, значит, гниль завелась в самом королевстве датском.
Месть за длительные проигрыши сил языка может, страшно сказать, вести к ускоренному развитию аналитизма в его флективном строе (картинка 7.8). Нередко нормализационные игры развёртываются в целые исторические сюжеты, посвящённые группе схожих средств, каждое из которых может иметь и отдельную, собственную историю.
Исход игры, если она действительно честная, по определению непредсказуем. Поэтому ни к чему не привели предписания императора Павла I не писать родина, но только отчизна, не говорить демократия, но только народоправство и проч. Не имели особого успеха всплески борьбы с иностранными словами. Вряд ли законодательные запреты устранят даже ругань. Курьёз: при обсуждении в нынешней Думе варианта закона о русском языке, предусматривавшего наказание за их употребление, «когда есть русские аналоги», кто-то ехидно предложил немедленно оштрафовать составителей.
Впрочем, не без успеха ныне действующие «Правила дорожного движения» разводят поворот – «движение налево или направо» и разворот – «движение в обратном направлении». Недавно по обращению водителей в Верховный суд юридически введено и различение терминов обгон – «манёвр с выездом на полосу встречного движения» и опережение, ранее называвшееся обгоном справа и запрещавшееся, отчего теперь выезд на трамвайный путь попутного направления уже не обгон. Из-за дефиниций, не учитывавших трамвайные пути в центре улицы, водители раньше напрасно лишались прав.
В начале 2013 года ко мне за комментарием обратился водитель, пострадавший, как ему казалось, от разных толкований существующих «Правил дорожного движения». По его мнению, дворовая территория, не имеющая сквозного проезда, не является дорогой, которую «Правила» определяют как «обустроенную или приспособленную и используемую для движения транспортных средств полосу земли либо поверхность искусственного сооружения». Соответственно, водитель полагал, что совершённый им наезд на другой автомобиль во дворе дома не может наказываться как дорожно-транспортное происшествие. Справедливее всё же поддержать судей областных судов и Верховного суда: водитель неправ, ибо авария произошла на «прилегающей к дороге территории», на которой движение регулируется теми же Правилами.
Ещё в середине прошлого столетия здравый смысл (он, к счастью, бывает повсюду) не без труда победил в войне вокруг отвлечённых слов на – ость, раздутой ростом автомобильных потоков. Журналисты клеймили как «словесное уродство, подлежащее запрету» вводившиеся жизнью в общее употребление: рядность (однорядность движения, соблюдение рядности, нарушение рядности), этажность, ходимость, многополосность улиц. Буря насмешек обрушилась на «безграмотную надпись на бортах грузовых машин “Соблюдайте рядность!”» и на призыв «повысить ходимость автопокрышек советского производства». Никто не замечал ни естественности отражения языком новшеств жизни, ни законности словообразовательной модели, легко расширяющей круг вовлекаемых ею основ. Сегодня вряд ли кто станет возражать против таких, пусть тяжёлых и неблагозвучных, но нужных слов. Журналиста не смутил, например, ненормативный на первый взгляд профессионализм: «…инкубатор с выводимостью 92 %» (РГ – Неделя. 2010. 14 окт.).
* * *
Всё, что касается терминов, имеет профессиональную ограниченность и обычно не совпадает с общеязыковым пониманием слов. Значение слова есть обобщение примеров его употребления, тогда как значение термина часто сведено к его совершенно произвольной дефиниции: шатун – «деталь, превращающая возвратно-поступательное движение в круговое», – и полностью отчуждено от значений «шатающийся, бродяга; не впавший в спячку медведь-одногодок». Именно поэтому, заметим мимоходом, в качестве терминов предпочитаются иноязычные слова, не имеющие в родном языке никаких ассоциаций.
Властные решения приживаются не только в терминологии. Именно ими неузнаваемо менялись, например, языковые формы извечных житейских просьб. Судебник 1497 года навёл порядок в грамотах, оставив за ними внешние договоры, указы, дарственные и установив форму житейских челобитных. Челобитные адресовались царю, а не лицу, от коего зависело решение, и возвеличивали его, уничижая просителя: «Великому Государю Русии холоп знатного боярина Мещерского крестьянишко Кузя бьёт челом и жалится по грехом своим погорел еси оскудел коровушку на хлеб испроел смилуйся пожалуй на обзаведение денежек как Бог на душу положит». В заданных рамках было и творчество. Скажем, вводилась усилительная частица ста: «Знатного ста боярина, оскудел ста, пожалуй ста». Из последнего и вышло наше нынешнее пожалуйста.
В 1701 году Пётр I своевольно повелел «челобитных боле не писать… полуименами никого не писать». Названная прошением, новая форма просьб легко пришлась ко двору: Милостивый государь Пётр Андреич (или даже просто Пётр Андреич! Официальнее и позже – Господин Мещерский!). «Прошу Вашего содействия в назначении мне пенсии в связи с тем, что… Примите уверения в совершенном почтении. Ваш покорный слуга…» Эта формула, несущественно меняясь, дожила до 1917 года и передала эстафету нынешнему: «Ректору ФГБОУ ВПО “Институт русского языка им. А.С. Пушкина” Ю.Е. Прохорову студентки 4-го курса… Заявление. Прошу оформить мне отпуск в связи с рождением дочери… Подпись».
После революции октября 1917 года было немало попыток во имя настроений победившего общества самовольно воздействовать на язык. В лексике изменения приживались легко, не нарушая порядка системообразующих фонетики и грамматики. Так были насильно изгнаны как враждебные офицер и солдат, заменённые командиром и рядовым красноармейцем. Язык всё же сохранил их и при снятии высочайшего табу в годы Великой Отечественной войны вернул к жизни. В предвоенные годы слово заработная плата, зарплата (видимо, калька с Arbeitslohn; вообще наши правители чтили немецкие образцы: коммунист, партия, Интернационал, конгресс, комитет, центр, лагерь) заменили жалованье, получка, вознаграждение, даже гонорар, бенефис.
Автор помнит, как спросил мать, почему Робинзон назвал туземца Пятницей и что это за слово. Ученик третьего класса, он знал лишь шестидневку, состоящую из выходного дня и пяти рабочих (первый, второй… пятый день), но не слышал заменённых ими неделя и семи её составляющих – будней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), которыми эксплуататоры заставляли пролетариат работать на день больше, позволяя отдохнуть только в праздник, в какое-то церковное воскресенье по случаю чьего-то воскрешения. Все эти слова были не то чтобы запрещены, но ощущались ненужными архаизмами. Дни, которые мы продолжаем называть по-фабричному нерабочими или выходными («Все на выход!»), в Российской империи именовались праздничными, свободными в отличие от присутственных для высшего круга, рабочих для фабричного люда, ну а крестьяне вообще от труда не отлучались.
Великая Отечественная война, легко ломая сопротивление языка, сделала нормальным для всех и на годы вперёд строгое, без лишних слов, специфическое словоупотребление (фронт уборки зерновых, битва за урожай, правофланговые индустрии, навскидку не скажу, разведчики недр), изменили морфологические формы обозначения времени (мы говорим в 12 часов, в 24 часа, а не как до войны в 12 дня, пополудни, в 12 ночи, в полночь; в 15 часов, в 15 часов 15 минут, в 15 часов 30 минут, в 15 часов 45 минут, в 15 часов 50 минут, а не ровно в три часа дня, в четверть четвёртого, в половине четвёртого, полчетвёртого, без четверти четыре, без десяти минут четыре). Одновременно в приказном порядке была установлена несклоняемость географических названий (картинка 7.4).
Показательна приключенческая судьба обращений, прежде всего слова товарищ. Издревле известное, родственное слову товар, оно называет соучастника, собрата, попутчика, ровню, односума, компаньона – в общем, человека, связанного с другим по роду деятельности. В. Даль указал на две профессии: ямщицко-торговую – разносчик с извозом, торгаш в розницу и в развозку, афеня (офеня), артельщик, коробейник («Ты товарищ мой, не попомни зла») – и воинскую – в вербованных полках товарищем звали рядовых по пословице «Пеший конному не товарищ».
В военной среде не без влияния немецкого Kamarad (Kriegs-kamarad, Regimentskamarad, Schulkamarad) товарищ приобрёл значение товарищ по оружию, по полку, по сражению, однополчанин, одноокопник. Слово известно Пушкину (Хлопуша умножил шайку Пугачёва «… товарищами своего разбоя». «Навязался в товарищи неведомо кто, неведомо откуда»), но, обращаясь к друзьям-декабристам, он придал ему возвышенно-поэтическое звучание: «Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья».
Как обращение слово товарищ также обязано немецкому влиянию, на этот раз слову Genosse. Популярное со времён Ганзы в ремесленных цехах и разных ферайнах, оно полюбилось социал-демократическим кругам для обращения однопартийцев между собой (Parteigenosse). Перенесённое на товарищ, оно предполагало, как у немцев, обращение на «ты» вплоть до эпохи И. Сталина, когда стало всеобщим, вытеснив гражданин, гражданка, граждане, навязывавшихся после революции, но оставшихся только в официальных документах, в судах. Заодно и партийцы между собой перешли на «вы».
Всё это происходило не без горячих игр социума и языка. Язык упрямо сопротивлялся такой необузданной многозначности да ещё и с иноязычным влиянием, но общество было ещё упрямее. Несогласие породило уродов вроде товарищ сказала, зато уберегло от позора женскую форму товарка. Сохраняя историческое значение «подружка, пособница», сегодня это слово в московском просторечии означает вещевой развал, даже торговый центр. Трудно сегодня счесть товарищ устарелым, забытым словом (воинский устав сохраняет его официально), но вряд ли кто теперь скажет, что оно «дороже нам всех прекрасных слов».
Система всех обращений по-прежнему колеблется. В целом же мода переменить, передумать, перестроить, переименовать, перекраситься и даже переприсягнуть ещё не кончилась. Мало что изменило переименование городов и улиц (Екатеринбург Свердловской области, кафе «Максим Горький» на Тверской) или милиции в полицию. Кое-что и устояло: давление крови и атмосферное давление язык, вопреки всем попыткам, требует измерять в миллиметрах ртутного столба, а не гектопаскалях.
* * *
Уместно вспомнить интересное предложение академика Б.А. Серебренникова различать отвечающий коммуникативным потребностям общества абсолютный прогресс языка как «вещи для других» (приспособление к желаниям носителей языка, наилучшее обслуживание их нужд) и касающийся его самого как «вещи в себе» относительный прогресс (совершенствование самой языковой системы, достижение ею равновесия, богатства и логичности). Разумеется, оба типа прогресса зависят друг от друга, перекрещиваются внутри союза социума и языка.
Профессор Р.А. Будагов в сходных раздумьях излагал языковый прогресс в принципиальной увязке с лексикой, грамматикой, языком науки и научно-технического развития (НТР), стилистикой, экспрессивными возможностями выражения. По его мнению, язык во всех своих ипостасях «стремится к выполнению коммуникативных целей». Но это стремление не сводится ни к экономии усилий, ни к тому или иному типу паратаксиса – ни к флексии и другим видам синтетизма, ни к роли логики «широкого контекста», как при развитии аналитизма. Позиция профессора Р.А. Будагова с успехом использовалась практически. Например, она отражена в коллективном энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» (М., 2003).
* * *
Силы социальные и системно-языковые постоянно взаимодействуют. Казалось бы, их нормализационные игры одинаково направлены на создание оптимально и литературно образованного языка. Однако нечего было бы вообще играть, если бы не было разного понимания цели, не было бы разных тактик и приёмов достижения очевидно разных интересов.
Приспособление языка к интересам людей означает обычно какое-то изменение в нём самом, чаще незаметное, а если замечаемое, то обычно как порча. Язык как сложившаяся сущность не может не противиться сдвигам в своём составе и складе, если они вызваны внешним влиянием, а не его внутренними законами, саморазвитием. Соотношение побед и поражений в играх внутри союза социума и языка как раз и обеспечивает общую устойчивость развития, преодолевает различия между абсолютным и относительным прогрессом. Так, в частности, большое число ничейных результатов говорит о совпадении интересов партнёров в развитии словаря, их малое число – об отсутствии согласия в изменении грамматики (здесь даже в чемпионатах длительное время постоянно выигрывает язык); оставаясь при своих интересах, они легко и увлечённо сражаются в стилистике, в текстологии.
Язык способен служить надёжным орудием общения, взаимопонимания и согласия людей, оформляя, формируя и обогащая их мысли и чувства, память и совесть, этику и эстетику, искусство и науку, экономику и политику, всю их жизнь в целом, пока люди не злоупотребляют своим положением всадника. Пока они уступают, когда язык упорствует, защищая свои сложившиеся состав и устройство, пока они сознательно и своевольно не вмешиваются в его динамику, приспособляя, реформируя, нормализуя под себя.
Люди и без того сами служат инструментом движения языка, не думая о нём, говоря и слушая, читая и записывая, просто употребляя его в общении. Они непроизвольно тормозят или ускоряют осуществляющееся через них независимо от осознанной их воли естественное, бесконечное его саморазвитие. Таков, если угодно, некий имманентный закон развития языков, который ради создания общего правильного, литературно образованного языка как-то сознательно упорядочивается на игорном поле нормализаторского взаимодействия системных сил и человеческого фактора.
3.2. Интересы социума
Свойственные социуму противоречия и внутренние разногласия мешают ему заниматься нормализацией языка целенаправленно и определённо. Социум, если угодно, порой сам не знает, чего конкретно хочет. Люди отягчены заботами, им недосуг всерьёз заняться ещё и тем, для чего существуют специалисты – филологи и педагоги, а до них – образцовые писатели и поэты. Хватает сил освоить лишь преподаваемый в школе литературно образованный язык для общения по делам и потребностям.
Мы замечаем воздух, когда нам нечем дышать. Так и язык мы осознаём лишь при возникновении затруднений, по неуверенному знанию, забывчивости или натолкнувшись на действительный или кажущийся его недостаток. Вопрос «Ну, как это по-русски?» возникает, когда не находится подходящее слово (они лопухнулись – вроде нехорошо, а ошиблись, неверно поступили, не смогли – невыразительно), когда появляется двусмыслица (прекрасный портрет Неменского – это тот, где художника нарисовала его супруга, или тот, где он сам изобразил своего сына).
Люди обычно не требуют доказательств, удовлетворяются мнением авторитета, походя справляются у знакомых, обращаются к справочникам, словарям, учебникам, Интернету. Языковыми неясностями хитроумно завлекает реклама: прохожий, поражённый аршинными буквами хвастливого сообщения у станции метро «Парк культуры» в Москве: «Мы работаем на Льва Толстого», – с трудом разбирает мелкую строчку, которой зазывает к себе Yandex, чей офис находится поблизости, на улице Льва Толстого.
Своё мнение, когда оно всё же складывается, люди чаще оставляют при себе. И только те, кому нечего делать, изливают в заявлениях, обычно сердитых: почему это разбить значит создать (разбили новый сквер) и уничтожить (разбили вазу), зачем браком называть скверную, испорченную продукцию и супружество – самое святое, что есть на свете? За что только лингвистам жалованье платят! Как объяснить, что лингвисты лишь изучают и регулируют данное свыше и сокровенно развиваемое народом?
Втуне остаются предлагаемые социумом решения, по большей части прихотливые и своевольные, без особых обоснований, без взвешенной оглядки на историю и будущее. Редко кто хотел бы изменить грамматику или произношение, но многие часто и с малообъяснимым жаром отстаивают те или иные ударения: только зна́мение, а не «беспардонно безграмотное» знаме́ние. Сторонники узаконения написания «ё» твёрдо стоят за белёсый (он же не белый), манёвры (ну и пусть маневрировать), неохотно допуская обы́денный, совреме́нный с оговоркой, что устаревшие обыдённый, совремённый звучат всё-таки лучше.
Грешат субъективно-личностным неприятием и лингвисты. Многим, в том числе и автору, вопреки одобренной словарями практике, претит употребление глагола представлять / представить в значении «думать, воображать, считать, знать, верить; быть, являться» без сопроводителей себе, собою, из себя. Ведь тогда слово представлять неотделимо от его значения «изображать, играть на театре»: «Не представляю, что такой человек – предатель»; «Он представил, как живут богачи в апартаментах»; «Ничего подобного не представляла: он же просто дурак»; «Она не представляла, как надо говорить в таком обществе»; «Он не представляет ничего интересного»; «Трудно представить, какие были бы последствия, если бомба сработала бы раньше».
По легенде, Д.Н. Ушаков любил сказать, что у него к некоторым употреблениям «индивидуальная идиосинкразия, как к советской колбасе». Живущий за рубежом филолог М. Эпштейн, недовольный тем, что любовь (в отличие от украинских любити и миловати) приложима и к отчизне, и к женщине, хочет ввести в русский словарь новое слово любля. Удивительно охотно это тиражировали наши газеты, радуясь, видимо, тому, что Запад нам поможет и в плотской любви!
Субъективные оценки, противореча друг другу, да и последовательные культурно-психологические настроения общества ориентируются то на обновляющее новаторство, то, напротив, на консервирующий пуризм. Ни безоглядный поиск новшеств, ни безрассудная верность традиции не содействует объединяющей роли языка, а с нею и территориально-государственной целостности, духовности, стабильности экономики, науки, культуры. Утрата золотой середины мешает и нормализации языка в его собственных интересах, направленных на хранение его в системном и составном единстве. Нормальность жизни и языка требует согласия и спокойствия; неустроенность, разногласие идеалов, притязаний большинства и меньшинств ей противопоказаны.
Пуристы, ревнители прошлого остроумно высмеяны в басне Дж. Родари: «Я протестую, – вещал старый Словарь, – космонавты не существуют. Если бы они существовали, то слово “космонавт” нашло бы своё место на моих страницах». Неприемлема и другая крайность, которая потребовала бы исключить из словаря слова, обозначающие переставшее существовать: челобитная, помещик, крепостной или керосинка, примус. В своё время нашумевшая статья А. Вознесенского «Физики в почёте, лирики в загоне» обратила внимание публики и на иную важную проблему – на языковые настроения отдельных слоёв населения, связанные с профессией, социальным положением, возрастом, полом.
Индивидуальные и групповые мнения имеют успех, когда отражают общественные настроения времени. Говорили, например: он уклонился от истины, но ни в коем случае он ошибся, обманул; облегчил свой нос, но не высморкался. Над этой модой потешался И.А. Крылов: «Отправился в страну, где царствует Плутон. Сказать простее – умер он».
После разгульных 20-х годов ХХ столетия воцарился советский язык, пусть и не возвышенный, но отжатый, нейтрально-безличный. Затяжная эпидемия, по определению К.И. Чуковского, канцелярита посягала и на разговорную разновидность языка. Снижение стиля, уход от возвышенного героизма, важной серьёзности всегда связываются со смягчением порядка и дисциплины, с демократией.
В нынешнее время вместо приказного тона мужским голосом: «Поезд дальше не пойдёт. Просьба освободить вагоны», – в Москве говорят проникновенно женским: «Конечная. Поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны». Устрашающую надпись «Выхода нет» заменили доброй: «Выход слева». Вместо запретов: «Посторонним вход запрещён»; «Курение строго воспрещается»; «Карается… Штрафуется…» – мягко предупреждают: «Служебный вход»; «Здесь не курят, курить можно в специально отведённом месте». Слова пожалуйста и спасибо становятся, как в детской сказке и в американском быту, самым частыми в житейских делах, официально-государственных бумагах, научных, образовательных, хозяйственных сферах.
Сегодня вся элитарная, «лучшая часть» общества – писатели, общественные деятели, учёные – склоняется к человечности, откровенной, бесхитростной прямоте общения. Насаждается вежливость, может быть и показная, сниженный разговорный стиль. Общий настрой сказывается на социальной и даже на собственно языковой нормализации намного сильнее случайных групповых, тем более индивидуальных, предпочтений и неприятий самых авторитетных лиц. Он иллюстрируется ярче всего словарём, но сказывается, например, в грамматике, в словообразовании (картинка 7.2).
* * *
В нормализации социум по-настоящему силён и победоносен на крутых поворотах истории, когда не до личностных и групповых разногласий. Не мелочные индивидуальные ссоры, а крушение Российской империи, Гражданская и Отечественная войны, образование СССР, его роспуск, построение нынешней федерации, революции, коллективизация и индустриализация меняли государственное устройство, экономику, идеалы, характер и образ жизни, настроения и вкусы населения, не в последнюю очередь – принципы коммуникации и самый язык.
Реальность утраты родства, территориально-совместного проживания, духовного склада, истории, культуры, родного (и общего) языка в многонациональной стране пробуждает в государственном организме чувство монолитной самоидентификации (все и всё – на победу над врагом!) и победоносность действий.
В послереволюционные «гремящие двадцатые» вся страна стремилась к новому, но уже тогда с торжеством ликбеза и заветами молодёжи «Грызть гранит науки» (Л. Троцкий), «Учиться, учиться и учиться» (В. Ленин) был взят курс на дисциплинирующее освоение традиции, несущей знания и порядок. На первом съезде писателей М. Горький призывал «писать по-русски, а не по-балахонски», осудив даже такие «вольности», как пара минут (кроме пары мужа с женой, бывает только пара сапог и пара чая), целый ряд (если не целый, то это уже не ряд) и т. п.
Настроения тридцатых были усилены в годы войны патриотическим креном к дореволюционному наследию, тягой к традиционализму, вплоть до возрождения церковных славянизмов: святая Русь, братья и се́стры, отечество, отчизна, отчий, долг, воин, воинская доблесть, слава, сеча, противоборствовать, сокрушить, дабы, ибо, сиречь.
Лишь в послевоенное время писатели, а за ними языковеды поставили этой эпидемии диагноз канцелярита, и публика вновь обрела вкус к свободе новаторства. Однако споры потешно замыкались на мелочах, вроде нужны ли сейчас, теперь, ныне, нынче, если есть нейтральное в настоящее время. Участника газетной дискуссии 1960-х годов возмутила фраза «Сегодня вся наша страна – это одна величественная стройка». Разве вчера и завтра не так? По мнению другого, недопустимы выражения в духе разболтанной буржуазной прессы: Москва заявила, Вашингтон молчит, вместо внятных: МИД, ТАСС заявили, Госдеп США молчит. В негодование привёл бы их ныне вполне нормальный заголовок репортажа о чемпионате: «Наши из Европы привезли два золота, два серебра и одну бронзу!»
Несмотря на осторожное оживление закостеневшего словоупотребления, демократическая вольность воцарилась лишь к началу нынешнего века. Нам, народу крайностей, трудно соблюдать разумное равновесие, и ситуация вызывает опасения по поводу утраты правильности. Говорят о безвозвратной порче литературно образованного языка.
При этом нельзя провести параллель с либеральным попустительством 20-х годов прошлого века, которое питалось просторечными и диалектными навыками «новой советской интеллигенции» (определение С.И. Ожегова) и было остановлено пуристическими настроениями. Нынешнее новаторство зиждется на иных основах – на жаргонах и американских образцах. Оно находит одобрение людей, отнюдь не малограмотных по несчастью, и отнюдь не тормозится обращением к традиции. Здесь кроется несомненная опасность для объединительной роли языка. Именно правильный язык, и только он, определяет даже внешне этическое и гражданское единство, делает людей своими, отличая от чужих, говорящих не по-нашенски.
Сегодня глобальный технический прогресс, ядерная энергетика, освоение космоса, множительная техника, мобильная телефония, компьютеризация, Интернет обостряют потребность в чёткой и жёсткой нормализации языка. К сожалению, компьютерно-сетевое общение, вся сфера массмедиа и, в первую очередь, агрессивная реклама отказываются от правильности, подчиняясь коммуникативно целесообразной экспрессии и популистским запросам. В текстах всех типов содержания своевольно и необдуманно смешиваются книжность и некнижность в своей самой низкой, просторечной части. Самый беспорядок и неустроенность в обществе размораживают строгость литературно образованного языка.
Ментальность, взгляды на жизнь нового поколения отражаются в самоуправной много– и разноголосице. Опасно этому безоговорочно радоваться, потому что без надлежащей оглядки на непоколебимые образцы правильно образованного языка легко утрачиваются понятия высокого и низкого, своеобразие учёной книжности и повседневного быта, строгость общения официоза и однозначность науки, художественная образность. Борьба за однозначную устойчивую норму стала казаться бесперспективной суетой, имеющей значение разве что для чисто учебных ситуаций.
Коварство вольнолюбиво-освободительных устремлений покушается на твёрдый канон конкретных слов, форм и других единиц выражения. Однако только он способен удержать язык от рыхлости и развала, блюсти историческую преемственность взаимопонимания, без чего язык перестанет быть базой государственного единства, национально-языкового сплочения. Уже слышны жалобы старших носителей образованного языка, перестающих понимать младших.
В побеждающей демократии, отторгающей авторитарное установление и внедрение одномерности, трудно находить равнодействующую разных воль и мнений. Преодоление разнобоя в возведении языковых единиц в ранг образцов правильности сопрягается с требованием поступиться собственными навыками ради общего, едино понимаемого блага. Увы, во имя этого теперь неприемлемы ни «ласковое принуждение» древних русских книжников, ни тем более «добровольно-принудительная практика» советских лет. Поэтому новые принципы нормализации пока неведомы, и своеобразной реакцией на растерянность и сумятицу стали даже сомнения в самой идее нормализации.
Усталость от стремительного бега жизни, ускоряемого прогрессом, нацеливает на лаконизм при передаче растущей массы информации. Отлитые языковые формы предстают при этом даже помехой и для краткой и по делу её передачи, и для восприятия. Нынешнему обществу интереснее процесс познания так таковой, его сходство и различие у разных народов, нежели родные традиции общения. Лингвокогнитивизм, – культурология, – страноведение подавляют старое доброе языкознание с его вниманием к собственно языку, его звукам, грамматическим формам, происхождению и развитию значений слов. В нынешней социальной сосредоточенности людей на познавательной стороне общения любознательность переносится с содержания текстов на их этнические, культурные, поведенческие различия.
Можно полагать, что свою роль играет и сближение книжной и гораздо менее строгой по стилю и требовательности к форме некнижной разновидностей языка. Ведь собственно вербальную логику текста в ней успешно компенсируют невербальные составляющие. Ближайшей иллюстрацией может служить распространение деепричастий при безличных предложениях, сделавшихся посмешищем с лёгкой руки А.П. Чехова. Он посмеялся над привычной в живом звучащем разговоре фразой: «Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа».
Между прочим, сегодняшний интерес к дискурсу может объясняться именно тем, что звучащий текст контактного общения плохо организован, не отредактирован. Звучащая речь подаётся на письме без соответствующей обработки, авторы текстов не учитывают, что воспринимать текст на слух и читать текст – не одно и то же. Письменный текст нуждается в компенсации невербальных средств при изложении информации. Отсутствие необходимой обработки письменного текста особенно явно обнаруживается в сетевом общении. Это обстоятельство дополнительно унавоживает почву, на которой пышно расцветает, хотя откровенно и не афишируется, безразличие к собственно языковой материи.
М. Леонидов, ведущий прекрасной передачи «Эти забавные животные» (ОРТ. 1998. 15 окт.), на слова собеседника: «Не люблю твОрог или …как надо? ТворОг», – решительно заявил: «Как хотите, у нас передача не про русский язык». В конце передачи он эту мысль подытожил: «Важно, что мы, Саша, до конца добрАлись. Или добралИсь – это не имеет значения». Заметим, что в последнем случае правильными признаются оба варианта, но сейчас нам важны мнение и поведение говорящих.
В другой телепередаче участник затруднился: «Кто с де́ньгами… гм… или как правильно – с деньга́ми?» Интервьюер успокоил его тем же способом: «Да всё равно. У нас же не урок русского языка». Прощаясь, он сам вернулся к теме: «Ну вот, решение мы при́няли. Или, если хотите, приня́ли… Счастье не в деньга́х или, как говорят артисты, в де́ньгах. В де́ньгах, деньга́х, это всё равно» (Передача об олигархах. Радио Москвы. 1998. 13 дек.).
Ведущая «Радио России» 4 апреля 2012 года сказала: «Микрофон вклю́чен». Соведущий поправил: «Включён», – она огрызнулась: «Ах, какая разница!» Такие случаи стали нормальными, но, помнится, ещё в 1994 году в телепередаче В. Листьева «Тема» аудитория вздрогнула, когда один небезызвестный литератор, яростно ополчась на нецензурную лексику, сказал верова́ния, а затем знаме́ния; увидев реакцию зала, он, ничтоже сумняшеся, бросил: «Не до ударений тут, когда надо спасать чистоту языка». Как не вспомнить совет доброжелательного Д.Э. Розенталя: если не знаешь как писать здесь – через с или з, пиши тут.
* * *
Последние пять лет я провожу опросы студентов-филологов, как первокурсников, так и старшекурсников, завтрашних учителей русского языка. Анкеты почти не затрагивают лексико-стилистических и синтаксических проблем, хотя и в них вскрывается поверхностность знаний о семантике, но, главное, отсутствие интереса к оттенкам значения единиц выражения, отдельных слов и форм.
Так, почти никто точно не определил, чем различаются моргать и мигать, многие вообще усомнились в нужности обособлять значения «непроизвольно быстро опускать и поднимать веки» и «подавать глазами знак, подмигивать» или «слабо, неровно светиться (о свече, лампе)». В одну кучу сволакивалась семантическая и синтаксическая неравноценность понятий быстро и скоро. Анкетируемые не чувствовали их закреплённости за временем и темпом движения (Скоро наступит весна. Вы так быстро идёте, что за вами не поспеешь), утверждали их полное совпадение (скорый шаг = быстрый шаг), неохотно соглашаясь, что скорый поезд не назовёшь быстрым, считая, что вообще лучше назвать его экспрессом.
Ещё единогласнее и решительнее отвергается смысл морфологических различий, проверить знание которых и отношение к которым было главным замыслом опросов. Отвечая на вопрос, как лучше: «Она не кладёт в чай сахар, сахара, сахару», – 72 % опрошенных сочли единственно правильной только первую форму, остальные, правда, подозревали, что и вторая возможна, если хочешь подчеркнуть, что не всю сахарницу. Никто не знал, что существует (увы, существовала!) третья возможность. Почти столько же сочли, что «Паводок нагнал страх» (РГ. 2013. 8 авг.) лучше, чем страха и тем более страху. Одна молодая мать уверяла меня, что «без спросу не бери» просто неграмотно. Кто-то счёл, что «Кириллицу перестали бояться» (РГ. 2013. 5 апр.; заголовок статьи о том, что в Польше бум русского языка) не ошибка, хотя лучше было бы написать: «Кириллицы уже не боятся».
Разительны были результаты оценки выбора падежа при глаголах. В памяти людей стёрлись бурные возражения против смешения платить за проезд или оплачивать проезд, но все мои студенты знали (Слава их родителям и школам!), что нехорошо говорить объяснять о том, что; практика показывает о важности теории, добавляя: «Но уже все так говорят». С трудом мы выясняли, что́ вернее: из 20 бакалавров ушли/ушло 13, если в магистратуре осталось/остались семь.
Совсем недавно интеллигенты дружно издевались над романом, уже по названию которого «Что же ты хочешь?» вместо «Чего же ты хочешь?» сочли автора малограмотным. Автор же считал, что простонародным Чего? (особенно в звучании *чи-и-во?) нельзя заменять переспрос Что? Но здесь-то глагол хотеть, который, как ждать, домогаться, избегать, требует родительного падежа, как и многие переходные глаголы при отрицании. Нынешние студенты не чувствуют никакой разницы между не получают зарплату и не получают зарплаты.
В русском языке возможно двойное отрицание (не жалей ничего) и конструкция, употребляемая когда отрицается то, что отрицается, а не бытийное сказуемое: «Ваш паспорт является недействительным», а не «Ваш паспорт не является действительным». В замене винительного падежа дополнения родительным при отрицании опрошенные видят излишнюю архаику. Для них «Она знает то, что другим знать не дано» даже более правильно, чем «Она знает то, чего другим дать не дано», так же как «Что ты ждёшь?» вместо «Чего же ты ждёшь?» Всё же остаётся в светлом поле сознания современных студентов разница между жду весну / жду весны, хотя и вспоминается зависимость от одушевлённости. Совсем неожиданно и необъяснимо у замечательной чтицы Е. Добровольской в «Гадком утёнке» мама Утка предостерегает утят словами: «Остерегайтесь кошку» (программа «Щелкунчик», канал «Культура». 2013. 24 нояб.).
Став свидетелем бурного несогласия моего учителя с британскими лингвистами J.O. Ellis и J.N. Ure, предлагающими стилевое, а не ритмо-мелодическое толкование форм творительного падежа на – ой/-ою (Виноградов В.В., Костомаров В.Г. Теория советского языкознания и практика обучения русскому языку иностранцев // Вопросы языкознания. 1967. № 2. С. 11), особо огорчаюсь, что сегодня различие этих форм просто игнорируется, что 23 % опрошенных молодых людей уверены, будто ни один человек в здравом уме вообще не скажет красавица с голубою лентою в косе.
Предлагавшиеся в анкетах вопросы касались различных форм падежа, согласования сказуемых с подлежащими, управления, деепричастных оборотов, однородных членов предложения. Эти факты ещё недавно воспринимались как свидетельство богатства, гибкости и красоты русского языка, его способности детализировать тонкие оттенки. Они тщательно культивировались языковедами, считавшими их изучение, описание и объяснение важной задачей своей науки, охотно внедрялись педагогами. Проводимые опросы убеждают в том, что по крайней мере молодёжь к ним безразлична, перестаёт видеть их нужность, не желает их соблюдать.
Этот шокирующий вывод согласуется с наблюдающейся утратой и научно-педагогического интереса к ним. В последние десятилетия даже убеждённые грамматисты сосредоточились на синтаксисе и почти не обращают внимания на функции падежей и видовременные формы спряжения, на согласование, управление, примыкание. По работе в ВАК могу сказать, что последние два-три десятилетия практически нет диссертаций, посвящённых собственно русской морфологии.
Одним словом, утрачивают (утратили) значение морфологические факты, которые были едва ли ни главным предметом заботы и детальнейшего рассмотрения русских языковедов и зарубежных русистов. Многим, если не всем, представляются излишними оттенки морфологических форм: деньги в шкафу – в шкафе, бухгалтеры – бухгалтера, даже различаемые на радио в пятом часу и в следующем часе нашей программы. Не стоящей внимания мелочью кажутся различия построения проезд автомашин запрещён – проезд автомашинам запрещён и т. д. Всё чаще люди пренебрегают самобытными особенностями русской грамматики. Терпимость такова, что переходит в разболтанность, люди гордятся тем, что ставят себя выше боязни ошибки.
Недостаточное почитание формы, материально-языкового выражения связано с переносом акцента на смысл, на когнитивно-семантическую сторону, сопряжённую не столько с языком, сколько с текстом на языке. По этой моде лингвисты и педагоги увлекаются концептологией, стилистикой, лингвокультурологией, другими смежными с собственно языком областями. И естественно, что в своих нормализационных действиях язык яростно возражает против такой переориентации. Печалятся и знакомые мне французские педагоги, видящие пользу в изучении флективной грамматики для логического развития школьников с аналитическим родным языком. Отстаивая по этой причине латынь, они не прочь заменить её русским языком, но не хотят в нём развития аналитизма.
Полезно ли так уж полностью освобождаться из-под «гнёта» языковой материи? Всегда ли верно, что мы не рабы языка, потому что мы хозяева смысла?
3.3. Интересы языка
Как противовес переменчивым нуждам и настроениям социума, многоликим потребительским запросам людей и их групп властвует министерство собственной безопасности. Оно неукоснительно преследует одну цель – сохранить самобытность языка как такового. Успешно игнорируя вспышки преходящих и вздорных личностных мнений, оно посильно противостоит и продуманным социальным пожеланиям, если они идут вразрез с самодвижением охраняемой сложной многоуровневой системы, самого устройства и базового состава.
Конь, хоть и понежился бы в стойле, но скачет, если нужно всаднику. А всадник, чтобы не загнать коня, не должен требовать от него больше, чем тот способен дать. Более того, хороший хозяин коня кормит, холит и лелеет. Вот и язык откровенно и страшно мстит людям, когда они плохо о нём заботятся, когда они его насилуют.
Языку чужда нормализация, нацеленная на абсолютный прогресс (приноровление языка к человеческим прихотям – желаниям и потребностям общества). Относительный прогресс, совершенство «вещи в себе», достигается прогрессивно-регрессивным согласованием всех составляющих подсистем, уровней или ярусов. Целью нормализации, искомой нормой будет их гладкое взаимодействие в иерархическом устройстве согласно внутренним (видимо, имманентно заданным) законам.
Во всех языках есть универсальные устремления к регулярности, упорядочению, упрощению, обогащению, выталкиванию исключений (термин Е.Д. Поливанова), эстетике, звучности, выразительности, экономности. Однако материальные воплощения этих устремлений поразительно неодинаковы. Причины этого малопостижимы, исторически изменчивы, прямо с внешней средой не связаны. История и нынешняя жизнь носителей языка сокровенно, вне их сознания ускоряют или тормозят действие законов, присущих каждой подсистеме языка, и законов взаимозависимости и взаимодействия всех его уровней.
В.В. Виноградов описывал различия подсистем (уровней) языка, механизмов развития каждой из них в свойственном его времени широком и экспрессионистском понимании термина «норма». Он писал, что нормы имеют разную «крепость и интенсивность», «степень обязательности и широты действия» в морфологии и фонетике, с одной стороны, в словаре и отчасти в синтаксисе – с другой (Виноградов В.В. Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР. М., 1955. С. 57–58; также в сб.: Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М., 1966).
В беседах он раздумчиво замечал, что в стилистике нормы заменяются ориентацией на образцы и – не без усмешки – что в орфографии и пунктуации, если считать их частью языка, нормы утверждаются чиновниками, которым не дано понять, что язык развивается по своим законам, не подверженным юриспруденции. Это мудрое и остроумное обобщение результатов нормализационных процессов не раскрывает всё же их истинного существа.
Системная целостность любого языка обязана прежде всего способу сочетания, согласования, подчинения слов, установления связей между ними. Основную роль здесь играют исчислимые по составу, устойчивые во времени, малопроницаемые, закрытые подсистемы фонетики и грамматики, именно на них строятся исследования и нормативные описания, как, например, работы К.С. Горбачевича и Л.К. Граудиной, лучшие из существующих. Грамматика дисциплинирует все подсистемы, прежде всего лексику, которая иной раз способна и навязывать свою волю, поставляя слова, трудные для освоения флексией и звучанием.
Самобытная морфология, системообразующая роль которой наиболее очевидна и наглядна, служит банальным признаком языка в простодушном восприятии профана, но кладётся наукой в основу классификации языков. Русский язык для иностранца – это такой, где много окончаний и нет артикля, да и сами русские считают свой язык трудным, потому часто сомневаются в написании изменяемых слов. Лингвисты же отнесут его к флективным, потому что он с древнейших времён упорно хранит флексию, то есть объединяет слова, спрягая и склоняя их.
Главная системообразующая подсистема языка – неизменно устойчивая морфология всё же меняется, как и всё на свете, но механизм развития в ней крайне замедлен и осуществляется через стадию ошибки. Счёт нормализационных игр тут чаще в пользу языка, так как он остерегается сдвигов в системообразующей основе. Эти связи грозят нарушить неприкосновенные правила сотрудничества всех уровней иерархии, да и социум равнодушен к формально-материальной стороне и, скорее, за её сохранность, коль скоро речь не идёт об удовлетворении его нужд.
В замкнутой фонетике, а отчасти в синтаксисе развитие также заторможено по их природе и приостановлено письменной фиксацией, оберегающей правильную неизменность литературно образованного языка. Развитие в них также идёт через стадию ошибки: воспринимаясь как неграмотность, новшество наталкивается на упорное сопротивление, на длительное противодействие школы и образованного общества.
Вспоминаются мудрые заветы С.И. Ожегова: 1) ошибка может быть и распространённой, и 2) с ошибкой имеет смысл бороться до тех пор, пока с ней имеет смысл бороться. С новшествами, возникающими через ошибку, просвещённое общество борется, правда, в разные эпохи с разной мерой решительности. Ныне, когда многими не соблюдаются куда более важные правила, снисходительность к нарушениям языковых норм лишь естественна, хотя как раз она возбуждает ревность консерваторов.
Лишь попав в русло стремления как-то обновлять, перестраивать, регулировать, упрощать систему, отход от привычного имеет успех, упрямо увеличивает свою массовую устойчивость, постепенно превращаясь в терпимый сосуществующий вариант «грамотной» формы.
Так, на обозримом отрезке времени брезгать, брезгаю, брезгаешь уступили место брезговать, брезгую, брезгуешь. Весьма индивидуально складывается отнесённость к роду слов канистр/канистра, клавиш/клавиша, рельс/рельса, строп/стропа, шпрот/шпрота, фильм/фильма (у В.В. Набокова в «Лике»: «…получивши наибольшую известность благодаря фильме, в которой он отлично провёл эпизодическую роль заики»). Ср. также: зал/зала/зало. Общая закономерность здесь: мужская форма строже, старее и традиционнее, женская скорее профессиональная (аналогично месту ударения в пЕтля/петлЯ, см. картинку 7.6). Медики старшего поколения стоят за аневризм, метастаз, молодёжь – за аневризма, метастаза.
По сомнительной любви русской акцентуации к ударению в начале или в центре многосложных слов (картинка 7.6), биометри́я, бижутери́я, гастрономи́я, индустри́я превратились в биоме́трию, бижуте́рию, гастроно́мию, инду́стрию.
Городы, домы, хлебы (ещё для Н.М. Карамзина норма) вытесняются (вероятно, под влиянием слов среднего рода) формами с ударным а на конце: города́, дома́, хлеба́ (картинка 7.3). Процесс смены начинается с ошибки, идёт с длительными колебаниями. Старый вариант задерживается, если ему приписывается особый смысл: мы говорим в Средние века́, но помним и старую форму в выражении в кои-то веки́.
Торжество ошибки неизбежно влечёт за собой скачок в нормализации. Укрепляясь как вариант, бывшая ошибка начинает бороться с ранее принятым, которое само становится нежелательным, архаичным вариантом или забывается. В отличие от лексики, видящей в параллелях обогащение, стремящаяся к чёткости в своих пределах морфология плохо терпит даже убедительную дифференциацию параллелей, что, конечно, не оправдывает пренебрежения теми, которые сложились, а теперь перестают различаться.
Скачкообразный путь норма -> явная ошибка -> распространённая (всё более терпимая) ошибка -> равноправная вариативность -> смена нормы нарушают лишь случаи стилистико-смысловой дифференциации: учителя – «работники школы» и учители – «вожди, идеологи».
В целом же морфология не знает радикальных сдвигов; вариативность форм, тем более их смена кажутся неоправданными, нежелательными, нарушающими непоколебимость исчисляемых наборов единиц и правил. В консервативно флективной русской грамматике вызывает беспокойство единственно рост признаков аналитизма – несклоняемость иноязычных слов, образование сложносокращённых слов, противоречия в склонении количественных числительных.
Материально-звуковая база языка – фонетика – тоже не приспосабливается к условиям и содержанию общения и нормализуется самостийно и незаметно. В литературно образованном языке ошибочно оканье и иные диалектные особенности произношения, «гх-еканье», сохраняющееся у украинцев и не чуждое нашей фонетике в словах Господи, Бог (церковная норма не г и не х, и не к).
Впрочем, фонетисты, изучающие при помощи современной аппаратуры комбинаторику звуков и роль просодии, предсказывают вероятные сдвиги в качестве и глубине редукции безударных гласных. Появилась и вызывает неприятие также противоречащая традиционным русским интонационным конструкциям склонность подражать американцам.
Более проницаемым оказывается синтаксис, в котором при всей его исчислимой категориальной закрытости наличествуют вариативные модели предложений и словосочетаний. Синтаксические конструкции исчезают редко, и не часто попадаются новые (картинки 7.3. и 7.5).
Если пренебречь головной болью, которую доставляет грамматике склонность нынешней публики к «экономному» аналитизму, и её равнодушием к «избыточным» формам, вряд ли можно ждать здесь серьёзных изменений. Утишая эту боль, язык всё же заметно противостоит безразличию социума, выигрывая частные нормализационные игры на нейтральных полосах границ между подсистемами, например в словообразовании (картинка 7.2).
Не имеющее успеха длительное преодоление массовых устойчивых ошибок, их сосуществование со старым и затем победа связываются с более или менее серьёзной перестройкой всей грамматической системы. Такие изменения можно иллюстрировать только историческими фактами. Утрата окончания – ы/-и существительными мужского рода в творительном падеже множественного числа (между городы и нивами, горжусь орловскими рысаки и вологодскими коровами) могла быть принята лишь в ходе унификации всего склонения имён. Как реликт оно сохранилось в выражении со товарищи. Имеет место торжество общего окончания – ами/-ями во всех именах независимо от рода. Наследие ушедшего можно видеть в том, что правильно нет чулок, но нет носков, что и породило школьную скороговорку: Как правильно: у рыб нет зуб? у рыбов нет зубов? или у рыбей нет зубей?
Любопытно, что глаголы на – нуть со своеобразным значением действия, приводящего к какому-то состоянию, стали заменять естественные формы прошедшего времени: вязнул, вязнула, вязнули, вторгнулся, гаснул, глохнул, зябнул, иссякнул, мёрзнул, пахнул, промокнул, сохнул, чахнул, краткими, «менее глагольными»: вяз, вязла, вязли, вторгся, гас, глох, зяб, иссяк, мёрз, пах, промок, сох, чах).
Долго и болезненно освобождался русский язык от сложной системы прошедших времён глагола, заменившейся одним перфектом, да и то с потерей вспомогательного глагола-связки. Иностранцы дивятся, узнав, что глагол имеет род, а не только число и время. Немало послушников строжайше наказывалось за грубую ошибку он, она (есть) читал, читала, мы (есмы) читали, путая этот торжествующий повсюду перфект, теряющий к тому же вспомогательный глагол, с плюсквамперфектом были/бяша читали, а главное, переставая различать самоё различие времён – незавершённого, требующего имперфекта: он, она читах или несяше (с учётом контекста – нёс/носил), мгновенного, одноразового, требующего разных форм аориста: несе и прочие. Ошибки, оказавшись упрямыми и массовыми, несмотря на сопротивление ревнителей старины, вынудили считать эти различия излишними и, окончательно осмелев, вытеснили старые формы. Ушло на это всего три-четыре столетия! На радость языку хранятся перфект в летописном Откуда русская земля пошла есть и аорист в выражении одним махом семерых убивахом и в восклицании Христос воскресе!
В упрощении системы времён можно увидеть стремление социума к экономной простоте. Более вероятной причиной стало возмужание категории вида, захватнически жаждавшей системно заменить морфологические временны́е различия видовыми различиями, даже видолексическими. Вызывая одобрение других уровней, развитие системы видов компенсационно влекло за собой новые соотношения собственно морфологии со словообразованием и синтаксисом, с лексикологией, семантикой, стилистикой. На месте явления чётко формального расцвело нечто сложнейшее морфолого-семантическое, что отпугивает чужеземцев, да и самих русских смущает. Система языка стала ещё самобытнее, упрощение же как таковое оказалось призрачным.
В наши дни, как, впрочем, и всегда, зародыши грамматических сдвигов нелегко отыскать, ещё труднее предугадать их судьбу в литературно и нормативно образуемом языке. С неосторожной смелостью можно предположить дальнейшее движение в глагольных временах. Они сейчас под полновластием видов: одни и те же формы глаголов несовершенного вида создают настоящее (читаю, пишу, принимаю), а совершенного вида – будущее (прочитаю, напишу, приму). Первые образуют будущее при помощи вспомогательного глагола: буду читать, писать, принимать (но упаси вас бог от буду прочитать!), а вторые вообще не имеют настоящего.
Порядок нарушается считаными исконными глаголами вроде казнить (Бандиты казнят безвинных. Их скоро казнят, если выкупа не будет.), женить (Сегодня сосед женит старшую дочь, младшую женит через год.), многочисленными двувидовыми с иноязычными суффиксами – ировать, – ствовать, – овать, формы которых должны, по идее, иметь оба значения: «Вы голосуете сегодня, а мы голосуем завтра» (можно и будем голосовать завтра).
Обретя системную силу, виды заставляют недальновидных людей ощущать неловкость от двувидовых глаголов и искусственно подводить их под видовое распределение: отнюдь не ущербное «Когда гости сойдут с поезда, дети приветствуют их криком “ура”» избыточно заменяется будут приветствовать или ещё и неточным (из-за оттенка «некоторое время, немножко») поприветствуют. Аналогично, не замечая того же оттенка, образуют поспособствовать, попользоваться, поприсутствовать, поучаствовать, хотя и способствовать, пользоваться, присутствовать, участвовать кажутся достаточными.
Число уродливых псевдовидовых пар растёт угрожающе. Гиперкорректно «в пользу системы» при двувидовых использовать, организовать, обосновать создаются использовывать, организовывать, обосновывать. «Этот выбор обоснуется тем, что…» уже кажется не менее странным, чем, скажем, ошибочное буду прочитать вместо прочту и буду читать. Под жёрнов попадают заодно и редчайшие старые казнить и женить, давшее оженить. Сама по себе система не даёт ответа на вопрос, что лучше: строгость видовых пар или совмещение значений будущего и настоящего времён. Личные чувства здесь наивны, безразличен и социум в целом, как и к большинству собственно грамматических казусов.
Менее существенно и более фантастично появление своеобразного немедленного будущего, сходного с английским to be going to do в отличие от will/shall do, но только в форме прошедшего времени: «Даю слово, завтра с утра бросил (вместо брошу) курить»; «Ну я, пожалуй, пошла гулять». В криминальных разборках по телевизору слышатся приказы «Остановились! Травматику бросили на землю! Руками упёрлись в стену», а не «Стой! Стоять! Руки вверх!» Заметив, что ещё в начале прошлого века молодые люди стали говорить «Ну, так я пошёл», хотя ещё и не встали из-за стола, К.И. Чуковский признался: «Мне это странно, я так не скажу, но что ж, если им нравится!»
Многие сегодня слабо ощущают необходимость согласования времени сказуемого и причастия в обороте, считая вполне нормальным сказать: «Видел человека, сидящего (а не только сидевшего) на корточках». Это удивительно для англичан, они считают даже одинаково возможным не согласовывать время глагола в главном и придаточном предложениях: Видел человека, который сидит (вместо уж тем более нужного сидел, потому что это не просто его вечная поза!) на корточках». Около трети анкетируемых даже уверенно предпочли села в поезд, следующий до Звенигорода форме следовавший, так как она, якобы, напоминает исключение: данный поезд, вообще-то одинцовский, на этот раз следует дальше.
* * *
Подчёркивая значение грамматики как одной из двух важнейших подсистем языка как такового, В.В. Виноградов начал введение к своей знаменитой книге «Грамматика русского языка. Грамматическое учение о слове» цитатой: «Duae res longe sunt difficillimae – lexicon et grammaticam» («Два дела труднейшие – писать словарь и грамматику»). Координация этих основных и от природы различных подсистем обеспечивает каркас строения языка в целом. Сущность каждой определяет необходимость раздельного, даже обособленного изучения, хотя реально, в действительности они не существуют одна без другой. Весьма наглядно об этом свидетельствуют принципиально неодинаковые формы их изложения – монография и словарь, то есть описание и перечисление.
Грамматике, пекущейся о хранении признака системности языка, открытая неисчислимая лексика противопоставлена тем, что служит непосредственно внеязыковой жизни и содержательно отражает многоликость действительности. Словарь калейдоскопически конечен, и его всегда легко сократить или увеличить хотя бы ещё на одно слово. Он состоит из громадной постоянно меняющейся (в основном растущей) пассивной массы, в чём нетрудно убедиться, сопоставив многотомный «Словарь древнерусского языка» и семнадцатитомный «Словарь современного русского языка».
Уместно вновь вспомнить популярное в середине ХХ века учение об основном словарном фонде и всём лексическом запасе языка. Состав первого, то есть активного запаса, куда меньше, особенно применительно к отдельным личностям и их группам. О сегодняшнем достаточно устойчивом словарном фонде дают наилучшее представление многие издания замечательного «Словаря русского языка» С.И. Ожегова. Ни один человек не владеет всем словарём, каждый знает, понимает намного больше слов, чем употребляет, и всё равно меньше, чем их есть в реальности.
Предпочтение чего-то одного в лексике не замедляет живые процессы и вполне отвечает интересам единства общества, справедливым заботам педагогов и иных ревнителей культурной традиции обеспечить языковую устойчивость и определённость. В нормализационных играх социум уступает языку в царстве слов не так легко, как в грамматике. Лексика живёт бурной жизнью, грамматика же мертва и оживает лишь, когда её окропляет семантико-лексическая «живая вода».
* * *
Разгадывая загадку, как и где существует язык, гений В. Гумбольдта видел в нём эргон и энергию. Это различие волновало Л.В. Щербу, писавшего о трояком аспекте языковых явлений, Ф. де Соссюра с его дихотомией: le langue – «язык» и la parole – «речь» (с добавлением le languаge – «речевая деятельность»), и многих других. Большой объяснительной силой обладает теория языковой личности, предложенная Ю.Н. Карауловым. Во всех случаях нелишне ввести в рассуждение и антиномию лексики и грамматики с фонетикой. Многие русские знают английскую грамматику лучше большинства англичан, но в подмётки не годятся им в связывании грамматики с живым сиюминутным словарём, забавно путая его актив и пассив.
Взаимодействие грамматической и лексической подсистем неизбежно ведёт, во-первых, к их раздельному изучению и изложению, во-вторых, противоречит функционированию языка в жизни. В общении все подсистемы, уровни языка сосуществуют, причём, так сказать, не вертикально, а горизонтально: действуя совместно, в теснейшем переплетении. Оставив в стороне интереснейший вопрос, насколько важно знать первое, чтобы уметь второе, намекнём всё же на то, что отлично управлять автомобилем или работать на компьютере можно, даже слабо представляя себе детали их устройства.
Родной язык осваивается автоматически (лишь в школе ребёнок узнаёт, что есть в нём падежи, спряжения, глаголы, имена, предложения разного типа и т. д.) и затем автоматически используется (даже без смутного оживления школьных знаний). Педагоги, стремясь достичь практической цели, например обучая иностранцев, не могут ограничиться устройством языка, преподать им сначала грамматику, потом лексику, за ними синтаксис, а затем ждать, что учащиеся вдруг заговорят. Пытаясь учить речи, а не языку, педагоги с разным успехом разрабатывают разные возможности преодолеть затруднения, прежде всего вызванные антиномией грамматики и лексики.
Поскольку контакт грамматики и лексики обретает смысл на основе синтаксиса, предлагается, например, учить на лексически осмысленных образцах, не предваряя их скучнейшим, не дающим видимого практического эффекта изучением парадигм (обедать, обедаю, обедала…; ходить, хожу, ходила…; театр, театру, театром, в театре; на лекции). Теоретически обобщить введённое явочным путём можно позднее, если возникнет желание и необходимость. Изобретаются и другие пути от смысла к языку, а не от языка к смыслу.
Лексическая система языка более открыта, чем фонетическая, морфологическая и синтаксическая. Лексические единицы в большей мере подчинены внеязыковому миру и его логике. Они призваны оперативно отражать становление нового в социуме и уход устаревающего. Развитие идёт быстро и почти безболезненно, новшества появляются проще, часто не замечаются, ограничиваясь в основном сменами и заменами, порой случайным в системно-языковом плане обогащением. Вопрос о системности словаря спорен, во всяком случае лишён подобия порядка в системообразующих грамматике и фонетике.
В то же время именно его устойчивый основной словарный фонд не меньше, чем новые образования, обеспечивает в далёкой исторической перспективе ощущение преемственности и родства. Он и не подвержен механизмам развития, свойственным словарю в целом. Новшества как раз свободны категориально и парадигматически, если угодно, стихийны и хаотичны, сводясь к пополнению и разнообразию.
Лексика в этом смысле осложняет жизнь фонетики и грамматики, каждодневно и неожиданно меняя словник. Производство (мобильник, оцифровать), изобретение (лунник, космонавт), переосмысление (гибрид в значении «автомобиль с электро– и бензиновым мотором»; болид — «гоночный автомобиль “Формулы-1”»), заимствование (йогурт, дацзыбао) обращены к внеязыковому миру. В наше время подчёркнуто массово и явно излишне обращение к англо-американскому источнику: студия совмещена с ньюсрумом, драйвер развития, аутсорсинг и инсорсинг в ИТ-инфраструктуре (в одном лишь номере: РГ. 2013. 11 июня).
Волны таких увлечений нередко засоряют язык. Право же, не нужны саундтрэк или сэндвич, не вспоминая уже бигмак, вытесняющие русские звуковая дорожка и бутерброд, пусть он и немецкий по происхождению. Ещё хуже, что они серьёзно осложняют устойчивость фонетики и грамматики, когда бездумно перенимаются очевидно неподходящие для них единицы вроде мейкап, о’кей, ноу-хау, шоу, резко противоречащие даже правописанию (картинка 7.7).
Всё же язык в целом всегда сокровенно учитывает некую непознаваемую этноязыковую семантическую структуру, которая отражает национальную картину мира. Нормализация иного новшества задерживается, и оно даже отторгается из-за сокрытого несоответствия ей. Вызываемая этим субъективная оценка: непонятно, избыточно, некрасиво, просто «как-то не нравится, не звучит», бывает сильнее, чем трудности материального приноровления. Словарь дисциплинируется богатым словообразованием, хотя говорить всерьёз о стадии ошибки как способе развития здесь не приходится, как и об обязательном приведении иноязычного слова в желательное согласие с законами системообразующей грамматики.
Нормализация лексики сводится к той или иной системе ограничительно-разъяснительных помет, просто невключению при перечислительной кодификации в нормативно-толковые словари. В то же время она крайне востребована естественно-стихийной регуляцией, обрекающей филологов всего лишь констатировать наблюдаемое, идти на поводу у распространённости и сиюминутной нужности слова, не считаясь с его соответствием системным или культурно-традиционным правилам, но отнюдь не регулировать. Открытость лексики поддерживается развитым словообразованием и лёгкостью заимствования. Выносимые приговоры в постоянно возникающих случаях разнобоя не могут быть приведены в исполнение (картинка 7.1).
Появление новых слов, специализация, дифференциация и смена значений идут, естественно, по потребностям жизни людей и по жажде экспрессии, выразительности и изобразительности, стилистики, просто некоторого обновления, часто опережают и игнорируют любые попытки нормализации. Так, привычное последние известия (славная газета «Известия»!) сейчас явно вытеснено словами новости, вести, сообщения. Его прежнее информационное значение «сведение» сейчас звучат даже странно: «Есть известие, что в начале 1850-х годов отец Н.Н. Миклухи-Маклая занимал должность начальника петербургской пассажирской станции (Анучин Д.Н. О людях русской науки и культуры. М., 1952. С. 29). Известную фразу Марка Твена «The reports of my death are greatly exaggerated» можно перевести на русский и как известие, и как новость о моей смерти сильно преувеличена.
Словарю свойственна жажда движения, простого обновления, особенно когда оно связано с повышением регулярности и одобряется людьми. На глазах товарный поезд стал грузовым (как судно, автомобиль, самолёт), чернорабочий – разнорабочим. Взаимозаменяемы подписать(ся), подпись и несколько устаревшие расписаться, роспись. Изменили окраску рассадник (в России семинарии почётно именовались рассадниками высшего духовного просвещения), зачинщик, чёрствый, пресловутый. Расширили значение крутой, тусовка и тусоваться, тяжёлый (утратив значение веса, употребляется вместо трудный), оригинальный уже не необычный, своеобразный, не такой, как все («и был большой оригинал»), а фирменный, первоначально истинный (оригинальные детали для «мерседеса»).
Как замечено, был когда-то цирк бродячим, стал теперь передвижной. Разнообразятся даже этикетные формулы: пока, до завтра, чао, гудбай, бай-бай, ещё встретимся, счастливо, будьте здоровы и новейшее, произносимое с разрешительно-ироничной интонацией: ну, живи. Интересны радио-телевизионные скоро увидимся, до услышанья, до связи.
Русская стачка (от стыкнуться – «сговориться») уступила, как давно повелась мода, забастовке (от бастовать, итальянское баста). Будто извиняя себя, говорят: «Это сложно сделать», – вместо невозможно; «Ей об этом говорить необязательно», – вместо ни в коем случае нельзя. Крайне расширительно употребляются автор (чего стоят автор гола, автор скандала), форум, формат (в формате слуха), а также круто, крутой, крутизна, накрученный (также и наверченный), тусоваться, тусовка. Сегодня это малообъяснимое поветрие приобрело размеры урагана.
Всё модное в словаре тяготеет к расширению сферы употребления и значения, причём последнее становится весьма расплывчатым. Пришлось ко двору слово резонансный (дело, убийство, авария) в значении «привлекший шумное внимание». Весьма непонятно расширяя семантику, стал «незаменимым» и выдавливает аналоги ресурс (по словарям – материально-финансовая база), называя вообще всякую возможность и перспективу достижения чего-либо, вплоть до эвфемистического обозначения взятки: найти деньги для административного ресурса, умело использовать ресурс организации, у них появился ресурс для развития: «Образование – ресурс консолидации гражданского общества» (заглавие статьи в научном сборнике); «Детство – стратегический ресурс общества». Особо стоит отметить новейшее применение этого слова в смысле «текст»: ресурсы Интернета, дать ссылку на ресурс «Википедии», воспользоваться ресурсами Интернета, то есть его материалами.
* * *
Итак, механизмы поиска нормы, диктуемой интересами языка, различны в лексике и грамматике. В замкнутых морфологии и фонетике, отчасти в синтаксисе развитие нормализации заторможено, в книжной разновидности вообще искусственно заморожено письменно-печатной фиксацией того, что нормализовано. По умолчанию, как оберег литературно образованного канона, её приостановка распространяется и на синтаксис и свободную подсистему лексики. В лексике, за исключением основного словарного фонда, устанавливаемый словник сплошь и рядом не соблюдается книжностью даже решительнее, чем некнижностью, где он ограниченнее хотя бы из-за меньшего числа терминов.
Нынешнее небрежение людей к вариативности, предоставляемой закрытыми подсистемами, отнюдь не преодолевает человеческое стремление к самоидентификации. Потребность выразительности теперь чаще удовлетворяется всего лишь соотносительными, параллельными, аналогическими, синонимическими средствами выражения на открытых уровнях синтаксиса, лексики, стилистики, а то и вневербально – логикой содержания, вызываемыми им эмоциями, часто с выходом за пределы образованного языка.
Распространено мнение, будто есть некие общие и вечные законы развития, в которых совпадают интересы и языка, и социума. В качестве примера обычно указывают на закон экономии, не уточняя чего – энергии, времени, размера. В объяснительной силе сего закона, возводимого к работе А. Мартине «Принцип экономии в филологических изменениях» (М., 1966), которая провозглашает лингвистическую экономию способом развития языка – причиной ликвидации бесполезных и появления новых различий или сохранения существующего положения, убедительно усомнился Р.А. Будагов. Он справедливо полагает, что куда более сложные причины (и, увы, возможные результаты!) лежат в основе движения языка, нежели страсть упрощать, экономить усилия (Будагов Р.А. Человек и его язык. М., 1976. С. 59–83).
Бессознательное чутьё языка есть социальная функция его системы в целом. Набор оценок, отражающих её своеобразие, своевольный дух, её системную логистику, служит арбитром в решении судьбы любого новшества. Происхождение и история, самобытность природы, строя и состава, источники обогащения, контакты языка, творческие достижения народа и страны складываются в некий абстрактный набор представлений, который опосредует события текущей жизни говорящих на языке людей, то есть интересы социума, в интересы языка. Назовём его Нормой языка (с большой буквы).
Как таковая, Норма остерегается одобрять, оправдывать или отвергать, запрещать отдельный факт: форму, единицу, процесс, модную тенденцию, но решительнее, чем что-либо иное, вершит судьбу языка в целом. Следуя из Нормы, самодвижение языка стремится к объективному совершенству самой системы. Организуя нормализационные процессы, поиск правильности, Норма ложится в основу обработки, выявления, кристаллизации образованного языка. Соприкасаясь с другими языками, мы понимаем (обычно неохотно, даже осуждающе), что́ может быть и не так, как у нас, однако считаем, что наш язык способен лучше выражать всё, что выражают другие языки, потому что его система достигла высшего равновесия и богатства, музыкального благозвучия, стройности, красоты. Без ложной скромности заметим: так думаем не только мы, русские, но и авторитетные носители многих других языков.
В любом случае неприлично возмущаться: «Ах, язык портится (сам! мы, дескать, не причём), надо его спасать», – даже с модным американским междометием: «Вау, он американизируется!» В языке всё происходит по свойственным ему (имманентно, вечно врождённым) внутренним законам, однако происходит через общающихся людей, которые служат движителем или тормозом развития. Сами люди редко осозна́ют эту свою роль, проявляющуюся саму по себе.
Не означая сиюминутного приноровления к интересам и потребностям социума, нормализация в интересах языка направлена в целом всё же на то, чтобы русские люди любили свой язык, могли гордиться логичным и алогичным в нём, разумным и не очень, но всегда своевольным и объективно вольным его духом. Нормализация в интересах языка достаточно самостоятельна, но перекрещивается в играх с нормализацией в интересах социума. Тогда нормализационные процессы совместно приводят к общему, достаточно согласованному результату – к нормативности. Это состояние языка, соответствуя, вероятно, специализации правого и левого полушарий человеческого мозга, существует в паре с выразительностью. Это последнее качество языка целесообразно рассмотреть отдельно до перехода к детальному анализу нормативности.
4. Выразительность
Нормативность, достигаемая нормализацией, служит информативности. Без неё немыслимо разумное, а не эмоциональное чувство этногосударственной принадлежности вроде квасного патриотизма. Осознание своего особого единства, которого нет без общего языка, прокладывает путь к познанию и уважению других народов и стран, к благородной стадности с родственными и соседствующими этносами вплоть до планетарно-глобального единения. Всечеловеческое единство мысли особенно ясно в науке, техническом прогрессе, освоении космоса. Указанные психо-социологические, в основе своей цивилизационные факторы требуют нормализованного, информативно образованного языка, в конечном счёте, даже единого общечеловеческого. Но эти факторы не заслоняют и иное неистребимое людское стремление к самоидентификации – выделить себя, свою семью, близкую группу, весь свой этнос. Разумный патриотизм превыше всего ценит, любит и охраняет собственный дом, малую и большую родину, природу, историю, национально-этническую культуру. Святая обязанность – гордиться и печься о родном языке: он отнюдь не просто несёт знание, информирует, но прежде всего чувственно выражает смысл жизни, духовность, надежды, притязания. Он именно полнокровно выразителен.
Без яркой выразительности, без шутки и иронии, без радостного смеха и, увы, без гнева, негодования, горечи общение людей не может быть полноценно естественным и ёмко многозначным. Правильность дисциплинирует, но она по природе своей объективна и тем противна естественному стремлению к яркости выражения. Легче всего самоутвердиться в личностной, семейной, возрастной, профессиональной, иной идентичности, отходя от приевшегося нейтрального. Индивидуальная воля требует излишеств в средствах и способах выражения. Как говорил М. Светлов: «Я могу без необходимого, но не могу без лишнего».
Выразительность и нормативность не противоборствуют враждебно, а находятся в положении взаимной дополнительности. Живой контакт требует обстановки необязывающей свободы, доверительной обыденности. Чувственная уютность, простота откровения связываются, прежде всего, с некнижностью, даже со сниженной разговорностью в ней. Это, конечно, не умаляет силы высоких слов и выразительных приёмов книжности. Вариативность, не очень терпимая в нормативности, составляет основу выразительности и художественной изобразительности.
Чтобы понять, как вариативность мирно сосуществует с нормативностью, служа культуре, риторике, стилистике, следует просто вглядеться в само́ю идею и суть нормального живого общения. При общении необходимо мотивированно выходить за пределы сухой правильности в бесконечность всего русского языкового многообразия, во всяком случае за пределы безусловно устанавливаемой нормативности, если не всего образованного языка. На деле такое нарушение границ постоянно присутствует в культурном обиходе вполне воспитанных, образованных людей.
Мы скажем: «За ним не заржавеет!», «Ну, ты лопухнулся», – потому что это выразительнее, мягче, доброжелательнее, чем: «Он обязательно сделает это»; «Ты допустил промах / проиграл / оплошал / солгал / ошибся». Сказать «Меня так и подмывает» выразительнее, чем «Мне хочется, не терпится». «Скинь и плюхайся» проще и приятнее, чем «Снимай туфли и садись на диван». Моя дочь на зов не отвечает просто: «Я здесь», – а оригинальничает (или, как сама говорит, прикалывается): «Вот она я, тут». Ведущий программы «Сегодня» (НТВ) восклицает по поводу сверхмодной дамы: «Она выпендрёжно одета». Изобретательность спортивных обозревателей не замечал только ленивый.
Умело пользуется ненормализованными единицами, правда, злоупотребляя «оправдывающими» кавычками, блестящий публицист Л. Радзиховский: «Истосковавшиеся по “движухе” политологи придают участию Алексея Навального прямо-таки судьбоносное значение… Его “фишка” не в словах, а в стиле. Он демонстрирует политическую волю, “впрыскивает” кураж. А по сути все декларации Навального – лишь троллинг власти, блеф» (РГ – Неделя. 2013. 8 авг.).
Первенствует именно бесхитростная выразительность, причём не только в свободном звуковом обиходе. Дело в том, что, как всё яркое, эти единицы быстро ветшают, теряют эффект и исчезают из речи. На их место приходят другие. Сравнительно новое «Он за ней ухлёстывает» по редкому значению хлестать «проявлять с особой силой (о чувствах)» вместо ухаживает кажется уже стёртым и почти не употребляется. Насколько знаю, сообщая факт с оценочным акцентом, скорее скажут: «Он за ней бегает». В XIX веке говорили волочиться, а ещё раньше – строить куры, куршить (по французскому образцу).
Ко всему этому язык относится со скептическим терпением или с терпимым скепсисом как к наипростейшему, бесхитростному способу достичь желаемого выразительного или изобразительного эффекта. Этот эффект можно получить и не выходя за пределы нормативности. С античных времён развивается изощрённый аппарат риторики: сравнения, зачины, переносы, гиперболы, литоты, метонимии и другие приёмы красноречия, включая ораторские средства: жесты, интонации, способы произношения, в синтаксисе – актуальное членение. Выразительные возможности таятся в сочетании слов, метафоризации, фразеологии, эпитетах, синонимах, антонимах, омонимах, омографах, паронимах, просто сиюминутно модных словах (например, нынешние брутальный, брутально).
Сближение разговорной и книжной разновидностей языка позволяет не просто отразить неполное разговорное произношение, но и применить его письменную фиксацию как приём выразительности: «Ну в-а-а-ще! Так щас и брошу всё! Щас вот побежал прям к тёть Шуре» (РГ – Неделя. 2011. 12 мая). В повести Б. Васильева «Завтра была война» эмфатика создаётся нарушением временно́й согласованности. Молодой талантливый режиссёр А. Попогребский назвал свой фильм «Как я провёл этим летом» и аграмматизмом удачно подчеркнул роль летних трагедий в противоречиво непростом становлении личности юноши. Забавно, что «Вечерняя Москва – Неделя» в сентябре 2013 года этот заголовок повторила в подборке репортажей о летнем отдыхе. В системообразующих частях языка такие повороты выразительности опаснее, чем отходы от нормативности в лексике.
На чём бы выразительность ни основывалась, «оживляж», озорство, шалость, шутка, языковая игра не ограничивают её роль. Внося экспрессию, эмоции, проясняющие мысль автора и его личностное отношение к сообщаемому и к адресату-собеседнику, она чрезвычайно важна в собственно коммуникативно-содержательном плане. Достаточно вдуматься в ряд эмигрировать, уехать из страны на ПМЖ, свалить за бугор. Описывая судебный процесс, репортёр пишет: «Собственник же – ни в какую», – чем передаёт свою оценку и самый дух разбирательства. Этого не удалось бы сделать, напиши он: «Собственник упорно не соглашался».
Согласно средневековой теории, применённой к русскому языку учением о «трёх штилях» М.В. Ломоносова, единицы языка распределяются по принципу: плюс – ноль – минус (высокое – нейтральная точка отсчёта – низкое):
алчный – жадный – скупой;
ибо, затем что, поскольку – так как – потому что;
воскликнуть – закричать – заорать;
блуждать – бродить – плутать;
страдать – болеть – хворать, недужить;
возвратиться – вернуться – воротиться;
упокоиться (в бозе) – умереть – подохнуть.
Далеко не всегда синонимические, параллельные, сходные, соотносительные единицы выстраиваются в триады, тем более с чёткими оценками, как, например: внезапно, вдруг, неожиданно; лицедей, актёр, артист; украшать ёлку (интеллигентные семьи), наряжать ёлку (мещанские), убирать ёлку (самые простые). Считается неприличным говорить о себе кушать из-за первоначального значения «отведать, попробовать»; вежливо приглашать: «Кушайте, дорогие гости!» – и осведомиться: «Хорошо ли покушали?»
Во многих случаях отрицательных слов больше: лик – лицо – физиономия, физия, морда, харя; очи – глаза – гляделки, буркалы, лупалы, зыркалы; кушать, вкушать – есть – жрать, лопать, уплетать, трескать, шамать, бирлять; похищать – красть – воровать, лямзить, тырить. Именно они используются в эмоционально-экспрессивных целях.
Сильно действующей и запоминающейся убедительности в самых важных государственных вопросах добивается В.В. Путин: тянут резину и кормят «завтраками»; сделаю всё, чтобы правительство не дрыхло; частить нельзя, суетиться, заниматься кадровой чехардой, обрастать всякими рыбами-прилипалами; не удастся растащить нас по затхлым психушкам. Задержка постройки роддомов так его рассердила, что невольно стал резок: «Мужики, вы чего? Значит, на следующей неделе, чтобы в руках у каждого программа была». За драку пригрозил бизнесменам, что «боевые ветераны так задницу надерут, что мало не покажется. Не заржавеет» (РГ. 2011. 22 сент.). «Шакалят по сторонам, никакого страхования рисков для них нет» (РГ. 2010. 30 янв.). «Частные собственники тырят там друг у друга доходы» (РГ. 2012. 12 апр.). «Мы должны быть честными с людьми и, если что обещаем, кровь из носа стараться сделать» (РГ. 2012. 3 дек.). «Если просто, извините за моветон, мы втупую будем выкачивать деньги из бюджета, то тогда ничего не получится» (РГ. 2013. 1 апр.). «Нужно вкалывать как следует» (РГ. 2013. 6 мая).
Достаточно полный список употреблённых им выражений дан в сборнике «Так говорил Путин. 77 лучших высказываний» (М., 2011). Иной раз на грани фола, они обычно столь к месту и образны, что их охотно тиражируют радио, телевидение, периодика, да и в народе повторяют. Строжайшая ревнительница правильного языка Л.А. Вербицкая справедливо одобряет мочить в сортире той ситуацией, в которой это прозвучало: «Не норма, но по-русски нормально», – отчего журналисты так охотно затем тиражируют его высказывания (РГ – Неделя. 2011. 9 июня). Ненормативно, но нормально! Это не игра слов, а совершенно точная, стопроцентно по жизни целесообразная констатация.
Она опирается на мнение (отнюдь не оправдание, а убедительное разъяснение) самого В.В. Путина: «Ляпнул, что в сортире будем мочить. Не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать. Переживал, а приятель передал слова таксиста: “Мужик какой-то появился. Правильные вещи говорит”. Из этого сделал пару выводов. Никогда нельзя задирать нос. Я был премьером и считал, что меня все знают. А таксист говорит: “Мужик какой-то”. То, что я ляпнул, по форме неправильно, а по сути верно. И нужно поступать, исходя из этих соображений целесообразности» (РГ. 2011. 18 июля; РГ – Неделя. 2011. 21 июля). Очень разумная мысль! В жизни весьма нередки ситуации, в которых адекватность и действенность содержания императивно требуют отхода от установленных нормативов. Нормальным становится, так сказать, несоблюдение языковой нормативности. В известном смысле образованный, обработанный язык просто не может сводиться к своей же собственной правильности. Его достоинство, ради которого он и нормализуется, связано с тем, что он ещё и постоянно обрабатывается, меняя свои качества и объём в зависимости от цели обработки.
Кажущийся не всегда желательным выход за пределы нормативности даже всего образованного языка должен, разумеется, быть осторожным и умеренным. Но есть сфера, в которой он оказывается ведущим, не выходя, разумеется, за положенные этические и эстетические пределы. По правилам игры его роль в художественно-словесном творчестве, реалистически отражающем жизнь, созидательна и необходима. Выразительность превращается тут в художественную изобразительность, в лепку образов, в построение сюжетов, в средство увлекающего и воспитывающего воздействия на читателей.
Художественно-беллетристическая изобразительность особо важна в истории русского языка, образованию которого задавали тон именно писатели. Но и без повторения ссылки на них ясно, что мастера художественного слова видят в языковых, как и во многих других, законах и традициях просто препятствие для самовыражения творческого «я». Стилистика художественного языка жаждет избавиться от докуки, одобряя разумных смельчаков и вежливо отвергая тех, кто не знает края (вспомним нормализационную деятельность Г.Р. Державина и всё сказанное в разделе 1).
С благодарностью использую мысль о двух типах повествования, обозначившихся в русской классической литературе XIX века, которую высказала К.А. Рогова в частном обсуждении излагаемых взглядов и которая также отражена в её исследовании сегодняшних креолизованных (в моей терминологии – дисплейных) текстов. Взаимодействие идущих от А.С. Пушкина и И.С. Тургенева нормативно-эстетических и идущих от Н.В. Гоголя и Н.С. Лескова индивидуально выразительных повествовательных принципов по нынешний день определяет характер образования нашего правильного общего языка. Эти два направления, несомненно, определили соотношение книжной и некнижной (разговорной) его разновидностей, сделав органичным, вполне ожидаемым, даже желательным их сближение в условиях нынешнего технического прогресса в реализации текстов.
Целевой замысел общения, несомненно, сильнее власти языковых правил. Выразительность, сфера культуры, вкуса, стилистики, риторики плохо уживаются с ригоризмом норм. Суровое непреклонное и мелочное их соблюдение может вести к обратному эффекту, к отторжению их самих. В.В. Виноградов шутил: «Можно сказать тро́льбус, троле́бус, трайлебу́с, если слушающие знают, что вы знаете, что правильно троллейбус». Написанное рукою А.П. Чехова: «Хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал её с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать», – понимается как мастерский приём создания образа Ваньки Жукова, а не как неграмотность писателя.
Поэзия спокойно допускает форму крылы. У В.В. Набокова: «Волшебных крыл изгиб танцевал с нею тесный танго»; «…Плыли тучи, задевая крылами тонкими луну». У современных поэтесс: «Вода из-под колёс взмахнёт крылами». Также други, ветра («И в суховейные ветра. Живёт и строится Чита»), иные архаизмы-поэтизмы наряду с друзья, крылья, ветры. Поэты завоевали право даже на своё индивидуальное правописание, не говоря уже о пунктуации.
Несоблюдение правильности, предписываемой нормативностью, не смущает, когда участники акта общения, во-первых, понимают эмоциональные, экспрессивные, изобразительные, игровые мотивы отхода от неё, а во-вторых, что важнее, хорошо владеют ею, чтобы знать, от чего отходить. Здоровое и здравое чутьё языка, самый характер и объём образованной его части вытекают из содержания, эстетики, этики, вкуса и задачи отдельного акта общения. Выразительность превыше нормативности в том, что управляет развёртыванием, нормированием не охваченных (не охватываемых принципиально и даже сознательно) языковых единиц, тем более всех средств выражения, в частности невербальных.
Конечно, важно знать меру, заботиться об охране иллюзии вечной неизменчивости образованного языка. На этом зиждутся стилистика, культура правильного употребления языка в любом акте общения, причём с разной обязательностью, как всегда настаивал К.С. Горбачевич, в словаре и синтаксических моделях предложения сравнительно с системообразующими фонетикой и морфологией.
Вспомним ещё и о том, что независимо от принадлежности к разновидности языка тексты в звуке и в печати различны по потенциям выразительности. Звучащий текст пользуется интонацией, детским, женским и мужским голосами, громкостью и вообще разным произнесением, бо́льшими невербальными носителями смысла. Печатный текст гораздо ограниченнее в этом плане, но способен многое восполнять собственно вербальным способом.
Соответственно, записываемый звучащий текст и читаемый вслух печатный тексты должны что-то менять в своей языковой стороне (как это сознательно делал В. Маяковский в написанных и читаемых стихах), чтобы выглядеть естественно, чтобы оправдать ожидания слушателя/читателя и не казаться смешными. Из-за привязанности орфографии и пунктуации к книжности запись звучащего текста значительно сложнее, чем чтение напечатанного.
Однако в обоих случаях нормативность отнюдь не излишня не только как точка отсчёта. Знание её необходимо, чтобы заиграли высокие и низкие параллели, иные развёртываемые средства достижения выразительности и тем более изобразительности. В этом смысле они выполняют роль актрисы второго плана (supporting actress), которая делает всё, чтобы главная выглядела звездой.
* * *
Культурное общение остро различает незнание нормативного языка и осознанное, конечно, частичное его несоблюдение во имя смысла и цели. Мотивированное отступление от него столь же закономерно, что и самоя́ категория нормативности. Обществу свойственны самоохранительные настроения, в том числе и принятое соотношение между всем языковым океаном и выделенным из него, более того, осторожно, но постоянно им питающимся литературно образованным каноном.
Во второй половине прошлого столетия велись громкие споры вокруг свободы в мысли, чувстве и скупой, сухой точности во всём, возбуждённые статьёй А. Вознесенского «Физики в почёте, лирики в загоне». Правда, оказалось в итоге, что лирики отнюдь не в загоне, а «физики шутят». Поиски середины между консерватизмом и новаторством продолжаются естественно и вечно.
В целом общество, сплочённое в своём единстве, всегда нуждается в «дорожной карте», безусловно указывающей удобный путь, если не лучшие, то и не худшие альтернативы. Нормативность языка – маяк лёгкого и корректного умения справляться с устным и письменным, серьёзным и повседневным общением. Оно увязывается с такой могущественной силой, как заданные традицией принципы построения текстов в разных жанрах и стилях. Только тот, кто наделён художественным даром, опытен и уверен в себе, может избрать собственную более живописную и изящную тропу.
Выразительность увязывается с явлениями, которые в силу их созидательной природы вообще вряд ли возможно нериторически описать. В какой-то мере помогает разграничение терминов стилистический и стилевой как двух прилагательных по многозначности слов стиль, стилистика.
Стилистические единицы относятся к языку, к структурно-парадигматической стилистике, например уже рассмотренные и другие синонимические, параллельные, соотносительные средства выражения. Они доступны нормированию. Стилевые явления мало ему подвержены, относясь к функциональным типам текстов, к их типологии. Они существуют лишь в конкретных образцах, весьма индивидуально устанавливающих общие принципы отбора и композицию средств выражения в пределах деловых, научных, разговорных, тем более художественных, текстов.
Соответственно, различаются формальная правильность (на уровне языковых единиц, отдельно взятых средств выражения) и правильность функциональная (на уровне ситуации, высказывания, текста). Первая отнюдь не исчерпывает ни красноречия риторов и искусства ораторов, ни творчества поэтов и писателей, ни сочинений учёных, ни повседневности. В то же время любая единица, вырванная со своего нормативного места, произвольно отправленная на другое, искажает любой контекст.
Второй позволительно в обоснованных случаях выходить за пределы первой, проявляясь в тайнах синтаксических единств, в межтекстовых связях, различиях книжности и разговорности. Она творчески свободна, индивидуальна и оттого малопредсказуема. Она бывает, скажем, семантико-лексически строгой, даже терминологически замкнутой или, напротив, сдержанной и раскованной, непринуждённой, высокой и сниженной.
Стиль – это не человек, как считал Ж. Бюффон, а отношение человека к миру. Законы правильного строения текста не имеют характера и силы норм. Их существо иного рода и связывается с содержательно-мыслительными категориями, с принципами теории коммуникации и эффективности воздействия, действенностью общения, логикой. Выработанные традицией и узусом конструктивно-стилевые векторы (разные авторы употребляют разные термины применительно к этому понятию: полярные стилевые черты, стилеобразующие стержни, конструктивные принципы) трудно представить в виде обязательных правил. Их обязательность относительна, хотя традиционно достаточно жестка.
Не задавая материала воплощения, но лишь направление отбора средств выражения и их композиции, эти векторы обеспечивают креативную природу текста. Существуя в сознании членов языкового и культурного общества как понятийные категории или рекомендательные модели, эталонные образцы той или иной внеязыковой установки человека (общественной группы), они реализуются лишь на конкретном, единичном уровне. Эти векторы управляются также вкусом как категорией культуры. Применительно к языку вкус понимается как ценностное отношение и набор общих установок к его использованию в данный период. Вкус формируется в ходе усвоения социальных настроений, знаний, правил. Отражая динамику общественного и национального сознания, он конкретен, социален, историчен и общ для членов данного общества. По К. Фосслеру, психологизм этого понятия определяет умение человека интуитивно оценивать правильность, уместность, эстетичность выражения.
Вкус весь в этике и эстетике, в музыке, в таинственной красоте мифотворчества, в новых ритмах, свежих словах и их смыслах. Он выше забот о нормах, он ими владеет, но может и ими командовать. Жан Кокто сказал: «Я скрыт от ваших глаз, я весь в плаще из слов…» Истинный языковой вкус никак не сводится к слепому следованию нормам, как и к иным затверженным догмам. Он помогает осмыслить объективные законы языка и приспособить его функционирование (включая установление самих норм) к общей эстетике, к тенденциям, настроениям и потребностям эпохи и общества.
Интересы выразительности и, шире, индивидуальной или групповой самоидентификации, всех явлений стиля, слога, культуры, традиции, вкуса предполагают наличие в общепринятом и общепонятном употреблении не только того, что безусловно вытекло из процессов нормализации. К тому же историческое движение её процессов не позволяет ограничиться достигнутой на данный момент нормативностью. Остаётся либо признать, что нормы – нечто условно привносимое, даже не очень нужное (фикция, как считали многие авторитеты), либо узреть в них авторитарно насаждаемую вытяжку из природного языкового океана.
Можно, однако, увидеть, различить среди них явления, вполне допустимые, но разной ценности, сути, разного назначения, по общему соотношению данного, естественного и искусственного, созданного или упорядоченного человеком – дичка и яблони, леса и парка, волка и собаки, хлопка и нейлона (см. раздел 4).
Л.В. Щерба великолепно писал: «Авторов, вовсе не отступающих от нормы, конечно, не существует – они были бы невыносимо скучны. Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от неё у разных хороших писателей. Я говорю “обоснованных”, потому что у плохих авторов они бывают часто недостаточно мотивированы внутренним содержанием, поэтому-то эти авторы и считаются плохими» (Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1945. Т. IV. Вып. 5. С. 183; выделено нами. – В.К.). В этих мудрых словах мало видеть защиту отхода от нормативности языка, ещё важнее в них утверждение, что ничего не может быть без неё – ни объединяющей общество собственно информативной коммуникации, ни полнокровного общения, насыщенного живой человечностью, немыслимой не только без почитания дисциплинирующего (образованного!) начала в языке, но и при слепом и тупоумном соблюдении его предписаний. Нормы всегда, а сегодня особенно проходят горнило испытаний на прочность, но без всенепременного минимума твёрдых ориентирующих идеалов нет порядка. Нормы не против свободы выражения, но служат его базой, на которой расцветают для полнокровного общения параллельные, но не обязательные возможности: синонимы, метафоры, соотносительные, параллельные, вариантные, дублетные. Самоё их наличие – хлеб стилистики.
Щербовскую позицию образно изложила С.Г. Тер-Минасова: «Литературный язык лишён цвета и запаха, он нужен как ткань, на которой вышивается узор. Узор, вышивка, отклонение от нормы не может существовать без ткани, холста, литературно-языковой основы. Норма существует для того, чтобы было от чего отклоняться; тогда включается стилистическая игра. Это высшая культура речи, но – от великого до смешного один шаг. Эти отклонения у одного – художество, у другого – монстр» (Тер-Минасова С.Г. Интервью // Мир русского слова. 2002. № 4. С. 20).
Не всем и не всегда дано право на самоидентификацию, она смешна, если за ней не стоят компетентность, опыт, знания, раздумья. Надо уметь нарушать правила в рамках правил по немецкой поговорке «Meister kann die Form zerbrechen» («Только мастер может разбить форму»), потому что он способен сделать новую лучше.
5. Нормативность
5.1. Постановка проблемы
Каждый из нас говорит по-своему, но мы без труда понимаем друг друга, потому что это наш язык с одинаково общей нормативностью. Не мешает общению и постоянное во времени, но малозаметное в каждый данный момент обновление самого языка: меняясь, он остаётся самим собой в нормативности как своём качестве. Нормализация результатируется в нормативности как обязательном свойстве образованного языка, объём и понимание которого остаются в целом шире. Это противоречие смягчается более гибким применением термина «норма (нормы)» к языку.
Слово норма означает «не выходящая из порядка мера, установленное правило, принятый образец, единица измерения»: норма выработки и оплаты труда. Пока не узаконено одно именование, нет и порядка. Значение растворяется в аналогичных, синонимичных, соотносительных, схожих понятиях. Нормы едины, однозначны, узаконены именно как нормальное. По логике термина, они эталонны, общеприняты, обязательны. За килограмм преступно выдавать 975 граммов, скрытно насыпая их в привычный пакет за ту же цену. Варианты тут крайне нежелательны даже в именованиях, не говоря уже о сути предмета.
Иное дело сокращение: распространённое несклонение кило и грамм («Взвесьте пять килограмм, кило» вместо килограммов), хотя и нормативно, как и технические нормы: 220 вольт, а не вольтов. Мог не склоняться и старый пуд: Семь пуд поднимал!
Коль скоро узаконен километр, а другие единицы измерения длины нормой не признаны, то их названия либо забываются как архаизмы (верста), либо употребляются применительно к другой стране (миля). Также и килограмм вытеснил ранее принятую меру веса фунт, но, приобретя параллельное название кило, породил задачу поиска нормы.
Разумеется, норма, например оплаты труда, бывает справедливой и не очень, но это её не колеблет. Заметим с дальним прицелом, что бывают нормы и с подвижными параметрами. В метеопрогнозах, никого не смущая, звучит: «Атмосферное давление в пределах нормы».
Также и в медицине норма – давление 120 на 75, температура 36,6, но и 118 на 70, и 35,9 ещё явно не болезнь. Вообще здоровье и патологию не всегда легко строго разграничить. Медиков, например, всё больше беспокоит не просто лечение больных, но и совершенствование здоровых – генная инженерия, усиление умственных способностей, культуризм, спортивный допинг и подобные проблемы. Не всё, что традиция считает патологией, разумно клеймить, но нечёткость границ не делает понятие здоровья бессмысленным. Язык не может следовать практике Минздрава России, приказом утверждающего порядок проведения испытаний медицинских изделий.
Интернационализм норма пришёл к нам, скорее всего, из немецкого языка через польское посредство не ранее начала ХIХ века. В конце ХIХ века полюбилось применять это слово к языку. В таком ёмком и гибком организме, как язык, нормы поливалентны по природе и изменчивы, совсем не похожи на единицы физического измерения, не могут быть определены подобно эталонам, хранящимся в Палате мер и весов.
Совершенство языка – в богатстве потенций выразительности, многозначности, самоидентификации, переосмысления, шутки. В известном смысле здраво звучит остроумное предложение писателя А. Максимова при обсуждении закона о русском языке придать его нормам характер рекомендации. Можно лишь сожалеть, что то не закон, в коем не прописано, как наказывается его неисполнение.
Язык один, но люди неодинаково им пользуются (неосознанно или сознательно). Поэтому для его сердцевины нужно социальное согласие об общепринятом, а то и официально узаконенном специалистами и властями ради единства общества. Принудительно устанавливаемые, педагогически перечисляемые и насаждаемые (даже принуждением) языковые нормы служат и просто порядку. Внятные для всех, они хранят государственную и национальную общность. Без норм легко утонуть в океане правильного и неправильного, хорошего и плохого. Они нужны для того, чтобы, так сказать, при торговле уж слишком не обвешивали!
Л.С. Выготский не соглашался с эгоцентрической теорией Ж. Пиаже, будто дети развивают речь для себя и лишь потом под давлением социума социализируют её для других. Л.С. Выготский полагал, что языковая социализация и индивидуализация заложены в ребёнке, а роль общества сводится к коррекции: взрослые учат его не столько тому, как надо говорить, сколько тому, как не надо говорить, – иными словами, учат нормативности языка, как поведению и всему на данный момент принятому.
Нормативность и составляющие её нормы чудятся нам извечной данностью, неизменным условием правильности и устойчивости, без чего язык не мог бы служить орудием коммуникативного единства. Однако смена исторических состояний языка прихотливо и таинственно меняет норму. Разводя вечное движение и необходимую стабильность, норма зависит от внутренних законов языка и ещё прямолинейнее – от настроений общества.
Общество не существует без разумной дисциплины, хотя и отдаёт себе отчёт, что в языке была, есть и будет разноголосица. Языку свойственно сокровенно, малозаметно и, как правило, малозависимо от нашей осознанной воли постоянно меняться по своим внутренним законам. Он не терпит излишней нормативности, как и опасного разнобоя: в крайностях он теряет силу орудия коммуникативного единства. Безграничного произвола он, к счастью, не допускает.
К сожалению (а исторически и к счастью), упорядочение всего данного природой, в частности живого, языка по заказу обновляемых вкусов, интересов, потребностей идёт, но через медленный выбор. Рядом с нормами возникают (заново и извлекаясь из бескрайнего языкового океана) их параллели – по разным причинам, иногда ясным, но чаще таким, о которых можно лишь догадываться или фантазировать.
Интересы выразительности и, шире, индивидуальной или групповой самоидентификации, всех явлений стиля, слога, культуры, традиции, вкуса предполагают наличие в языке ненормализованных, даже принципиально и сознательно не нормализуемых ресурсов. Они дополняют нормы, контрастируют, а то и конкурируют с ними, отчего сами нормы, между прочим, тоже не дремлют и укрепляются.
Вряд ли можно категорично и однозначно утверждать, что стремление к состоянию нормативности заложено в самой системе языке, Видимо, нормативность привносится в функционирование языка социальными потребностями (Костомаров В.Г. Норма языка и нормы в языке (опыт интерпретации) // Русский язык за рубежом. 2011. № 4. С. 55–59; см. также работы Б.Н. Головина). Авторитетно мнение о трояком характере проявлений языка: структура – система – узус; инвариант – вариант – норма. Даже в соссюровской дихотомии языка и речи говорится ещё и о речевой деятельности.
Поскольку язык одновременно и самобытная система, и общественное явление, ответ надо искать именно в соотношении развития языка в согласии с его врождёнными внутренними законами и развития под давлением этнических, природно-географических производственно-хозяйственных, военных, социально-культурных, религиозных, даже вкусовых нужд людей. Они прочно и непосредственно связаны с коммуникативной целесообразностью. Мы хотим увидеть очевидный прогресс, а не просто изменение: хочется невозможного – чтобы язык всё лучше обслуживал наши меняющиеся, отнюдь не совпадающие потребности, но оставался неизменным. Поэтому позволительно понимать нормативность как результат нормализации, то есть бесконечного процесса вмешательства социальных сил в развитие языка как системы.
Если согласиться с изложенным, то следует поинтересоваться тем, что же представляют собою нормы как составляющие единицы той нормативности, которая достигается нормализационными играми между процессами нормализации в интересах социума и языка. Совершенно определённым мнением может быть только одно: даже не выходя за пределы образованного языка, они не могут быть одинаковы. Подчиняясь механизмам разных подсистем языка и служа разнородным социально-коммуникативным заботам, информативность и выразительность просто вынуждены нести неравноценные узаконивающие оценки.
Наш проницательный современник В. Зорькин, сравнивая философию Канта и Гегеля с исламскими взглядами, заметил: «Нельзя утверждать, что шариат – это патология. Это не патология, уважаемые коллеги! Это другая норма». По его мнению, «в тех странах, где на государственном уровне конституционно религиозно-культурная традиция утвердила его, шариат нормален. И называть его патологией ненормально. А также бестактно, аморально и близоруко» (Зорькин В. В хаосе нет морали // РГ. 2012. 11 дек.). Эту мысль с естественными поправками на своеобразие предмета нашего рассмотрения можно приложить к языку и видеть в нём наряду и параллельно с нормой вполне нормальные ненормы, во всяком случае, не считать их патологией. Нельзя порицать и осуждать если уж не всё океаническое бесконечие языкового творчества Человечества, то хотя бы укорачивать русскую языковую сокровищницу в тех её закромах, которые нормальны, но ненормативны или вообще не должны нормализоваться, не теряя от этого и при этом своей самоценности.
Систематизировать и классифицировать нормативно и литературно образованный язык нужно иерархически, как и все сложно организованные миры действительности – животный, растительный, географический, логический. Его таксономия строится из весьма различных таксонов, что отнюдь не случайно породило в предыдущих рассуждениях путаницу единственного и множественного числа слова норма.
Мы, прежде всего, выделяем Норму языка (в единственном числе и, подчёркивая важность идеала, с большой буквы), представляющую глобальную оценку в целом его природы. Обобщение представлений о русском языке, его самобытности, происхождении, истории, желательных качествах и путях развития, отражая его сущность и векторы динамики, служит ориентиром, следуя или противореча которому выявляются частные оценки и квалифицирующие решения.
Норма языка формирует таксоны отдельных конкретных единиц и фактов (множественное и единственное числа) – безусловно рекомендуемые, обязательные нормы в языке и весьма распространённые, всем известные, но безоговорочно не рекомендуемые ненормы (слитное написание, как термина), а также по тем или иным причинам запрещаемые в литературно образованном каноне к употреблению антинормы.
Установление состава таксонов, в повседневности только и волнующее публику, сопровождается недоразумениями, ожесточёнными спорами, в которых, увы, часто забывается императив Нормы с большой буквы. Но именно она лежит в их основе в каждый текущий синхронный момент, отвечает в языке за поиск желательного и запрет иного, что отличает всю культуру единого здравомыслящего общества. Построение и изложение явлений, касающихся таксономии нормативов, целесообразно поэтому начать с самого широкого, базового, глобально-абстрактного.
5.2. Норма языка
Власть социума в нормализации важна и действенна при очевидной солидарности мнений учёных на этот счёт. В главных общих оценках она постоянна и неизменна в мирное эволюционное время и тем более в гасящие разногласия годы острого повышения этногосударственных чувств при угрозе существованию или на крутом повороте в жизни нации и страны. Особо устойчивым оказывается грамматический аскетизм, способный уступать только напору лексического уровня внутри общеязыковой системы.
Русские – народ лингвоцентричный. У нас есть государственный праздник – День русского языка, отмечаемый 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, признанного основоположником современного русского языка. Вслед за М.В. Ломоносовым А.С. Пушкин, помимо прочего, задавал тон: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В ХI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность».
Вряд ли где в мире есть писатель, который, как Тургенев, провозгласил бы свой язык порукой от отчаяния из-за неблагополучия отчизны («…как не впасть в отчаянье при виде того, что свершается дома… ты один мне порука и надежда…»). Наш народ приучен считать свой язык самым лучшим – выразительным, богатым, певучим. Доказательной путеводной звездой служит классическая беллетристика, художественная литература – безоговорочно и не всегда, конечно, обоснованно.
Наивно относимая к родному языку вкусовая формула «один из самых», а то и «самый совершенный» (развитый, логичный, богатый, звучный, красивый, «великий, могучий, правдивый и свободный») имеет известное оправдание. Строго научный, системно-формальный подход, основанный на устройстве языка и внутренних законах его непрерывного самоизменения именно как некой самодостаточной системы, конечно, требует большей объективности. Однако он и недостаточен, и даже вполне беспристрастные иностранцы часто восхищаются русским языком.
Н.М. Карамзин видел в русском языке «следствие многих умствований и соображений» и оценивал его как выразительный «не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности», как богатый гармониею, имеющий «для излияния души» коренные слова, сообразные с выражаемым действием: «Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса, течёт как гордая, величественная река – шумит, гремит – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!»
В самом деле, грамматико-лексические запасы, созданные выдающимися учёными, поэтами и писателями, деятелями искусства, первопроходцами, всем русским народом, неисчерпаемы. Небезразличны для его оценки в целом, его составляющих подсистем и тем более его конкретных отдельных единиц самобытность истории и контакты с другими языками.
Вопреки утверждениям М. Эпштейна, будто в русском языке меньше слов, чем в английском, что наш словарь пополняется, если исключить семантически периферийные разборка, халява, тусоваться, крутой, только за счёт заимствований из английского, а сам русский язык после спутника, лунохода, гласности, перестройки перестал служить донором для других языков и что спасти его может только активная проективная лингвистика, на деле он отнюдь не мал. Объём русского языка и многообразие его форм, разработанность терминологии вполне на уровне, даже превосходят другие языки если не по числу корней, то в силу гибкого и богатейшего словопроизводства. Вся соль в том, что корень соль породил, например, имена засолка, рассол, недосол, солонина, солончак, соляной, соляный (кислота), солёный, глаголы солить, посолить, недосолить, пересолить, подсолить – чуть не сотню производных, причём многие, скажем, насолить кому-нибудь и несолоно хлебавши, приобрели переносные значения.
Из пришедшегося ко двору американского буквенного сокращения пиар (PR – public relations) на глазах сделаны на удивление источнику и неузнаваемые в нём пиар (чёрный и белый), пиарить, пиарствовать, паиарство, пиарщик, пиарный. М. Кронгауз в своей, как всегда броско и остроумно озаглавленной статье «Кого хочешь “лайкай”, а люби меня» (Русский мир. 2012. Нояб.) зарегистрировал, указав на неравенство слов друг и friend, такие образования от like в значении «одобрение или отчуждение» в сетевых сайтах «Фейсбука»: словить лайка, лайкать, лайкануть, лайкнуть, залайкать, облайкать и т. д.
Обожествляюще восхищаясь, воспевая свой язык, мы, русские, народ парадоксов, наслаждаемся осуждением его текущего состояния. Лучший из лучших, он нелогично оказывается крайне сложным, трудным, грубым, неотёсанным. Нас донимает боязнь его нездоровья, не всегда обоснованная и разумная забота о нём. Мы вечно призываем лечить, улучшать, обрабатывать его. В первую очередь это касается книжного языка, который привычно со времён «исправления книжного» патриархом Никоном воспринимается как единственный носитель правильности.
Карамзин восхищался академическим словарём, который «утверждает значение слов, избавляет писателей от многотрудных изысканий, недоумений, ошибок». И тут же призывал его служить «для дополнения, для перемен, необходимых по естественному, беспрестанному движению живого слова к дальнейшему совершенству… успехов общежития и словесности».
Предтеча Пушкина, основоположника нашего современного русского языка, Карамзин считал, что истинное богатство языка «состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным… В языке, обогащённом умными авторами, в языке выработанном не может быть синонимов: всегда имеют они между собой некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают».
Богат тот язык, который не только обозначает главные идеи, но и изъясняет их различия, оттенки большей или меньшей силы, простоты и сложности. Русские для этого переняли словесную мудрость церковных и светских книг. Накладываясь на природный живой разговор (увы, вздыхает Карамзин: «…у нас в лучших домах говорят по-французски!»), язык призывает «выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, искусно предлагать их в новой связи». Литератор предлагает не подражать французам, а брать с них пример создания изящного «языка милых дам».
Особо значимы для нас отличные от латинского влияния на языки «варваров» Европы родство и взаимодействие с другими славянскими языками и с общей им всем древне– (южно-, церковно-) славянской основой. Не ведая ни взаимоисключения, ни противопоставления, они предопределили системную зависимость книжной и разговорной разновидностей языка, их раздельное, но и взаимопроникающее функционирование, ярко иллюстрируемое древнерусскими рукописными, затем печатными книгами.
Мысль о синтезе книжности и разговорности, как и вера в то, что, впитывая полезное из иноязычного влияния, остерегаясь и в том, и в другом излишеств, непоколебимо запечатлена в нашей общеязыковой Норме именно Пушкиным. До него славянскую (литургическую) книжность обоготворяли и в ней чуть ли не исключительно находили норму. В исторически заданном её сосуществовании с «простонародным наречием», как выражался Пушкин, он видел перспективу развития, а отнюдь не недостойный хаос, заслуживающий уничижения.
Законы и письменные челобитные утрачивали жёсткую привязку к звуковому общению, а семейно-образовательное чтение Псалтыри открывало путь книжным формам в живое звучание. Но было ещё далеко до упорядоченного противостояния книжной и разговорной разновидностей в едином языке, облагораживаемом беллетристикой. Заметим, что этого не добились даже современные дисплейные тексты, которые стирают грань между устной и письменной формами реализации языка и предвещают превращение различия книжного и некнижного языка из системно-структурного в стилистическое.
Пушкин остро ощущал необходимость перестройки самого языкового идеала, сражаясь за новое соотношение живой народной стихии («Не худо было бы… прислушиваться к московским просвирням») и общей умудрённой книжности («Не знать старых книг – значит не знать языка»). Преодолевая личную любовь ко всему французскому, он шутливо написал: «Как губ румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не терплю». Очень строгий к правильности русского языка, он заложил в эту шутку глубокий, многослойный смысл. Это, конечно насмешливая, но искренняя жалость к тем, кто, подобно Татьяне Лариной, читал и писал лишь по-французски, потому что «…романов наших (самого Пушкина и его соратников) не читали и изъяснялися с трудом на языке своём родном». Но ещё важнее здесь утверждение роли соотношения книжной и некнижной разновидностей в становлении образованного языка.
Известная пушкинская оценка его гибкости и правильности (не знать книжной традиции – значит не знать языка, но надо ещё брать полезное из других языков и прислушиваться к живой речи!) заканчивается мудрейшими словами: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей». Какое вещее предсказание того, что сегодня происходит!
ХХI век всё требовательнее заставляет говорить уже не об их взаимопроникновении, а даже об их слиянии, по крайней мере в сетевом общении. Вписываясь в Норму, это видоизменяет её самою, вынуждая (пусть и в обстановке противодействия уходящих поколений) признать, что всеоружие новейшей техники делает язык не только более цельным, но и всепригодным. Обе его разновидности обслуживают как контактную (повседневно-бытовую и посвящённую высоким материям, официальную), так и опосредованную коммуникацию, книжную, массовую, групповую.
Сегодня по-прежнему актуально и другое врождённое качество нашей общеязыковой Нормы – склонность к иностранщине. Лаконичное прозорливое замечание Пушкина: «…язык наш общежителен и переимчив», – расцветает с новой силой, но уже в принципиально иной, виртуальной парадигме. Она сближает нас с первым сегодня мировым языком, не менее всеядным английским. Трудно не усмотреть в этом обширность и активность мировых контактов англичан и русских с другими нациями, потому что это отнюдь не универсалия и чуждо, скажем, китайскому или финскому языкам. Мы не замечаем, что во фразе Я студент филологического факультета университета только одно русское слово – я, вариация родственного славянского азъ.
Как и в общей либерализации книжности, беспокоит не заимствование как таковое, а неоправданный избыток и излишне высокий темп. Вездесущие массмедиа бездумно навязывают иноязычные элементы, мешают их оценить на досуге, годные приспособить к строю языка, приложить к ним критерий нормы.
Зная, как легко общие тенденции нашего языка разгораются в пожар, мы обеспокоены нынешней вспышкой, но сводим борьбу к ядовито-юмористическому высмеиванию отдельных слов. Так было при татаро-монгольском и греко-византийском влияниях, голландско-немецком в царствование Петра Великого, в годы франкомании («Пуркуа ву туше. Я не могу дормир в потёмках», – как говорил один из героев пушкинского «Дубровского», спрягая глагол тушить на французский лад). Правда, нынешняя американомания так въелась в нашу жизнь, что вряд ли умрёт от грустной шутки, что для понимания современного русского языка надо сначала выучить английский.
* * *
Представления о желательных путях развития языка, несомненно, устойчивы, но всё же не вечные. Главные позиции Нормы языка пронизывают сейчас сетевое общение. Роль удивительно быстро входящих в быт новых видов коммуникации пока за семью печатями. Горячие головы говорят о возникновении глобального интернет-языка.
Преждевременно всерьёз судить, насколько изменится языковое существование человечества, чем оно отличается и как взаимодействует с книжным и звуковым общением, как деформирует Нормы разных языков, среди них и русского.
Будем надеяться, что русский язык, как и все другие, сохранит свою самобытность. Ведь в языке, как, впрочем, во всей культуре, важно не стать похожим, а освоить, мочь выразить всё важное, нужное и полезное, что есть на белом свете.
Радикальных сдвигов в установившейся за последние два с лишним столетия системе русского языка не наблюдается и сейчас. Этого не опровергают ни бурные события в лексиконе, ни (преходящие?) «мелочи» вроде безразличия к маргинальным явлениям системообразующих фонетики и морфологии. Споры вокруг отдельных форм, частных норм, которые вообще не всегда послушно следуют векторам Нормы, а отражают волю случая, прихоть авторитета, этому выводу не помеха. Несмотря на рост числа неизменяемых слов, в основном несклоняемых существительных, явно противоречащий основам нашей грамматики (картинка 7.8), есть все основания надеяться, что русская морфология останется флективной.
Как всякому народу, нам положено хранить историю, веру, культуру своей отчизны и завещанный предками язык – просто потому, что мы родились и воспитаны русскими, живём в России.
5.3. Нормы в языке
Абстрактное представление, задаваемое Нормой языка, в целом всеми согласно разделяется и не вызывает возражений. Разногласия возникают в тех таксонах норм, которые имеют дело с оценкой отдельных конкретно-материальных средств выражения. Это случается, когда конкретные средства отходят (или кажется, что отходят) от её диктата и система принимает вид взаимодействия центра, на котором, несомненно, держится весь мировой порядок, и периферии.
Нормы, Норму в языке следует признать центральным явлением. Это узаконенные материально-конкретные единицы языка, традиционные, общепринятые, – формы, слова и их сочетания, произношение, ударение, написание. Это типизированные средства, а не просто распространённые, тем более вкусовые. Они – не прихоть авторитаризма, а результат взвешенного решения авторитетных умов, прежде всего писателей, лингвистов, педагогов. Они признаются правильными, желательными, они закреплены образцовыми текстами, а затем словарями, справочниками, учебниками.
Нормы – фундамент, основа информативного общения. Самоё их наличие в то же время – хлеб стилистики, точка отсчёта выразительности и изобразительности.
Нормы регулируют разнообразие языка, как и его историческое движение. Нормы отвечают за преемственность языка на протяжении истории ради единства нации и культуры во времени и пространстве.
Нормы не против свободы выражения, но служат, как уже говорилось выше, его базой, на которой расцветают для полнокровного общения параллельные, но не обязательные возможности, синонимы. Нормы всегда проходят горнило испытаний на прочность, в котором либо закаляются, либо сгорают, ибо без всенепременно и точно ориентирующего их минимума не может быть твёрдой почвы и порядка. К сожалению, сегодня этому минимуму недостаёт твёрдости и ясности.
Внедрённая в употребление как обязательный канон, совокупность норм закрепляется семейным и школьным обучением, практикой общения, массмедиа, образцовой литературой, прежде всего учебной. Последняя включает различные учебники, пособия, справочники, словари. Среди них, например, строго нормативные по замыслу: известнейший «Словарь русского языка» С.И. Ожегова или изданная университетом Санкт-Петербурга серия из 16 карманных книжечек «Давайте говорить правильно!». Такие издания представляют образованный язык в оптимальных, упорядоченных и выверенных нравственных, этических и эстетических границах. Как компас к странам света, представленный в них материал направляет к благопристойности и гармонии.
Нормы вообще «обозначают все виды и формы порядка, имея в виду и естественные нормы природы, и созданные человеком правила и законы. Первые отрабатываются в стремлении природы к равновесию как условию её существования, вторые создаются в ходе целенаправленной деятельности» (Арутюнова Н.Д. Аномалии в языке: проблема языковой картины // Вопросы языкознания. 1987. № 3). Нормы языка обеспечивают формально-структурную правильность, основу общения, служа манекеном для примерки различной одежды – единиц языка.
Без них, без грамотности, как говаривал Тургенев, неудобно, неприлично, но они лишь фундамент, на котором можно выстроить и чудный дворец, и серую казарму. Вне мифически видимой своей извечности нормы не достигали бы главной цели: если не служить порядку, то призывать к нему.
Именно за несоблюдение норм по незнанию или небрежности высмеивают, осуждают. За этим бдительно следят учителя и педагоги, писатели, общественные деятели, учёные, интеллигенция, всё образованное общество. В повседневности отдельная норма может вызывать несогласие с ней как с непогрешимо правильной. Разумеется, скверно, если при поиске лучшего и запрете иного осталось место для недоразумений, если забыт категорический императив Нормы языка, призванной отвечать за языковую культуру единого здравомыслящего общества.
* * *
Б.Н. Головин видел в нормах свойство функционирующей структуры языка, «создаваемое применяющим его коллективом благодаря постоянно действующей потребности в лучшем взаимопонимании», прежде всего отбор «наиболее предпочтительного варианта из функционирующих языковых знаков» (Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980). Здесь, как даже в самом удачном и авторитетном определении С.И. Ожегова, смущает объективность понятия наилучших, предпочтительных, пригодных, правильных: «Это совокупность наиболее пригодных (правильных, предпочитаемых) для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной в широком смысле оценки этих элементов» (Ожегов С.И. Очередные вопросы культуры речи // Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955. С. 15). Принципиально важно, что эта дефиниция норм как совокупности и как результата отбора не охватывает весь беспредельный язык и намекает на то, что и в великой, признанной и всепригодно обработанной его части имеются (и, в принципе, могут быть обработаны) также иные совокупности. Их наличие не может игнорироваться, а составляющие их единицы пока не подверглись обработке, не нормализованы, или, в принципе, вообще не нормализуемы, или даже запрещены к употреблению. Приведённое определение подспудно подтверждает мысль о сосуществовании и в самом каноне образованного языка наряду с таксоном норм также таксонов ненорм и антинорм.
Ненормы активно взаимодействуют с нормами. То и дело какие-то из них проникают в нормы, невзирая ни на авторитеты, ни на терпимость здравого смысла и хорошего вкуса. Они лишают такого звания даже вполне достойную параллель, если она есть, и насаждают свой выбор всеми способами, вплоть до принуждения, навязывания, не нарушая при этом мир, порядок и спокойствие. Об этом заботятся не только поэты, желая самоутвердиться. Ведь дай больше воли рвению норм, они «упорядочат» избытки и недостатки языка так, что обеднеют стилистика и экспрессия, исчезнут синонимы, метафоры и риторические фигуры.
* * *
Желательная однозначная определённость норм вообще-то неизмерима и недостижима, потому что характер и глубина нормативности в разных местах её цельности априорно меняются, подчиняясь конфликтующим механизмам разных уровней языка. В разумный канон норм, безусловно, входит главное из системообразующих фонетики и морфологии, усваиваемых цельно до автоматического навыка, – 3 глагольных времени и 2 вида, 2 числа, 6 падежей, 44 фонемы, 33 буквы, флексия, редукция безударных гласных и другие законы. Нормы этих замкнуто-исчисляемых подсистем живут значительно дольше тех рамок, которые устанавливаются отдельной синхронией. Они долговечны, не иллюзорны, они на деле почти извечно устойчивы. Так, самобытное оглушение звонких согласных перед глухими и на конце слова (пишем мороЗный и мороЗ, хотя произносим мороС) вызывает затруднения при освоении иноязычных слов: пишут и хауС, и хауЗ (картинка 7.7).
В открытую же систему словаря, по Карамзину, «мыслию одушевлённые слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его без всякого учёного законодательства с нашей стороны: мы не даём, а принимаем их». Трудно разобраться в предпочтении и отвержении параллельных, синонимических, аналогических, сходных, соотносительных средств выражения, несомненно принадлежащих составу образованного языка. Параллели тут возникают непрерывно по разным причинам, иногда ясным, но чаще таким, о которых можно лишь догадываться, фантазировать. Они, как и истинно нужные в жизни новшества, возникают сокровенно, малозаметно для носителей языка и малозависимо от их осознанной воли.
Однако и тут нормы нужны, причём здраво сокращённые до объёма, необходимого и достаточного, чтобы быть орудием естественного мышления и общения людей в жизни: человек, жизнь, еда, хлеб, вода, семья, дети, страна, родина, любить, работать, хорошо, быстро. В общем, как завещал В.П. Астафьев в «Затесях», чтобы «рано вставать, трудиться, не врать».
«Духовность начинается с возникновения языка, определяющего выход из животного царства. В глубине истории, по всей вероятности, существовала однотипность мышления, обусловленная свойствами человеческой природы, а не историческими условиями… Способом хранения тайны первобытного знания были миф и ритуалы, недостаточность которых родила затем письменность как более удобный способ фиксации знания. Передаваясь из поколения в поколение, конструировались абстрактные схемы познания, мыслительные формы наблюдения и рефлексии как сущностные черты этнической ментальности. В основе этих процессов лежали духовные способности – сплав интеллектуальных способностей и духовного состояния» (Шадриков В.Д. Духовные способности. М., 1996. С. 14, 28). Важнейшие из них и отражены в сегодняшней совокупности норм.
Тем легче быть «в курсе» и «на уровне», чем меньше и крепче узаконено слов и выражений. Этому правилу следовал официальный советский язык, и это верно, но противоречит натуре общения, которая брала верх в многоцветной некнижности. Сегодня самоохранительная функция ослаблена, как и в разгульно-свободолюбивых 20-х или отчасти в послевоенных 50-х годах ХХ века, отчего и стала опять столь актуальна забота именно о норме. Либеральное понимание правильности вновь перестало удовлетворять общество.
В необходимом и достаточном объёме нормы составляют сердцевину образованного языка, обеспечивая рациональную коммуникативность. В зависимости от поставленных задач общения минимальное ядро может дополняться и даже видоизменяться. Это важно прежде всего для педагогической практики – приведения в систему владения им тех, для кого он с детства родной, и особенно иноязычных, кто овладевает им в качестве второго языка. Здесь особенно нужна неизменная, застывшая во времени и пространстве документация – «Подписано и скреплено печатью».
Замечательный методист, академик А.И. Текучёв утверждал сингулярность, по возможности однозначность норм: пусть даже простынь, а не простыня, но не всё равно как. По его мнению, учитель должен выбрать для себя и насаждать ученикам только что-то одно: или брезгать, или брезговать. Нельзя беспомощно видеть норму и в мерить, и в мерять (Снег меряет исход.), в ба́ловать и балова́ть, ба́луется и балу́ется, даже если словари признаю́т их одинаково правильными.
В самом деле, не стоит тратить времени, устанавливая, прожекторы или прожектора лучше, тем более увязывая их с осветительными приборами и с проекторами – устройствами для показа диапозитивов и слайдов, которые тоже можно именовать одним словом. Учитель, пока он ответствен за язык учеников, должен сам решать, позволительно ли говорить Атель, мАдель, Итаж, Икзамен, Инергия или вымучивать Отель, мОдель, Этаж, Экзамен, Энергия. Но всё же только Эрудит… Не столь важно обеспечить отдельные примеры, сколь задать самую́ идею строгой устроенности и правильности, дать ориентиры.
Допустимо в пять раз, семь раз, но как дважды два правильно только дважды, трижды, и никто не поймёт, если услышит: «Ясно как в два раза два». Крайне нежелательно многим полюбившееся псевдоматематическое обозначение порядка чисел в разы вместо во много, несколько раз. Язык бесконечно неисчерпаем, но школьники должны знать дисциплину. Таково было кредо борца за искоренение в школе просторечных и диалектных языковых навыков.
Повествуя о ворах мужских сумочек, газеты пишут бо́рсеточник, бе́рсеточник, ба́рсеточник (чаще произносят, но все орфограммы звучат одинаково). Да не посетуют стражи порядка на энергосберегающий призыв не тратить силы и время на поиск и внедрение нормы написания этого слова хотя бы в надежде, что реже поминаемая газетами сумка, а с нею и специальность эта исчезнут.
Ничего не прибыло и не убыло от того, что вывезенное с напитком из Франции ударение йогу́рт на глазах изменилось по английскому образцу в й́огурт, но не в ёгурт, а ведь йо вместо ё, как в район, майор (можно ведь и ёлка написать йолка!), желаемо лишь как более заграничное, кое-кто и читает натужно как дифтонг, чего нет русском языке.
Ничего ни худого, ни доброго не произошло от того, что сохраняющий ударение в языке-источнике каучу́к так и не обрёл норму, не победив московское упрямство: клуб завода «Ка́учук», туфли на ка́учуке. В то же время не может не смущать алогичный беспорядок в нормах, казалось бы, одних и тех же форм много апельсинов, но мандарин.
Значительные, не только периферийные части языка, образованного нормативно и литературно, не имеет смысла считать именно нормами, стремясь к максимальному, вряд ли достижимому порядку. Стоит ли искать наилучшее произношение и написание неупотребительных средств выражения, точный смысл которых мало кому известен, как, впрочем, и изгонять их из нормативности – литературного языка? Нельзя давать статус норм и многочисленным подспудно отражающим модели словопроизводства потенциальным словам, окказионализмам, разным типам образований по аналогии.
Вовлечение даже распространённых специальных терминов в корпус норм не бесспорно этически. Уважение к ним, признание их нужности отнюдь не вводят их в образованный тезаурус или компендиум. Первый русский «Словарь Академии Российской», в который встарь заглядывал Пушкин, принципиально не считал технические термины, особенно иноязычные, достойными места в русском нормализованном лексиконе, естественно, не отрицая их нужности для общения в науке.
Пояснить нужный объём норм можно, как видно, и от обратного – перечислением того, чего среди них быть не должно, но что, вне сомнения, входит в состав образованного языка. Эту его часть нельзя считать обязательной поголовно для всех образованных людей. Компьютер, Интернет, мобильный признаны нормой быстро, вытеснив электронно-вычислительную машину, или ЭВМ, беспроводный (радио) – телефон, а пришедшие с ними эсэмэс(ка), чип, файл, блог, имейл, скайп, чат нужны, широко употребительны, но это само по себе ещё не значит, что они – нормы. Торопиться включать их в совокупность наиболее пригодных (правильных, предпочитаемых) не стоит. Смешно расширять их значение, как один мой продвинутый приятель: «Если уйдёшь, пришпиль на двери эсэмэску, когда вернёшься».
Совокупность норм, достаточная в информативно-коммуникативном смысле, не обязана удовлетворять жажду выразительности в полнокровном общении, тем более в живописном изображении. Тем, кто овладел нормами, позволительно, часто просто необходимо отходить от них. На это подвигают их притязания, настроение, цели, культура, вкус, образование. Самый разумно сдержанный порядок в обществе не обходится без разноголосицы, без дополнительных шумов. Для норм в общем языке нежелательны, даже противопоказаны излишества, несогласованности и неоднозначности, неубедительно обоснованные варианты.
Корпус устойчивых в синхронии норм не претендует даже на всю особо культивируемую книжную разновидность языка. Он лишь задаёт дорогу к идеалу. Каждый индивид в меру возможностей составляет из норм материально большую или меньшую часть своих произносимых и тем более написанных текстов. Поэт обладает свободой, школьнику рекомендуется как можно чаще придерживаться норм. Каноническое исчисление норм не означает минимизации, но оно всё же не представляет весь литературно образованный язык в его полноте.
Решая нелёгкий вопрос об оптимальном объёме набора норм, уместно сослаться на мнение Л.А. Булаховского по поводу непроизводных слов. Он справедливо индивидуализировал проблему, полагая, что их тем меньше для человека, чем более он любознателен, начитан, образован. Слово лингвистика прозрачно для того, кто роднит его со словом лингвист и слышал, что латинское lingua означает язык. Для него перечень норм будет объёмнее, хотя многое останется за пределами этого перечня.
В одном из лучших нормативных словарей – словаре С.И. Ожегова – многие слова даны с ограничительными пометами: они принадлежат образованному языку, но в строгом смысле всё-таки не общие нормы. Бывший кавалерист Сергей Иванович включил в словарь, например, безусловно входящие в образованный словник названия масти коней: гнедой, каурый, сивый и другие, хотя сегодня не все даже знают эти ненормы (так!) и предпочли бы эти окрасы назвать проще (нормами): рыжий, каштановый, серый.
Неосмотрительно увеличивать совокупность норм, нарушая синхронную незыблемость Нормы новшествами и переоценкой отдельных единиц, какие бы предупредительные пометы их ни ограничивали и какие бы цели ни преследовались. Норма не претендует на всеохват. От меньшего набора её составляющих легче, кстати, обоснованно отклоняться и легче его насаждать. Как и любое обязательное знание, норма должна охраняться и сохраняться в интересах всеобуча.
Отечественные лингвисты после дискуссии о языкознании и участия в ней И.В. Сталина со статьёй «Марксизм и вопросы языкознания» плодотворно различали в языке основной словарный фонд (неизбыточное и устойчивое ядро) и лексический состав. Последний, как открытую, подвижную часть лексики, можно исследовать, каталогизировать, но в целом нормализовать просто невозможно, да и вряд ли стоит труда.
* * *
Охраняя взаимопонятность и дисциплину общения, нормы являются базой образованного языка, и их избыток вредил бы воспитанию и просвещению, нуждающимся в соблюдении традиций, сохранении исторической памяти. Их задача – обеспечить равновесие между индивидуальным и всеобщим для понимания всех всеми, обезопасить нацию от языкового развала. Как упорядочивающая, так и учебно-просветительская их роль связана с ядром языка, где определённость императивна. Силу создавать структуру им придаёт суммарно сжатое изложение, а отнюдь не внутриязыковая глобализация. При этом вряд ли полезно узнать, что было и прошло или гадать, что будет. Какое учащимся дело, что одни ревнители норм упрямо держатся старины, считая до сих пор нормой пять килограммов, сто граммов, а не пять килограмм, сто грамм и не пять кило. Другие, напротив, предпочитают уведомь(те), откупорь(те), а не уведоми(те), откупори(те). Это глубокомыслие, достойное чтения на досуге, но бесполезное для каждодневной воспитательной и учебно-просветительской работы. Знать нормы и практически овладевать языком спокойнее без него.
Не имеет практического смысла также и раскрытие тайн смены норм, оснований выбора конкретной нормы и неодобрения, а то и запрета конкурентов. К тому же выбор часто неубедителен, субъективен, невнятен. Он в компетенции тех учёных дам и мужей, кто берёт на себя (открыто или тайно) благородную, но неблагодарную, нелёгкую задачу провозглашать нормы, кодифицировать их.
Людям, просто пользующимся языком, важно, не рассуждая, заучить, что сегодня надо говорить техник, а не технарь, хотя и второе достойно, выразительно на своём месте, не являясь нормой. Правильно платить за покупку и оплачивать покупку, но неграмотна их контаминация: оплачивать за. Грубая ошибка – «Граждане, не нарушайте!», «Соблюдайте в урны!» без указания, скажем, «правила перехода улицы», «чистоту, бросайте мусор в урны». Им нужен не объёмистый фолиант, наполненный фактами, аргументами, догадками, гипотезами, а удобный справочник с простым перечнем того, что сегодня признано нормами.
* * *
Невозможно одобрить излишнее рвение лиц, воинственно стремящихся к однозначному порядку, а на деле склонных лишь защитить свой, увы, часто необоснованный выбор. Поражает яростное ожесточение, с которым, невзирая ни на авторитеты, ни на терпимость здравого смысла и хорошего вкуса, отстаивается собственная привычка. В программе В. Дымарского на «Радио России» (05.04.2012) один слушатель требует запретить перенос ударения на предлог ехать за́ город, идти по́ воду, и́зо дня в день) как «вопиющую безграмотность», но именно такова старая и народная норма, хотя с ней и конкурируют городские псевдоинтеллигентские за го́род, по во́ду, изо дня́ в день. Другой хочет наказать журналистов, которые латышей «безграмотно» называют латвийцами, но ведь и россияне, «граждане России», – не только этнические русские. Третий упрекает незабвенную Клавдию Шульженко за народный акцентологический приём в песенной строке: «Ах, как кру́жится голова, как голова кружи́тся»; второе – не ошибка, не архаизм, а живой поэтизм.
Многие любители радиопередачи «Как это по-русски?», утомлённые поиском того, как лучше, только радовались бы крайнему устрожению норм и, к счастью, невозможному регламентированию всего и вся. Они против любой вполне достойной параллели и готовы насаждать свой выбор всеми способами, вплоть до насилия: «А я бы повару иному / Велел на стенке зарубить: / Чтоб там речей не тратить по-пустому, / Где нужно власть употребить» (Крылов И.А. Кот и повар).
Здравый смысл в наше время, пожалуй, на стороне таких ревнителей. Мириться с попустительством вплоть до отказа от однозначных сингулярных норм – значит перестать беспокоиться о здоровье языка и говорящего на нём народа. Верность традициям нуждается в стерильной однозначности, защищающей от расхлябанности, заставляя поддержать, скажем, жалюзи́, относя распространённое жа́люзи к ненормализуемым (конечно, не навязываемым, но и не запрещаемым) профессионализмам. Падение общей культуры заставляет объявить обязательным написание буквы ё, которая пишется пока, так сказать, по требованию.
* * *
В наше время происходит «размораживание» языковых норм, сужение их синхронии. Отсюда жалобы старших носителей литературно обработанного языка, перестающих понимать младших. Ментальность, взгляды на жизнь нового поколения отражаются в иных, пока неведомых принципах нормализации, создавая самоуправную многоголосицу.
В побеждающей демократии трудно находить равнодействующую многочисленных волеизъявлений и мнений. Авторитарное установление и внедрение одномерных единых норм теперь отторгаются. Преодоление разнобоя в возведении языковой единицы в ранг нормы сопрягается с обязанностью, поступаясь собственными навыками, руководствоваться общим благом. Увы, стало неприемлемым и ласковое принуждение древних русских книжников, и тем более добровольно-принудительная практика советских лет.
Нельзя не радоваться тому, что либерализация всё меньше сводит общение к нормам, что коммуникативная целесообразность и меняющийся вкус всесильно владеют текстами, что законно сблизились разговорная и книжная разновидности языка. Однако без надлежащей оглядки на непоколебимые на протяжении своего мандата нормы возникает опасная утрата своеобразия книжности, строгости научного и официального общения, особенно когда они попадают под чары массмедиа с их размытыми дисплейными текстами, да ещё и сомнительной языковой и эстетической ценности. «Своя воля доведёт до неволи», – говаривала няня в повести Э. Во «Испытание Гилберта Пинфолда», правда, добавляя: «Слово не палка, больно не ударит».
Борьба за однозначные нормы в их скользкой устойчивости стала казаться бесперспективной суетой. Нормы, дескать, нечто придуманное, мешающее прихотям развития языка, не вытекающее прямо ни из его системы, живущей по своим законам, ни из желаний, ожиданий, предрассудков общества. Но нормы обеспечивают взаимопонимание людей, сплочение, историческую преемственность.
Нечего и мечтать, чтобы – помимо чисто учебных ситуаций – ограничиться жёстким перечнем норм, как было возможно исторически хотя бы в изображении «трёх штилей», которыми М.В. Ломоносов преодолевал диглоссию церковнославянского и русского языков. Нет возврата и к «правильности» деревянного языка советской идеологии. Бесхитростная прямолинейность ныне никого не устраивает, но и коварство вольнолюбиво-освободительных устремлений не смеет покуситься на ориентирующие и объединяющие нормы. Только строго соблюдаемый набор конкретных средств выражения способен удержать язык от рыхлости и развала.
* * *
Своеобразной реакцией на наблюдаемые растерянность и сумятицу стали разные взгляды на идею нормализации. Справедливо отвергаются свойственные даже историко-динамическим концепциям норм середины прошлого века прямолинейные оценки как исключительных гарантов стабильной правильности и понимание всего образованного (нормативно и литературно) языка как их совокупности. Предлагается говорить о нормах первого уровня и нормах второго уровня. Первые кодифицированы, а вторые свободно обращаются в жизни образованных людей, хотя и не записаны, не утверждены. Они если иногда и записаны, то не в общеязыковом масштабе, а ограниченно – в сфере науки, профессии, социальной группы. Это соответствует различению в общем литературно образованном языке таксонов норм и ненорм, однако неудачно наводит на мысль, будто, помимо всеобщего литературного языка, существуют параллельные ему субстандарты. В целом же этой теории нельзя отказать в дальновидной объяснительной силе, хотя, в принципе, ей чужда идея таксономии нормативного образованного языка, наличия в нём, наряду с нормами, ненормированных (по большей части принципиально не нормируемых) ресурсов.
* * *
Вполне разумно разделение норм языка и норм речи, хотя оно, как кажется, нарушает представление соотношения «язык – речь» и понятие правильного образованного языка как некоторого единства. Эта точка зрения прекрасно обоснована А.Ю. Константиновой в статье «Современные тенденции развития русского языка» (в сб. «Тексты лекций и образцы уроков» (М., 2011)) и в полемических статьях «Нормы успеха» и «И в каждой букве дух живёт» (ЛГ. 2014. № 3, 6). Сходную позицию занимали ещё в ГДР авторы сборников «Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft», «Normen in der sprachlichen Kommunikation» (Веrlin, 1974; 1977) и др., увязывая нормализацию с пониманием «правильного языка (речи)» (см. раздел 8).
Нельзя не вспомнить здесь и работы замечательного исследователя О.Б. Сиротининой. Разрабатывая теорию хорошей речи, она писала об узуальной норме, которая, конечно же, не подвергает сомнению необходимость корпуса собственно норм в языке. Заметим, что узуальные нормы, как и только что упомянутые речевые, лишний раз оправдывают выделение в самом образованном языке таксона разнообразных ненорм (см. раздел 5.5).
Труднее согласиться с набирающей сейчас популярность концепцией вариативности норм, которая растворяет их значение как стражей порядка, единообразной правильности. В периоды бурного языкотворчества, когда русский язык «на грани нервного срыва», как удачно выразился М. Кронгауз, велик соблазн переувлечься сбором новшеств, классификацией социальных, функциональных и иных дифференциаций. Это, несомненно, благородное и нужное дело, особенно в стране, освободившейся от стеснений строгого диктата консервативного нормализаторства. Естественно желание теоретика собрать как можно больше примеров обновления в надежде, что их научное изучение поможет познать потенции, пути и законы развития, даже предугадать его мыслимую динамику в будущем.
Как мы уже упоминали, от этого не уберёгся сам великий А.А. Шахматов, подменяя норму образцами употребления, вызвав тем самым гнев гимназического учителя И.Х. Пахмана. Тащить в единую норму всё, что реально существует в пределах образованного языка, тем более на его периферии, противно учительскому сознанию. Выход здесь именно в признании и утверждении таксономии образованного языка. Ненорм значительно больше, чем норм, но они (как, конечно, и антинормы), в отличие от норм, совсем не предмет научения. Важно не думать, что это утверждение и рекомендация новых норм. Ведь и учёный, жаждущий привести в известность, инвентаризовать всё наблюдаемое в языке, не может не понимать, что есть некая грань, за которой видна гибель литературно образованного языка.
Применительно к педагогической практике концепция вариативности норм не кажется ни удовлетворительной, ни перспективной, ни полезной для его упорядочения и преподавания. Она дезориентирует ревнителей культуры языка, учителей, авторов словарей, описательных грамматик, учебников. Будучи представлена в виде «пучка» вариантов, норма, как материал или хотя бы ориентир правильности, теряет сингулярность, свою однозначную суть, ставит всех в неловкое положение, затем что мешает хранить традицию, отдавать дань призыву А.С. Пушкина уважать «отеческие гробы».
Сходная ситуация излишнего разнобоя в языке послереволюционных лет прошлого столетия породила замечательную статью А.М. Пешковского «Объективная и нормативная точка зрения на язык» (Избранные труды. М.; Л., 1959). Сегодня эта статья вновь злободневна, потому что растворение понятия нормы в хитросплетениях теории и истории делает борьбу за культуру общения бескрылой, тогда как сиюминутная практика требует, напротив, дисциплинировать расхлябанное неуважение к языку.
Внедряемые школой и мнением широкой публики нормы удерживают порядок в публичном и повседневно-личностном общении. Выверенный их базовый кодекс корректирует и разумное обращение к ненормируемым богатствам языка, управляет полем чересполосного их взаимодействия с иными возможностями передачи содержания. Тут и приходится наступать на горло собственной песне. Не говоря о школьнике, всякий взрослый, стоящий на прочной почве здравомыслия и не желающий опростоволоситься, хочет подтвердить своё мнение ясным советом компетентных специалистов.
Учителю, позиция которого непроста и ответственна, тем более не обойтись без определённости авторитетных пособий, учреждений и лиц. Он с интересом узнаёт, что нормы вариативны, прихотливо зависят от динамики языка и настроя общества, отражают взаимодействие коммуникативной целесообразности и традиции. Можно потешить себя, признав сегодняшнюю разболтанную вседозволенность. Но беда, если он на месте хранителя синхронно неподвижной правильности, не сможет передать эту правильность своим воспитанникам.
Учитель призван внедрять бесспорно и однозначно правильное. Его роль и авторитет абсолютны, как образец для подражания он преодолевает и собственные сомнения. При возражении ученика, дома у которого говорят ща́вель, он попросит на его уроках говорить щаве́ль, потому что сам так привык по аналогии с мете́ль, посте́ль, шине́ль. Непослушание же его привычкам – наказуемая ошибка по праву учительского «красного карандаша». Если, решив содействовать аналитизму, учитель не сочтёт ошибкой несклонение таких географических названий, как Сколково, он прослывёт неисправимым новатором. Его же будут считать безнадёжным консерватором, если он будет настаивать на правильности живу в Сколкове, недалеко от Сколкова. Таковы опасности профессии, но ещё хуже заявить, что и так и так можно, что это варианты одной и той же нормы.
Колеблющаяся вариативная норма теряет смысл как гарант порядка. Конечно, скрывать от учеников, что язык, незаметно для нас меняясь, порождает разные возможности выражения, вряд ли конструктивно. Коль скоро учитель, не мудрствуя лукаво, аргументировал что-то для себя, то и ученики этому последуют; помимо заботы о языке, укрепится авторитет учителя. Но он перестанет быть воспитателем, если отбросит строгую кодификацию.
Компендиум норм, как дорожная карта, диктует оптимальное движение в упорядоченных нравственных, этических и эстетических границах. Как карта указывает маршруты, нормы указывают пути к порядку, гармонии, благопристойности и морали. При всех трудностях установления единичных норм, они составляют базу единства и общности языка; только на них, отталкиваясь от них, осторожно дополняя, частично меняя их, возможно порождать самые разные, но легко понятные, правильные, достойные тексты. Теории неустойчивости, колебания, вариативности норм как обязательных базовых средств выражения лишают смысла существование их самих.
Разумеется, нельзя забыть слова Л.В. Щербы: «Чрезмерная [так! – В.К.] нормализация зловредна: она выхолащивает язык, лишая его гибкости… Всегда и везде есть факторы, которые грызут норму» (Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1945. Т. IV. Вып. 5. С. 180, 187). Ныне эти факторы, связывавшиеся им прежде всего с разговорным диалогом, «сотканным из всяких изменений нормы», удесятерены звучащими, прежде всего дисплейными, текстами. Но отсюда отнюдь не следует, что нынешнее состояние языка лишается порядка и дисциплинирующей определённости. Объясняя расширение состава образованного языка и затруднительность сведения его к сингулярным нормам, оно не растворяет нормы в вариативности и не превращает их в фикцию. Нормы остаются привнесённой в язык категорией, категорией здравомыслия. Здравомыслия и целомудрия.
5.4. Антинормы
Наряду с таксоном норм, гарантирующим устроенность литературно культивируемого, нормативно образованного языка, в нём обретаются значительные ресурсы, неподвластные прямой и очевидной нормативности. Их можно разделить на антинормы и ненормы. Проще всего в таксономии выявить первые – антинормы, очевидный антипод норм, олицетворяющих безусловно однозначную правильность, чаще всего сухую, бесстрастную. В отличие от них, антинормы указывают зону запрета, чаще всего связанную с повышенной экспрессией, крайними эмоциями или с грубым нарушением элементов и закономерностей языковой системы.
С запретом всегда проще, чем с рекомендацией. Если принять, что нормы диктуют, перечисляют (и то отнюдь не исчерпывающе), что, безусловно, необходимо и безопасно, то антинормы фиксируют то, что нельзя, нежелательно или запрещено. Антинормы противоречат законам языка и настроениям общества, эстетике, традиции, приличию. Это языковые единицы по какой-то причине табуированные, просторечные, архаичные, диалектные, жаргонные, необоснованно избыточные, общественно осуждаемые. Жаль, что у журналистов повелась мода изображать неприятного персонажа, переходя на его язык: «Ему бы сбить бабло. Он давно свалил за кордон».
Нормы необходимо знать, чтобы придерживаться их. С антинормами сложнее. Вообще-то надо знать то, что запрещено. Но не хочется уподобиться тому папаше, кто непедагогично велел сыну заучить те слова, которые он никогда не должен произносить. Антинормы придают нежелательную отрицательную характеристику лицу, их употребляющему. Надёжнее всего было бы знать нормы и, по возможности, не выходить за их пределы.
Русское общество относит к антинормам прежде всего ругательства, неприличные, оскорбляющие слова и выражения. Вне закона их ставит, собственно говоря, не язык, а эстетическое и этическое общественное понимание приличия. Учёные называют их обсценными, народ – матерными, а журналисты – непечатными. В последние годы стало модным называть эти слова ненормативными, что не пригодно хотя бы потому, что они вполне соответствуют требованиям языковой системы.
На эти слова накладывается табу, особенно если они употреблены не в предметном значении, а бездумно, как междометия, для неумелого заполнения пауз, ради спонтанной связности. Указ Президента Российской Федерации от 9 апреля 2013 года устанавливает наказание для организаций и отдельных лиц за их употребление. Предпринимаются жёсткие меры, чтобы их «забанить» в блогах, «запикать» на радио и телевидении, в письме замаскировать точками, которые легко расшифровать. Это лишь пропагандирует крайне сильные выразители настроения, без которых многие люди не могут обойтись теперь, как и раньше, и от которых не отучатся, более чем вероятно, ещё долго. «Литературная газета» (2013. № 25/26) не зря сгущает краски, запугивая: «Мат стал реалией современной школы… Все мы говорим сегодня не просто с вкраплениями мата, а на мате, как на некоем параязыке». Вечно неувядающей борьбе с ругательствами сейчас наносит удар автоматически нефильтруемое сетевое общение, да и писатели забыли про свою ответственность за образованный язык и не поддерживают протесты делом.
Сведём рассмотрение таксона остальных антинорм к набору примеров. Они менее опасны и вредоносны чем те, на которые налагается столь строгий запрет. Обычно антинормы вызывают отрицательное восприятие того, кто ими пользуется по неведению или, хуже, из желания снобистски выделиться, эпатировать других. В оправдание нарушителям скажем, что часто это не вина, а беда: очень трудно отказаться от того, к чему привык с детства или благодаря окружению. Москвич, я говорил воры́; узнав, что надо во́ры, до сих пор боюсь ошибиться и приучил себя говорить жулики. То и дело у меня проскальзывают вверьх, ветьви, и я точно не склоняю Москва́-реку. А вот уважаемый мой друг, переехав в Москву, за год сумел преодолеть оканье, формы хорошаа така девушка, другие черты северного говора. Значит, если поставить цель, можно побороть любую дурную привычку!
Синонимия, в принципе, не отрицается однозначностью нормы, даже если слова вроде бы полностью тождественны, как, скажем, еда и пища, но жратва должна быть признана антинормой. Кроме глагола есть, общеизвестны жрать, бирлять, шамать, но они из-за грубой просторечности или жаргонности, а кушать – в силу некой лизоблюдности – явные антинормы (правда, только в применении к себе: я кушаю недопустимо, хотя «Кушать подано!» вполне естественно, как и приглашение: «Кушайте, пожалуйста!» – хотя считается, что ешьте не хуже).
Излишне экспрессивные просторечные и жаргонные слова, если и понятны, нарушают ожидания приличного общества: бабки – «деньги»; шнурки – «родители»; пацан, пацанка – «парень, девушка»; халява, шалый, шалава, хабалка, до фига, на фиг. Самые терпимые люди резко возражают против тех, кто говорит буха́ть (не бу́хать) вместо пить, пьянствовать (ср.: «От хорошего бухла голова не болит»); шугануть – выгнать; слимонить или, ещё похлеще, стырить – украсть; шпынять – придираться, надоедать; окочуриться – умереть; слинять, смыться, а также свалить, отвалить – уйти, уехать; слоняться – бесцельно бродить; хлебать – есть суп, пить чай (чаехлёб – грубая антинорма); калякать – беседовать; переть (при норме напирать) – лезть напролом.
Подобные антинормы могут органично входить в нормативные тексты в особом, своеобразно метафорическом значении или чтобы замаскировать оценку говорящего: балдеть, ловить кайф – терять сознание (от безделья или от наркотика); тащиться – медленно идти; торчать – высовываться (в смысле «наслаждаться чем-либо, получать удовольствие»); крышевать – покрывать преступника. Также париться (в бане) – волноваться, переживать; откосить и отмазаться (уклониться от чего-либо, например от призыва в армию). Излюбленную ими жаргонную антинорму общага студенты, повзрослев, занесли уже в образованный язык.
Осуждаются образованными людьми ло́жить – поло́жить, пособлять – пособить, пужать, пущать (пущай), спортить, калидор, при нормах класть – положи́ть, помогать – помочь, пугать, пускать, испортить, коридор. Забавно укореняется под влиянием форм бдит, бдят, бдительный несуществующий инфинитив бдить вместо бдеть (как терпеть или сидеть): «Что разрешено и что запрещено часовому на посту? Разрешено, собственно, только одно: стоять с автоматом и бдить» (АиФ. 1993. № 7); «Начальство велело бдить» (Глуховский Д. Метро 2034. М., 2009. С. 228).
Антинормой бывает только одно, часто неожиданное значение слова: он меня достал, перестань напрягать, донимать меня, не заставляй дёргаться, то есть «надоел, оставь в покое». Ею может быть одна какая-то форма слова: ложьте, ложите, могет, можут, хочут, хочем, убежи, убёг, сёдни, жгёт, при очевидных нормах: кладите, положите, может, могут, хотят, хотим, убеги, убежал, сегодня, жжёт. Антинормально древнее, ныне диалектное смягчение: смотрить, делаеть, впрочем, вряд ли не норма он моеца (моеТСа), смеёца (смеёТСа), вообще московское твёрдое произношение глагольной частицы – сь, – ся. Неувязка традиционного написания – ся, – сь и нынешнего произношения антинормой делает и просторечно-диалектные формы смеяСЯ, веселяСЯ.
Антинормативны много делов, нет таких правов (нормативны много дел, нет прав), многих смущающие диалектизмы ложьте сюда, углУбить, звОнит. Кое-кто готов отнести сюда чуть ли ни весь «неполный стиль произнесения», допустимый (и не замечаемый!), сегодня всё чаще нейтрально отражаемый, как уже замечено, на письме: нету, тыща, тока, када, скока, рази так можно вместо гиперкорректных в звуке нет, тысяча, только, когда, сколько, разве. В печати встречаются также таких правов нету, только и делов без особого обоснования: «Депутаты пригласили к разговору ветеранов ВОВ. Историю – не трожь!» (РГ. 2012. 13 дек., антинорма выразительнее, чем норма не трогай).
Слово солнце читается без л, а при произнесении с ним – чопорная антинорма, хотя в солнышко, солнечный оно необходимо; ср.: причас(т)ный и причастие (картинка 7.7).
Старшему поколению претят распространяющиеся шофёрско-таксёрские формы езжай, ехай на месте поезжай (от устаревшего поезжать как выезжать, съезжать…); такое же смешение основ неопределённого наклонения и настоящего времени: ездиют – ездят. Двусмысленный юморок рекламы Московского юношеского турагентства «Едь в Турцию с нами!» сбивает наповал. Вряд ли кто-то возьмётся перечислить наблюдаемые антинормативные написания, порождаемые плохим знанием свода правил орфографии и пунктуации или его внутренним несовершенством.
Источником антинорм служат грамматические неувязки вроде существительных множественного числа, оканчивающихся на – ы/-а: профессора, редактора, слесаря и, несомненно, инженера, шофера считаются не совсем нормальными по сравнению с профессоры, редакторы, слесари, инженеры, шофёры. Когда-то неприемлемыми казались все формы на – а, сегодня к антинормам безоговорочно относятся лишь некоторые профессионально-жаргонные слова вроде плоскостя, скоростя, тем более что эти слова женского рода не называют род занятий.
Мало кто согласится считать нормой крутой, круче, накрученный в смысле «замечательный, модный, хороший», даже если и усомнится, являются ли они антинормой. Много споров ведётся вокруг признания нормой и антинормой вариантов вроде сох – сохнул, завял – завянул. Антинормы вроде перетурбация (норма пертурбация) возникают как результат наивной этимологии, особенно часто среди детей (мазелин вместо вазелин).
Воспринимаются как антинормы смешение глаголов давить и довлеть (удовлетворять – от библейского дневи довлеет злоба его), а также выражения власти предержащие и власть держащие. Часто это связывается с паронимами – сходно звучащими разными словами: индейцы (аборигены Америки) и индийцы (жители Индии, индусы).
О вкусах спорить не принято, но и не возбраняется. Нормами признаются лазать, лазаю, лазающий (то же что лезть) и лезть, лажу, лазящий (то же что лазать), не имеющие, правда, оттенка повторяющегося действия. При норме залезть, залезать считается антинормой залазить, хотя газетчиков она не смущает («Решили залазить в карман пассажиров, повышая цену билетов…» (РГ. 2012. 13 дек.)). Неловко звучит и фраза «Полчаса пролазал по Интернету». В случае ляжь, ляжьте при норме ляг, лягте системные силы действуют заодно с культурными, отчего К.И. Чуковский заметил: «Если бы дама с собачкой скомандовала своему белому шпицу ляжь, то Дмитрий Гуров ни за что бы в неё не влюбился». И.А. Бунин однажды признался: «Всё очарование этой дамы у меня пропало, когда она произнесла стату́я».
Сюда же отнесём меняющееся предпочтение вариантных форм мучить, мучу, мучишь… мучат и мучать, мучаю, мучаешь… мучают или брезгать, брезгаю, брезгаешь… брезгают и брезговать, брезгую, брезгуешь… брезгуют. Недавно помеченные словарями как разговорные и даже просторечные мучать и брезговать стали, кажется, уже нормой, переведя старые нормы мучить и брезгать если не в антинормы, то в ненормы. Иногда антинормой кажутся неясные управления: соскучились по вас или по вам; благодарю вас, несмотря на поддержку английской и иных иноязычных аналогий, даже не претендует на соперничество с благодарю вам.
Когда нет чётких мотивов ни для принятия, ни для запрета антинормы, кодификация крайне затруднена. Притяжательное местоимение свой вышло из ряда притяжательных мой, твой, наш, ваш, что заставило использовать вместо него родительный падеж личных местоимений он (оно), она, они: он – его сын, они – их сын. Такое нарушение системной логики (я – мой сын, мы – наш сын, а не меня сын, нас сын) породило другие антинормы: евонный, ейный (недавно в газете встретилось не еённого ума дело), ихий, ихний, последним из которых в бытовых письмах и разговорах не брезгали писатели-классики и многие нынешние знатоки.
Развившееся же в слове свой невиданное больше нигде значение «принадлежащий субъекту данного предложения» оказалось тоже внесистемным. Оно «незаконно» используется в безличных оборотах («Юрия трудно оторвать от своего любимого дела») и в идиомах («Своя рубашка ближе к телу»). Оно употребляется в значении «родственники» (свои – «родные, близкие, с кем живём по-свойски; восвояси – «домой, к себе, к своим»). Забавны казусы замены им его, её, их, взявших на себя смысл, от которого слово свой неразумно отреклось: «Ураган сбосил львов со своих постаментов» (получается, что львы сброшены с постаментов урагана). «Соперница позволяла ей проявлять свою натуру» (её натуру, а не самой соперницы). «Люди заставили его занять своё место» (его, а не их место). «Она пожелала мне успеха в своей поездке» (в моей поездке). «Работы по переустройству жилого фонда проводятся за свой счёт» (неужто за счёт работ?).
К антинормам можно отнести многие диалектные, жаргонные, иноязычные варваризмы (вдруго́рядь, молонья, вёдро, надысь, пошто, глякось, ну чё, знамо кто, понты, чувак, устаканиться, бойфренд, гёрла, мочить, кошмарить), хотя вряд ли есть возражения против сопка, что по-сибирски означает «гора», или северного парма – «тайга», которые скорее относятся к ненормам.
Стали антинормами одинакие, калидор, фатера, тама, тута, здеся, принятые как нормы в ХVIII веке куды (отзвук сохранился в выражении на кудыкину гору), туды, откудова или откедова (народное откель). Антинормально произносить легче как леХШе, леКШе, хотя допустимо леХЧе и леГЧе (но только лёхькьие).
Антинормален акцент иностранцев, часто вызывающий, конечно, малоизвинительные насмешки. Вовсе зло высмеиваются неприглядные их ошибки в публичных объявлениях на улицах русских городов: Римонт – халаделник – маразилка. Пичолы мёд. Здаётца гамбургерний бутка. Срочний фото за 3 минут – Вход через вадвор (подборка из еженедельника газеты «Вечерняя Москва»[3], март 2013 года).
Очевидно антинормативны, хотя к ним нормально (!) обращаются ради выразительности носители образованного языка, жаргонизмы вроде Фирма́! (возглас одобрения) или просторечные шутки: «Ну вааще!» (экспрессивное усиление вообще); «“У тебя деньги есть?” – “А то!”» (в смысле «конечно есть!»); счас или щас вместо сичас! (при этом особая интонация придаёт значение «не будет этого», совсем чуждого для чёткого сейчас). Недавно стало модным своеобразное одобрение и пожелание успеха: «Ну ладно, живи!»
Некоторые отступления от норм не замечаются, другие – не прощаются. Любопытно, что неверное произношение многих иностранных слов вызывает резкое неприятие (сисИматический, патриотиЗЬм, АзербЫджан, КорЭя, предтЭча, шинЭль) и, напротив, смягчение: компьютЕр, тЕмп, хотя незаметно проходят более глубокие отклонения. Впрочем, нередко насмешку вызывают старые нормы произношения прилагательных на – ский (московскАЙ, русскАЙ), гласной после ш и ж (шЫры, жЫра, а не шАры, жАра). Разнятся по оценке стремления к благозвучию вроде о/об общем деле, из/изо всех сил. В то же время недопустимы у ей вместо у ней или у неё, пымал, сыми, вылазят (вместо поймал, сними, вылезают).
Разные языковые факты оцениваются – и весьма решительно – отдельными людьми по-разному: оплачивать за билет как контаминация нормативных оплачивать проезд и платить за проезд; смириться с ним вместо примириться с ним (смириться не требует предложного управления, так как значит «стать смиренным, прийти в согласие и примириться с тем, что есть»). Антинормально распространяется предлог о: хочу добавить о том, что; возмущался о безобразиях и т. д. Острые споры ведутся вокруг ударений: зво́нит/звони́т; голова кру́жится/кружи́тся; по́дняли/подня́ли; при́няла/приня́ла/приняла́ и т. д. (картинка 7.6).
Многие видят антинорму даже в новомодных ответах на приветствие «Доброе утро! Доброго дня!» – Доброе! Доброго! Да ещё произносимых с интонацией сомнения: Так уж и добрый? Без такой интонации эти выражения подобны неумелому детскому выбору главного: «Есть хочешь? – Хочешь!» По-английски на Good morning! можно ответить кратко: Morning!, но не Good! Вряд ли это объяснимо пресловутым фактором экономии, скорее тут действует желание отразить уничижительное отношение к реально происходящему. Так, десять рэ вместо рублей выражает недовольство девальвацией денег (по анекдоту: «Вот тебе сто рублей, и ни в чём себе не отказывай!»).
Анормальное распространение вроде, как бы (Вчера мы как бы ходили в кино. Я с ним вроде давно знаком.), смешение на самом деле и в самом деле, неуважительное опущение отчества (с чем яростно борется славный профессор Н.И. Формановская, и не она одна) – всё это звенья одной цепи неудовлетворённости жизнью, кажущейся порой ирреальной: так, как мы живём, жить нельзя.
К антинормам (не без сожаления!) следует отнести устарелые, кажущиеся сегодня до смешного напыщенными, но очень благородные, упорядоченно вежливые этикетные выражения ХIХ столетия: соблаговорите, благочестный, извольте, благодарствуйте, милостиво, нижайше Ваш, преданный без лести, на Ваше благоусмотрение, благодетель, изволили откушать, благоволите сказать, окажите милость выслушать, даже так называемые словоерсы приходите-с, позвольте-с, пожалуйте-с. Сегодня всё это звучит иронически. Сюда же можно отнести и совсем забытые старославянизмы ошую, одесную (хотя помнится слово десница — «правая рука», а отчасти и шуйка – «левая рука»), выя (шея), зело (очень), паки (опять, вновь), паче (особенно, тем более) и многие другие. Впрочем, такие антинормы, обладая стилистической силой, вызывают к себе непреходящий интерес.
Сказка потеряет сокровенный аромат, если выбросить из неё начало: «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…» Изменит стилистический оттенок публицистический опус без архаичного творительного падежа: такой-то со товарищи. Наряду с безусловной нормой родина живо сохраняются отчизна, отечество (как и отчество), хотя забыто отчина, а соотчич стал соотечественником.
Два тома роскошно изданной энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга» (СПб., 2003) озаглавлены Осьмнадцатое столетие. О старой норме числительного напоминают и названия морского головоногого моллюска осьминог и устаревших русских мер осьмина, осьминник, осьмушка. Чаще устаревшие слова обретают иной оттенок, как, например, портки, менее резкий, чем трусы, штаны, ещё для В.В. Набокова, так описавшего футболистов: «Меж тем, в короткие портки, в фуфайки пёстрые одеты, уж побежали игроки» (Набоков В.В. Университетская поэма). Сегодняшнее башмаки ещё не ношены раньше выражалось сочетанием не были в деле.
Далеко не полный обзор «семейств» антинорм позволяет считать их таксон существующим с известными перспективами. Можно с оговорками отметить в нём открытый выход в безбрежный языковой океан и вход его элементов если не в таксон норм, то, по крайней мере, в таксон ненорм.
* * *
При переходе в настоящее (данное) время к рассмотрению последнего таксона предлагаемой таксономии нормативности зудит рука заменить нормативно сухое текущего момента в заглавии этой книги древним и поэтическим ныне или просторечным нынче, неточными сейчас, сегодня, теперь. Этот набор и не норма, но и не антинорма, а именно ненорма. Он, как и, скажем, забвение союзов затем, что, и замена нынешним, не употреблявшимся ещё в начале ХIХ века союзом потому что и параллельно появившимися в канцеляриях так как, поскольку, в связи с тем, что, иллюстрирует таинственные переходы, в которых идея нормы кажется призрачной.
5.5. Ненормы
Нормы святы, антинормы под запретом, но говорящим скука тягостная – жить, следуя разумным советам и запретам, при строгом, здоровом и здравом порядке. На счастье, между двумя крайностями в образованном языке обращается и используется с разной мерой одобрения образованной публикой то, что даже с оглядкой и оговоркой ни признавать безусловно правильным, ни запрещать (скажем, детям) всё же не хочется. Этот таксон ненормы/ненорм внутренне широк, многообразен, неоднороден и представляет избыточность – полезную, бесполезную и вредную. Его семейства, роды, виды различны по влиятельности, оценке, будущей и нынешней судьбе. Своеобразие соотношений таксона норм и таксона ненорм уже затрагивалось (см. раздел 2) в примерах внимательнее – более внимательно, космонавт – астронавт. Гораздо чаще ситуация проста. Например, вряд ли обогащает язык слово склизский, хотя какой-то оттенок значения отличает его от скользский. Соответственно, оба слова включаются в образованный язык, но второе – в качестве нормы, а первое – в качестве ненормы.
Стоящие на грани антинорм экспрессивные болтаться, шляться наряду с нормативным бесцельно, неприкаянно ходить или кочевряжиться наряду с не соглашаться считаться нормами не могут, хотя столь общеизвестны и употребительны, что являются достоянием образованного языка, заносятся в его словарь, но в звании ненорм. Ни у кого не хватит смелости избавить людей от широко распространённых даже сомнительных синонимов, параллельных, схожих слов, форм, выражений.
Нелепо счесть слово храм нормой, а церковь, кирха, костёл, синагога, хурул считать её вариантами. Нельзя рассматривать как вариант нормативного названия высшего законодательного органа парламент или тем более изгнать за пределы образованного языка номинации, пишущиеся официально как собственные имена с заглавной буквы: Дума, Рада, Бундестаг, Хурал, Меджлис, Риксдаг, Сейм, Стортинг, Кнессет, Альтинг. Неразумно не занести в образованный язык названия юрта, чум, фанза, вероломно выбросив их или признав вариантами нормативных дом, жилище. На правах гостей присутствуют в русском словаре, не считаясь его органическим элементом, и толкуемые как степь: саванна – степь в Африке, прерия – степь в Северной Америке, пампасы – степь в Южной Америке.
В некоторых случаях мы предпочитаем иноязычное название русскому даже при полном смысловом соответствии. Например, слово компьютер заменило громоздкое словосочетание электронно-вычислительная машина. Но попытка переименовать автомат по продаже в столь же малоудачное вендинговый автомат вряд ли окажется удачной: «В переходе установят вендинговые автоматы (ВМ. 2013. 18 июля). На месте нормативного «С уважением» – «С полным к тебе респектом», сегодня шутливо распространяют, а кто-то и всерьёз, авторитетно: реклама и ряд документов заканчиваются выражением «С респектом от Сбербанка России».
Принятие ненорм как таксона образованного языка оправдывается непреложным фактом, что нормы не исчерпывают проблему правильности, так же как антинормы – зону запретов. Это отнюдь не тотальная атака на нормы как явление, а всего лишь реакция на теорию вариантности нормы, популярность которой связана с волной раскрепощения от запретов прошлых лет. Однако норма, представленная в виде разнородного «пучка» наблюдаемых её реализаций, как описывают её сторонники теории вариативности, теряет смысл норматива. Такие «коллекции» реализаций усложняют обучение русскому языку как русских, так и иностранцев. Единицы общепринятого стандарта необходимы педагогически.
Почти никогда не случается, чтобы кто-то, подобно учёному А.Б. Шапиро, безукоризненно знал нормы и во всех случаях говорил «по писаному», поэтому он казался педантичным, искусственно суховатым. А вот С.И. Ожегов, его соавтор по нормативным пособиям, любил в меру отвлечься от норм, отчего его речь приобретала образность и особый стиль. Однако оба исследователя пользовались образованным языком. Ненормы оправдываются стилистикой, которой претит существовать в пределах норм.
Корпус устойчивых норм данной синхронии не может претендовать не то что на весь океан языка, но даже на строго культивируемую книжную разновидность. Его задача – дать векторное представление идеальной правильности и, конечно, в меру возможностей каждого индивидуума составить материально большую или меньшую часть текстов, им произнесённых или написанных.
Люди, в силу своих целей, притязаний, настроений, образованности, вообще своей природы, постоянно выходят за нормативный минимум. В то же время было бы неосмотрительно расширять его, пусть даже не безгранично, но именно как базу. Просто в интересах педагогики нельзя нарушать незыблемую в синхронии чистоту языка даже широко понятными единицами, какие бы предупредительные оговорки, ограничительные пометы при этом их не сопровождали. Это базисное, не претендующее на всеохват, обязательное знание, овладев которым позволительно – даже во многих случаях необходимо – выходить за его пределы. Однако безопасно выходить не в безбрежный океан, а всё же в принятые рамки образованного языка.
В составе образованного (и непрерывно образуемого!) языка всегда есть и должен быть ненормализованный и ненормализуемый материал. Его взаимодействие с нормой как непреложно узаконенным ядром должно уважать, но не увеличивать ни вид, ни объём ядра. Ненормы надо знать и по необходимости и желанию невозбранно ими пользоваться. Надо иметь представление и об антинормах, чтобы знать, чего остерегаться. Роль ненорм возрастает в новейшем измерении соотношения книжной и некнижной разновидностей языка, растёт авторитет второй, так что её уже неловко именовать разговорной, только привязанной к звучащей реализации. Ненормы уже не антиподы норм и даже не враги – в отличие от антинорм. Не превращаясь в нормы или в их варианты, таксон ненорм становится органической частью общего образованного языка.
Не укладываясь в прокрустово ложе нормы, мы пишем и говорим именно ненормами. Их масса – вне нормализации средств выражения, хотя ненормы допустимы, правильны в разной степени и не абсолютны – в отличие от нормы.
Если нормы – желательный образец, даже редко достигаемый идеал, то ненормы – просторное и неровное поле. На нём существуют достойные параллели, сами способные стать нормами и, может быть, вот-вот ими станут. Именно такие единицы, составляющие ядро таксона, можно назвать почти нормами.
Взгляд на ненормы со временем меняется: от оценки их как ошибки до потенциальной нормы, причём окончательный приговор выносится то сразу, то спустя долгое время. Чаще всего это некий неровный путь движения, хорошо прослеживаемый при сопоставлении помет в словарях и справочниках. Ярким примером служат смены нормативного ударения (картинка 7.6). В каждый данный момент ненормы – не варианты нормы, но лишь претенденты должность норм. Этот путь знает градации: 1) недопустимость ненормы, 2) субъективно-волевое попустительство, 3) всеобщее признание равных прав с нормой, 4) собственное воцарение на её место и – реже – 5) смысловая дифференциация и параллельное воцарение без компрометации и выдавливания прежней, превращения её в ненорму или вообще забвения. Естественно, не все дотягивают до победы, задерживаются на втором этапе, исчезают, а то и оборачиваются антинормой. В языковой иерархии, как и вообще при продвижении по службе, бывают разные карьерные судьбы.
Поиск норм опирается на систему языка и питается обществом. Отсюда и черпаются доводы и аргументы для признания одного средства лучшим, а другого – худшим, неправильным или подлежащим запрету. Частные нормы при всей свойственной им синхронии, устойчивости редко извечны, отчасти именно потому, что их подпирает просторный таксон ненорм с его разнородными семействами и родами.
Новое слово или расширение значения старого (нередко с полузабвением его первоначального значения) вызывается появлением новой реалии. Например, гибрид — «автомобиль с бензиновым и электромотором». Услышав фразу «Пилот болида потерял управление» (Радио России. 2010. 24 окт.), всякий сообразит, что это сообщение о несчастье на автогонках «Формула-1», а отнюдь не нечто неожиданное на ярком метеоре, как бы подумали 30 лет назад, потому что теперь у слова появилось новое значение: болид – «тип гоночного автомобиля».
Сегодняшнее общество перестало соблюдать куда более важные законы, чем традиционно языковые. Публика сейчас намного терпимее к вариативности, чем была, не замечает и не осуждает в отличие от наших предков, ломавших копья по поводу зво́нишь/звони́шь, кто последний/кто крайний, углуби́ть/углу́бить, тапочка/тапочек, внутрь/вовнутрь, свистеть/свистать. Однако непризнание ненорм как явления правильного языка, образованного нормативно и литературно, вредит выразительности, основанной на отклонении от норм[4].
Бывает сложно отличить почти нормы от норм. Здесь и кроется зародыш концепции вариативности норм. Признание двойников одинаково правильными всё же противоречит самому оценочно-рекомендательному существу понятия нормы. Нормативность в аналогах вроде грабить, красть, воровать, тырить растворяется в стилистике, отступая перед напором стремления к выразительности самоутверждения или художественной изобразительности. Особенно усугубляется сложность избрания нормы в рядах полных синонимов, стоящих на грани вариантов-дублетов: лингвистика – языкознание – языковедение; карлик – лилипут; туристический – туристский. Многие авторитеты, правда, утверждают, что стопроцентных синонимов не бывает. Почти нормы наблюдаются в лексике, но бывают и в произношении и написании. Сегодня кажется все называют собачий домик конурой, старое будка доводится слышать лишь от эмигрантов первой волны.
Важно поэтому не забыть про неодинаковые механизмы функционирования разных уровней языка, детерминирующие существенные различия в самих процессах нормализации и их результате – в получаемой нормативности. Фонетика и морфология дают больше норм и меньше ненорм, чем синтаксис и лексика. В системообразующем плане нормы и ненормы весьма сходны, отчего так легко взаимодействуют, даже перетекают друг в друга. Этого не скажешь об антинормах, среди которых обретаются явления всех подсистем языка, отчего, строго говоря, они лишь инородные элементы, случайные гости образованного стандарта, пришедшие из глубин языкового океана.
Признав нормой, скажем, решил жениться, считают решился жениться её вариантом или вообще отвергают. Лучше, конечно, увидеть здесь просто две нормы с разным смыслом: «принял решение» и «отбросил страх». Отличить патологию от нормы трудно даже в медицине, хотя очевидно различие между преходящими и смертельными заболеваниями. В отдельные годы наблюдается стремление то сокращать набор актуальных норм, то, напротив, увеличивать их число, приписывая каждой из сходных то или иное разделение труда. Это выглядит ещё и как неизбежное субъективное свойство деятельности профессиональных нормализаторов, которые не ведают соотношения «нормы – ненормы», но видят лишь нормы и неправильности, что влечёт за собой желание либо увидеть в вариантах разные нормы, либо утвердить один с запретом остальных, либо обратиться к вариативности как свойству нормы (см. раздел 7). Эти достойные позиции подвластны общественным настроениям и в настоящее время обострены. Они отвечают взглядам на единство общества разных его слоёв. Педагоги, все истинные ревнители культурной традиции справедливо стоят за языковую устойчивость и определённость. Их миссия особо актуальна сегодня, когда противоречие между пониманием сингулярности или единичности норм и тем, что реально наблюдается, столь обострилось, что не проходит незаметно.
Почти нормы, как скрупулёзное семейство ненормативного таксона образованного языка, исходя из отрицания вариативности норм, вынуждены останавливаться на решениях, весьма открытых сомнению и критике. Сегодня, например, нужно счесть нормой сердиться, оставив серчать в ненормах. Рокировка сделала бы нормой серчать и отправила бы сердиться в ненормы. В годы приснопамятной войны с «космополитами» и «иностранщиной» игра, угловой удар, полузащитник, вратарь насаждались как норма, а матч, корнер, хавбек, голкипер вытеснились в ненормы; нынешняя американомания имеет обратный вектор.
Торжество необузданной свободы ведёт к попустительству в самых серьёзных делах. Предпочтение чего-то одного может тормозить живые процессы в языке. Реальность нашей эпохи укрепляет мысль, что и в языке наряду с нормами, обеспечивающими дисциплину и порядок, прежде всего в преемственном обучении и аккультурации членов общества, должны наличествовать ресурсы ненормализованные, даже принципиально не нормализуемые. Ненормы, как манифестации литературно образованного языка, отобранные и социально одобренные, однако с особыми правилами использования, только и могут дать людям вольное самовыражение.
* * *
Став полноправной частью образованного языка, звучащие тексты не ограничиваются некнижностью (повседневными разговорами) и всё больше захватывают книжность. Открывшиеся возможности породили тексты, фиксирующие акт общения в полноте психо-реального контакта и заставляющие пересмотреть правильность оценок, которая установилась за столетия монополии книжной разновидности языка. Нельзя дольше стесняться того, чего она не принимала, не одобряла даже не по злой воле, а лишь аристократически обособляясь от бесхитростной простоты ежедневности в силу рока, в силу своих буквенно-алфавитных оков.
Поддерживаемые звуком, интонацией, жестом, мимикой, изображением, цветом, движением, эллипсисы, неполные конструкции, ступенчатые предложения, слабое синтаксическое расчленение, бессоюзные связи, сниженная и иностранная лексика предстают всё менее ущербными для передачи информации. Более того, этими средствами достигается точнейшее динамическое воспроизведение, имеющее не только информативно-эстетическое, но и чисто языковое и языковедческое значение. Звучащие тексты теряют свой камерный характер и исключительную связь с повседневно-бытовой, рабоче-производственной, хозяйственной сферами, захватывая сферы художественные и посвящённые высоким и важным интеллектуальным материям официоза, государственности, политики, идеологии, науки. Дело не в том, что люди теперь говорят больше, чем пишут (так было всегда), а в том, что говорят в тех условиях, в каких раньше только писали.
Всё меньше осуждая уже осмеянное «вокнижение не истины, а красоты ради», мы сегодня уже меньше боимся опрощения книжного языка. Общение меняется качественно и, видимо, демократизируется из-за ослабления различий между формами реализации и, соответственно, между языковыми средствами, которые исторически привязаны к каждой из них. Число актуальных ненорм растёт, они всё сильнее подпирают нормы. Но это отнюдь не означает их слияния.
Синхроническое абсолютизирование нормы, нетерпимость к любому отклонению от сложившегося веками грамматического кодекса, несомненно, мешают развитию языка. Утверждение таксона ненорм не есть просто расширение образованного языка, чтобы оправдать мнение, будто сегодня на стилистическое наше ухо слон наступил. Не хочется, но надо согласиться с тем, что иногда лучше менять не явление, а своё мнение о нём. Это не касается принципов устройства, и видоизменение соотношения книги и кино, телевизора, Интернета и разных гаджетов эти принципы радикально не меняет. Меняется лишь резкость антиномии книжности и технически вооружившейся разговорности. Теперь устные тексты фиксируются не хуже, чем тексты письменные, печатные. Но ведь содержательно, тематически они вполне конкурентоспособны! Книжная и некнижная разновидности нынешнего нашего языка, при всей генетической и фактической связи некнижности с контактным общением, не сливаются: непреходящее по значению художественное, тем более научное, официальное знание отнюдь не растворяется в обыденно-житейском содержании, как бы ни излагалось и в какой бы форме ни обсуждалось и ни передавалось.
Важно осознать, что в новейших социальных и особенно личных сетях (например, в скайпе) зависимость от формы реализации исчезает, специфика разновидностей языка уходит в глубины стилистики, а содержательный водораздел общения, меняя свои очертания, сохраняется. В этом плане взаимодействие ненорм и норм, видимо, во многом определяется центробежными и центростремительными силами общества и эпохи. Их антиномия не становится категоричнее и зависит от нашего желания жить в сплочённом или в децентрализованном обществе, расколотом вплоть до разделения.
Такой более широкий взгляд на речевую культуру, требующий не просто умения правильно и хорошо писать и говорить, а умения хорошо думать, хорошо чувствовать, хорошо знать, может невольно оставить в тени даже собственно стилистический аспект, усиливая аспект стилевой. Тогда нынешняя нормативность грозит, в самом деле, раствориться в воспитании и образовании людей.
* * *
Таксон ненорм – самый объёмный в таксономии образованного языка, в отличие от таксона норм, отнюдь не стремится к сжатости, строгой ограниченности и устойчивости. Если нормы должны быть всеизвестными, то плазма ненорм на это и не рассчитывает. Это ясно в примыкающем к семейству почти норм громадном семействе ограниченных ненорм, с точки зрения тех, кто их употребляет, – даже вполне норм. Природа ограниченных ненорм зиждется на принципиально иных основаниях: они не претендуют на всеобщее принятие, будучи вполне удовлетворены царствованием в пределах одной коммуникативной сферы.
Ограниченные нормы находят питательную среду в разных функциях языка, прежде всего в языковом обособлении субкультур по социальному статусу, возрасту, полу, профессии, интересу, увлечению и т. д. Не претендуя на общеизвестность, они даже стерегутся её. В то же время ограниченные ненормы – несомненная принадлежность образованных людей и часть образованного языка. Они своего рода маркеры принадлежности к определённой группе, к своим, отделяемым от чужих, даже от всех остальных. Например, артистов, музыкантов, театралов можно отличить по формулировкам: в концерте, на театре, работать номер.
Центральное место среди маркеров занимают термины и терминосистемы разных наук и специальностей. Их подчёркнуто содержательная оценка и регуляция понятны лишь посвящённым и упорядочиваются – не без горячих споров разных школ, но с явным гордым самомнением – специалистами в пределах своих сфер. Владеющие терминосистемами, впрочем, не возражали бы и против всеобщего признания терминов, включённых в эти системы, хотя химики подают яркий пример терминологии, совсем чуждой общеязыковому укоренению, а медики уверенно считают вредными публичное знание и даже общее понимание своих терминов.
Значение идеального термина вполне произвольно, но строго однозначно его определяет дефиниция, а не анализ набора употреблений, который определяет значение обычного слова, особенно многозначного. Здесь желательна стерильная нейтральность, точность пределов, приписанных определением. Не принимаются во внимание происхождение термина, коренное (этимологическое, первичное) значение, отчего так часто предпочитается иностранное слово, отстранённое от ассоциаций и оттенков слов родного языка.
Так, шатун, напоминая о медведях или бродягах, как-то отвлекает от значения «деталь для преобразования возвратно-поступательного движения во вращение». Металлурги объясняют, что скрап лучше, чем металлолом, потому что акцентирует чистоту смысла «материал, полезный для плавки», не направляя мысль на «что-то ненужное, сломанное, негодное». Поэтому же катаракта лучше, чем водопад в глазу. Нормализация терминов в общеязыковом масштабе и не нужна, они – удел специалистов, они – для общения ограниченного круга людей, пока, конечно, не попадают в общий обиход. В общем обиходе эти слова детерминологизируются – теряют однозначную строгость: микроволновая печь, например, превращается в микроволновку с забвением микроволн, которые в ней работают.
Идентифицирующая функция заставляет профессионалов хранить ненормы, воспринимаемые представителями своего круга как их языковая особость. Много лет у меня перед глазами стоит фигура директора стройтреста, когда возмущённый задержкой строительства нулевого цикла нынешнего здания Института русского языка им. А.С. Пушкина заказчик пожаловался: «Неужели так трудно вырыть яму?» – «Это для вас яма, – яростно орал директор на профана, – а для нас это траншея и котлован!» Любой исполнитель наказания и даже судья нравоучительно поправит вас: преступник – это осу́жденный, осу́жден, а не осуждён.
Вышедшие из особых сфер термины не оправдываются бесстрастностью иноземного происхождения и уже поэтому остаются в ненормах. Разумнее вспомнить, например, понятные всем выражения: движущаяся лента, бегущая пешеходная дорожка, лестница-чудесница или, если уж на то пошло, освоенные иностранные тротуар, транспортёр, горизонтальный эскалатор, чем пугать простых людей внедряемым в аэропортах травалатором. В то же время технизация нашего быта вряд ли оправдывает позицию «Словаря Академии Российской», принципиально исключавшего все термины наук и профессий.
В рассматриваемом семействе есть ещё стихийно ограниченные ненормы. Как и научно-профессиональные термины, они вполне удовлетворены царствованием в пределах одной коммуникативной сферы. Таковы профессиональные Мурма́нск, компа́с, камбуз у моряков; ру́дник, до́быча, на-гора — «вверх, наверху» у горняков; ста́нковый пулемёт у военных и станко́вая живопись у художников. К примерам судейского языка добавлю возбу́жденное дело, возбу́дить повторное расследование. На мой вопрос: «Когда же вы откроете дело?» – прозвучал нравоучительный ответ: «Открыть можно только форточку. Дело же мы возбу́дим в своё время».
Медики о зачатом ребёнке говорят плод, пло́да… пло́ды (хотя общая норма плода́, плоды́), смеются над тем, кто говорит желчь, а не жёлчь: она же жёлтая! Они признаю́т только анализ кро́ви, содержание гемоглобина в кро́ви, вообще-то так и в общем языке («Мы с ним одной кро́ви»), хотя распространено и конечное ударение. Во всяком случае, в Санкт-Петербурге любуются храмом Спаса-на-Крови́; многие словари различают в одном и том же падеже в кро́ви и на крови́, совпадающие с предложным – о крови́. Повара́ (или из уважения к профессии лучше здесь предпочесть по́вары) говорят соуса́, хотя общеязыковая норма со́усы. Известный архитектурный памятник именуется «Провиантские склады́» (ныне там размещён Музей Москвы), хотя бытует профессиональное скла́ды.
Фанаты интернет-общения говорят сидит в се́тях («Эхо Москвы». 2013. 18 февр., 7:35). В Питере не любят привычное москвичам слово раздевалка и говорят по-старому гардероб; в Брянске же это раздевальная и раздевальня. Военных передёргивает, когда они слышат на мане́врах, а не на манёврах.
На мой вопрос, как он говорит – кило́метр или киломе́тр (будучи о ту пору нахальным аспирантом, я всех, кого мог, об этом спрашивал), замечательный человек и великий металлург И.П. Бардин решительно ответил: «Это смотря где как. На Новолипецком заводе [он тогда внедрял там метод непрерывной разливки стали. – В.К.] только кило́метр, а то подумают: зазнался академик. Ну, а на заседании Президиума академии, конечно, киломе́тр, а то ваш академик Виноградов морщиться будет».
Сегодня мы не так уж мучаемся, но всё-таки хорошо, что всё вариативное пока ещё не превратилось в норму, что пока ещё растёт объём ненорм, не позволяя чувству стиля, пусть не столь обострённому, как у вице-президента АН СССР тех времён, опуститься на ноль.
Меня интересовало, что сильнее: социальный запрет, наложенный на метрические термины с французским ударением на конце (килогра́мм, сантиме́тр, децибе́л, миллиба́р), или языковая унификация, требовавшая того же ударения, что и ранее освоенные заимствования на – метр (баро́метр, термо́метр, спидо́метр, тахо́метр). Тогда и зародилась мысль об играх нормализации в интересах социума и в интересах языка.
Бессмысленно, видимо, пытаться устранить ненормы, которые имеют возрастной, территориально-географический, социальный, политический и иной характер, складываясь даже в некие единства: регионолекты, социолекты, профессиолекты. Однако неразумно также считать их частью общей правильности, идя на уступку теоретикам вариативности норм.
Среди стихийно ограниченных ненорм, как и в терминологиях, нередко предпочитаются иностранные слова. Их неизвестность, малая и неточная понятность здесь служат не чистоте обособления, а какому-то смягчению: лузер, киллер звучат не так грозно, как неудачник, убийца, уголовник. Недавно ставшие известными фейковать, фейк (издевательски выражающие несогласие; от английского fake – «фальшивка, подделка» в противовес лайк) означают псевдостраницу в социальных сетях. Так, Агентство фейковых новостей, полагая, что враньё, похожее на ожидаемую правду, вызывает особо сильный отклик, сообщило, будто Институт лингвистики в Тарту объявил русский язык мёртвым и запрещённым для употребления. В отличие от агентства, считающего свой абсурд полезной сатирой, Д. Каралис в статье «Фейковина» (ЛГ. 2012. Окт. № 4) сомневается в безвредности подобных альтернативных шуток.
Рассматриваемое семейство ненорм склонно к тавтологии разно окрашенных аналогов: патриот родины, коллега по работе, крупный мегаполис, магазин по продаже, планы на будущее, фейерверк огней. Любопытно распространилось явно ненормативная, но многим кажущаяся литературно «красивой» контаминация имеет место быть, ненормативно сопрягающая нормативные имеет место и бывает.
* * *
Отдельное семейство таксона ненорм составляют окказионализмы – малопредсказуемые и многочисленные единицы, создаваемые индивидуально и единично по случаю или в шутливой игре слова и формы. Творение окказионализмов, «слов по аналогии» – в правилах Нормы языка (с большой буквы), но сами по себе они, конечно, не нормы и даже не всегда укрепляются как ненормы.
Среди окказионализмов интересны однодневки – изобразительные или шутливо-бытовые образования по аналогии с нормативными, которые часто стоят рядом: «каблук сломался, и она вприскочку, вприхромку заковыляла по коридору» (ср.: вприпрыжку); «больше каши не хочу, уже накашился» (ср.: наелся, напился); «днюя и ночуя на передовой» (Глуховский Д. Метро 2034. М., 2009. С. 37); детолишённая (ср.: умалишённая; о матери, которую трижды лишали родительских прав (РГ – Неделя. 2012. 1 нояб.); «Ты не первый год член жюри… жюрила в украинском телепроекте» (АиФ. 2013. № 16); «Требуем чебурашек, сделанных в России! Они самые чебурахнутые в мире!» (АиФ. 2013. № 16); «Докатились, господа. Довыкаблучивались на популярных ток-шоу, в которых со страстью полощут очередное грязное бельё. Дотрепались в радиоэфире, где можно измываться не только над русским языком, но и над здравым смыслом. Довыпендривались в блогах, где вообще границ не существует и можно всё, а чего нельзя, то тоже можно» (РГ. 2012. 23 окт.).
Максимального накала эта «бездонность» тонко организуемого языка достигает в таком пассаже: Борхес «пишет коротко, сжато и точно, – хочется сказать эргономично… чтобы море человеческой глупости, прагматичности, сиюминутности, кое-какности и спустярукавашности не захлестнуло меня… Он был для меня и спасательным кругом в волнах американского студенческого менталитета, и пробным камнем. Можно ли быть и кругом, и камнем одновременно? – вопрос тоже вполне борхесовский. Можно!.. Не “про что”, а “как”, а точнее, “как про то, что” – всё же было и остаётся основным удовольствием и смыслом словесного искусства» (Толстая Т. Переводные картинки (в серии «Пасха») // Изюм. Избранное. М., 2004. C. 343–346).
К окказионализмам относятся особые образования вроде поназарабатывали тут (РГ. 2012.23 нояб.), понаехали, понапустили, а также шутливые контаминации (к сожалению, весьма частотных у нас глаголов перепил и недовыпил): перенедовыпил, недоперепил, с расшифровкой значения «выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел». Иногда здесь складываются своеобразные модели: шуба расшубилась, ремень разременился, картуз раскартузился.
Оказались актуальными воспроизводимые как цитаты, без касательства нормализации, врач первого контакта (обычно терапевт), дорожная карта, включить счётчик, по умолчанию, работать с документами, сидеть на игле, посадить на иглу, по барабану (безразлично), разбираться по понятиям (не обращаясь в суд), чемоданы грязного белья (собранный компромат), руконеподаваемое время (так характеризует конец прошлого века маршал Д. Язов (РГ – Неделя. 2013. 5 дек.), хотели как лучше, а вышло как всегда. Последнее чрезвычайно популярное выражение приписывается В.С. Черномырдину, а самые нервотрёпные документы запустил на его похоронах Г.Н. Селезнёв. Заодно уж: подзаголовок статьи главного редактора ВМ А. Куприянова к 65-летнему юбилею самого Селезнёва весьма показателен лексико-синтаксически: «Не вылазил из высоких кабинетов на Старой площади? Да. Но с портфелем, полным неопубликованных гранок» (РГ. 2012. 6 нояб.). Трудно им, газетчикам, не выходить за пределы образованного языка, жить нормой, без ненорм, без окказионализмов и даже без антинорм.
* * *
Вряд ли стоит печься о норме и, если хотите, о ненорме во всех случаях. Всеохват в любом деле не нужен и неосуществим, хотя увлекает вполне здравомыслящих исследователей. Замечательный лексиколог В.В. Морковкин мудро ввёл в научный оборот понятие и термин агноним для обозначения редких малоупотребительных слов, чьё произношение часто столь же мало известно, сколь и значение. Не поднимается рука ни считать их нормами, ни исключать из образованного языка: «Если исходить из того, что право на родной язык в полном объёме – такое же неотъемлемое право человека, как его право на жизнь, то естественно заключить, что ограничения здесь могут накладываться только языковыми особенностями человека и его свободной волей» (Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем). М., 2007. С. 194).
Примерами агнонимов могут служить: окани – «парнокопытные из семейства жирафовых», изонить – «закладки для книг, цветоведение в технике изонити» (Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2010. № 4). Агнонимом может стать и ранее всем известное слово: прянуть – в словаре Д.Н. Ушакова: «шевелить, шевелиться» и «прыгать» (устар.), прядать – «шевелить ушами» (о лошади).
Хотя ненормы типа агнонимов, как и все специальные термины, не могут и не должны быть объектом знания всех образованных носителей образованного языка, многие в силу личных склонностей настаивают на обратном. Ректор МГУ академик В.А. Садовничий заявил убеждённо, что недопустимо не знать, что такое ЦЕРН и терафлопс (РГ. 2011. 28 окт.), однако вряд ли, в самом деле, всем полезно знать о существовании около Женевы Большого адронного коллайдера. Персонаж романа «Весь мир театр» утверждает, что русские не способны отличить удон – «пшеничная лапша» от собы – «лапша из гречки». За это обвинение целой нации в неполноценности некто призвал привлечь к суду как экстремиста, пищущего под псевдонимом Б. Акунин, Григория Чхартишвили, который сам узнал названия японских блюд из кулинарной книги. К счастью, обращение было отклонено судьёй как нелепое требование всем знать всё.
* * *
Чем грамотнее человек, тем богаче его язык, включающий не только нормы, но и ненормы, с разумением их различий и рамок применения.
Констатация реальности не означает призыва к стихийному попустительству. Язык свободен, нормы же консервативны и сдерживают свободу. Людьми привносимые, они создают, пусть и условно, однозначное, общепринятое ядро, оберегающее взаимопонятный язык. Нормы не должны вариативно колебаться, быть неопределёнными и шаткими. Допустимых параллельных единиц выражения, существующих не как ошибки, но и не в особом, высоком и порой скучном, звании норм, на самом деле (даже без учёта потребностей выразительности, самоидентификации людей, причём не только одних поэтов), в языке очень много. Однако у них всё же нет постоянной прописки в культивируемом общем языке данной эпохи, нет гражданских прав в их полноте, нет силы эталона безоговорочной правильности.
Чтобы понимать носителей одного языка, надо, безусловно, знать корпус норм. Ненормы же, как соусы, придают пикантность общению на образованном языке. По желанию и к месту невозбранно и образованным людям ими пользоваться. Ненормы, повторимся, отнюдь не антиподы норм и уже совсем не их враги в отличие от антинорм. В то же время при всём уважении нормы нельзя растворять в ненормах. А.С. Пушкин дальновидно призывал дать русскому языку «поболе воли, чтобы развивался он сообразно законам своим». Сообразно законам воля не есть распущенность и вседозволенность.
Без затруднений все понимают очень различные языки «Радио России» и радиостанции «Эхо Москвы», «Российской газеты» и «Московского комсомольца», потому что у этих СМИ одинаков базовый набор норм. А в выборе ненорм эти СМИ мало совпадают. У каждого из них есть свой набор ненорм, и порой понять их значение можно только из контекста. Различаются даже такие стандартные, типичные в смысловом отношении элементы радиопрограммы, как заставка перед новой темой: у одной программы – «Всему своё время», у другой – «Раз-ворот. Развернитесь, пожалуйста!»; переход к новой теме – «Что, где, когда» и «Кто куда». Если нормы ответственны за безусловное взаимопонимание людей, то ненормы отвечают за индивидуализацию, за разнообразие, без которого не хотят жить себялюбивые люди. Это ещё одна из причин, по которой ненорм значительно больше, чем норм.
Актуально звучат замечания Б.А. Ларина о том, что «…мы опоздали с научной разработкой языкового быта города» и что поэтому «так шатки и неполны у нас и исторические, и стилистические объяснения литературных языков». Важнейшим качеством образованной, культурной правильности предстаёт стремление к порядку, но её консервация в благом стремлении к строгой дисциплине грозит омертвлением литературного канона.
Л.В. Щерба многажды возвращался к мысли, варьируя её, о том, что опасно поддерживать устаревающие нормы и разумно поддерживать «вновь созреваемые нормы там, где их проявлению мешает бессмысленная косность» (Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Избранные работы по языкознанию и фонетике: В 2 т. Л., 1958. Т. 1. C. 65–66).
Осознание нормализации как постоянного процесса есть существенный признак образованного и образуемого языка, выступающего в каждую эпоху с общими, но и своеобразными чертами книжности и некнижности. Причём последняя далеко ушла тематически и лингвистически от бытовых разговоров, не связана обязательно со звучащей формой и личным контактом, существует в печатной, дисплейной и иных возможных формах. Историю языка характеризуют два стремления: первое – к сохранению и укреплению действующих норм и второе – вынужденно значительно консервативнее – к преобразованию уже сложившихся, регламентированных и внедрённых кодификацией.
6. Кодификация
Общий взаимопонятный и правильный язык, литературно и нормативно образованный, должен быть законодательно, официально, определённо закодирован (пусть и таксономически) и, что ещё труднее, повсеместно внедряем, насаждаем с младых лет как всеобязательный канон. М.В. Панов называл его кодифицированным, подчёркивая, что развитие языка, как ни парадоксально, состоит в том, что он всё меньше изменяется (см. раздел 2).
За постоянство языка отвечает кодификация, которая, в отличие от нормализации, обязана представлять вечный процесс изменения, напоминающий кинопроцесс со сменой моментальных фотоснимков – стоп-кадров, придавая каждому из них видимость непреходящей правильности, пока они не становятся со временем очевидным достоянием альбома воспоминаний. Для этой сложной и ответственной работы необходим, конечно, авторитетный научно-организационный орган, имеющий большие полномочия и действующий под тщательным присмотром общества и властных структур.
Не будет большим преувеличением сказать, что пока нет серьёзной централизации кодификаторской деятельности ни в идейно-содержательном, ни в организационно-внедренческом плане. Напомню, что для языка нет подобия Палаты мер и весов, хранящей эталоны. Да и не очень ясно, откуда их взять. Конечно, есть некоторая база, но не специально этому посвящённая, в Институте русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук в Москве и его филиале (Словарном секторе) в Санкт-Петербурге, в других исследовательских центрах, редакциях педагогических и словарных издательств, на кафедрах вузов. Деятельность этих организаций отражают академические грамматики, словари, «Свод правил русской орфографии и пунктуации», массовые учебники, многочисленные, порой противоречивые справочники.
Хотя и не обеспечивается востребованное в этом деле полное единообразие, медленно, но обновляются, как теперь говорят, стандарты обучения, учебно-методические комплексы и рабочие программы дисциплин, сами учебники и словари, корректируются правила правописания. Учебные заведения, а также средства массовой коммуникации по-своему успешно, хотя и не всегда согласованно насаждают установленные коды.
Сущность кодификации теснейше увязывается со всеобучем, с массовым внедрением достигаемого. Важно озаботиться тем, что именно материально составляет общий костяк образованного языка, причём вопрос о его функциональной цели и предназначенности, о его соответствующем объёме и характере, к сожалению, сейчас даже не ставится. Забывается и то, что нормы должны служить ещё и точкой отсчёта, если в целях выразительности высказывания нужно отойти от них. В силу абстрактности идеала глобальной нормы сам образованный язык фактически рассматривается и кодифицируется всего лишь как совокупность норм. Вне кода остаётся слишком многое, отнюдь не запрещаемое, да и запрет нельзя признать видом кодификации.
Специализированная и правомочная институция для языковой кодификации существует лишь в мечтах. Страшнее, однако, другое: нет и неизвестно, появится ли обоснованная глобальная идея правильности языка – оптимальной его всепригодности для общения, исторически меняющегося, усложняющегося по содержанию и формам. Основываясь на анализе коммуникативных потребностей государства и общества, обобщая нужды всех граждан при их согласии в интересах национального сплочения и прогресса, норма задавала бы магистральный путь движения в бесконечности переплетающихся индивидуальных и групповых потребностей и обусловленностей. Этот путь привёл бы к выявлению обобщённой идеи как исходной точки решений. Недаром говорится, что надо всё усложнить, чтобы сделать простым главное.
Современная иммунология, например, всё увереннее сводит все известные заболевания к воспалению, которое толкуется как сигнал нарушения здоровья, его нормы. Впрочем, ещё Гиппократ говорил: «Дайте мне силу вызвать воспаление, и я излечу любую болезнь». Всестороннее познание сущности этого явления, показателем которого служит повышение уровня С-реактивного белка (СРБ), позволит предупреждать и лечить болезни включением защитных иммунных механизмов. Описывая всеобъемлющую картину охраны здоровья от риска всех заболеваний, выдающийся медик, директор американского Института здоровья Nutrilite Д. Джонсон утверждает: «…повышенный СРБ сопровождает все наши факторы риска сердечной болезни и рака, других хронических заболеваний» (Johnson D. Optimal Health Revolution. 2008). Воспаление, этот защитный ответ иммунной системы на повреждение или раздражение клеток, и есть причина и показатель, из которых следует исходить медицине.
Найдя «воспаление» в языке, то есть познав корень зла, нетрудно будет заменить нормализацию кодификацией, представить образованный язык в виде разнонаправленных его применений, а то и вообще свести к иным функциональным кодам. Во всеобъемлющей картине наступающего этапа истории правильно образованного языка кодификация найдёт главную ось движения, что позволит чутко контролировать обороты вокруг неё.
Глобальная идея должна уловить и согласовать то общее, что исходно, природно роднит законы саморазвития системы языка и законы социального прогресса при всех капризно непостоянных политических, экономических, культурно-психологических зигзагах, даже предпочтениях отдельных персонажей. Эта идея должна представить саму́ю правильность как функцию взаимодействия их совместного исторического движения. При этом нельзя привычно ставить знак равенства между всегда искомой правильностью языка и его нормативностью, считая последнюю обязательным его признаком, а не порождением какого-то этапа его истории.
* * *
Первоначально правильно образованный язык, несомненно, определялся естественным человеческим осмыслением своего и чужого. Позже он задавался устройством княжеств, их раздорами и союзами, желаемо или вынужденно следовал за языком своего князя, его веры, дружины, суда. В эпоху феодализма с торжеством православия и появлением письма, которое, помимо всех своих достоинств, служит ещё и серьёзным её фиксатором, общая правильность исходит из религиозных текстов и ими, а затем и законодательными «правдами» строго задаётся.
Эпоха формирования нации знаменуется усилением государственности, территориальным, духовно-культурным и языковым единством; индустриальная экономика порождает «жизнь по фабричному гудку», строгие нормы труда, выработки, оплаты. Своеобразная книжно-славянская и устно-русская диглоссия постепенно заменяется противопоставлением книжной и некнижной (разговорной) разновидностей неоспоримо единого языка. Становление нации по нынешний день живёт этими понятиями, перенеся с середины позапрошлого столетия самоё слово «норма» и на язык как критерий его правильности.
Вероятно, жизнь в ближайшие годы задаст новое понимание оптимального образованного языка несмотря на скепсис научных кругов относительно реальности такого развития, да и самой возможности институированной кодификации. В обществе не наблюдается сомнений в полезности кодификации, и не только среди педагогов. Однако волей-неволей вся нынешняя кодификация обречена по-прежнему действовать в царстве нормализационных игр с волюнтаризмом и субъективизмом, по определению свойственными играм как явлению.
Между тем уже сегодня отношение к нынешней нормативности со всей очевидностью ведёт к фактическому пренебрежению ею, пусть и при риторических призывах строгого соблюдения отдельных норм (вроде пресловутых споров о роде слова кофе или об ударении в слове йогурт). Постепенное молчаливое забвение императива норм, как и теории функциональных стилей, свидетельствует о скором пришествии новых представлений о правильности языка, связанных, видимо, с грядущим признанием иерархии его применений (см. раздел 7).
Всё же пока кодификация обречена быть лишь чистовым экземпляром нормализации. Во благо и на радость кодификаторам частные новшества (нормы в языке) и тем более системные перестройки (и сдвиги в Норме языка) происходят сокровенно и незаметно. Противоречия интересов и мнений мешают сгладить исторически усложняющееся общение, пусть на какой-то срок условно остановить развитие.
Руководствуясь или делая вид, что руководствуются Нормой языка, кодификаторы сосредоточены на традиционном понимании норм в языке – на том, что С.И. Ожегов обозначил как «совокупность наиболее (так!) пригодных средств» (см. раздел 4.3), и имеют целью следить за тем, как их соблюдает население. Но что конкретно понимать под успокоительным выражением «наиболее пригодные»?
При любом повороте событий можно ждать серьёзных изменений как в стилистике, так и в самом употреблении языка, понимании его правильности. Из блюстителя общей сингулярности норма парадоксально превращается в антиисторический тормоз развития. Грустно и не верится, что привычное и любимое уходит в небытие. Отсюда и реакции языковедов – от теорий вариативности норм до предлагаемого понимания этих процессов, начавшихся с формирования великорусской нации и, соответственно, построения топологии нормативности.
Кодифицируются со всей строгостью (и проще всего) попавшие в светлое поле общественного сознания и составляющие ядро образованного языка долгоиграющие нормы, прежде всего системообразующих его подсистем. Кодификаторы часто воздерживаются от кодификации таксона ненорм даже в семействе почти норм, хотя именно здесь возникают оценочные недоумения и споры. Одни кодификаторы довольно смело расставляют ограничительные пометы вроде и устар., ошиб., неправ., нереком., доп.; другие ограничиваются перечислением примеров употребления.
Наш лингвоцентризм заставляет нас излишне жаждать полноты и окончательности в решениях. В правописании это доведено до абсурда, но даже оно, устанавливаемое законодательно, далеко от прозрачной обоснованности и логичности, подвержено преходящим поворотам жизни. Первый законодатель орфографических правил, до него явно бывших объектом проб и ошибок и никаким сводом не утверждавшихся, академик Я.К. Грот, в сущности, упорядочил лишь написание буквы ять, совпавшей в чтении с е. Объём нынешнего свода растёт, поскольку его цель понимается не как предупреждение ошибок в главных орфограммах, а как желание дать их исчерпывающий список, узаконить всё и вся. Это недостижимо, в своде всё равно не найти, скажем, достаточно распространённых написаний с апострофом и очень многого другого (картинка 7.7). И хорошо, что не найти!
Будучи привнесённой в язык, категория нормы, как будто бы извечная, уже мешает языку преодолеть раскол на книжную и некнижную разновидности, чтобы соответствовать хотя бы роли дисплейных текстов, вообще текстов звучащих и свободно в звуке фиксируемых. Укрепляя единство языка, категория нормы в то же время препятствует объединению целевых разнотипных ситуаций общения, учитывая его интенсивность, многообразие содержания и разные способы фиксации текстов.
Особо пагубного нет, если это исходит от общепризнанного авторитета, от личности великого проникновенного таланта. Так, А.С. Пушкин синтезировал западничество (по Карамзину) и рациональное зерно славянофильства («Шишков, прости…»), изложив свои теоретические взгляды в статьях и заметках, но – главное – подтвердив их блестящими, захватившими ум и чувства современников и потомков стихотворными и прозаическими текстами. Эти образцы влиятельнее любого научно выверенного справочника кодифицировали гениально уловленный Пушкиным глубинный вектор языковой нормализации на рубеже XVIII–XIX веков, причём так, что его синхронность простёрлась до наших дней, возвысив поэта до великого звания – Творец нашего современного русского языка.
Мнение и практика поэтов и писателей восприняты у нас как источники подражания. Да и повсюду фактор престижа персонажей, как заметила ещё новая филология, заметно воздействует на употребление, на восприятие правильности языковых фактов. Но всё же опора на нормализацию, проходящую в мало подконтрольных учёному разуму играх людей и языка, – дело не самое надёжное.
Нормализация чаще всего аргументируется моментальными снимками правильного состояния языка («а у Тургенева иначе…», «Мандельштам же писал так…»). Пытаясь объединить их в серии, кодификация, как послушная игрушка, усредняет эти кадры-примеры в длительный, если не вечный, крайне вкусовой портрет образованного языка. Вечно текущий процесс, начавшийся с осмысления правильности как обязательного свойства единого языка, объединяющего этнос, превращается в субъективную субстанцию. Она и кодификацию обрекает стать условной фотографией, удостоверяющей нечто заявленное в названии нации, языка и государства. Причём и тут нередки случайности: страна называется Латвией, её язык – латышским, этнические жители – латышами, а по гражданству вместе с иными жителями – латвийцами. Если вспомнить споры вокруг слов российский и русский, синонимизировавшихся ещё и с советский, то можно лишь завидовать тем, чей язык этих различий не ведает.
Обществу, однако, нужно, чтобы кодификаторы по долгу службы объясняли, даже когда это трудно, что правильно и что неправильно. Среди современных кодификаторов преимущественно компетентные милые дамы с неоспоримым вкусом, пусть и ретроспективно обращённым. Им, в основном выходцам из педагогики, конечно, ближе интересы социума, нежели языка и его изучающей науки. Они призваны ослаблять диктат языка в интересах общества, но они никогда не смеют насиловать, искажать его единицы и законы. В целом предлагаемые современными кодификаторами решения выверены, обдуманы, хотя заданы прежде всего традицией. Проверенное историей надёжнее безоглядных новшеств. Но многим стремление к однозначности, необходимой в обучении и в практике строгого информативного общения, не нравится. Властно замораживается так или иначе достигнутая, зафиксированная печатно в словарях и учебниках нормативность. Она покушается даже на будто бы излишнюю вариативность, которая согласована с нормализацией в интересах общества и в интересах языка, но справедливо игнорирует вечное дыхание океанической бесконечности, из которой образованный язык извлечён и продолжает извлекаться.
Люди вообще не замечают своей зависимости от языка. Он привлекает внимание, лишь когда не может удовлетворить их потребности, желания, мысли. Чаще всего это возведение на язык напраслины: просто сами не вспоминают, не знают нужного слова, не дают себе труда поискать подходящую конструкцию. Но бывает – обычно с появлением новшеств в жизни, на которые язык ещё не успел среагировать, – что ему, в самом деле, надо «исправляться».
Существует то ли врождённое психолингвистически, то ли происходящее от обучения и социального становления желание быть правильным в языке. Оно чаще всего увязано с осведомлённостью, но не с обоснованием. «Не допрашивайте почему. Просто известно, что правильно так». Эта банальность верна: язык относится к первоначальному натуральному познанию мира – от мамы, семьи, окружения, начальной школы. Унифицирующую роль играют средства массовой информации. Лишь позже развивается рациональность, и разум связывает утверждение если не с доказательством, то опять же… правильно, потому что так у Пушкина, Тургенева, Бунина… Так в словаре Ожегова. Самая тема возникает, когда говорят, пишут не так, как считается правильным в моей среде. Но механизм внедрения остаётся более сложным, чем кодирование нормы само по себе.
С.И. Ожегов уточнил сюжет наблюдением, что многие неправильности обычно просто не замечаются, что в каждый данный период есть некоторый, попавший в светлое поле общественного сознания, как правило, не очень большой их набор, существующий как оселок для суждений о языковой культуре человека. К таким, по его выражению, «лакмусовым бумажкам определения культуры языка» относились в середине прошлого столетия ударения мо́лодежь, ква́ртал, по́ртфель вместо молодёжь, кварта́л, портфе́ль.
Вряд ли эти ударения «действуют» сегодня: популярные строки «Эту песню запевает молодёжь … эту песню не забудешь, не убьёшь» затмили влияние украинского мо́лодь. Ква́ртал перестал посягать на общелитературное кварта́л, замкнувшись в бухгалтерской сфере. Сегодня не очень понятна ходячая шутка: разница между до́центом и доце́нтом в том, что у первого в по́ртфеле доку́менты, а у второго в портфе́ле докуме́нты. Международное портфо́лио окончательно помогло устранить по́ртфель, да и сам он заменился сумкой, папкой, рюкзаком.
Конкретный набор таких «лакмусовых бумажек» не очень велик, он социально осознан, исторически изменчив. Дореволюционный узус ограничивался словами еда, провизия, в воинских кругах употребляли слова провиант, продовольствие. Последнее слово стало самым распространённым в первые советские годы, постепенно заменяясь на продукты (эмигранты, зная лишь учёное выражение продукты распада, смеялись). Сегодня обходятся без этих слов, предпочитая купить еды (поесть), молока, хлеба, сходить за рыбой, колбасой, хлебом в магазин – гастроном, супермаркет.
Как и сегодня, не замечали колебания на две́ри/на двери́, в но́чи/в ночи́, но ясно ощущали недопустимость ударения в свя́зи при норме в связи́: настроение тогдашнего социума разводило их – в этой свя́зи ощущалось в смысле грешных, интимных отношений, тогда как в этой связи́, в связи́ с этим – лишь как нейтральное союзное слово. В эпоху повсеместных очередей вопрос «Кто последний?» звучал унижающе и опасно; его противники ссылались на лётчиков, которые никогда не говорят в последний полёт, но только в следующий. Предпочитали тоже не так уж возвышающий «Кто крайний?», а ещё лучше – «За кем я буду?» Очереди тогда играли важную роль, и существовал строгий этикет общения в них: «Откуда узнали?» – «В очереди вчера говорили»; «Почему опоздал?» – «В очереди два часа простоял. – Зачем стоял-то?» – «Бананы давали»; «Я отойду, скажите, что я за вами заняла». Сегодня молодёжь может не понять и другой частый вопрос в поликлинике: «Вы к кому сидите? Ах, тоже к окулисту?» Нынешняя молодёжь намного терпимее, она просто не замечает, в отличие от предков, ломавших из-за них копья, зво́нишь – звони́шь, кто последний – кто крайний.
В отдельные годы наблюдается стремление то сокращать состав актуальных «определителей», то, напротив, увеличивать их число, приписывая каждому ту или иную функцию. Это надо принять как неизбежную социально-субъективную роль деятельности кодификаторов. Сегодня следить за языком ближних стало немодно, а «лакмусовые бумажки» беззлобно сводятся к немногим: жалюзи́/жа́люзи, йо́гурт/йогу́рт, экску́рс/э́кскурс, диску́рс/ди́скурс, класть/ложить, поезжай/езжай, ехай, а также к насмешливой вечной защите то мужского, то среднего рода слова кофе.
Вмешательство авторитета, например увлекательное разграничение С.И. Ожеговым слов языко́вый и языково́й (картинка 7.6), имело успех, потому что преодолевало раздражающее людей, стремящихся к чёткому порядку, безразличие языка к колебаниям в ударении без привязки его к разным значениям слова. Эти чувства обостряются в некоторые периоды истории общества, настроенного на борьбу против излишеств вариативности, за определённую однозначность во всём. В годы остроумно обоснованного предложения в статье «Языково́й и языко́вый» (Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955) в обществе как раз и велась борьба за однозначность понимания слов.
Люди легко сподвигались на поиск основ для разграничения самых различных сосуществующих вариантов, вообще расширение круга и устрожение результативности кодификации. Сектор культуры речи академического института во главе с С.И. Ожеговым старался или семантически размежевать варианты, или запретить один из них. Например, туристский относили к туристу (рюкзак, палатка, куртка, вещмешок), а туристический – к туризму (бюро, фирма, индустрия).
Разумеется, полной победы над своеволием языка одержано не было. Самые умудрённые носители языка сбивались в употреблении туристский и туристический, как вполне просвещённые всё ещё путаются в рекомендуемом применении языко́вый и языково́й. Тем более не проходят совсем произвольные рекомендации вроде попытки закрепить апельсиновый, мандариновый за деревом, рощей, а апельсинный, мандаринный – за коркой, кожурой, при этом джем и цвет называть мандаринным, но почему-то апельсиновым, а банановыми, ананасовыми рекомендовали называть джем и цвет, а бананными, ананасными – корки и плантации, благо бананы растут на кустах, а ананасы вообще не на дереве, а, как капуста, на земле.
Заведуя по смерти С.И. Ожегова сектором культуры речи, я тоже пытался бороться с вариативностью, предлагая, скажем, устранить колебания трейлер и трайлер, навязав прицеп, изгнать щупальцы в пользу щупальца, совместить значения «извилистая горная дорога» и «разноцветная бумажная лента» в слове серпантин, а слово серпентина запретить. Ну и так далее (см.: Костомаров В.Г. Статьи старых лет. М., 2010. Прил. II, Miscellanea). Более чем пятидесятилетний личный опыт убедил меня в том, что семантическая кодификация, даже хитроумно поддержанная культурно-историческими доводами от разума и настроения социума, вряд ли в самом деле совершенствует язык. Она, скорее, мешает его саморазвитию, да и затрудняет людей.
В отличие от нынешнего безразличия к формальным произносительным и морфологическим вариантам, смысловая и стилевая однозначность той эпохи требовала освободиться от простых дублетов (признать киевск(а)й, ш(ы)ры; напроказничать, объявив неправильными киевс(к’)ий, шары; напроказить) пусть весьма наивно и произвольно (рельс, но канистра при отвергаемых рельса и канистр). Добиваясь точности в смысловой лексике, кодификаторы пытались иногда содержательно разделять по оттенкам значения и грамматические формы: жду вашего ответа (любого, каким бы он ни был), жду ваш ответ (конкретный, определённый), несколько студентов там было (некая группа из них), несколько студентов там были (были и отдельные студенты).
По динамической концепции Л.И. Скворцова различаются нормы императивные (алфави́т, при́нял, ку́рица, благодаря чему при недопустимых алфа́вит, приня́л, кура, благодаря чего) и не строго обязательные диспозитивные (ба́ржа/баржа́, в отпуске/в отпуску, ина́че/и́наче, заво́дский/заводско́й). Произвольный субъективизм тут всё же очевиден.
Ещё строже и однозначнее были авторы мониторинга в октябре 2000 года под руководством ректора Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания Б.М. Сапунова. Враждебные к любым вариантам, они, слепо следуя словарю ХХ столетия, считают ошибкой, например, инспектора́ вместо инспе́кторы, запрещают осетинов вместо осетин и непоследовательно якут вместо якутов, требуют говорить пре(ц)едатель, иЩЩезать, а не преседатель, иСчезать (Нарушение норм русского литературного языка в программах центральных телевизионных и радиоканалов. М., 2000). Даже при очевидном субъективизме такой подход плохо согласуется с иерархией нынешнего функционирования правильного (так!) языка (см. раздел 8).
Кодификаторы разрешают куда меньше, чем позволяют глобальная норма языка и даже нормы в языке, не говоря уже о выборе из ненорм в рамках системы языка и желаний людей. Они по мере сил и, несомненно, в интересах удобства общества как бы растягивают текущую синхронию состояния языка, но не смеют ни игнорировать результаты нормализации, ни тем более лишать язык развития в целом. Хочется объявить верным ударение йогу́рт, потому что слово пришло с Востока через Францию и произносилось на французский лад, но, зная напиток по Европе, люди предпочитали английскую огласовку йо́гурт, и ничего не поделаешь, пришлось подчиниться. Важнейшей чертой кодификации надо счесть её фиксированную рекомендацию внедрения. Это надо было бы приветствовать двумя руками, если бы у неё была твёрдая и убедительная научная основа.
Если полистать словари, особенно так называемые словари правильности (иногда называемые словарями неправильностей), то нетрудно уловить, что пока это происходит явочным порядком, необъяснимо и сокрыто. Впервые творо́г был включён ради пометы: творо́г, ошиб. тво́рог в конце ХIХ века, что означало, что уже кто-то так говорил. Последующие словари помету меняли: (неправ.) тво́рог, потом осторожнее: (не реком.) тво́рог, ещё мягче: (допуст.) тво́рог. Новейшие издания дают обе формы творо́г и тво́рог на равных, и надо ожидать, что в ближайшем будущем прочтём: тво́рог и (допуст.) творо́г, а затем и тво́рог, (не реком. устар.) творо́г. Прогноз диктуется наблюдением за причиной сдвига ударения и тем, действенно ли оно для других слов с исходом на – ог. Таких примеров постепенно-осторожного следования кодификаторов за развитием нормализации немало, но они притягивают к себе общее внимание, становясь одной из «лакмусовых бумажек» данного периода. Это зависит, несомненно, и от игорно-неровных «успехов» самой единого принципа не имеющей нормализации и, соответственно, кодификации, мало способной употребить силу.
Сводясь к отражению, насаждению, отчасти оценке плодов, созревших в ходе нормализации, кодификация способна лишь проводить «красные линии», разделяющие нормы – разрешённое, узаконенно правильное; ненормы – допускаемое с оговорками и антинормы – безоговорочно незаконное, запрещаемое. Описание и утверждение достигнутой на данный период нормативности призваны представить образованный язык как явление, желаемо неподвижное, застывшее. Разумеется, презреть, игнорировать его вечное движение, даже его неодинаковое служение разным функциям и сферам общения невозможно. Язык – живой и, в принципе, не может застыть музейным экспонатом, тем более извлечённым из художественных текстов.
За исключением твёрдокаменных консерваторов, большинство говорящих на русском языке хочет видеть «красные линии» не слишком жёсткими. Одно лишь извечное желание человека выделиться, утвердить свою идентичность «особостью» языка неизбежно и достойно. Однако оно не должно затенять причастность к общенародному: стадное чувство, как и понятие здоровья, сконструировано непросто.
Отличие неограниченно свободного языка от единого образованного и индивидуальных своеобразий, не выходящих за его пределы, столь же очевидно, объективно, сколь и отличие смертельных болезней от излечиваемых заболеваний. То, что граница не очень чёткая и конкретные решения приходится принимать методом проб и ошибок, также не делает бессмысленным различение норм и ненорм в языке.
Уравнивать кодификацию с нормализацией, с игровым процессом абсолютного и относительного прогресса всё же крайне неосмотрительно. Нужна именно кодификация как непреложная языковая основа сознательного управления языком школы и общественно-государственных институций. Заботы кодификации как раз и направлены на хранение языкового единства, и, строго говоря, ей нет дела до самоидентификации говорящих и пишущих, по крайней мере пока они не слишком далеко выходят за пределы образованного языка. Однако кодификация не смеет погубить союз человека и языка, задуманный Природой для существования обоих. Как и любое вмешательство людей в неё, оно опасно даже здесь и сейчас.
Уясняя себе соотношение образованного языка с устойчивой однозначной нормой и одновременно зная её историческую подвижность в силу его развития, небесполезно обратиться к норме в медицине, юриспруденции, социологии и перенять понятия синхронной эластичности, амплитуды колебаний. Так, цель медицины – лечить болезни и лишь отчасти исправлять, улучшать, превращать людей в богов посредством химии, генной инженерии. Правда, отличить патологию от нормы не всегда легко, и не всё, что общественная традиция считает отклонением от предписаний, следует заклеймить, даже если в данный момент ненормальное одобрено законодательно.
Ортологическое исследование вариантов, претендуя на перспективность (норма как идеал будущего), не должно усомниться в ретроспективности, обращённости норм в прошлое. Динамические концепции реализованной, воплощённой и реализуемой, потенциальной нормы, даже неопределённо-расширительные, становящиеся нормой неологизмы, индивидуальные, окказиональные, создаваемые к случаю, необходимы в процессе общения. Пусть при этом норма утрачивает регулирующую роль, перестаёт сообщать речи правильность и культурность.
Кодификация обязана считаться с тем, что по содержанию и целям различаются нормализация в интересах социума и нормализация в интересах языка. Сложность этих процессов требует знать их правила, осмотрительно чтить смысловые и стилевые вариации на закрытых системообразующих его уровнях и попустительствовать их свободе в стилистике и лексике, где кодификация, как и сама́я нормализация словаря, зависит от типа и жанра словаря, от поставленной перед ним цели, особенно педагогической. Знание этих правил и опора на результаты нормализации сами по себе не гарантируют ни мастерства, ни успеха кодификации. Опираясь на систему языка, кодификация в утверждении даже центра нормативности питается всё же интересами людей. Люди проигрывают, если им не удаётся найти способы умиротворения системных сил. Но и при этом по замыслу кодификация остаётся гораздо социальнее нормализации.
Противоречивые культурно-психологические настроения общества, направленные то на поиск нового, то на традицию, мешают бесперебойно стабильной работе кодификаторов, а через них – и образованию, экономике, государственному устройству, политике. Крайности как пуризма, так и обновления не могут безнаказанно противоречить объединительной роли языка и даже отдельных его единиц. Правда, наука с её замкнутостью и собственной кодификацией ненорм, а также беллетристика с её выразительностью – изобразительностью, часто опирающейся на ненорму и даже на антинорму, под это утверждение не подпадают. Нормализация им ближе, чем кодификация.
Языковед-теоретик увлечён, как любой учёный, в первую очередь просто наблюдением за своим предметом, познанием исторических законов поведения и изменения языка, путей стихийного его развития. Анализируя ход нормализации, он может обосновать, почему смена ударения поразила творог, отчасти сапог, пирог, но не затронула десятки сходных: налог, порог и пр. (картинка 7.6). Кодификатор не может лишь бесстрастно наблюдать то, что реально происходит в языковой практике. Не его это дело – собирать примеры отхода от норм, разбираться в их причинах.
Деятельность кодификаторов, ревнителей традиционной правильности и чистоты выражения желательна, полезна, хотя часто неблагодарна и публикой не оценивается по достоинству. Однозначная норма, в частности акцентологическая, несомненно, дисциплинирует говорящих, как точка отсчёта содействует сиювременному порядку и порядочности. Однако сама по себе она совсем необязательно облегчает и украшает наше общение.
Внедрение результатов кодификации должно быть осмотрительным, неторопливым, деликатным. Оно не смеет своевольно спешить, устраняя вариативность, наказывать школьника, порицать чиновника за незнание запретов.
Кодификатор, как, заметим, и языковед, вопреки общему мнению, не всегда сам умелец в языке и знает, где истина. Он не всегда даже уверен в том, что предлагаемый им выбор есть идеальный образец для внедрения. Как и учителя-практика, его интересует то, что устойчиво, а не то, что различно и меняется. Они оба радостно послушают, что нормы противоречивы, привередливы, зависят от противостояния динамики языка и настроя людей. Но спросят: а как правильно сегодня?
Сомневаться в пользе работы кодификаторов, обвинять их в антиисторизме – дурной тон, особенно если они не слишком отдаются своему субъективизму, считаются с тем, чего хочет общество и с чем согласен язык. Порой кодификаторы вынуждены действовать своевольно, согласно с мнением властных структур, настроением общества и дидактико-учительскими установками. В целом утверждение лучшего проходит достаточно успешно и устойчиво, что и требуется для нормального стабильного функционирования единиц языка. Не только детям, но и, скажем, иностранцам, изучающим русский язык, закодированно установленную норму можно определить как то, чему следует учиться.
Если нормализация – извечный и неизбежный социально-языковой процесс, то кодификация – рычаг приведения в известность его хода, полномочный осведомитель публики об его итогах. Подобно нынешним фанатам-болельщикам кодификация в современных условиях приобретает силу вмешиваться в нормализационные игры, тормозя, ускоряя, поправляя их в духе социальных оценок данного момента, нежели языковых, системных. Она внедряет нормативность в коммуникативную жизнь и этим укрепляет этническую монолитность, государственно-национальное единство и, вероятно, черты глобальности.
Кодификация необходима в интересах солидарности населения, особенно в наши дни либерально-демократического разномыслия. По сей причине власти предержащие сейчас охотно поддерживают попытки управления языком, принимая законы об охране языка, создавая фонды, профессиональные и общественные комиссии, наделяя их управленческими полномочиями, утверждая министерские перечни рекомендуемых словарей и учебников без (пока?) запрета иных. Эта деятельность востребована и полезна, пока не мешает естественному развитию, пока её проводят, понимая природу творчески и постоянно образуемого правильного языка как сложной таксономии.
В отличие от живой, креативной, часто далеко не однозначной нормализации – благородной исторической игры, необходимая для жизни общества кодификация – почти административная деятельность, скучное законотворчество без истинного законодательства, подкрепляемого наказанием, по крайней мере до тех пор, пока не станет продуманным, научно фундированным, вызывающим всеобщее одобрение и согласие.
7. Картинки
Теория исходит из анализа фактов языка, ими доказывается, а описание её положений немыслимо без иллюстрации этих фактов примерами. Крупнейший лингвист В.В. Виноградов поучал никогда не умалчивать о фактах, не искажать и не подгонять их под своё умозрительное построение, каким бы замечательным оно ни казалось. Именно факты использовались им самим при и для изучения теории и истории, например в классической его «Истории литературного языка».
Факты могут рассматриваться сами по себе или группами по сходству. Это направление работ В.В. Виноградов оформил под названием «История слов и выражений». С.И. Ожегов в рамках такого подхода выработал жанр заметок об отдельных формах, словах, выражениях. В последние годы журналист М. Королёва прославилась просвещенческими этюдами такого рода, плодовито и плодотворно снабжая ими газеты, теле– и радиопрограммы.
Разумеется, рассмотрение фактов как таковых не отменяет их изучения ради тех процессов, которые стоят за ними, их порождают. Особенно показательно изучение сходных фактов для теоретического познания развития языка. Однако щедрое, вплоть до исчерпанности их включение отвлекает внимание, нарушая логику изложения. К сожалению, золотую середину между примерами, необходимыми для иллюстрации теории, и создаваемыми ими трудностями её восприятия не всегда соблюдал и сам В.В. Виноградов. При составлении посмертного тома «Из истории слов и выражений» издатели поместили в общем алфавитном порядке, наряду с соответствующими публикациями, также фрагменты из разных сочинений как самостоятельные исследования отдельных фактов.
В разделе «Картинки» мы собрали лингвистические иллюстрации к теоретическим положениям нашей книги. Кущи-кластеры сходных фактов вынесены в раздел, каждый из языковых фактов отражает именно языковую системность. Так подавать материал удобнее всего, это позволяет не загромождать обсуждение развёрнутыми иллюстрациями, не повторять те иллюстрации, которые поясняют не одно, но разные соображения.
В англоязычном мире (теперь и не только в нём) сказали бы case studies, к чему ближе всего наш медицинский термин «история болезни», обозначающий не только рассказы о конкретных пациентах, но именно элементы обобщения определённого заболевания. Останавливаемся на слове «картинки» – будто это книга с картинками, которые иллюстрируют, но не на страницах, а вклеены совокупно, относясь ко всей книге в целом.
7.1. Казачья вольница словаря
Чаще всего появление нового слова (создание или заимствование) или расширение значения старого (нередко с полузабвением его первоначального значения) вызвано появлением новой реалии или понятия. Так, шоу по воле всеохватывающей американомании затмило представление, показ, демонстрацию, породив даже сочетание шоу-представление – что-то, видимо, вроде хэппенинга. Внезапно гибрид чуть ли не совсем оторвался от вегетативного значения и стал обозначать автомобиль с электромотором, но, в отличие от электрокара, сохраняющий и привычный бензиновый двигатель.
Принимая новшества на полных правах, словарь мало заботится о грамматике и фонетике, которым надо их освоить, русифицировать. Тут на помощь приходит именно нормализация, чьё дело – согласовывать интересы всех уровней языка с интересами социума. Последний жаждет как можно оперативнее получать зрелые плоды нормализации, чтобы строить на них и внедрять желаемую кодификацию.
Даже скептики, отрицающие системность лексики, непосредственно отражающей бессистемную реальность жизни, не могут принять частые изменения состава и значения слов. Нормализационные игры социума и языка здесь крайне обостряются и ускоряются, заставляя молчаливо соглашаться с наблюдаемым «разгулом». Проблема нормы применительно к новым словам нередко вынужденно решается распространённостью обозначаемого и потребностью в нём. Стремительная нормализация, согласно механизмам самой лексической подсистемы, тоже идёт отнюдь не гладко, требует времени для принятия или отвержения новшества, замены, предпочтения имеющегося аналога с расширением значения. Эти соображения ясно иллюстрируются замечательным «Толковым словарём русского языка начала XХI века» под редакцией Г.Н. Скляревской (М., 2006). По невиданному в истории лексикографии замыслу это мгновенная фотография актуализированных в краткий период новых или обновлённых слов. Их отбор и оценка живым современником – прекрасный подарок будущим исследователям языка.
Представление о словнике этого словаря дают такие более или менее случайные выписки: абзац (тут ему и абзац!); авангардизм; аграрий; аграрник; актуальный; аляска (тёплая куртка); анимация (=мультипликация); артгалерея (-бизнес, – дилер…); аудиодиск (-текст, – устройство…); афганец (участник войны 1979–1989 гг.); аэробика; байк; байкер; банкинг; банкомат; баннер; барсетка; бартер; безвизовый; безнал; бизнескласс (-клуб, – круиз, – ланч, – план, – партнёр, – тренинг, – школа, – элита); беспредел; биополе (-защита, – технология, – туалет, – энергия…); биржевик; бисексуал; бит; блог; блокбастер; блокпост; боевик (боец и фильм); богатенький (Буратино); бой-френд; болевой; бомжатник; брифинг; бюджетник; валютообменник; вампиризм; ваучерный; вброс; веб– (-дизайн, – сайт, – сёрфер); вектор; венчурный; вердикт; взвешенный; взяткодатель(-получатель); видеодиск (-бизнес, – версия, – запись, – игра); виртуал; ВИЧ; внедорожник; возвращенец; ВПК; врубиться (осознать); галерист; гамбургер; гастарбайтер; гей; гендерный; гипермаркет; гламурный; глобализация; глючить; грантовый; групповуха; дайвинг; дайджест; дартс; девелоперский; дембель; демократура; депозитный; державник; дерьмократ; дефолт; джихад; джойстик; диаспора; ди-ви-ди; дисплей; допинг; евро; евровалюта (-зона, – парламент, – ремонт, – союз); емеля (по созвучию с e-mail); жареный (факт); зависнуть; загазованный; загрузиться; закачать; игроман; имиджмейкер; инаугурация; инвестор; индивидуал; инжиниринг; ИНН; инсайдер; инсталляция; интернет-адрес (-банкинг, – кафе); интерфейс; интим-сервис; инфраструктура; кабельный; кайф; картинг; кастинг; качок; киборг; кидала; кликнуть; клонировать; компакт-диск; кондоминиум; контрафактный; копирайт; креатив; крутизна; крышевание; ксерить; культовый; лайкра; ланч; лаптоп – лэптоп – лэп-топ; лизинг; листинг; лифтинг; логистика; логотип; лохотрон; маргинальность; маркетизация; маршрутка; медиабизнес (-брокер, – империя, – ресурс, – рынок, – холдинг); мент (жарг.); металлист; мигрант; многополярный; мобила; мобильник; модифицированный; мочить; мультимедийный; муниципал; мышь (компьютера); навигатор (браузер); навороченный; наехать; нал (ср.: безнал); напряг; наркоделец (-барон, – бизнес, – дилер, – зависимость, – контроль, – курьер, – рынок, – синдикат, – трафик); налоговик; наркота (жарг.); натурал; невезуха (разг.); негражданин; нелегал; нельготник; неформал; новодел; номинант – номинатор; ноутбук – нотбук (разг.); ОАО; обвально; обезналичивание; облом; обменник; одномандатный (-партиец, – полярный, – разовый); органайзер; откат (взятка); отксерить; отморозок; отстойник; оцифровать; офис; пакетный; палёный; папарацци; пейджерный; пиар; пиарный; пиарить; пиарец; пиарщик; пиарствовать; пиаровский; пиар-эффект; пилотный; пин (пин-код); пирсинг; полис; поп-арт (-искусство, – культура, – мюзикл); попса (жарг.); порноиздание (-спектакль, – фильм); по-совковому; постер; презентация; прессинг; принтер; продюсировать; развал (разрушение, место торговли); развлекуха (жарг.); разгул; райтер; раскрутить; рекламист; рекламщик (разг.); рекрутинг; ремикс; ритейл; рокеры; рок-группа (-звезда, – концерт, – опера, – фестиваль); роллера; рокер; русско(-говорящий, – язычный); сайт; самиздат (разг.); санировать; секс-бизнес (-бомба, – звезда, – журнал, – контроль, – меньшинство, – символ, – тур, – шоп); сенсорный; сервер; сетевой (информ.); сёрфинг; силовик; сканировать; скаутинг; скачать; скейбординг; скинхеды; слаксы; слоган; слухмейкер; смайлик (эмограмма); смарткарта (-телефон); смертница; сникерсы (туфли); сноубординг; собака (сообщая адрес е-mail, чаще говорят собачка); совковый; сотовый; софтвер; СПА (от SPA – sanitas pro aqua); спам; спецназовый; СПИД; спичрайтинг; спонсоринг; спрей; спутниковый; срочник; стагнировать; стикер; стольник (сто рублей); стоппер; стриптизёр; струйный; срочник; супердержава (-звезда, – компьютер, – маркет, – стар); «Талибан»; татуаж; тащиться; текила; телеприёмник (-передача, – телеканал); тендер; теракт; тестировать; толлинг; тоник; топик; торч; торчать (получать удовольствие); травник; трансгенный; трансфер (из англ.) – трансферт (из франц.); трейдер; трейдинг; тренинг; тренд; триллер; убойный; ужастик; унитарный; фазенда; файл; факс; фанера (фонограмма); физлицо; фитнес; флеш; фьючерс; хакер; халява; холдинг; хот-дог; хэппенинг; ценовой; цифровой; чайник (неопытный); чартер; чат; чатиться; челночить; чернуха; шейпинг; (электро)шокер; шопинг; шорт-лист; штрих-код; эвтаназия; эксклюзив; экстремал; электорат; элита; элитарный; юзер; юрлицо; яхтинг; ящик (телевизор).
С высоты даже прошедшего десятилетия перечень поражает неустойчивостью и неуверенностью. Но как было предугадать, что афганец, богатенький Буратино, возвращенец, челночить станут архаизмами, что маршрутка заменится автолайном, а трансфер вытеснит трансферт (хотя колле́ж из французского благополучно сосуществует с ко́лледж из английского), что мент утратит жаргонную окраску, а потом вытеснится полицейским, что байкером будут называть мотоциклиста, а не велосипедиста, заодно переставая особо различать мотоцикл и велосипед – оба байки.
Словник рисует откровенную картину жизни общества, нужды, интересы, вкусы людей в эти годы. Их проясняет и сумбур источников новшеств: жаргоны, иные языки, профессиональная книжность, переосмысления. Наглядно раскрывается также и ход нормализационных игр, результаты которых ещё слишком рано использовать даже для самой предварительной ориентировочной кодификации, для которой нужна установившаяся нормативность и не годятся несозревшие, едва вышедшие из цветения плоды нормализации.
Тонкий знаток и опытнейший лексикограф Г.Н. Скляревская, взвалив на себя непосильную задачу ускорить процессы кодирования, обратилась к невероятно разветвлённой системе помет: высок., бран., ирон., насмешл., неодобр., презрит., пренебр., сниж., шутл., эвф., разг., жарг., книжн., и даже неправ., астрол., астрон., биолог., информ., коммерц., криминал., научн., полит., рел., спорт., эконом., фин., церк. и пр. Но и это не позволило поспеть за бурной стихией актуальных слов в вихрях последних лет прошлого столетия.
Пометы расставлялись без полной убеждённости, а кое-где пришлось просто констатировать наблюдаемое: мониторить (разг.) и мониторировать; евро муж. и разг.; ср.: о́перы и (жарг.) опера́; разборка 1) (разг.) действие по глаголу разобрать. 2) (жарг.) обсуждение с карой по глаголу разобраться; развлекуха (жарг.); риэлтор и риелтор (спец.); сенситив и (разг.) сензитив; слэм и слем (жарг.); спам (информ., неодобр.) (спамерский, спамер, спамщик, но почему-то спамминг).
Указывая совсем пока не отстоявшееся, не устаканившееся (как было модно говорить), словарь просто перечислял слова, как они встретились в контекстах, без попыток указать предпочитаемое произношение, например при колебаниях типа тЕмп / тЭмп в таких новейших, как тЕст / тЭст (тЭстирование) / т (редуцированное Э, Е, И)стирование; рЕйтинг / рЭйтинг; бЕйдж(ик) / бЭйдж(ик); вЕб- / вЭб- (дизайн, мастер, сайт); кофебрЕйк / кофебрЭйк; лЕйбл / лЭйбл; спрЕд / спрЭд.
То же касается написания, ударения, дефиниции значения. Достаточно посмотреть такие ряды регистраций: бизнеследи – бизнес-леди; бизнесвумен – бизнес-вумен; бизнесменша – бизнесменка; он-лайн – онлайн: онлайнбизнес, онлайн-магазин, аптека-онлайн, онлайн-связь, связь онлайн; беспро́водный – беспроводно́й; виджей – ви-джей; граффи́ти – гра́ффити; гу́ру – гуру́; ди-джей – диджей; кракер – крекер – крэкер; лаунж – лаундж; масскульт – масс-культ, масс-медиа – массмедиа (порядок перечисления указывает предпочтение?) майнстрим – мэйнстрим – мейнстрим; мерчандайзер – мерчендайзер; ми́тинговый – митинго́вый; огосударствле́ние – огосуда́рствление; однозвёздый – однозвёздный; ОМОНовец – омоновец; обеспе́чение – обеспече́ние; офшор – оффшор; паблик-рилейшенз – паблик рилейшнз; пентхаус – пентхауз; плейер – плеер; прайм-тайм – праймтайм; прайм-лист – праймлист; промоушен – промоушн; разгосуда́рствление – расгосударствле́ние; ремейк – римейк; сандвич – сэндвич; саундтрек – саунд-трек; сейшен – сейшн; секвестр – секвестер; секонд-хэнд – сэкондхэнд – сэконд-хэнд – секонд-хенд; сёрфер – серфер; ску́теры – скутера́; стреч – стретч; тайм-шерный – таймшерный; таун-хауз – таунхауз (не указано и сегодня встречающееся написание с конечным с); тинэйджер – тинейджер; топ-модель – топмодель; уик-энд – уикэнд; флайер – флаер; фейс-контроль – фейсконтроль.
В несомненную заслугу словаря следует поставить общее и совершенно верное заключение об «онаучивании» (терминологизации) и в то же время о стилистическом снижении, о влиянии нового соотношения некнижной (выросшей сегодня за пределы собственно бытовых разговоров) и книжной разновидностей русского языка. В обоих случаях очевидно то, что многие сейчас называют глобанглизацией, свойственной отнюдь не исключительно русскому языку и возбуждающей то, что в духе самого процесса шутливо именуется словомейкерством. Всё это, однако, вполне в духе русской Нормы с большой буквы.
Прямо связанные с семантикой, открытые по набору единиц и терпимые к их форме, вольные механизмы лексики по характеру и темпам развития наиболее резко отличаются от грамматики. Грамматике приходится особенно туго, когда надо подводить под свои механизмы освоение обильного материала, неразборчиво навязываемого словарём. Но что делать, коль скоро постоянное обновление состава слов, архаизация и утраты, забвение их, рождения, смены, умирание значений, стилистические переосмысления требуются для отражения внеязыковой действительности? Помощь увязке лексической подсистемы с консервативной морфологической оказывает мощная система русского словообразования, в котором В.В. Виноградов видел мостик между грамматикой и лексикой.
7.2. Что означает обнажёнка?
Взятое для заголовка новое слово впервые отмечено в беседе Е.А. Земской с И. Бродским в книге «Памяти М.В. Панова» (М., 2009. С. 249): «Как вы решились на обнажёнку»? (то есть съёмки без одежды). С тех пор слово существенно расширило первоначальное значение на волне моды безыскусственной «нагой красоты» выразительности и часто встречается в печати: «с обнажёнкой искренних чувств» (ВМ. 2003. 11 июня); «щиты с эротическим подтекстом или обнажёнкой» (РГ. 2010. 3 окт.); «Развесил обнажёнку в Сети и дуй с чёсом по стране: пой, танцуй, играй спектакли – продавай творческий продукт» (РГ – Неделя. 2013. 23 мая).
Подобно отдельному слову, в моде может оказаться и суффикс: он при этом расширяет круг вовлекаемых основ и семантику производимых слов. Совпадение настроения нынешнего общества и ресурсов языка обнажает нынешнюю максимальную продуктивность древнего, очень русского и всеславянского суффикса – ка. Среди разрядов образуемых им слов многие несут разговорный и профессиональный оттенки. Например, названия лиц: активистка, блондинка, гадалка, торговка, сиделка, мамка, тётка, иностранка, американка, белоручка, попрошайка, выскочка, выдвиженка; предметов и процессов: анисовка, вешалка, гулянка, варка, готовка, засолка, возка, мойка, побелка, задвижка, расписка, связка, тёрка; стяжения сочетаний: вечёрка, шоссейка, шестидневка, летучка; даже ласкательно-уменьшительные: дочка, ночка, тучка, штучка, кепочка. Эти слова привлекают тем, что позволяют избежать пафоса, свойственного книжной разновидности образованного языка, оставаясь в то же время в пределах несомненной его некнижной правильности, отнюдь не сводящейся более к разговорным формам и бытовому содержанию. Всё связанное с гражданской жизнью, с военным делом, добычей, потреблением, продажей нефти естественно обозначается словами гражданка, оборонка, нефтянка: «Ориентировка для оборонки» (РГ. 2009. 11 февр.; заголовок статьи о встрече Д.А. Медведева с военными руководством) «Тема – экология, с которой нефтянка накрепко связана» (РГ. 2007. 28 июня); «первой отраслью, где будет применён новый способ взаиморасчётов, может стать нефтянка» (РГ. 2009. 8 июня); «Социалка получила обещанные зарплаты» (РГ. 2013. 11 дек.; о жалованье учителей). Заменившись электричкой, электропоезд если и сохраняется, то только в метрополитене, который к тому же часто называют не метро, а подземка.
Разнообразие основ, вовлекаемых в производство новых слов, поражает: наличка (наличные деньги), двусторонка («Встреча Лаврова с его китайским коллегой продолжалась в два раза дольше, чем другие двусторонки» (РГ. 2013. 2 июля)), психушка, многоэтажка, встречка, нетленка (нетленные шедевры), расчленёнка («Убийство с расчленёнкой» – заголовок статьи о расчленённом трупе (РГ. 2013. 25 июня)). Ещё недавно были бы непонятными фразы: «Мигалкам запретили выезжать на встречку» (РГ. 2007. 3 нояб.); «Самое порочное в жизни и творчестве – это объясняловка» (Итоги. 2013. 23 июля). А. Маршал ностальгически поёт: «Боевой камуфляж на парадку сменю».
Как видно, нет такой части речи, которая не сочеталась бы с – ка. Венец любви к этому суффиксу в заголовке «Платёжку — в мусорку!» (РГ. 2013. 9 дек.).
Исторически от глагольных основ образовывались то разговорные слова на – ка, то их книжные параллели. Первые процветают в периоды скромности и опрощения, а вторые – в годы мудрого вокнижения: стройка – строительство, построение; вёрстка – верстание; готовка – приготовление; прибавка – прибавление; глажка – глажение; читка – чтение (кстати, бессмыслен призыв радиопередачи для книголюбов: читай, а не чти. Ведь вторая форма от глагола чтить/почтить).
Вопреки стилистико-семантической дифференциации слова с суффиксом – ка и книжные слова на – ние, – тье конкурируют с попеременным успехом более трёх веков (диагнозирование – диагностика; обкатывание, обкат – обкатка). На нынешний день победа отнюдь не за иномодельными аналогами: разморозка, прослушка («Арест по подозрению в незаконной прослушке телефонов сотрудников ГУВД Москвы» (РГ. 2007. 7 дек.)), озвучка заменяют размораживание, подслушивание, дубляж. В то же время возникает омонимия самих слов на – ка: наружка, например, обозначает не только слежку за передвижением подозреваемого, но и уличную рекламу («Наружку вычислили» – заглавие статьи о заказчиках щитов на растяжках (РГ. 2008. 6 марта)).
Хотя есть некоторые исключения (в моём детстве остановившиеся часы носили чинить, стёртые ботинки отдавали в починку, теперь часы отдают в ремонт, а обувь носят ремонтировать, слова на – ка становятся воистину универсальными. Плёнку сдавали в проявление, теперь в проявку, если, конечно, не совсем перешли на цифровые фотокамеры и ходят в салоны распечатки. Студенты пропускали лекции по зарубежной литературе, теперь – по зарубежке, лектор же гордится тем, что его доклад поставлен на пленарке, а не на секции конгресса. Даже истинные учёные мечтают не о Нобелевской премии, а о Нобелевке. Популярный автор откровенничает: «Надоело писать рассказы, однако сейчас как раз планирую вернуться к художке» (Русский мир. 2008. № 11. С. 15); «Взлёт без отключки» (заголовок статьи об автономном энергоснабжении аэропорта на случай отключения сетевого (РГ. 2011. 21 янв.)). Извинительные кавычки в отдельных примерах вряд ли чего стоят на общем фоне.
«Толковый словарь русского языка начала XXI века» под редакцией Г.Н. Скляревской хорошо отразил рассматриваемое явление: афганка (камуфляжная форма солдата для пустыни); аэробика; барсетка; безналичка; биодобавка; встречка; дискотека (танцы); жвачка (жевательная резинка), ипотека, лайка, ментовка, накрутка, наличка, обналичка и обналичивание, перезагрузка, разборка, раскрутка, социалка, стрелка (встреча), тусовка, утечка, фишка, флешка. Их незаконченная нормализация – всего лишь издержка времени, а пока недоступная кодификация – свидетельство стремительного роста этой словообразовательной модели.
Многие, полагая стремление к экономности, материальной краткости чуть ни ведущим (и желательным!) принципом языкового развития, одобряют сокращение до одного слова сочетаний Поклонная гора, Манежная площадь, Варшавское шоссе и Каширское шоссе: «На Поклонке, так её любя [?! – В.К.] называют горожане, всегда многолюдно» (газета «Дорогомилово». 2007. Август. № 7); «Дело о беспорядках на Манежке» (РГ. 2012. 30 окт.); «Пропускная способность Варшавки и Каширки вырастет» (РГ. 2012. 3 окт.).
Причина, скорее, всё-таки в особой экспрессии этого книжного, но в то же время и некнижного суффикса. Экспрессия универсализует его и, позволяя вовлекать всё новые производящие основы, добавляет тем самым системности словарю несмотря на безоглядное расширение семантики производных.
Русский словарь, легко воспринимающий новшества, в том числе иноязычные, органически связан с развитым словообразованием, призванным мирить его с требованиями флективной морфологии. Уместно вспомнить суффиксы – изм и – ист, теряющие в последние годы свою начальную политико-теоретическую суперпродуктивность. Можно говорить о недавнем освоении суффиксов – гейт, – голик (вспомним уотергейт, шопоголик и от русских корней кремлегейт, трудоголик) и ещё суффикса – инг (банкинг, тренинг, шопинг, допинг, паркинг, пилинг).
Тем более приятно видеть внутри системы роль и собственно русских формантов, в частности слов на – ка. Они, несомненно, способствуют системности в максимально привольной словарной подсистеме и снижают поставки слов, смущающих системообразующие грамматику и фонетику. Здесь очевидно и сближение книжной и некнижной разновидностей нашего языка.
Вообще же развитое словообразование служит своеобразной скрепой разных уровней системы и структуры русского языка. Как мостик, оно сближает строгую флективную грамматику с отпущенной на вольные хлеба лексикой, придавая ей определённый материальный порядок хотя бы закреплением однозначных производных.
Избыток суффиксов, образующих названия лиц (-ист, – тель, – ец, -ик, – ник, – щик, – овщик), дисциплинируется, например, резким падением продуктивности суффикса – ист, невероятно высокой в советский период: марксист, коммунист, троцкист, уклонист, идеалист, морганист, вейсманист и прочие лица по принадлежности к тому, что обозначается словом на – изм. Любопытно, что слова ленинист, сталинист в общем обиходе появились недавно, а раньше ограничивались чисто русскими ленинец, сталинец, мичуринец.
Суффикс – тель сегодня всё меньше образует названия лиц, специализируясь на предметах, орудиях, веществах: стеклоочиститель, выпрямитель, освежитель, очиститель, опреснитель. Это можно как-то увязать с разгоревшейся в ХIX веке борьбой значений прилагательных производного от названия лица – тель+н+ый (соблазнительный – «принадлежащий соблазнителю»). Татьяна подозревает Онегина в желании прославиться ловким соблазнителем, когда упрекает его в том, что её позор «…мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь». В настоящее время такие слова кажутся производными прямо от глагола с суффиксом – тельн-: соблазнительный — «который соблазняет».
Новое значение отрывается от имени, ассоциируется с глаголом и становится синонимичным причастию: наблюдательный взгляд – «наблюдающий» при сохранении отымённого суффикса – н-; наблюдательный пункт – «место наблюдателя». При безразличной поблажке культурных сил образование первоначальной модели замирает: у слова старательный, например, совсем нет значения «свойственный лицу», будто оно произведено в параллель старающийся непосредственно от глагола.
7.3. Казематы морфологии
Самые устойчивые законы системообразующих грамматических уровней языка могут в нормализационных играх приостанавливаться в интересах социума. Например, немногочисленные глаголы несовершенного вида с инфинитивом на – ать имеют в спряжении настоящего времени чередования в основе в отличие от подавляющего большинства таких глаголов, спрягающихся как читать. Около трёх веков идёт выправление их нерегулярных форм согласно правилу устранения исключений, однако заторможенно, различно у каждого отдельного глагола.
Например, появившись как ошибка, рождённая борьбой за регулярность против морфологических исключений, двигаю, двигаешь, двигает…, взяв на себя значение «перемещать», довольно быстро стали нормой в качестве некоторого смыслового омонима исторических форм движу, движешь, движет…, которые сохраняются преимущественно в значении «приводить в движение» и с оттенком устарелости и поэтичности: «старый шкаф двигается с трудом» и «Речка движется и не движется, вся из лунного серебра» (ср. терминологическое различение слов двигатель и движитель). Здесь можно видеть и смешение основ неопределённой формы и формы настоящего времени.
Глагол махаю казался недопустимым учёным Р.И. Аванесову и С.И. Ожегову (Русское литературное ударение и произношение. М., 1955). Мои родители не терпели бабушкиной команды: «Помахай папе ручкой!» – хотя деепричастие маша было чуждо уже в начале ХIХ столетия (у А.С. Пушкина – махая вёслами). Сегодняшние словари дают махаю по большей части даже без помет разг. или доп. наряду с машу.
Капать даёт однозначные формы каплет и капает, хотя некоторые лингвисты привязывают их к значениям «несильно литься» и «наливать каплями». У Набокова «свеча капает воском», «стих…каплет в ночь росою ледяной», «Я родом из дикой той страны, где каплет кровь на снег». От клепать вполне нормативно клепают, но сохраняется форма клеплют в значении «возводят напраслину». Видовой паре пускать (пускаю, пускает) – пустить (пущу, но пустит, пустят) ведома и диалектно-просторечная форма пущать (пущаю, пущает, пущают). Ревнители культуры языка необъяснимо резко расходятся в квалификации форм полощет/полоскает; мяучит/мяукает; мурлычет/мурлыкает; кудахчет/кудахтает.
Синкразия М. Горького, укорявшего авторов, писавших, по его мнению, «не по-русски, а по-балахонски», примером чего было и деревенское «Крестьянин пахает поле», на веки вечные обрекла глагол пахать быть исключением. Тенденция ощутимее в диалектной речи, которая знает не только пахает, но последовательно «прогрессивные» плакает, скакает, прятает, шептает, щипает вместо плачет, скачет, прячет, шепчет, щиплет. Устойчивость полощет может отчасти объясняться тем, что полоскает звучит слишком похоже на поласкает (от ласкать). Ассоциация с омографом, несмотря на различие ударения, мешает регулярно спрягать глагол писать, хотя он семантически связан с образцовым читать.
Последний пример демонстрирует нерешительность системы на нормализаторском поле при столкновении двух противоречащих друг другу её собственных закономерностей: консервативно охранять старое и стремиться к самоупрощению и регулярности (мудро сформулированное Е.Д. Поливановым правило выталкивания исключений). Такое столкновение открывает дверь для самоуправства социума, причём побеждает то консервативная гиперкорректность (правильно только машу), то безудержное новаторство (пора узаконить младенец плакает).
Обретают силу убедительности семантические или стилистические оттенки в производных, возникающие по игре случая или придумываемые. Они способны нормализовать обе параллели и затем по наитию кодифицировать любую. В то же время строго соблюдается неприкосновенность отдельных случаев, например глагола быть. Причудливы семантико-словообразовательные связи и непривычны соотношения видов у глаголов нести – носить (оба несовершенного вида), но дают разнести (совершенный вид; «доставить» и неожиданно как омоним «уничтожить») и разносить (несовершенный вид к разнести и совершенный в значении «расширить ноской», что требует нового глагола несовершенного вида разнашивать).
Не допускается никакой нормализации и в глаголах идти – ходить (кроме запрета диалектно-просторечного инфинитива итить, регулярного, но не устраняющего супплетивности в спряжении): придти, прийти как совершенный вид к приходить, но с оттенками однократного и повторяющегося действия. Схоже ведут себя и другие приставочные глаголы, кроме находить – найти, выбывающих из группы движения с развитием значения «отыскать» и «искать».
Любопытно упомянуть профессиональное или шутливое переходное употребление непереходных глаголов: его ушли, гулять ребёнка («Детей надо кормить, гулять, ласкать», – педиатр в интервью «Радио России». 2010. 6 дек.). Многих раздражает опущение собой, из себя, себе при глаголе представлять/представить в значении «быть, являться» или «вообразить»: «Он представляет образец интеллигента»; «Не представляю, как она могла в него влюбиться»; «Не представляю, как туда доехать»; «Не представляю, как можно выжить при таких ценах».
Сценарии нормализации возникших морфологических вариантов бывают весьма различными, иллюстрируя то непреклонное упорство системных сил, особенно если есть и субъективная поддержка, то их уступчивость, особенно если есть и системные причины. В целом же на фронте морфологии без перемен. Бои местного значения ведутся вяло. Они связываются, видимо, с акцентологическими противопоставлениями и охватывают, как правило, лишь стилистические оценки.
Количество форм множественного числа с ударным окончанием – а выросло даже по сравнению с указанным в «Грамматическом словаре» Л.К. Граудиной: названия лиц: доктора, директора, мастера, профессора, редактора, повара, слесаря, сторожа, юнкера, и предметов: катера, поезда, паруса, тормоза, якоря. В сравнении с ними старые формы с безударным окончанием – ы: директоры, редакторы, слесари, юнкеры, буферы, паспорты, поезды, тормозы, катеры, парусы, якори, сегодня кажутся уже не вполне нормальными. Они малоупотребительны, как и совсем ушедшие из языка дву– и трёхсложные боки, домы, роги, снеги, томы, шёлки, адресы, черепы.
Вариативность устойчиво сохраняется при стилистической дифференциации: некоторые новые формы хранят профессиональную окраску: повара́ (так!) скажут соуса, торта, а в общем употреблении привычнее всё-таки соусы, торты («Одними то́ртами сыт не будешь»). Конечное ударение и вне рассматриваемых форм типично для профессионалов: шарфы́, шрифты́ при общелитературных шри́фты, ша́рфы (картинка 7.6). Некоторые из новых вроде инженера, шофера, тем более профессионализмы вроде плоскостя (женский род!) вообще относимы к антинормам.
Синтаксис оказывается более проницаемым, в нём по определению меньше системной закрытости, а его изменения органично сочетаются со стилистикой. Синтаксису более свойственны варианты, и редко какой-то из них устраняется. Но вот придаточное времени вытеснило великолепный оборот «дательный самостоятельный»: солнцу всходящу = когда всходило солнце. Извечной нормой признаётся параллелизм причастных оборотов и придаточных определительных: скачущий конь = конь, который скачет, утративших, кажется, стилистическое различие (А.С. Пушкин ясно ощущал динамизм первого и вялость второго). Синтаксические периоды, уступив напору сложных предложений, прозаических строф, потеряв первенство, используются, тем не менее, современными авторами.
Новые синтаксические конструкции появляются весьма редко. Впрочем, биномины отчасти опровергают это утверждение (картинка 7.6). Процессы нормализации и тем более кодификация заторможены, но не столько системой, сколько оценками новаторского толка, отчего торжествуют словосочетательные модели, появление которых связано со словарными заимствованиями.
7.4. Какого рода слова среднего рода?
Более ста лет нескончаемы споры о том, как лучше: чёрный кофе или чёрное кофе? Ревнители правильности упорно стоят за мужской род, потому что с детства узнали, что раньше был кофий, кофей: «Проспавши до полудня, Курю табак и кофей пью» (Г.Р. Державин). Мы забываем или не знаем, что это отнюдь не уникальный случай, и также можно было бы спорить по поводу рода слов каре, джерсе, эссе (вид построения первоначально имел форму карей, карея, ткань джерсей и жанр эссей). Простодушно увлёкшись, мы не замечаем более важного: слова-то эти ещё и не склоняются!
Дело в том, что имена существительные, оканчивающиеся на – о/-е, составляют загадочное поле, где трудно найти логику и порядок в составе, происхождении, семантике, грамматике, стилистике. Ощущая это, мы и вымещаем своё неудовольствие на названии напитка.
Исторический центр здесь составляют немногочисленные (около ста) неодушевлённые (кроме слова дитё, которое явно среднего рода: «Чем бы дитё ни тешилось, лишь бы не плакало») в основном двусложные существительные: бедро, бельмо, благо, блюдо, болото, бревно, быдло, ведро, весло, войско, гнездо, горе, горло, гумно, дело, диво, дно, добро, долото, дерево и древо, дуло, дупло, дышло, жало, железо, забрало, зало, звено, зеркало, зерно, зло, золото и злато, зубило, иго, клеймо, колено, коромысло, копыто, корыто, кресло, лекало, лето, лицо, логово, ложе, лыко, масло, место, молоко и млеко, монисто, море, мыло, мясо, начало, небо и нёбо, облако, огни́во, озеро, окно, олово, очко, пекло, перо, пиво, письмо, плечо, повидло, поле, право, просо, пузо, пшено, пятно, ребро, ремесло, руно, русло, сало, село, сено, сердце, серебро, слово, солнце, сопло, стадо, судно, сукно, сусло, тавро, тесто, утро, ухо, чело, число, чрево, чудо, чучело, эхо, яйцо, ярмо.
Среди них есть производные по разным непродуктивным ныне моделям: одеяло, опахало, покрывало, пойло, правило, рыло, сверло, стекло, стойло, топливо, точило, шило, волокно, полотно, винцо, кольцо и колечко, крыльцо и крылечко, блюдце, дельце, оконце, рыльце, бедствие, безмолвие, дружелюбие, бытие, величие, веселье, безумие, острие, житие и житьё, бельё, жильё, жнивьё, ружьё, здравие и здоровье, зелье, исчадие, усердие, наличие, наречие, ожерелье, похмелье, угодье, ущелье, кочевье, приданое, ретивое, заливное, лёгкое, мороженое, пирожное, млекопитающее, животное, насекомое, жёсткокрылое, сказуемое, слагаемое, числительное. Эти слова относятся к среднему роду и склоняются, и то не имея единообразия в падежных формах и месте ударения, некоторые не имеют множественного числа: я́блоко, я́блока – я́блоки, я́блок; но сло́во, сло́ва – слова́, слов; вино́, вина́ – ви́на, вин; ядро́, я́дра – ядра́, я́дер; де́рево, де́рева – дере́вья, дере́вьев; крыло́, крыла́ (resp. кры́лы), крыла́ – кры́лья, кры́льев; чу́до, чуда́ (resp. чу́ды), чу́да – чудеса́, чуде́с; те́ло, тела́, те́ла – телеса́, тел, теле́с.
Нет порядка и среди многочисленных производных по продуктивным моделям. Наиболее упорядочены, пожалуй, самые многочисленные с суффиксами – ств-(о) и – ни-(е): баловство, бегство, братство, ведомство, волшебство, господство, достоинство, имущество, качество, колдовство, количество, королевство, отечество, рабство, родство, Рождество, руководство, свойство, соседство, средство, сходство, удобство, царство, чувство, явство; влияние, воззвание, вращение, вычитание, гадание, деление, дыхание, завещание, замечание, звание, здание, знамение, зрение, имение, испытание, крещение, купание, лечение, мгновение, мнение, мучение, мщение, мышление, наблюдение, название, накопление, население, настроение, обращение, обслуживание, объединение, объяснение, ожирение, описание, осуждение, отношение, отпевание, плавание, познание, поколение, пополнение, правление, преступление, призвание, признание, ранение, расписание, расселение, расстояние, селение, сияние, сложение, собрание, совещание, содержание, созерцание, сочетание, спасение, столкновение, суеверие, толкование, требование, укрепление, умножение, уравнение, учение, хранение, членение, чтение, явление.
К последним примыкают и все другие на – ие: междоусобие и междуусобие, надгробие, подобие, пособие, прискорбие, самолюбие, узколобие, трудолюбие, равноправие, славословие, следствие, хладнокровие, заглавие, условие, последствие, православие, нашествие, наследие, орудие и оружие, известие, отверстие, открытие, покрытие, понятие, прикрытие, событие, участие, полномочие.
Все эти слова склоняются, следуя не устройству ядра (ч́увство, чу́вства – чу́вства, но сре́дство, сре́дства – сре́дства и неправильное средства́), но добавляют к нему разнобой в роде. Уменьшительно-пренебрежительные, например, сохраняют род производящего слова: барахлишко, брю́шко (впрочем, употребляется и брюшко́), винишко, золотишко, письмишко, ружьишко, а также окошко (от барахло, брюхо, вино, золото, письмо, ружьё, окно) среднего рода, но голосишко, дождишко, домишко, заводишко, топоришко, рублишко, умишко и умище, а также медведко, соловейко, буланко, морозко (от голос, дождь, дом, завод, топор, рубль, ум, медведь, соловей, мороз) мужского. Также ведут себя и «увеличительные» на – ище: голосище мужского рода, а голенище, как и неотымённые гульбище, кладбище, корневище, прозвище, чистилище, училище, – среднего. Любого рода в согласовании (склоняются все по мужской парадигме; кроме родительного падежа множественного числа) могут быть в применении к лицам чудище, чудовище, чучело, трепло, хотя даются с пометой муж., лишь трепло отмечается в словарях как слово и мужского, и среднего рода. Забавно, что кофеишко может быть и слабое, и слабый в зависимости от того, какой род приписывается слову кофе), а для кого-то – слабая.
Исторически мужской род сильнее и нередко посягал на целостность среднего. В пределах общей парадигмы легко принимались, например, формы бедствы, гнёзды, волненьи, злодействы, кушаньи, созданьи, правы, кольцы, сёлы, солнцы, чувствы на месте сёла, кольца, чувства, права. У Тютчева находим: «Для них и солнцы, знать, не дышат». В поэзии наряду с крылья и сегодня встречаются крылы, под крылами, на крылах счастья. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова щупальце пометил: мн. – льца; род. – лец и – льцев; многих и сегодня затрудняет щупальльца; щупалец или щупальцы; щупальцев, хотя от малоупотребимого щупальце (щупалец звучит несуразно и словарями не отмечается) правильно только первое, как и рыльца, рыльцев от рыльце. В конце XVIII – начале XIX столетия средний род отстоял свою целостность, превратив тенденцию оформлять слова среднего рода с безударным окончанием по мужскому склонению в тупиковую линию унификации множественного числа.
Нельзя не признать (с личным сожалением!), что собственная самобытность, в частности и чутьё родного языка, на Руси извечно подавляется малообоснованным почтением к иноземцам. Легко заимствуя иноплеменные обычаи, иностранные вещи и слова, мы как бы стыдимся вечной своей от них зависимости и в то же время недостаточного к ним уважения. Это явно проявилось в том, что нам легче было нарушить свою грамматику, чем подвергнуть «искажению» массовые заимствования из французского языка.
Эпоха франкофонии XVIII–XIX столетий привела к тому, что у нас слов на – о/-е, не только собственно французских, стало больше, чем своих, и что они, как-то ещё сохраняя принадлежность к среднему роду, не подчиняются русской морфологии, не склоняются: адажио, аллегро, алоэ, альди́не, амбре, анданте, антре, аплике, априозо, арго, ариозо, ателье, аутодафе, банджо, барокко, безе, бильбоке, бламанже и бланманже, болеро, бордо, брыле, буриме, бюро, (ватер)поло, варьете, верже, вето, гестапо, гетто, депо, декольте, дефиле, дефине, динамо, домино, досье, жабо, желе, жюри, зеро, индиго, инкогнито, кабаре, казино, канапе, канта́биле, ка́нтеле, какао, канопе, каноэ, каприччио, карго, каре, кафе, кашне, кашпо, кило, кимоно, кино, клише, койне, колье, комбине, консоме, крупье, купе, кураре, кюрасо, ландо, лассо́, либи́до, либретто, люмбаго, магнето, мамба, манто, манго, маренго, матине, метро, морзе, мото, мотто, муаре, мулине, наргиле, нотабене, пальто, панно, папье-маше, пате, пежо, пенсне, перпетуум-мобиле, пианино, пике, пирке, плато, плиссе, портмоне, портье, пралине, пресс-папье, протеже, пуантилье, пюре, радио, рашилье, реле, резюме, рено, реноме, сальто-мортале, самбо, сольфеджо, сомбреро, соте, стило, суаре, суфле, табло, танго, тире, трико, трио, трюмо, турне, факси́миле, фиаско, фигаро, филе, фортепьяно, фото, шале, шевро, фрикасе, фуле, шевро, шоссе, экарте, экстемпорале, эльдорадо, эмбарго, эскимо, эсперанто.
Оформившиеся своеобразия переносятся и на заимствования из других языков, в настоящее время – преимущественно из английского. Благо они не склоняются, при согласовании здравый смысл легко снимает противоречие грамматического рода с полом: идальго, импрессарио, инкогнито, кабальеро, кюре, маэстро, микадо, пьеро, торреро, рантье, сомелье, чичероне, шевалье и даже шимпанзе мужского рода, а женского – глассе, дезабилье, декольте, контральто, сопрано, эмансипе, чайхане (сегодня слово установилось в форме чайхана). Протеже и инкогнито – в соответствии с полом мужского и женского рода. Если верить словарям (а они весьма противоречивы) мужского рода также слова авокадо, авизо, жабо, карго, какао, манго, сомбреро, торнадо, торпедо и названия вин: бордо, бургундское, каберне и другие (но не советское шампанское). Цицеро – среднего и мужского; динамо, медресе, фортепьяно – среднего и женского; сабо смело снабжают пометой множ. Какао споров не вызывает, хотя слышится и какава и сладкий какао. Разнородно новейшее нано – и оно, и он, и она.
Видеть тут победу здравого смысла над грамматикой (пела замечательная меццо-сопрано; японский микадо заболел) неуместно, потому что для неё род – чисто формальная категория, учитывающая пол лишь применительно к людям и отчасти животным, и то не всегда (вспомним общий род: наш; наша староста, а также колибри, кенгуру). Динго, фламинго признаются словами женского рода по аналогии с собака, птица, хотя динго, как и собака, бывает и псом.
Многих смущающий мужской род слова эн-зе (неприкосновенный запас) оправдывают тем, что это запас, а род новейшего бьеннале – аналогией с кинофестиваль. Однако наряду с Берлинский бьеннале встречается женский род: на Венецианской биеннале (Ведомости. 2011. 30 дек.); ср.: «Стартовала Фотобиеннале 2014» (РГ. 2014. 20 февр.) У меня собралась коллекция газетных примеров, в которых это слово выступает как он, она и оно.
Слова авто, мото как сокращения от автомобиль, мотоцикл могут быть и среднего, и мужского рода. Реклама предлагает новый «Рено», потому что основатель фирмы Луи Рено – тот самый мужчина, который, как услужливо объяснили в салоне, был гоним де Голлем за сотрудничество с немцами.
Такие субъективные объяснения распространены, но не всегда убеждают. При всём пиетете к Д.Э. Розенталю трудно поверить, что к мужскому роду отнесено новое слово евро (один, а не одно) не по своеволию европейских (точнее, видимо, немецких) финансистов, а по примеру рубль, доллар, франк, фунт. Не менее ведь уважаемы марка, лира, гривна, иена, а латиноамериканское песо (в отличие от испанской песеты), как и чилийское и колумбийское эскудо, теньге, скорее среднего, чем мужского рода.
Непоследовательно устанавливается род в сокращениях наше гороно, а не наш (это ведь отдел), и совсем прихотливо – в иноязычных: откуда русскому знать, что в НАТО базовое слово организация, а в ПАСЕ – ассамблея и надо писать НАТО или ПАСЕ решила, а не решило. Не менее загадочны и малоизвестные русские аббревиатуры: говорят ФАНО решил и решило даже те, кто знает, что это Федеральное агентство научных организаций. Затруднительно мириться с согласованием Минсоцразвития опубликовало, Минобрнауки предписало.
Нельзя не заметить, что в определении рода часты исторические изменения. Танго осмыслялось, например, как слово мужского рода: в «Круге» Набокова встречаем: «…танцевал с нею тесный танго». Извозчик, персонаж Л. Утёсова, перенёс на сокращение метро род слова метрополитен: «…я утром отправляюся от Сокольников до Парка на метро…;… метро, сверкнув перилами дубовыми, сразу всех он (!) седоков околдовал».
Неустройство нарицательных существительных переносится и на имена собственные, которым «посчастливилось» оканчиваться на – о/-е. Значительную их часть составляют фамилии: Бабенко, Григоренко, Дурново, Квитко, Матвиенко, Петренко, Шапиро. Относясь к женщинам, антропонимы не склоняются (как и Ольга Нейман, Фанни Розенбаум), обозначая имена мужчин, они вроде бы должны склоняться, но часто это звучит неловко. И уж точно русские почтительно стараются не «искажать», сохраняя иноязычные Кусто, Мольтке, Отто, Пуанкаре, Рено, Франко или Шевченко (хотя сами украинцы фамилию Тараса Григорьевича склоняют).
Ещё сложнее складывается ситуация с географическими названиями. Иностранные топонимы традиционно не склоняются и относятся то к среднему, то к мужскому роду: Гродно, Киото, Мексико, Монтевидео, Молодечно, Сакраменто, Сорренто, Токио, Толедо.
Эта мода – позволим себе сказать – незаконно и эпидемически распространилась при диаметрально противоположных оценках авторитетов на русские названия, например, Сормово, Кемерово. В одной лишь Москве и в Подмосковье их сотни: Алтуфьево, Бескудниково, Бирюлёво, Бутово, Востряково, Гольяново, Дорогомилово, Медведково, Новогиреево, Останкино, Солнцево, Тушино, Чертаново. Как и все известные миру аэропорты Быково, Внуково, Домодедово, Шереметьево, они перестают склоняться, и лишь верные традиции пожилые москвичи упорно пишут и говорят: вылетел из Внукова, подъехал к Быкову, встречал гостей в Шереметьеве. Упорнее всего хранится противопоставление «куда? – где?»: ехать в Бутово – жить в Бутове. И напротив, сомнительны формы творительного падежа: дача у него под Внуковом; вертолётное сообщение между Шереметьевом и Домодедовом. Дело в смешении окончаний Быковом (от Быково – название городка) и Быковым (от Быков, будь то фамилия или топоним, как, скажем, Пушкин – местечко в Крыму, а не только имя великого поэта).
Справедливости ради заметим, что это правило не разделял М.В. Ломоносов, написавший в «Российской грамматике»: «Имена собственные мест, имеющие знаменование притяжательных, кончающихся на – во и – но, склоняются в творительном единственном: Тушино, Тушиным, Осташково, Осташковым». Но такие названия давно уже не ассоциируются с притяжательными прилагательными, и школьное правило об их склонении справедливо.
Нынешние журналистами убеждены в том, что доехал до Астахово; уехал в Астахово; скончался в Астахово никак не аналогичны доехал до Тулы; уехал в Тулу; умер в Туле. Смутно помня, что различаются место и направление, они неохотно соглашаются, что надо бы писать: «Инновационный центр расположен в Сколкове», «Учёные едут в Сколково», но считают невозможным назвать статью «Новости из Сколкова». «Сколково, Сколкове, Сколкова, Сколкову, Сколковом…или… Сколковым. Как надо? Нет, это просто смешно», – говорили мне в редакции газеты.
Важной причиной нынешней несклоняемости топонимов явился приказ, изданный Верховным Главнокомандующим в начале Великой Отечественной войны после ряда трагедий, случившихся вследствие искажения топонимов или ненадёжной радио– и телефонной связи. Приказ предписывал употреблять названия неизменно в именительном падеже как приложения. Под страхом полевого суда нужно было письменно и устно сопровождать их родовым уточнением город, посёлок, деревня, населённый пункт, река, высота, при котором грамматически естественна исходная форма. Это касалось и всеизвестных названий: в городе Москва. В документации и сегодня предпочитают в посёлке Перхушково, в округе Дорогомилово, даже если говорят дача в Перхушкове, прописан в Дорогомилове. Заметим, что ненормативно встречающееся в документации в городе Москве вместо в городе Москва.
Коммуникативная целесообразность берёт верх над системными силами и над культурной традицией. Строгая в языке «Российская газета» даже в заголовках печатает: «В Сколково выходите?» (РГ. 2010. 14 окт.); «Сколько до Сколково?» (РГ. 2011. 18 февр.); «На одной оси с Сити и Сколково» (РГ. 2011. 4 июня), то вдруг радует ревнителей грамматики: «Звонок из Сколкова» (РГ. 2010. 29 окт.), но тут же сообщает, что «…два самолёта приземлились в Шереметьево, один – во Внуково, остальные решили лететь за границу» и «возвращались из Пушкино в Москву» (РГ. 2011. 11 окт.); «Дорога к Солнцево» (РГ. 2013. 8 февр.). Потрясает старого москвича и заголовок «Подмосковный Обухово стал одним из центров русского хоккея» (РГ. 2013. 18 дек.; речь идёт о подмосковном поселении Обухово, то есть средний род очевиден, как и в слове кофе в отличие от кофия).
Не замечать неопределённо-колеблющегося обращения с топонимами, да и с другими словами на – о/-е, нельзя. Даже кодификаторы, увы, склонны согласиться с тем, что в разговорах допустимо не соблюдать грамматическое противопоставление ехал в Астапово – скончался в Астапове. Оно, как и всё выходящее из традиции, создаёт неудобство, вызывает скрытое недовольство, а то и громкое возмущение. Нет-нет, а нынешние авторитеты публикуют сердитые протесты и призывы сохранять уходящую норму. Укажем, например, статью В.И. Аннушкина «Как правильно: в Тушине или в Тушино?» (Независимая газета. 2004. 8 дек.), статью неугомонного ревнителя языка В.Т. Чумакова (Литературная газета. 2012. № 46–47).
Любопытно мнение на этот счёт писателя П. Басинского, отражённое в заметке «Живёт в Пушкино такой батюшка…» (РГ. 2013. 1 июля): «Я попросил отца Андрея прислать мне о себе короткую справку. Вот она: “В Пушкине (или, как у нас говорят, в Пушкино, не склоняя в отличие от питерского) я родился… с 2000 – настоятель церкви вмч. Пантелеимона, а при ЦРБ г. Пушкино”». Как видно, ни редакция ведущей газеты, ни современный писатель при всём почитании батюшки отнюдь не разделяют его мнение о языковой норме.
Автор помнит, как из уст К.И. Чуковского во время прогулки по Переделкину в ответ на мой вопрос, можно ли сказать живу в Переделкино, вырвалось резкое: «Не могу счесть писателя русским, если он скажет, что у него дача в Переделкино». Лишь немногие русские жители писательского посёлка сегодня говорят: думаю о Переделкине; никогда не уеду из Переделкина; живу в Переделкине. Окружная газета «На западе Москвы» (2013. 15 авг.) под заголовком «Приключения в Переделкино» сообщает о «детском празднике в доме-музее барда, поэта и композитора Б. Окуджавы в Переделкино».
Сосуществование двух возможностей – непреложный факт развития литературного языка при всё бо́льшем слиянии его некнижной (даже в её разговорной части) и книжной разновидностей и всё меньшей их увязке со звуковой или печатной формой осуществления. В то же время грань между ними, несомненно, ощутима, становясь базой новой стилистики. Можно лишь отдать должное прозорливой мысли В.П. Григорьева о прогрессе падежной иллюзии, свойственной живым разговорам и явно проспективной в книжности, о чём и свидетельствуют рассматриваемые топонимы.
Схожую оправдательную точку зрения недавно высказала вдумчивая исследовательница А.Ю. Константинова, связав её со стремлением нашего времени к формально-материальному упрощению, своего рода экономии усилий (ЛГ. 2014. № 10). Вполне уважительно воспринимая этот взгляд, хочу не без злорадого сочувствия отметить и тенденцию возврата к прежним нормам, обостряющуюся в самое последнее время, пусть во многом лишь призывно-словесно. Это и малоудачные попытки вернуть старую орфографию (Коммерсантъ, Пересветъ, правда без ятя вместо последнего е), и борьба с обилием английских заимствований.
Компьютерный поиск даёт примеры явного роста склоняемости рассматриваемых топонимов, особенно в сегодняшней звучащей речи: «Взамен закрытой овощебазы в Бирюлёве будет построен агрокластер во Внукове» (Московские новости. 2014. 19 марта; в тексте нормативно: «овощебаза в московском районе Бирюлёво»); «храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлёве»; «услуги и деятельность в Переделкине»; «Во Внукове начинается строительство нового терминала»; «Москва отказалась от планов строительства автодрома “Формулы-1” во Внукове»; «Прокуратура выявила нарушения публичных слушаний в Новокосине»; «в Строгине жители выступили против строительства моста»; «Новостройки в микрорайонах Свиблова»; «Традиционный детский праздник в Переделкине»; «Проекты прочих построек в Бородине». В передаче для детей ведущий даёт и такой совет: «Если родового слова нет, склоняй как хочешь! Что в Иванове, что в Иваново. Но если вы хотите говорить по литературным нормам, как диктор на центральном телевидении, тогда склоняйте» (опубликовано 7 декабря. 2011 года) как ответ на вопрос продвинутого школьника: «В Простоквашино или в Простоквашине?»).
Москвичи, сожалеющие о событиях в Останкине, восхищающиеся Бутовом, не любящие Бескудникова, надеются, что их потомки, подобно предкам, будут читать знаменитые строки: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, ещё какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина», – не обвиняя М.Ю. Лермонтова в неумении найти рифму. И, конечно же, их мало радует журналистское упрямство «Российской газеты»: «45-летний житель Одинцово (вместо Одинцова) взошёл на вершины всех континентов»; «У него в подмосковном Одинцово (вместо Одинцове) свой кузнечный цех».
Знаменательно, что в свободном просторечии тлеет желание посклонять совсем обрусевшие иноязычные слова: «люблю какаву»; «каждый день толкаюсь в метре»; «был в кине»; «учится играть на пианине». Безусловно, склоняется эхо в названии радиостанции: «слушайте на “Эхе”; удивляемся передачам “Эха”. В.И. Ленин писал: «Нет известия о посещении бюром ни одного нейтрального или меньшевистского комитета» (ПСС в 55 т. М., 1967. Т. 34. С. 261).
Этой тенденции следуют в художественных целях писатели: Н.В. Гоголь: «На бюре, выложенном перламутровой мозаикой, лежало множество всякой всячины» («Мёртвые души»), «с этим инкогнитом» («Ревизор»; в речи городничего); В.В. Маяковский: «Я, товарищи, из военной бюры» («Хорошо»); он же (правда, шутливо): «И вижу катится ландо, и в этой вот ланде сидит военный молодой в холёной бороде», – а также: «Поевши, душу веселя, они одной ногой разделывали вензеля, увлечённые тангой»; В.В. Набоков: «танцевал тангу»; М. Горький: «Над сапогами смеются и над пальтом» («Трое»). Н.И. Вавилову приписывают шутливый стих: «Если мне так холодно в драповом пальте, что же должен чувствовать птиц в одном крыле?»
В «Севастопольской страде» С.А. Сергеева-Ценского находим такой эпизод: «“Откуда идёшь так поздно?” – спросил его царь. – “Из депа, Ваше императорское величество!” – громогласно ответил юнкер. – “Дурак! Разве депо склоняется?” – крикнул царь. – “Всё склоняется перед Вашим императорским величеством!” – ещё громче гаркнул юнкер».
В.В. Виноградов как-то заметил, что средний род – это свалка, куда русская грамматика с осторожным недоверием отправляет всё непонятное, иноземное. Если социум заменит подспудную нежелательность общим одобрением, то системное противодействие его принятию и освоению может угаснуть. Происходящее в категории среднего рода окажется чувствительным ударом по флективной грамматике (картинка 7.7).
7.5. Казань-университет лучше, чем ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
При сочетании двух существительных (скажем, фестиваль, джаз), одно из которых определяет другое, почитатели русской грамматики знают два решения проблемы. Первое: определяющее ставится в родительном падеже после определяемого – фестиваль джаза. Второе: от него образуется прилагательное и помещается впереди определяемого – джазовый фестиваль. Третьего не дано, но его заставляет найти наплыв иноязычных слов вроде шоу, которые не склоняются и от которых не образуешь прилагательное. Проще всего поставить такое слово перед определяемым, снабдить на всякий случай дефисом и представить, будто это импортное несклоняемое прилагательное: шоу-бизнес, шоу-клуб (ср. также шоумен). Такие конструкции с несклоняемой первой частью не похожи на сложные или составные слова, отчего их предпочтительно называть биноминами.
С конца ХХ века новый способ пришёлся ко двору: шоп-тур, шоп-туризм, шоп-турист, шоп-рейс, топ-модель, топ-менеджер. По примеру аудио-, видео– предлагается заодно видеть и в бизнес– и траст– несклоняемые прилагательные: бизнес-школа, бизнес-клуб, бизнес-туризм, траст-фонд, траст-банк. Хотя, в отличие от бизнеса, который не даёт прилагательного, траст склоняется и образует трастовый; предпочитают игнорировать фонд траста или трастовый (умолчим уж, что последний можно было бы именовать вполне по-русски: доверительный фонд, фонд доверия).
Более того, новая конструкция переносится и на русские слова: Горбачёв-фонд (с неизменяемой первой частью) как официальное название вытеснило прежние возможности: Фонд Горбачёва, Горбачёвский фонд (Горбачёвка). Как не вспомнить славные библиотека Ленина (со вставкой имени – формальным свидетельством, что имя присвоено указом Верховного Совета), Ленинская библиотека, ласковое стяжение Ленинка. Появились уже Дягилевъ-центр, Гоголь-центр («Руководитель Гоголь-центра провоцирует публику ремейком… “Братьев Карамазовых”» (РГ. 2013. 5 июня); «В Гоголь-центре годовщина» (РГ. 2014. 5 февр.). «В Сочи открывается экстрим-парк под названием “Роза-хутор”» (РГ. 2013. 3 февр.). Раньше, вероятно, назвали бы «Хутор роз» или «Розовый хутор».
В бакинском метро давно были Шаумян-станция, станция Шаумян (а не станция Шаумяна или Шаумяновская). В новейших переводах появились Ванс-авеню, Крамер-бульвар, Уэлсли-колледж. Гарвард (или даже Харвард) – университет заменил привычные Гарвардский университет, университет Гарварда. У В. Аксенова в сочинении «В поисках грустного беби» (New York, 1990) находим Пенсильвания-авеню, шоу-бизнес, секс-коммерция, флаг-башня и даже салат-бар («В салат-баре мы отоварились ещё овощами»), бюро-шедевр (в значении «бюрократический шедевр»: «Теперь, при всём желании, к нашим бумагам невозможно придраться – совершенство! Бюро-шедевр!»). В. Аксёнову принадлежит и вынесенное в заголовок ностальгическое Казань-юниверсити: «Март, студенческая местность близ Казань-юниверсити». Оно ведь экономнее, понятнее, эстетичнее, во всяком случае лучше тяжеловесного монстра, изобретённого нынешними чинушами, – ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Вообще в русском языке много разнообразных образований – от древних баба-яга, бой-баба, жар-птица, царь-девица, царь-пушка, душа-человек (в смысле «душевный»), новых полужаргонных, заимствованных джаз-крошка, стиляга-брюки до терминов генерал-майор, капитан-наставник или альфа-частицы, резус-фактор, цирроз-рак, Х-лучи. Разнообразие это усиливается, делая возможным, например, заголовок «Олигарх-развод» (с разъясняющим подзаголовком «Плачут ли богатые, расставаясь?» (РГ – Неделя. 2014. 16 янв.)) моднее, чем «Муж и жена – одна сатана» или даже «Развод у олигархов», «Развод по-олигархски». Производители клеющих карандашей называют изделие клей-карандаш.
Хотя глобально системообразующая флексия предостерегает от аграмматичных построений, в настоящее время перед ними распахнулись ворота. В их пользу заразительная краткость, выразительная новизна (о ней свидетельствуют, например, колебания написания: бизнес-леди/бизнеследи; бойфренд/бой-френд/бой фрэнд; шоумен/шоу-мен (ср. новейшие торговые марки Линзмастер, Спортмастер)).
Непроста задача кодификатора, когда на поле языковой нормализации ситуация складывается против пусть ещё непродуманных, скороспелых чувств социума. К тому же новшества, коим противодействует система, всё же, несмотря на свою оригинальность, достаточно органично вписываются в крайне разнородные образования, орфографически объединяемые лишь написанием через дефис.
Тем не менее сначала многие считали эти образования недопустимыми и, как могли, воевали против них. «Российская газета» насмехалась: «Появился и Горбачёв-фонд – этакая терминологическая помесь иностранного с нижегородским – в переводе на русский: фонд Горбачёва» (РГ. 1993. 2 окт.). Т. Толстая в статье «Долбанём крутую попсу!» (Московские новости. 1992. № 11) писала: «Экспресс-опрос, пресс-релиз, ток-шоу, а теперь ещё и это офис-применение (“Прогрессивный дизайн, ориентированный на офис-применение”) свидетельствуют о том, что не только английская лексика (или дубовая техническая латынь, процеженная сквозь английское сито) вдруг поманила нашу прессу своим западным звучанием, но и английский синтаксис, как василиск, заворожил и сковал мягкие мозги бывших комсомольцев, а ныне биржевых деятелей. Какого рода шоу? В английском контексте вопрос бессмысленный, так как в английском рода нет. В русском же, по-видимому, среднего, просто потому что кончается на – у. И, вообще говоря, переводится как “представление”. А ток значит “разговор”, “беседа”. В английском одно существительное, поставленное перед другим существительным, выполняет функцию прилагательного. А в русском не так. “Разговорное представление” (хотя, конечно, звучит тяжеловато): вот вам и прилагательное, а вот вам и существительное. Оба склоняются за милую душу. Чем плохо-то? Может, англичане тоже склоняли бы свои слова, да не с руки. Замечу, кстати, что на языке оригинала все эти термины (talk show) пишутся без дефиса, так как это именно два слова, поставленные вот в такой специфической, в высшей степени свойственной английскому языку позиции. А у нас норовят поставить дефис, слив два слова в одно, и не потому ли, что в русском языковом сознании, подобно следу от выпавшего гвоздя, всё же остаётся воспоминание о нехватке чего-то: может быть, соединительной гласной? ВодОпад, тёмнО-синий и т. д.»
Опровергая мнение, будто в синтаксисе нового совсем уж не происходит, биномины всё больше воспринимаются как закономерная новация, как достижение модной ныне инновационной деятельности, по крайней мере в сфере словосочетания.
7.6. Прихоти ударения
В отличие, скажем, от родственного польского языка, в котором ударение всегда падает на предпоследний слог, русское ударение свободно и подвижно. Ударным может быть, в принципе, любой слог, но за некоторыми исключениями только один: сорока́пятиле́тняя красавица; Пе́тропа́вловская крепость).
От места ударения зависит произношение всего слова, и произношение меняется при переносе ударения: ко́локол (в произношении [колъкл]), а множественное число колокола́ (произносится [кълъкъла]); если только не диктуется в учебных целях по слогам: ко-ло-кол, ко-ло-ко-ла. При первой встрече со словом мы не можем его произнести, если не знаем в нём места ударения, но, попробовав так и эдак, каким-то чудом (вероятнее всего, по аналогии) угадываем, как правильно.
Ясно, сильно, долго в русском слове звучит только ударный гласный звук, а остальные редуцируются, то есть ослабляются, сокращаются, «проглатываются». Нам кажется, что безударный о звучит вроде как а, е – как и: родной произносится раднОь; однако – аднАкъ; деревенский – дьривЕнскиь; этажерка – итажЕркъ. Такую редукцию привычно называют аканье, иканье. Самый выбор места ударения в строении слова не произволен, его определяют интонационно-звуковая гармония, напевная музыкальность. Они зависят от качества стоящих рядом звуков, от структуры слогов, их количества в слове и даже во всей фразе. Эти обстоятельства бывают сильнее собственно фонологических (собственно смыслоразличительных).
Новейшие исследователи русской фонетики основную роль отводят именно слогам, установив, в частности, что есть морфемы в принципе безударные. Правила составления слогов, созвучий и тактов устанавливаются с первых шагов освоения родного языка, может быть, когда ребёнок находится ещё в утробе матери. Вот отчего так важно, чтобы мамы напевали русские колыбельные песни, а не обходились иноязычными джазовыми записями. Рано сформировавшись, эти правила действуют затем интуитивно, вряд ли вообще анатомически уловимо, в вокальном плане системно и подвластно разуму. Они подспудно отражают зависимость характера ударения и долготы гласных в структуре слога.
Ещё С.П. Обнорский пытался таким образом связать акцентологическую и морфологическую вариативность: «Акцентологическая невозможность новообразований одного и другого ряда форм от слов с невозможным ударением на основе или окончании или, обратно, возможность тех и других новообразований от подвижно ударяемых, причём акцентологически необходимо в последнем случае окончание – у в родительном падеже единственного числа, исконно нисходящее долгое, на себя ударение не перетягивало, а – у в предложном падеже единственного числа, как и – а в именительном падеже множественного числа, бывшие исконно восходяще-долгими, становились всегда ударяемыми, перетянув на себя ударение с основы. Как видно, нормы одного и другого морфологического явления были одни и те же» (Обнорский С.П. Избранные работы по русскому языку. М., 1960 (1931). С. 48).
Музыку, равновесие и напевность ритма в одно– и многосложных словах, благозвучие оказавшихся в соседстве звуков, нужную расстановку ударений открывают в силу своего дара поэты – не умом, а душой и сердцем и не в полноте правил. Основываясь на их открытиях и на своих знаниях, чувствах и вкусах, филологи, редакторы и педагоги пытаются устанавливать разумные нормы. В случаях очевидных вариативных колебаний они стремятся найти (часто и изобрести) убеждающие людей доводы в пользу одного, устраняя или неохотно признавая другой вариант допустимым, хотя нежелательным, а иногда признавать оба, связав их с разными значениями. Обычно люди и не требуют доказательств, удовлетворяясь мнением авторитета.
Смена места ударения помогает различать формы одного и того же слова: звезда́ – звёзды; по́ле – поля́; топо́р – топоры́; круго́м – кру́гом; вы́резал – выреза́л. Оно различает разные слова, но одинаково написанные слова: иди своей доро́гой (своим путём) – дорого́й (милый) друг мой; о результатах завтра мне доло́жите (форма будущего времени) – о результатах доложи́те немедленно (повелительная форма); крыша с грохотом осы́палась (вдруг, внезапно, от глагола осы́паться) – штукатурка осыпа́лась при каждом сильном дожде (всякий раз, постоянно, от глагола осыпа́ться); вкусная пи́ща – ребёнок полз, громко пища́; нет сы́ра – земля ещё сыра́; целу́ю крепко – це́лую неделю; вдоль по бе́регу – вечно берегу́; вода спа́ла – спала́; указал зна́ком – он мне знако́м; в лесу много бе́лок – он не любит бело́к яйца; живёт в за́мке – дверь на замке́; я заплачу́ за тебя – я тогда запла́чу, и так до бесконечности.
По примеру фольклорных формул красна де́вица – деви́ца; мо́лода – молода́; мо́лодец – молоде́ц можно менять его место ради шутки или какой-то выразительности: иду́т себе, и́дут – никак не придут; пе́тля – пе́телька; петля́, а иной раз совсем бесцельно: ро́вня, ровня́. При вроде бы единственно правильном берёста всё больше слышится береста́ и даже бе́реста. В деревнях и дачных посёлках Подмосковья можно услышать и прочитать в названиях улиц и переулков и про́сека (признано словарями), и просе́ка, просе́к первоначально «дорога, прорубленная в лесу»).
Родить – один из уникальных двувидовых глаголов без приставки и суффикса, даёт в качестве несовершенного роди́л, роди́ла, роди́ло, роди́ли и в качестве совершенного роди́л, родила́, роди́ло, роди́ли, а также роди́лся и родился́, родила́сь, родило́сь, родили́сь и допускаются роди́лось, роди́лись. Ещё более пестра акцентологическая картина в формах прошедшего времени и кратких причастий от глаголов совершенного вида с основой – нять (занять, отнять, перенять, принять, поднять, унять), дающих видовую пару с суффиксом несовершенности (занимать – занять) в отличие от изменять – изменить и большинства других.
Страшно подумать, что было бы, если бы обязали проставлять ударение при письме и печати. Этот труд выпадает на долю составителей орфоэпических словарей и преподавателей языка, особенно русского как иностранного. Главный законодатель правильности – наша орфография – благоразумно отказался от фиксации столь сложного дела. Он уклоняется даже от узаконения обязательного (а не по желанию пишущего) написания буквы ё, которого отчаянно добивался славный покойный «ёфикатор», как он сам себя любовно называл, В.Т. Чумаков.
Прихоти акцентологии нравятся не всем и вызывают споры. Выбор места ударения в строении слова и его роль в произношении, конечно, не произвольны, просто лишь не познаны их определяющие законы созвучий в интонационно-звуковой гармонии. В академическом «Опыте общей грамматики русского языка» (СПб., 1852. С. 49–50) читаем: «Ударение, как биение сердца, есть органическое выражение жизни мысли с тончайшими её отливами. Речь без ударений мертва, бездушна, в ударениях обнаруживается живая природа языка. Самая разность в ударении оправдывается народною жизнью… Ударение, которое должно соразмерять окончания с корнями, начинает колебаться, становится непостоянным, своенравным… Врождённое чувство слуха требует гармонии и повинуется количественному отношению слов с первых слогов от средних как бы для уравнения частей (даже на предлог идти по́ воду)».
Многое, видимо, объясняется исторической утратой различия гласных по количеству. Параграф 79 цитируемого «Опыта…» посвящён кратким и долгим звукам, благодаря которым речь отличалась мерным течением, а потом стала «синтаксически беспомощно упорядоченной». В целом же, несомненно, существующие законы пока не познаны.
Широкое поле вариативных колебаний, каверзных и не всегда безобидных игр, затруднительно не только для иностранцев, но и для самих русских, не знающих, как лучше: в родных сте́нах или стена́х, кури́т, мани́т, звони́т или ку́рит, ма́нит, зво́нит. Между тем такая причудливость даже устраивает некоторых людей, питает их вечное сомнение и желание найти недостижимый порядок: всегда можно поспорить, упрекнуть приятеля. Недаром В. Распутин как-то заметил, что «языку нашему чем чудней, тем милей».
Услышав из уст В.В. Виноградова при́горшня, я дерзко спросил: «Разве не приго́ршня?» В ответ услышал: «Надо узнать у вашего старшего друга Сергея Ивановича». Наверняка знал, что «мой старший друг» признаёт и то и другое! В замечательном «Опыте словаря-справочника» Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова «Русское ударение и произношение» (М., 1955) написано: «…при́горшня и допустимо приго́ршня». Сегодня нормой считают и второе, и первое. При неуверенности следует обращаться к знатокам – кодификаторам данного момента. Тут к месту нельзя не вспомнить едва ли ни первый этого рода великолепный труд В.И. Чернышёва «Правильность и чистота русской речи» (М., 1910): в его эпоху, видимо, никто из образованных людей не говорил приго́ршня.
Не премину рассказать ещё, как в юношеском задоре я спросил у С.И. Ожегова, почему по́дняли в словаре считается правильнее, чем подня́ли, а приня́ли вовсе не указывается, а только при́няли. Он хитро прищурился: «Да просто звучит приятнее». И добавил: «Скажу вам по секрету, только никому не рассказывайте, что если не уверены, как лучше, всегда выбирайте ударение ближе к началу: при́горшня, а не приго́ршня; пра́вы, а не правы́; с де́ньгами, а не с деньга́ми; зна́мение, а не знаме́ние; Тайная ве́черя, а не вече́ря. И несомненно, я́годица, а не ягоди́ца». Чтобы не нарваться на издёвку, а собеседник был на это мастер, я побоялся спрашивать, почему в его словаре сказано: «мыта́рство (не мы́тарство)». Что до знаме́ние, знаме́нье, то мне и в голову не приходило, что так кто-то говорит, и лишь недавно прочитал в «Большом словаре русского языка» (под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 1998), что это… тоже норма.
В силу своей свободы и подвижности русская акцентология составляет особо запутанный клубок противоречий, порождающий неопределённость в людских заботах при установлении нормы. Язык терпеливо сносит смену места ударения, пока сохраняется (для русских, привычных к таким подвохам и ищущих за ними смысловые различия)узнаваемость слова – чёткость ударной гласной и редукция остальных. Но при этом и русские нередко теряют возможность системно предугадывать нормативную правильность, колеблются и традиционно настроены на вопрос: «А всё-таки как это по-русски правильно?»
Рассмотрим три примера нелёгкого установления нормы, волнующих русских и, надо думать, затрудняющих иностранцев.
Петля, фольга, искра
Среди двусложных слов женского рода на – а/-я немногие, связанные с профессиональными сферами, имеют ударение на втором слоге (броня́, кирка́, межа́, фата́, фреза́, лыжня́) и с различным успехом прорываются в общую массу с ударением на первом. Идя против, казалось бы, системной тенденции, словари утверждают нормой лыжня́, указывая с запретом или допуском лы́жня. Во имя торжества культурно-педагогической традиции они даже не упоминают широко распространённое среди электриков и шофёров искра́.
Неохотно нормализуется петля́ под непреодолимым влиянием речи ткачей, циркачей, авиаторов, особенно в связи с героическим исполнением пилотом, штабс-капитаном П. Нестеровым мёртвой петли́ и популярностью велогонки «Тур де Франс» – большая петля́, или модой на синтетические чулки, колготки, на которых то и дело поехала петля́. При этом устойчиво сохраняется и явно устаревает пе́тля, прежде всего во фразеологизме лезть в пе́тлю.
Слово фо́льга в значении «тончайшая плёнка из золота для ручного золочения» вышло из употребления с появлением гальванических приёмов и забвением самого предмета. Однако оно вновь появилось в общем языке как вторичное заимствование из речи металлургов уже с профессиональным ударением фольга́ – название алюминиевой обёртки для жарки или упаковки продуктов, обогатившей наш быт. Лишь немногие нынешние словари вообще вспоминают слово со старым нормативным ударением, помечая спец., устар.
Профессиональное ударение электриков и шофёров искра́, вопреки, казалось бы, системной тенденции, не получило прав нормы, и нормой остаётся сегодня старая и́скра. Пример показывает взаимодействие динамики языка и культурной традиции.
Можно провести много примеров того, как структура социума «поправляет» динамику языка и осложняет работу кодификаторов. Юристы и судьи твёрдо стоят за при́говор и осу́жденный, моряки – за компа́с и Мурма́нск, горняки – за ру́дник и до́быча, художники – за ста́нковую живопись, а военные – за станко́вый пулемёт. В профессии – это закон, не соблюдающего закон не сочтут своим. За пределами профессии, кроме, пожалуй, судейских чинов и живописцев, сами профессионалы пользуются традиционной общей нормой: пригово́р, осуждённый, ко́мпас, Му́рманск, рудни́к, добы́ча, станко́вый.
Творог, пирог, сапог
Распространяется ударение тво́рог вместо творо́г. Оправданное передвижкой в падежных формах творога́, творогу́, творого́м и ставшее подвижным, ударение захватило исходную форму и стало менять остальные: тво́рога, тво́рогу, тво́рогом. Слово предстаёт исключением, потому что системно однородная группа таких слов с исходом на – ог (итог, налог, острог, подлог, порог, предлог, чертог – всего около 80) стремится избежать изменения ударения: ито́г – ито́га, ито́гу… ито́гu, ито́гов… Но в этой группе слов явно завелась червоточина, покушающаяся на акцентологическую замкнутость.
Началось всё, скорее всего, с «прыжка» ударения в словах сапог и пирог, точнее говоря, в форме множественного числа этих слов, а затем произошли изменения во всей парадигме. Можно уловить здесь некий отзвук идеи двойственности: пара сапог, два сапога пара. Эти два слова ушли от неподвижного ударения (сапога́, сапогу́, сапоги́, пирога́, пирогу́, пироги́) не так уж решительно. Дурной пример заразителен, но, пережив самую́ возможность перемещения, ударение в слове творо́г вернулось – парадоксально – к неподвижности только на другом слоге, будто желая прощения за измену. Трудно угадать, каким было бы при необходимости (скажем, для обозначения сортов) множественное число этого вещественного имени: творо́ги (как поро́ги, нало́ги), твороги́ (по примеру сапоги́, пироги́), творога́, теперь же наверняка – тво́роги.
Кодификаторы, лексикографы и даже грамматисты, как всегда, ждут конца интриги и стремятся поспеть за нормализацией: то констатируют (и отвергают) появление варианта, лет через десять-двадцать смягчают помету, полупризнают вариант. При замедленной нормализации их терпение бесконечно.
Ревнители правильности, особенно из старшего поколения, согласиться с этим не способны. В статье «Из жизни словарей» (ЛГ. 2012. № 46–47) читаем: «Единственно правильным является ударение творо́г! А как же иначе! Вот смотрите: творожо́к, творо́жник, творо́жистый, творо́жащийся… Во всех этих словах ударение падает на вторую часть слова, и поэтому творо́г и только творо́г истинно верно!» Автор забавно не заметил, что творожо́к, в котором о из суффикса – ок/-ек, опровергает его доказательство, свидетельствуя как раз о перемене места ударения (иначе было бы творо́жек). И ещё: неужели сам автор склоняет творо́г, творо́га, творо́гу, творо́гом?!
Для меня, привыкшего к форме творо́г (с младенчества так учили в семье, так говорили все вокруг), хотя и перемещающему ударение при склонении: говорю дайте творога́ (а не творо́га), одним творого́м (а не творо́гом) сыт не будешь. Новоявленные тво́рог, тво́рога, тво́рогом совершенно неприемлемы. Но, видимо, пора меняться, чтобы не быть белой вороной.
На днях попросил в магазине: «Дайте творога́», – а продавщица не понимает; повторил внятно и проще: «Творо́г дайте», – опять не поняла, показал пальцем, она раздражённо бросила: «Ах, тво́рог, сразу так бы сказали!» Мои друзья неуверенно успокоили: девушка, мол, скорее всего, нерусская, как многие работники московских супермаркетов. Вопреки их мнению и своему, даже вопреки авторитету «Литературной газеты» думаю, что в ближайших будущих словарях можно ждать новых помет: тво́рог и (не реком., устар.) творо́г.
О причинах смены норм чаще всего можно лишь гадать. Ясно, что, обретя свободу передвижения хотя бы в одной форме, ударение легко меняет своё место, но трудно объяснить, почему другие слова той же структуры этой свободы не вкусили. Примером могли служить односложные слова вроде стог, развившие с конца XVII столетия, по крайней мере в московском наречии, форму множественности стога́ наряду с формой сто́ги, а вскоре и похоронили её, так же как дома́, города́ сменили до́мы, го́роды. В принципе, исторические формы сохраняются в случае смысловой особости: в Средние века́ и в кои-то ве́ки. Здесь можно ещё полагать действие каких-то таинственных законов созвучия.
Впрочем, хрестоматийные чуло́к (чулка́, чулки́, чуло́к) и носо́к (носка́, носки́, носко́в), а также многие другие частные нормы даже в случаях более очевидного колебания вариантов закостенело абсолютизируются кодификаторами, насаждаются школой и закрепляются в речевой практике под внимательным надзором русского лингвоцентричного образованного общества. Явно не дождаться, чтобы признали, например, кило́метр (хорошо бы опросить, не больше ли половины неумудрённого населения так говорит) или допустили ради разумного равновесия термоме́тр, бароме́тр, спидоме́тр, что, конечно, хуже, потому что приборы измерения мы заимствовали раньше метрических мер.
Многозначительно, наконец, то, что колебания, поразившие слова творо́г, пиро́г, сапо́г, охватывают, вопреки усилиям ревнителей традиции, иноязычные слова сходной структуры. Кроме диало́г, катало́г, некроло́г, которые постоянно сопровождаются ошибками: ката́лог, некро́лог. Напомним многосложные нерусские названия учёных на – о́лог; произносимое нередко и часто насмешливо – оло́г (но не в случае знатоков русской геральдики, поклоняющихся генеало́гу А. Бобринскому!): архео́лог, био́лог, венеро́лог, гео́лог, гинеко́лог, ихтио́лог, кардио́лог, ларинго́лог, лексико́лог, методо́лог, невро́лог, онко́лог, психо́лог, рентгено́лог, социо́лог, тексто́лог, техно́лог, травмато́лог, физио́лог, фило́лог, эпидемио́лог.
Языко́вый, языково́й
Кажется логичным сохранять ударение производящего односложного слова, но многие из таких слов становятся двусложными при склонении (кедр – ке́дры, дом – дома́): ке́дровый, до́мовая (церковь, кухня). Всё чаще и сам суффикс перетягивает на себя ударение, особенно при дву– и многосложных производящих словах: сли́ва – сли́вовый/сливо́вый, ви́шня – ви́шневый/вишнёвый (но только мали́новый; ряби́новый), джи́нсы – джи́нсовый/джинсо́вый (тем более что в просторечии говорят джинса́), сме́си – сме́совый/смесо́вый, подро́сток – подро́стковый/подростко́вый, по́иски – по́исковый/поиско́вый.
По образцу Москвы окончание – ый/-ий часто заменяется конечным ударным – ой. В Санкт-Петербурге скорее скажут Обво́дный канал; в Москве – обводно́й. В песенной строке сохраняется запа́сный («Наш бронепоезд стоит на запа́сном пути»), но повсеместно говорят запасно́е колесо. Д.А. Медведев устойчиво произносит первоочерёдный (забавно, что словарь «Русское литературное ударение» на с. 55 даёт первоочерёдность, рядом «первоочередной и допустимо первоочерёдный»), совремённый. Во времена моего детства говорили только заслужЁнный и т. д. Словарь под редакцией Д.Н. Ушакова предпочитает по́исковый, а словарь-справочник под редакцией Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова чуть ли ни запрещает его («пОисковый, не реком. поискОвый»). Новейшие словари, кроме «Нового словаря русского языка» Т.Ф. Ефремовой, дающего оба варианта, единодушно игнорируют старую норму.
Односложные борт, двор, дом, мир, смесь дают борто́вый, дворо́вый, домо́вый, миро́вый (в значении «очень хороший» – устаревающий полужаргонизм) и бортово́й, дворово́й, домово́й (не только мифическое существо: дворо́вый/дворово́й пёс), мирово́й. Иные ряды усложняются ещё сильней: гру́нтовый/грунто́вый/грунтово́й, што́рмовый/штормо́вый/штормово́й, сме́совый/смесо́вый/смесово́й, ци́фровый/цифро́вый (в значении «оцифрованный»)/цифрово́й.
На этом фоне велик соблазн наводить смысловые различия между членами словообразовательных рядов. При нахождении каких-то доводов это может вести к признанию разными нормами всех акцентологических вариантов. Герой данного рассмотрения – язык – воспользовался всеми возможностями, породив прилагательные язы́чный, язы́ковый, языко́вый и языково́й. Несмотря на одинаковую структуру, два последних соотносятся не как словообразовательные варианты, а как отдельные слова с разным значением по омонимичным значениям исходного существительного: 1) орган в полости рта; 2) средство словесного общения. Полный триумф нормализаторства!
Впрочем, и члены других рядов, которые язык свободно и беспечно предоставляет нормализаторам, закрепляются ими своевольными более и менее остроумными доводами за разными значениями и оттенками. Успех имеют в основном те, что исходят от авторитетных известных деятелей. Так, установилось новое и ранее разговорное вишнёвый, заменяя устаревающее ви́шневый во всех его значениях: вишня и плод (вишнёвое варенье, ви́шневый цвет), и дерево, сад. По легенде, актёр на просмотре пьесы при А.П. Чехове оговорился и поправился, но чуткий к языку писатель из зала вмешался: Да-да, именно вишнёвый сад в моей пьесе, ви́шневое – это варенье». Вряд ли этот эпизод, если он достоверен, а не надуман, оправдывает помету в «Опыте словаря-справочника»: вишнёвый (не ви́шневый). Впрочем, авторитет этого замечательного пособия и ссылка на великого писателя способны убедить всех настолько, чтобы вариант слова был лишён звания нормы.
В середине прошлого столетия (и, видимо, раньше, как один из авторов «Словаря…» Д.Н. Ушакова) С.И. Ожегов смело назвал ударение языко́вый иностранным, польским (у поляков ударение всегда на предпоследнем слоге!), связав его с гастрономическим значением, поскольку исторически поляки, как лучшие в мире мастера готового к еде холодного мяса, ветчины и колбас, монопольно вели в России мясную торговлю. Таким манером варианты были решительно разведены как разные слова: языко́вой бывает-де только колбаса, а нормы, категории – проблемы языковы́е.
Этот блестящий остроумный ход, в принципе, сомнителен хотя бы потому, что форма языко́вый вполне отечественная. Даже если подчёркнуто московской форме языково́й суждено стать общерусской, сохранится наряду с ней и язы́ковый, и язы́чный. Ведь не только в анатомии, но и в лингвистике говорят: язы́чные, язы́ковые или языко́вые мышцы, переднеязы́чные, пернеднеязы́ковые, переднеязыко́вые, переднеязыковы́е звуки, праязы́чное, праязы́ковое или праязыко́вое состояние.
Впечатляющее воображение смысловое размежевание произносительных вариантов было поддержано авторитетной публикой. Оно до сего дня служит оселком проверки культуры речи, знания нормы. Спутаешься – и заслужишь насмешку знатока русского языка, грамотного, образованного, знающего норму по совету знаменитого лексикографа. И всё же… заглянешь в знаменитый труд «Филология. Слово – Логос – Словарь» (Собр. соч. Киев, 2006. С. 452) коренного москвича С.С. Аверинцева (вот уж чьему вкусу можно доверять!) и прочитаешь: «Филология – содружество гуманитарных дисциплин, изучающих сущность духовной культуры человечества через языковый и стилистический анализ письменных текстов».
Наблюдения над смысловым размежеванием омографов хочется закончить тем, что ряд внимательных исследователей увязывают передвижку ударения со звуковой структурой коренного слога и другими чисто фонетическими факторами. В кандидатской диссертации А.С. Дерябиной «Ударение в профессиональной речи (на материале имён прилагательных)» (М., 1987) с этой точки зрения освещены только что рассмотренные примеры; выводы исследовательницы относимы и к существительным в первой части этого этюда. Характер этих факторов подвижен, от века и навечно задавая акцентологическую чащобу, которая недоступна иностранцу, да и через которую сами русские продираются с трудом и спорами (см.: Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985).
7.7. А всё-таки она хорошая!
Название картинки повторяет заглавие замечательной книги М.В. Панова «И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и недостатках» (М., 1964; 2007). Это нелицеприятно честный разбор недостатков нынешнего русского письма и в то же время гимн во славу его. Книга посвящена нашей фонетике и грамматике, история становления которых отражает самоё становление образованного языка и порождает стойкое нежелание нашего общества что-либо в нём менять несмотря на все мучения, которые фонетика и грамматика доставляют нам со школьных лет.
Беда в том, что теперешнее русское правописание основано (как, впрочем, и правописание большинства других современных языков) на разных, порой взаимоисключающих принципах. Авторитетно показывая такой их состав: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, традиционный, семантический, В.В. Бабайцева указывает на преобладание правил написания морфем. Видимо, из того же исходил Н.М. Шанский, внедряя в школьное обучение алфавитно исчисляемые орфограммы, что вряд ли облегчает овладение грамотой.
Казалось бы, письменность обязана служить важнейшим чертам произношения. Однако действующие правила его по-настоящему не отражают. Отказавшись от отражения аканья и иканья (редукции безударных гласных звуков в зависимости от места ударного; см. картинку 7.6), она слишком увлеклась передачей, разумеется, не менее важного противопоставления твёрдых и мягких согласных звуков.
Для обозначения мягкости впереди стоящей согласной служит мягкий знак: мел – мель. Внутри же слова для этой цели изобретены в параллель а, э, ы, у особые буквы: я, е, и, ю, ё, то есть нечто вроде ьа, йа, ьу, йу, немецких ja, ju, английских ya, yu. Эта остроумная придумка беспомощно натыкается на всегда только твёрдые ж, ш, ц и всегда только мягкие щ, ч, после которых неизвестно, какую букву писать: то ли брошюра, чяй, что было бы логично, то ли брошюра, чай, как нас учат. Сомнительны написания жульен и жюльен, матраС и матраЦ, шкаФ и шкаП; ср. также устарелые брильянт, эксплоатировать вместо бриллиант, эксплуатировать. Конечно, в написании, печати желательна однозначность и нетерпима вариативность, но и вреда от этого вроде бы немного, хотя любой учитель, если он и согласен с признанием ненорм частью образованного языка, будет возражать против их родства с нормами.
Большую боль приносит использование буквы е не только в «своём» значении указания на мягкость согласного, но и вместо буквы э. Не говоря уже о том, что во многих случаях это порождает лишь не очень заметное неуверенное колебание: проJEкт/проЭкт, прJEефикс/прЭфикс, сканJEр/сканЭр, тJEмп/тЭмп. В отдельных словах мягкое произношение остро воспринимается как малограмотность: модель, отель, тест, тембр с мягким согласным нетерпимы, и, напротив, вызывают улыбку гиперкорректные произнесения обруселых Корэя, пионЭр.
Этимолого-грамматические, традиционно-исторические соображения, постоянно противореча друг другу и особенно фонетическому принципу, порождают её трудности. В отличие от вьетнамцев или белорусов, мы не можем сказать, что пишем, как слышим, но и обнадёживающая модная фраза «как слышится, так и пишется» у нас скорее исключение, чем правило. Однако их письмо основано всё же на одном принципе – фонетическом. Основу английского письма составляет традиционность, но и она не является единственным принципом этого языка. Китайское письмо, восходящее не к звучанию, а к изображению, не знает таких проблем. Что же до мягкости, то письменность немногих языков, в которых она есть, обычно обозначает мягкость надстрочным значком (тильда над испанским мягким España).
В школу дети приходят, умея говорить по-русски, поэтому и цель уроков родного языка – научить их читать, писать. Конечно, словарь учащихся расширяется книжными словами, на уроках проводится грамматический разбор слов, но основное время занятий сводится к зубрёжке правил правописания. При этом одна лишь книжная разновидность в её письменной одежде представляется на всю жизнь как настоящий русский язык. Школа не обременяется истинно важным и интересным: как язык устроен, гибок и богат, что́ служит нам орудием общения и мышления, как его правильность, нормативность, выразительность объединяют общество.
Проще всего менять орфографию и пунктуацию, однозначно устанавливать правила и закономерности, то есть властно кодифицировать. По грамотности письма, а не по владению звучащей речью, ораторским даром легче – и мы так привыкли – оценивать степень владения языком. Культуру человека мы довольно наивно осмысливаем как грамотность – знание грамоты, умение писать по правилам. Но, увы! Мы вместо кодификации предпочитаем и здесь обращаться к азартным нормализационным играм или даже к теории нормы в виде набора вариантов, особенно при освоении иноязычных элементов (картинка 7.1). Именно этот путь таинственно приводит к сокращению орфограмм с двойными согласными, что желательно и как-то сокровенно отмечается орфографическими словарями: коридор, галерея на месте корридор, галлерея. В самом деле, никто не усомнится, что надо писать ванна, касса, масса, Анна, но зачем мы пишем две согласные в аттестат, эффект, суффикс, коммунист, неожиданно, рассказать? По такой же причине бездумного хранения традиции и европейцы пишут Anna, хотя произносят Ана. Хорошо, что мы пишем бизнес, афера, хотя в орфографии источников двойные согласные: business, аffaire.
Непоследовательность, несовместимость принципов орфографии порождает не только трудности письма, но даже грамматические потиворечия. Так, от встречающихся написаний одинаково произносимых таунхаус, пицца-хаус или таунхауз, пицца-хауз зависит произношение при склонении хаус (как пояс – пояса, поясу) или хауза (как мороз – мороза, морозу). Подобные случаи множатся и могут жить долго, как, скажем, бутсы, буцы или рельсы – забавные производные от английских boot, rails, которые и без того формы множественного числа от boot – «ботинок, сапог» и rail – «рельс». Aнглийские карты, копируя русские, дают Kara bogaz zaliv, то есть залив Кара богаз (Чёрный залив).
Мы приучены осуждать тех, кто не помнит принятые написания иноязычных слов, не очень сами понимая доводы в их пользу: правильно пАтриот, потому что от патрия (pater, patria). Чтобы не написать пИсемизм надо просто заучить, что пишется е – пессимизм, не любопытствуя, откуда ещё в слове двойное сс. Мы напишем: «Есть-таки правда на свете», – хотя явно не произносим двойное тт.
Исключительно по привычке пишем район, майор, а не раён, маёр. Впрочем, отлично, что хоть на письме различаются послать депешу и постлать простыню, одинаково произносимые инфинитивы-омонимы, а не только финитные формы: пошлю, послал и постелю, постелил. Нередко в основу кладётся грамматический принцип. Скажем, приставка пишется через с (со)-; в глаголах СПисать и СБросить, хотя во втором явно звучит как в ЗДесь, ЗДешный. Нет логической последовательности в 15 % принятых орфограмм: загОреть, но загАр, полОжить, но полАгать, сжЕчь, но сжИгать, умЕреть, но умИрать, плОвец, хотя плАвать и т. д.
Без увязки звучания с буквенной фиксацией не видна орфографическая логика: говорим сонце, сонцепёк, учасник, умесный, съесной, а писать надо солНце, солНцепёк, учасТник, умесТный, съесТной, так как в однокоренных словах эти звуки налицо: солНечный, солНышко, съесТь (путают иные проверочные слова: кроме инфинитива съесть, не помогают ели, съел, съели, и уж лучше не вспоминать еда, едим, едите и ешьте). Пишем все, всё, всего, вовсе, а говорим Фсе, Фсё, Фсего, воФсе только потому, что знаем весь. Дополнительно осложняет дело ещё и слабая предсказуемость подвижек ударения (картинка 7.6).
Трудно объяснить, почему юБка, ОшиБка, хотя произносим юПка, АшиПка. Вопреки закону оглушения звонких согласных на конце слова или редукции безударных гласных пишем слово Господь через д, хотя произносим ть, ибо д пишется и звучит в ГоспоДи. Надо писать сЕстра, хотя произносим сИстра, забывая про о в нынешнем сёстры, потому что, видите ли, под ударением здесь издревле сЕстры. Такие ошибки, как и скорПь, не ЗДавайся, лишь радуют преподавателей русского как иностранного, так как показывают, что это не выписано из словаря, а узнано из живого разговора.
Люди, выучив действующие законы языка и не желая переучиваться, обычно высказываются против их упрощения. Многие даже удивляются, узнав, что правила орфографии не вечные, а произвольно и потаённо меняются, что совсем недавно писали раЗсуждать, а не раСсуждать, муЩина по парности с женЩина, а не муЖЧина (по корню муж, мужской, мужик). Хорошо, что выбросили букву ять, которая уже в языке XVIII века читалась неотличимо от е. Гимназисты зубрили бЪдный блЪдный бЪс побЪжал, бЪдняга, в лЪс… – более сотни слов, которые надо было отличить от, скажем, честь, щель, одет, ель, а также ёлка и других, которые разрешается писать через е, хотя произносили ё.
Любители старины сожалеют об устранении буквы i, что в самом деле затемнило различение на письме слов мiр — «вселенная» и мир – «отсутствие войны». Некоторые из них настаивают на возвращении написания ера в конце слов на твёрдую гласную «не смысла, а красоты ради». Например, предлагают писать Пересветъ, не зная при этом, что, по старым правилам, в слове свѢтЪ нужно писать ещё и ять.
Говорят, что действующая пунктуация отражает интонацию. Сомнительно – просто потому, что интонационных конструкций намного больше, чем знаков препинания. К тому же требуется, например, ставить запятую перед дополнительным придаточным, хотя сейчас пауза не перед союзом, а после него: не сказала // что согласна, а сказала что // согласна. Когда в самом деле потребовалось в SMS на письме отражать паузы и интонацию, то появились смайлики, которых сегодня множество.
Целая книга толкует, когда надо ставить дефис в составных прилагательных, а когда – нет: социал-демократический, красно-коричневый или социалдемократический, краснокоричневый. Не утихают споры о прописных буквах в именованиях: Орден Дружбы или Орден дружбы; Командующий Военно-морским флотом – командующий Военно-морским флотом; Президент Российской Федерации – Президент Российской федерации – президент Российской федерации. Известная книга «Слитно или раздельно» пытается сформулировать противоречивые правила: вдогонку, вскладчину, врассыпную, вслепую, втёмную, подмышку или в догонку, в складчину («Пенсия в складчину» – заглавие (РГ. 2013. 3 дек.)), в рассыпную, под мышку. Нет чёткого различения дефиса и тире, зато самочинно вводится не предусмотренный апостроф: о’кей, Мак’доналдс.
Говоря о современном русском письме, трудно умолчать о такой напасти, как распространение у нас латиницы в её американском орфографическом варианте: в режиме non-stop, передача on-line. Идущая, видимо, от адресов Интернета, эта маниакальная пристрастность особенно сильна в афишах, объявлениях, на указателях улиц, станций метро (правда, как дублирование русских названий), в научных и даже газетно-журнальных текстах. Она ползуче захватывает и собственно русские слова вроде названий местечка Жукоffка, автомобиль Lada, духи Krasnaya Moskva. «Все на sale! Salе на всё!», – зазывает покупателей кибер-магазин Wikimart. Написания латиницей, естественно, влекут за собой и несклоняемость: «Хороший день начинается с Nutella», – и в устной форме реклама не говорит с Нутеллой или с Нутеллы.
Укажем тут и самочинную замену привитого школой оформления дробей 12 199,99 (в чтении: двенадцать тысяч сто девяносто девять целых /запятая/ девяносто девять сотых) или в денежных единицах 12 199 рублей 99 копеек зарубежным написанием 12,199.99, то есть отделяя десятичную дробь от целых чисел точкой, а запятую ставя факультативно после порядка целых: двенадцать тысяч (факультативная запятая) сто девяносто девять (точка) девяносто девять. Наши банки да и многие финансовые учреждения – без официального уведомления! – перешли на эту систему, по крайней мере в написании. Явочным порядком идёт ещё подражание принятому в США порядку обозначения дат: месяц, число, год, в отличие от нашего: число, месяц, год.
Рассказывают, будто наследник престола, будущий император Николай II спросил недоумённо: «Зачем в русском языке есть буква ять?» Знаменитый академик, преподававший ему словесность, гениально пояснил: «Для того, Ваше высочество, чтобы сразу понять было можно, грамотный ли писавший». Так и сегодня: падение общей культуры заставляет объявить обязательным написание буквы ё, которая пишется пока, так сказать, по требованию, чтобы легче было узнать грамотного и достойного.
7.8. Неужели вперёд к аналитизму?
Языки принято классифицировать по природе их грамматики как наиболее строгого и исторически устойчивого уровня, образующего систему языка в целом. Можно, но труднее было бы это делать по характеру не менее системообразующей фонетики. Прихотливая, открытая лексика – место встречи и даже материального обмена – мало подходит для классификации разных языков. Именно морфология устойчиво и наглядно открывает «лица» языков, отвечая за связи слов в звуковом и письменном общении.
Русский язык называют флективным, потому что его наиболее очевидно отличает грамматика, объединяющая слова при помощи флексии – материального преобразователя слов. Чтобы вразумительно соединить сокровище и остров, кирпич и стена, чемпионат, супербайк, мир, мы как-то видоизменяем их: остров сокровИЩ, стена ИЗ кирпичА – кирпичНАЯ стена, чемпионат мирА ПО супербайку. В целом же на вопрос о главной особенности русского языка профан ответит, что в нём сплошные окончания.
Позволим себе реплику в сторону. Последний пример показывает нашу податливость английскому влиянию. Мы охотно взяли обобщённые байк и байкер – «ездок на байке» (bike, biker), имея дифференцированные названия: мотоцикл, мотороллер, велосипед, самокат. Заметим, что все эти предметы популярны в быту. Например, самокат – не только детская игрушка. В армии в начале Великой Отечественной войны были наряду с кавалерией и самокатчики, самокатные части на велосипедах. А сейчас велосипеды и самокаты очень популярны у горожан. Это не единичный случай иноязычного влияния, поскольку родовые названия характерны для английского языка, в котором предпочитают не уточнять: плыл, летел, ехал, полз, шёл, а обходиться одним словом независимо от способа передвижения.
Очевидно разные натурщица и манекенщица у нас незаметно объединились в слове модель, приобретшем ещё и значение «участница конкурсов красоты». Кинопробы, отбор игроков в команду, исполнителей на роль и другие понятия мы вслед за американцами заменили единым словом кастинг. Семантико-стилистически разведённые коммерсант, спекулянт, торговец, торгаш тяготеют замениться новоприобретённым дилер в качестве родового имени – «тот, у кого покупают, представитель фирмы, владелец торговой точки, продавец».
Вернёмся к теме. Англичане же, выражая грамматические связи, обходятся порядком слов, предлогами, артиклями, служебными словами, интонацией, логикой и здравым смыслом. Им достаточно поставить слова рядом: treasure island (букв. сокровище остров), снабдив артиклем а stone wall (букв. камень стена), Superbike World Championship (букв. супербайк мир чемпионат). Они свели к минимуму флексии, почти не пользуются окончаниями, не изменяют слова. Чтобы понять, надо анализировать, поэтому английский язык называют аналитическим.
Китайская грамматика «склеивает» корни слов с однозначными частицами, отчего его именуют агглютинативным. Не меньшую роль, чем «склейки», в нём играет расположение названий первоначальных картинок, закреплённых за смыслами: вань ли чан чэн (величие стена десять ли), то есть стена длиною 107 километров – то, что мы называем Великой китайской стеной. Фразеологизм янь эр дао ин — «обмануть самого себя» (параллель русскому образу закрыв глаза; думать, что спрятался, что тебя не видят) состоит лишь из набора украсть колокол заткнуть уши, и надо сообразить, что слова связаны так: заткнул уши (и думаю, что) колокол украден (,будто его и не слышно).
В каждом языке обнаруживаются наряду с основным (флексия, анализ, склейка и т. д.) и иные приёмы паратаксиса – выражения грамматических связей. Англичане, например, знают и изменения самого слова. Кроме предложной конструкции с of (life of a man), существует и the man’s life, глагольные времена и множественное число существительных образуются окончаниями (work – worked, island – islands). Известны редкие формы: men, women «мужчины, женщины» от man, woman (mans, womans – грубейшая ошибка). В целом же на вопрос о главном достоинстве английского языка профан ответит, что в нём нет окончаний.
Для пользующихся языком вообще-то безразлично, к какому строю он принадлежит. Для них, в принципе, не играет роли оценка состояния языка, путей и исторически сложившихся внутренних законов развития, генетически заданных происхождением, условиями и событиями жизни этноса. Привычные и очень устойчивые, в ближайшей перспективе явно неизменные их свойства, как, например, русская флективность, английский аналитизм, китайская агглютинация, предстают врождёнными, даже независимыми от судьбоносных поворотов национальной жизни, не говоря уже о преходящих вкусах и сиюминутных настроениях общества, тем более что они мирно сосуществуют.
В русском флективном языке встречаются – и с каждым днём всё больше – случаи аналитизма, например неизменяемые имена. Не так давно учителя упоминали лишь неизменяемые части речи, например наречие, как-то не замечая степеней сравнения, и воздерживались от термина «неизменяемость». Да и лингвисты не проявляли к этому явлению особого внимания, ему посвящались лишь отдельные замечания в статьях и небольшое количество кандидатских диссертаций (например, см.: Бондаревский Д.В. Категория неизменяемых прилагательных в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 2000). Лексикографы довольно широко применяли пометы неизм. при отдельных существительных (кенгуру, колибри, какаду), а также харчо, караоке или прилагательных хаки, реглан, коми, суоми, хинди и нотных терминах форте, ленто, виваче, ларго. Но сейчас количество неизменяемых слов растёт так стремительно, что возникают опасения за сохранность флективности.
Это стимулирует поток иноязычных заимствований, которые не склоняются либо по невозможности без физической переделки приспособить их к русской грамматике, либо по вечному русскому почтению ко всему иностранному как неприкосновенному, которое обычно сопровождается риторическим противоборством.
Сегодня все привыкли к несклонению слов, фонетическая форма которых не позволяет уверенно отнести их к морфологическому роду: виски, дежавю, жалюзи, кунг-фу и кун-фу, кич и китч, лесби, лобби, медиа, ноу-хау, прет-а-порте, профи и проффи, савуар-фер, ралли). К ним примыкают постоянно растущее, в основном гальванизируемое англо-американскими образцами, число слов; которые можно было бы склонять: кароте и каротэ, караоке, порно, резюме, мачо, офшор и оффшор, кантри, кейс-стади, кэш (ср.: нал), кэш-энд-керри, лей-офф, онлайн, паблисити, прайвеси, просперити, секьюрити, селебрити, СПА, тролли, шоу, ньюс, лайк (впрочем, слышатся и формы лайкс и даже лайки, лайков), байт, бит (вспомним сто ватт, двести грамм и ваттов, граммов), имидж, ребрендинг (и много других слов с суффиксом – инг: банкинг, кастинг, провайдинг, промоутинг, спичрайтинг, трейдинг и пр.), экшн, челлендж, абстракт, драйв (РГ. 2013. 22 июля; образуется даже прилагательное: «Драйвовые чтения поэтессы Дианы Арбениной»), спрей, саундтрек (заменивший звуковую дорожку), сэндвидж или сандвидж, сэндвич, сандвич, вытеснившие русское же, пусть немецкого происхождения, бутерброд (молодёжь заказывает в кафе, не склоняя: «Сэндвич, два»!)
Н.П. Колесников в своём примечательном «Словаре несклоняемых слов» (Тбилиси, 1978) указал, кроме многочисленных имён на – о/-е, в частности уже такие, как авеню, алоэ, ассорти, багги, боржоми, буриме, генацвале, граффити, гуру, дацзыбао, денди, дерби, жюри, зулу, иваси, интервью, каноэ, карате, кимоно, кули, кураре, кюре, леди, лобби, пенальти, пони, ралли, попурри, рандеву, рефери, салями, сафари, фойе, хаджи, чахохбили, хаши.
Как и многие страны, мы сейчас ориентированы на США. Обрусевшие делать макияж, взятое у французов и в своё время заменившее русские румяниться и сурмить брови, или полученный от немцев и ими сегодня почти забытый бутерброд безжалостно вытесняются неловкими мейкап и сэндвич. Трудно перечислить все подобные замены: саундтрек и саундпродьюсер (звуковая дорожка, звукооператор), саммит (встреча в верхах), коттоновый (хлопчатобумажный), липстик (губная помада) и др.
Массмедиа укореняют эту моду до потери такта и вкуса: хедлайнер (хедлайнер фестиваля – это, как ясно из текста, звезда певческого смотра); «Михалков идёт на питчинг» (то есть на очную защиту творческого проекта с целью получения поддержки (РГ. 2013. 9 авг.)); воркаут («Воркаут во дворе» – заголовок статьи о домовой спортивной площадке (РГ – Неделя. 2013. 14 нояб.)): топ событий («В топе событий недели авария в метро в Нью-Йорке», – диктор имел в виду «главное событие недели» (НТВ. 2013. 1 дек.)); «команда купила игрока топ-уровня» (ВМ. 2012. № 38); «Крейзи-мамочки всё время ищут лучшие школы для своих детей» (РГ. 2013. 5 авг.) – непонятно, то ли это биномин, то ли крейзи «сумасшедшая» – несклоняемое прилагательное, и дефис не нужен).
Освоенность понятий шорт-лист, лонг-лист такова, что позволяет произносить их с одним ударением и написать, что у фильма Ф. Бондарчука «Сталинград» «шансы попасть в лонг-, а то и в шорт-лист есть» (РГ. 2013. 12 окт.). Забавен заголовок «Попали в стоп-лист» (о должниках, которым запрещён выезд из России (РГ. 2014. 23 янв.). Радио и телевидение в последнее время «раскручивают» инжениринг в значении «инженерное дело, изобретательство», звучит даже инжениринговое (вместо инженерное) образование, специализация.
Появилось и широко внедряется американское название удешевлённого авиаполёта: «Премьер-министр Дмитрий Медведев призывает развивать систему дешёвых авиаперевозок за счёт компаний-лоукостеров» («Летайте лоукостерами» (РГ. 2013. 18 сент.)). «Компания “Аэрофлот” представила новый российский лоукостер “Добролёт”» (РГ. 2013. 11 окт.). «Лоукост – это не дешевизна, а неудобства со скидкой. Не станут же говорить, что хотят принести неудобства населению. А тут волшебное слово – лоукост, аж слюна потекла» (Компания. 2013. № 36. 23 сент.). Разумное замечание, ведь чужое слово всегда мягче родного: секвестировать огорчает меньше, чем отчуждать, отнимать, сокращать, грабить. В то же время казалось бы общепринятое слово паркинг в официальных полицейских бумагах именуется парковкой.
Переизбыток иностранных наименований при наличии равноценных русских вызывает попытки как-то их различать, чтобы оба счесть нормой. Так, терпимость и её иноязычная соперница толерантность разводятся семантически (верующий-де, не становясь терпимым, обязан быть толерантен к атеистам, чтобы избежать кровопролития) и даже помещаются обе в нормативные словари.
Показательно, что насмешливо-чудесные ужастик, страшилка стали заменяться калькой с английского horror – «фильм ужаса»: «Не случайно в голливудских хоррорах в основном присутствует офисный планктон» (РГ. 2012. 15 нояб.). Сложнее заменить слово триллер («Критики прочат победу фантастическому триллеру “Гравитация”» (РГ. 2014. 17 янв.). Русские конкуренты явно проигрывают, потому что лень думать и напрягаться, отыскивая подходящее русское слово, и приспосабливать его к иноземным новинкам. В отличие от общепринятых мышь, мышка, вряд ли приемлемы мыло, емеля для обозначения имейла с портала госуслуг несмотря на старание журналистов: «Получи ответ по мылу» (РГ. 2014. 10 окт.).
Многообещающий пример. Подражая американцам, парк «Сокольники» предоставляет тюбинги всем, зарегистрировавшимся на фестиваль «Battle Сани». Из тюбингов надо сделать сани для перформанса – спуска с 200-метровой «The Горки». Приглашение с обещанием призов озаглавлено «Заезд боевых тазов» (РГ – Неделя. 2014. 23 февр.).
Для нашего времени и настроения характерна по языку и пафосу заметка «И умножить на iPad» (РГ. 2013. 3 сент.): «Гаджеты потеснили буквари и тетради; в ранцах у первоклассников теперь планшетники и читалки. На iPad можно открывать интересные сайты, искать любую информацию в Интернете… Новый образовательный стандарт приучает малышей легче и интересней учиться. Планшетник открывает доступ к тысячам образовательных программ, помогает запомнить алфавит, познакомиться с животными и растениями, научиться считать, писать, рисовать. В планшетник можно скачать учебники… Гаджет можно купить за не очень большие деньги, например, устройство Wexler TAB 7b 8GB на операционной системе Android стоит всего 2600 рублей».
Сегодня всё англо-американское нравится больше родного в точности, как наших предков в XVIII веке с юности покоряло всё французское. Находятся псевдообъективные оправдания этому чувству. На вопрос, чем рафт лучше слова плот, моя студентка меня упрекнула: «Ну как же вы не слышите, насколько р-а-фт звучнее, красивее, чем плот. Фу!» Все засмеялись, но кто-то похитрее заметил, что рафтинг короче и чётче, чем сплав на плотах, к тому же всемирно принят как название этого спорта. Так же, стремясь различить будто бы совсем разные электронные платформы, мы обращаемся к английским гаджет, девайс, айпад, ленясь приспособить для этого русские прибор, устройство, приспособление, даже аппарат.
О вкусах спорить бессмысленно, если они стали общественными. Всё же хорошо было бы несколько их обуздать. Впрочем, слово тамбур – «площадка вагона» настолько привычно, что сейчас как-то странно читать у И. Бунина, что он «ехал в сенях» переполненного вагона поезда. А ведь именно это слово ещё в конце XIX века предпочиталось (В.В. Набоковым и значительно позже) для обозначения любой прихожей, фойе, вестибюля.
Рост числа каждодневно и неожиданно меняющихся несклоняемых лексических заимствований осложняет жизнь фонетики и грамматики, вынуждая их как-то принимать такие неподходящие для языка несклоняемые и не дающие прилагательных слова неизвестно какого рода и резко противоречащие даже правописанию: мейкап, о’кей, емейл, эс-эм-эс. Перестают склоняться не только новые, но и многие старые, склонявшиеся заимствования: всё чаще слышится: «Встретимся около Макдоналдс»; на вывеске читаем: «Приглашаем на работу в Макдоналдс», – хотя первоначально предпочиталось около Макдоналдса, в Макдоналдсе. Эта тенденция поддерживается растущей терпимостью к ослабевающим морфолого-синтаксическим связям (на углу Сансет-бульвар и Джонсон-стрит). Она, несомненно, содействует порождению биноминов, оправдывая их существование: Оксфорд-университет, а не Университет Оксфорда, Оксфордский университет (картинка 7.5).
Интересно сравнить одни и те же тексты в новейших переводах с прежними. Беглый просмотр «Оливера Твиста» Ч. Диккенса в переводах А.С. Горковенко (1840 год), А.В. Кривицкой (1937 год) и издания «Детской литературы» (1988 год; переводчик не указан) вскрывает растущее безразличие к приспособлению британских имён и названий к русской флексии: в Кемден Таун, с канала Ковент-гарден, а не в Кемден-тауне, с Ковент-Гардского канала, на Бейтсбридж и т. д. В нынешних переводах – доехали до Сансет (не до Сансета и не до бульвара Сансет), недалеко от Вашингтон-сквер, зашагал в сторону Таймс-сквер, рядом с Таймс-сквер, репортёр из «Таймс» — это уже чуть ли не правило.
Та же тенденция наблюдается в оригинальных текстах современных российских авторов: например, не даются в русской форме (Женевьета, Ивета) и не склоняются имена: определилась в дом, к Женевьет, гордое одиночество Женевьет, бывший муж Женевьет, на руках у Эйлин, Эйлин что-то прошептала Ивет (Улицкая Л. Люди нашего царя. М., 2005).
В нашей повседневности мы то и дело сталкиваемся с тем же: «Автобус следует в Москва-сити до перехватывающая парковка» (радиообъявление); очевидно, до конечной остановки «Парковка»); «Комфортный скоростной поезд от Москва-сити до Сколково и до МКАД» (реклама). В звучании чаще всё же до МКАДа или до эм-ка-дэ; в шорт-лист попали…; в трек-лист включены такие песни, как… Эти факты, конечно, свидетельствуют не только о развитии аналитизма, но и о сближении книжной и некнижной (особенно в части бытовой тематики) разновидностей образованного языка.
Исследователи разговорно-устной речи и её рефлексов в письменной форме газетно-журнальных и художественных текстов середины ХХ столетия отмечали не всеми одобряемую склонность самого русского синтаксиса к таким опущениям, как комитет на общественных началах вместо комитет, организованный на общественных началах. Несколько ранее привычны стали несогласования вроде живёт в доме десять, на трамвае восемь (по чтению орфограмм с цифрами в доме 10, трамвай 8) вместо старых в десятом доме, на восьмом трамвае и ещё более ранних: на Плющихе, в доме вдовы Ивановой; любимых москвичами ехал на аннушке и букашке (о литерных трамваях А и Б) или сравнительно новых: в доме номером или номер десять; на трамвае под номером восемь.
Названия городов Москва, Санкт-Петербург, Тула, тем более малоизвестные топонимы, официально оформляются как приложения город Москва, город Тула, в городе Тула, рядом с городом Мценск, горжусь городом Москва. В то же время широко распространены в городе Москве, любовался городом Санкт-Петербургом. Ненормативно, без обобщающего родового указателя, скажем: «…по информации авторитетной “Република”» (РГ. 2013. 25 февр.), – правильно было бы или газеты «Република», или, на крайний случай, по информации «Републики», как, например, в «Вечерней Москве» или в газете «Вечерняя Москва». Как видно, в современном языке своеобразно пересекаются стремления склонять и не склонять имена существительные.
Не позволяет отнести неизменяемость только к иноязычному влиянию также и то, что происходит в составных числительных и прекрасно исследовано М.Я. Гловинской (Гловинская М.Я. Должны ли активные процессы в грамматике современного русского языка учитываться в преподавании русского языка как иностранного? // Русский язык за рубежом. 2011. № 4). Всё чаще слышатся (благо, что письмо использует цифры!) смешения порядковых и количественных: прибавить к две тысяча пятьдесят трём вместо к двум тысячам пятидесяти трём; отнять сто от две тысячи пятьдесят трёх вместо от двух тысяч пятидесяти трёх. Из записей радио– и телетекстов конца 2013 года: «результаты получены со всех сто процентов»; «на всех три тысячи пятьсот девяносто три избирательных участков». Мало кого смущают появляющиеся 4, 3, 2, 1 в окошечке объявления о конце лотереи: «До розыгрыша осталось … дней»; никого не передёргивает и талончик из автомата в Cбербанке с сообщением: «Перед вами 3 человек».
Напомним и запущенное Ю.М. Лужковым незабвенное в двух тыщ втором году (вместо в две тысячи втором) – великолепную гиперкорректную контаминацию порядковых две тысячи второй и двухтысячный с количественными две тысячи; в двух тысячах и в две тысячи втором году. Она возникла под влиянием в двух тысячном году, ибо нет порядковой формы две тысячи нулевой. Сейчас, правда, введено в оборот в нулевых годах, но это нечто другое.
Развитие аналитизма, таким образом, оказывается связанным как с иноязычным влиянием, так и с внутриязыковыми процессами в разнородных слабых местах собственно русских исходных владений и, в конце концов, с одобряющим или безразличным психологическим настроем публики. Складывающаяся картина формирует, пусть в зачаточном виде, терпимость синтаксиса к морфологической незакреплённости логики сочетания слов, программирует освобождение от «оков» грамматики, психолингвистически открывает двери перед аналитизмом.
Сердцевина развёртывания аналитизма остаётся (пока?) в именах. Не затрагивая морфологию глагола, аналитизм, однако, ощутим в формах степеней сравнения прилагательных и наречий (более быстро на месте быстрее), по-своему воздействует на сложные сокращёния, которые не должны склоняться и род которых определяется ключевым словом полного наименования (министерство, ведомство, учреждение): Минобрнауки даёт, например, странные для русского уха сочетания российское Минобрнауки решило, Минсельхоз опубликовал.
Синтезирующе-уточняющая флексия и преданные ей ревнители привычного языка по мере сил противятся аналитизму и в этой сфере. Когда аббревиатуры употребительны и по форме вписываются в русскую морфологию, они тяготеют стать полновесными словами, ослабляя и даже утрачивая связь с ключевым словом: МИД (Министерство иностранных дел) уже не среднего рода; загс (запись актов гражданского состояния) не женского, а мужского и склоняется, хотя и не должен бы: оформить брак в загсе; получить загранпаспорт из МИДа. Так же и получить диплом в ВАКе (Высшая аттестационная комиссия; раньше – комитет). Такие факты свидетельствуют о подспудном системном противодействии развитию аналитизма.
Надёжным соратником тут служит словообразование, смягчающее его удары. Пи-си (PC), хотя и есть ПК, заменятся грамматически удобными персоналка, писишка, писюк, наколенник (калька laptop). Сидюшник, сидюшка теснят си-ди (CD), сиди-диск, сиди-ром (CD-rom); емеля – e-mail, а мышь даже изгнала mouse. Победным венцом служит пиар (от public relations -> PR -> пи-ар), ставшее неузнаваемым для американских родителей в длинном ряду чисто «русских» пиаринг (!), пиарство, пиарить, пиарствовать, пиарщик, чёрный и белый пиар. Параллельно идут и синтаксические послабления, свойственные аналитизму.
В пользу аналитизма говорят некоторые исторические факты, например утрата грамматических форм прошедшего времени. Унификация парадигм склонения и переход от категориальной морфолого-грамматической обусловленности слов родом, числом (включая двойственное) и типами основ тоже позволительно интерпретировать как движение языка к экономичности, упрощению. Эти «упрощения» повлекли за собой туманную и сложную семантико-словообразовательную систему глагольных видов или же семасиологически ненамного более ясную унификацию множественного числа всех имён и совпадение имён мужского-среднего рода в единственном числе. Вряд ли в конечном счёте русский язык стал богаче, проще, гибче, экономнее, тем более если вспомнить большое количество исключений – своеобразных осколков старого.
Продвижение болгарского языка по пути аналитизма повлекло за собой фактическое упразднение склоняемости и сопровождалось появлением постпозитивного артикля. Это свидетельствует о том, что упрощение чего-то одного в языке обязательно влечёт за собой усложнение чего-то другого. Таков уж закон равновесия саморазвивающихся сложных, иерархически организованных систем.
* * *
Уместно поставить вообще-то праздный, но всех волнующий вопрос о том, какой язык лучше. Конечно, русскому человеку легче учить и, даже не изучая язык, понимать близкородственного белоруса, чем иносистемного по языку вьетнамца. Но если педагогически можно разделить языки на трудные и лёгкие для изучения, считая точкой отсчёта родной язык учащегося, то лингвистически нет нулевой точки на шкале для ранжирования языков по простоте и сложности.
Известны, впрочем, по большей части социолингвистические попытки такой оценки. Их обзор дан А. Бердичевским (Бердичевский А. Языковая сложность (Language complexity) // Вопросы языкознания. 2012. № 5). Важнее, конечно, другое.
Лучшим всегда будет родной язык, то есть тот, на котором говорила мать (отчего родной часто и называют материнским), на котором человек научился мыслить, познавать мир, с младенчества приобщился к своей нации, стране, культуре. Сколько бы других языков он ни познал и ни использовал в жизни, материнский, даже если он считает его трудным (из-за дурной школы, которая запугивает всех орфографией), останется для человека самым удобным, единственно родным. Родной язык всегда лучше со всех точек зрения.
Разумно к тому же полагать, что, веками обслуживая свой народ, любой язык достигает некоей золотой середины – адекватного для его нужд равновесия избыточности и достаточности. Характерно, например, что количество фонем (звуков, осмысленных в качестве смыслоразличителей) в основных языках не больше и не меньше 32–54 из тысяч возможных для человеческого голосового аппарата. Правда, в каждом их набор различен даже при совпадениях: у нас что шип, что ш-и-и-п – всё напоминает, что розы без них не бывает, а англичанин решит, что это разные слова, как ship «корабль» с кратким звуком и sheep «овцы» – с долгим. Русский может произнести щелевой межзубный звук, скажем thам вместо сам, но это воспримут просто как шепелявость, англичанин же уверенно решит, что это разные слова: thumb – «большой палец руки» и sum — «сумма» (конечная буква в первом слове не читается, а гласный в обоих звучит как а).
Сомнительно утверждение, будто аналитизм прогрессивен, так как лучше, чем флексия, обеспечивает общение. Кажущаяся с первого взгляда его простота на деле оборачивается усложнением – cкованностью твёрдым порядком слов в предложении, громадной многозначностью и омонимией, множеством других неудобств.
Великий двуязычный писатель и дотошный знаток как языков, так и бабочек В.В. Набоков метко и со знанием дела заметил, что в английском языке meanings are fluttering over words – «значения порхают над словами». Выполненный самим автором перевод написанной по-английски «Лолиты» на русский язык удивил его самого тем, что оказался длиннее.
Очевидная опасность возможной двусмыслицы хрестоматийно иллюстрируется словом round: a round room (круглая комната); round the corner (за углом); the first round (первый раунд игры); to go round (ходить вокруг, обходить); merry-go-round (карусель) и т. д. Тhey are flying planes можно понять как «они летают (умеют летать) на самолётах» и как «эти самолёты летающие (исправны для полёта)». В современной бытовой речи даже вроде бы явные глаголы выступают вдруг именами: That’s a big ask? (Не велик ли запрос?). What is our ask? (Чего мы всё-таки хотим?). You have a big say. Long time no see. She gave herself a long lie-in the next morning. There was no lie for her this morning… Нечто вроде детского: «Дай мороженое на полизать».
Нередко аналитизм создаёт истинно хитроумные загадки. Заголовок в газете «Apple pie baking contest winners» (букв.: Яблоко пирог выпечка соревнование победители) сразу не расшифровать. «Победители соревнования по выпечке яблочного пирога». Естественно возникающее желание найти разгадку широко используется рекламой для привлечения покупателей: «100 % money back beauty guarantee» (букв. 100 % деньги назад красота гарантия) означает, если подумать, что покупателю рекламируемого крема даётся стопроцентная гарантия возврата денег, если он не обеспечил красоту, или же что гарантируется стопроцентная красота и что в противном случае деньги будут возвращены.
Нельзя, конечно, не согласиться с тем, что за счёт явной неточности достигаются краткость и воздействующий эффект. Самые серьёзные письменные и звуковые источники в США позволяют себе называть отстаиваемый президентом закон о медицинском обслуживании «Аffordable health care act» не иначе как Obama care – «Обама (мед)услуги». Чтобы понять название anchor steam beer (якорь пар пиво), надо просто знать (или узнать, благо есть теперь Гугл!), что этот популярный напиток был впервые сварен в пивоварне «Якорь» для моряков в порту Сан-Франциско. Так же и Second Harvest Food Bank (Второй урожай пища банк) – «продуктовый склад второго урожая» – скромно называют в США достаточно развитую и востребованную систему пунктов распределения еды, жертвуемой состоятельными людьми для бедняков.
Не аналитический строй грамматики, а уж скорее агглютинативный в смысле видимой простоты значительно впереди. Вообще же языкам, как и культурам, важно не стать одинаковыми, похожими на другие, а мочь выразить всё, что выражаемо в других языках, что есть на белом свете и нужно в жизни их народов.
Учёный немец J.G. Sеume ещё в 1797 году прозорливо заметил, что «не знает никакого другого языка, кроме русского, который имел бы больше точности и звуковой привлекательности». Таких мнений тысячи: многие иностранцы считали, что в силу податливой разветвлённости своих грамматических форм и музыкального благозвучия он особенно пригоден для поэтических шедевров. М.В. Ломоносов указал на схожесть с классическими языками, распространяя его пригодность как на поэзию, так и на науку. В таких привлекательных оценках есть рациональное зерно, хотя, конечно, вряд ли стоит делить языки лингвистически на простые и сложные, культурно-психологически – на хорошие и плохие, педагогически – на лёгкие и трудные.
Особенности звукового и грамматического строя, строго говоря, безразличны для пользующихся им, однако, не замечая родимых пятен, не подчиняясь самобытной особости, невозможно полноценно общаться на языке. Бездумно укрепляя в своём русском языке аналитизм, пусть даже этим что-то упрощая, мы прощаемся с национальным логизмом выражения мысли, который исторически требует избыточной дифференциации, конкретизации, точности. Не такая уж беда!
Не хочется быть ригидно однозначным, потому что так часто уверенное в своей единственной правоте единомыслие оказывалось необоснованным и вредным. Взгляды на язык, его подсистемы, конкретные отдельные явления вроде объёма и дифференцированности словаря, разработанности терминологии, правил правописания во многом детерминируют его динамику. В то же время не следует категорически недооценивать и гордую вкусовую формулу «самый», «один из самых» совершенных (развитых, логичных, богатых, звучных, красивых), а то и избыточно нормативно-упорядоченный в морфологии, необоснованно усложнённый в существующей орфографии.
* * *
Перспективу отхода русского языка от синтетической грамматики и возможное его движение от флективного строя к аналитическому всерьёз и бурно обсуждали в ходе коллективного исследования проекта «Русский язык советского периода» под руководством М.В. Панова в середине ХХ столетия. Высказывались и отвергались разные оценки желательности или нежелательности такого движения, которое О. Есперсен, по примеру ставшего аналитическим английского языка, считал – с непростительной для крупного лингвиста наивностью – столбовой дорогой языкового прогресса вообще. Это не подтверждается реальной историей многих, если не большинства языков человечества. В те годы риторического прославления «великого, могучего и свободного» русского языка без каких-либо оговорок проблема не могла получить серьёзного научного развития. Она была, к счастью без последствий для поставивших её, молчаливо и тихо похоронена. Сегодня нам, в силу наблюдаемого в языке процветания аналитизма, стоит к этой проблеме вернуться.
Разумеется, аналитизм в русском языке возникает не совсем так и даже совсем не так, как шёл к нему английский. Даже если такое развитие глобально, оно не копия англо-американизма: наш аналитизм с русской спецификой. Он связан с обострением общечеловеческих свойств познавательного процесса, о чём, очевидно, свидетельствует повышенный интерес к когнитивному антропоцентризму как среди философов, социологов, так и среди лингвистов.
Даже у исследователей флективного русского языка пропадает сегодня интерес к материи – к фонетической и морфологической формам слова, направляется на такие собственно околоязыковые явления, как культурная обусловленность семантики слов. Смысл сложных синтаксических единств, семантика текста, контент-анализ затмевают интерес к анализу собственно языковых единиц.
Последние десятилетия у нас практически нет, например, диссертаций, посвящённых функциям падежей, морфологической вариативности, соотношению придаточных с причастными и деепричастными оборотами, закрытым и открытым, однородным и неоднородным синтаксическим рядам, типам приложения и примыкания. Нас всё это, видимо, совсем перестало интересовать. Между тем лингвистов и педагогов в США привлекает именно морфологизм древнего и живого русского языка, материальной формой выражающего логические построения, отдельность слова, строго различающего части речи и члены предложения.
Напротив, у нас обострён интерес к более свободному, как кажется, английскому синтаксису, хотя во многом он скован хотя бы строгостью порядка слов, чуть ли ни иероглифической фразеологичностью. Расхожее мнение мимоходом безапелляционно и уверенно выразил диктор «Радио России» 7 июля 2013, в 22:45 по московскому времени: «Английский язык, как известно, компактнее и удобнее. Он соответствует технологизации жизни, ментально-логическому и чувственному существованию людей в мире гаджетов».
На вопрос «Какой ваш любимый язык?» читательница «Российской газеты» отвечает уверенно: «Английский. Это очень красивый и богатый язык. Он принципиально отличается не только от русского, но и от других европейских языков» (РГ. 2013. 9 апр.). В XIX столетии ещё увереннее сказали бы: «Самый благозвучный и богатый – французский».
Таков общий настрой просто общающихся, пользующихся языком. Их волнует не язык как таковой, не сам по себе, а характер, способ передачи содержания. Семиклассницу, которой Тургенев казался безнадёжно скучным и которую силком уговорили напрячься и почитать «Записки охотника», очаровали картины природы. Однако она сожалела: «Почему он описал всё словами, длинными предложениями? Нет бы снял клип… Ну, коль тогда не было кино, нарисовал бы!» Вот, оказывается, каково влияние дисплейных текстов!
В глазах новых поколений снятие морфолого-флективной скованности синтаксиса и движение к свободному смысловому, синтактико-лексикологическому строению выглядят как спасение от наркотической зависимости школьного образования, сводимого к тому же к противоречивым принципам правописания. На этом фоне возможны серьёзные изменения того, что названо Нормой с большой буквы.
Высказывания авторитетных лиц, пусть несовершенные опросы студентов, упомянутые в разделе 4.3, нынешнее настроение общества убеждают в том, что аналитизм массово воспринимается как более изящный способ сочетания слов, чем тяжеловесная флексия. Молодёжь готова приветствовать рост несклоняемости обруселых иноязычных слов, да и многих разрядов своих. Считая аналитизм признаком прогресса, она на волне американобесия уж во всяком случае не хочет препятствовать несклонению, приветствуя его как нечто свежее, красивое, экономично-разумное.
Необузданная свобода ведёт к попустительству в самых серьёзных делах. Обостряется разрыв между школьными сингулярными нормами и тем, что реально наблюдается в языке. Люди не знают, какие словоупотребления верные, правильные. Состав и строй родного языка им уже не кажутся неоспоримой неизбежностью этноса, заветом предков и становятся поводом для сомнения при судьбоносных поворотах национальной жизни.
Активно продвигают аналитизм дисплейные тексты. Скайп, социально-сетевые новшества, взаимодействуя с книжным и некнижным звуковым общением, деформируют привычные непреложности, укрепляя единство книжной и разговорной разновидностей русского языка. По крайней мере, они позволяют уходить от правил книжности, заданных границами, оторванных от звука и обстоятельств реального общения.
Покушаясь на увековеченные письменной книжностью системные законы, обеспечивающие его вековую устойчивость, красоту, силу, точность и выразительность, общество забывает своё родное – баланс системы и обновление в интересах социума – и утрачивает эффективность и культуру общения. Кто сможет остановить этот процесс?! Может быть, кодификация? Не насилием, разумеется, но авторитетом. Последнее слово здесь только за строгими и сильными кодификаторами. Найти бы среди них личность, авторитет масштаба А.С. Пушкина, кто бы мог не просто призывать, но подтвердить призывы блестящими, захватывающими ум и чувства современников стихотворными и прозаическими текстами. Эти образцы правильного русского языка были бы влиятельнее любого словаря-справочника.
Всякому народу завещано хранить самобытность своего языка. Как всякому народу, нам положено хранить природу, географию, историю, веру, культуру своей отчизны и язык, завещанный предками. Отлично заметил В.В. Путин: «Если мы хотим сохранить свою идентичность, то должны культивировать чувство патриотизма. Без этого страна просто изнутри развалится. Как кусок сахара, намоченный водой, просто “фук” – и всё».
8. Чистый остаток с заглядом в будущее
Понятия нормального, нормы, нормализации, нормативности у нас, как видно, произвольны и превратились в предмет увлекательных и назидательных разговоров без конструктивного смысла прежде всего потому, что с определением образованного языка они соотнесены странно и ущербно, вне исторического времени. Возникает вопрос: суть ли нормы созидательницы или порождения образованного языка? Иначе говоря, нормы творят язык или сами создаются языком?
Беспредельность и вечное движение языка мешают установить желаемую его предельность и устойчивость, которые должны быть представлены в здоровом общественном функционировании. Объём и характер той части языка, которая социально признана и насаждается, унифицированно общая, будто бы всегда неподвижная, зависят от их целевой согласованности между собой и с разными ситуациями и содержанием общения.
Показательна уже своим названием прекрасная статья «Полифония как неизбежная реальность современного бытия» В.В. Красных. Под редакцией этой исследовательницы выпущен ряд интереснейших сборников по этой несомненно перспективной тематике, привлекает сегодня и многих авторов, поскольку описывает «многоголосие» словоупотреблений современного русского языка.
Всё популярнее становится различать в пределах одного языка будто бы особые языки: детский, родной (материнский), государственный, общегосударственный (в едином многонациональном СССР его называли всесоюзным переводчиком, языком межнационального общения, дружбы и сотрудничества), специализированный, официальный, научный, деловой, производственный, художественный (язык театра и беллетристики), а с учётом его существования за пределами родины ещё и мировой, международный, региональный (lingua franca), иностранный (как предмет широкого изучения в разных странах), групповой (язык диаспоры), семейный (иной раз только в бесписьменной форме!), второй, третий…
Всё чаще говорят о разных корпусах языка и о корпусной лингвистике. С этим нельзя не считаться, хотя, конечно, хочется сожалеть, что меняются строгие стилевые основы, в частности, привычный водораздел официального и неофициального общения, сухого научного общения «посвящённых» между собой и живого, всем доступного.
При этом всё меньше говорится о двух разновидностях языка – книжной и разговорной, будь язык просто родным или же взят как художественный или театрально-сценический (например, в кино, на радио, концертах, телевидении) и, наконец, интернет-сетевой. Характерен интерес к структуре дисплейных текстов, к языковому разнообразию в киберпространстве, к моделям развития и измерения в Интернете (сб. ЮНЕСКО по программе «Информация для всех. Русские переводы». М., 2007, 2009, 2010).
Стираются (правда, не в устной речи, где по-прежнему царствует понятие нормативной грамотности, бесхитростно сводимое публикой к знанию принятых сегодня орфографических правил-догм) грани оценок языка как корявого или яркого и ясного, хорошо или плохо выученного, всем известного или не очень и – главное – оптимального для данного контента.
История даёт много примеров сосуществования разных языков для разных сфер применения. В. Скотт блестяще передал англосаксонский язык народного быта, хозяйства, освободительного движения наряду с норманно-французским языком судопроизводства, новой культуры элиты в английском раннем Средневековье. Можно вспомнить роль латыни в истории Европы, старославянскую (в религии, образовании, литературе) и восточнославянскую (в суде, обиходе, хозяйстве, производстве) диглоссию, а также франкоязычие в русской истории XVIII–XIX веков.
Сегодня чаще всего речь идёт безоговорочно об одном и едином русском языке, который отнюдь не нуждается (даже если и принять во внимание его склонность заимствовать иноязычные элементы) в помощи иного языка, чтобы обеспечить все коммуникационные потребности своих носителей. Он и сам совсем не распадается на разные языки, хотя не всегда обеспечивает полное взаимопонимание: не для всех вразумительны юридические или научные тексты, написанные специалистами для специалистов. Например, медики не всегда хотят, чтобы пациенты понимали, о чём они говорят между собой, хотя почти перестали пользоваться латынью.
Возникает много недоумений. Если нет в данном языке, скажем, научного подъязыка, то не лучше ли использовать в сфере науки и высшего образования другой язык, в котором эта сфера развита? Так успешно было с латынью в Средние века, с русским языком в СССР, на это претендует сегодня английский язык в мировом масштабе. Нельзя при этом забывать, что один и тот же язык, развивший максимум сфер применения, будет понятен для всех его носителей в каждой сфере: приспособившийся к космоисследованию русский язык для многих его носителей будет, если угодно, до некоторой степени иностранным, хотя и понятным.
Нормативность формируется в зависимости от потребностей каждой коммуникативной сферы. Волей-неволей нормы сменяются законами разных применений языка, увязываются с выявлением и обработкой этих ипостасей. В разных языках коммуникативные сферы и связанные с ними языковые нормы могут не совпадать.
Понятие общеязыковой нормы мешает совместить понимание единого языка (пусть в двух разновидностях) с разными его применениями, препятствует лингвистическому изучению и описанию его реального функционирования. Имея в виду разные применения одного и того же максимально развитого образованного русского языка, иерархию его уровней и особенности их употребления, мы со всей очевидностью ощущаем, что они материально различны, но в то же время не в той мере, как отдельные языки. К сожалению, языковеды пока не выявили и не описали лингвистическую основу этого кажущегося противоречия, хотя она, судя по всему, лежит на поверхности.
Язык – это единая сложная система, организованная иерархически из подсистем. Каждая из этих подсистем имеет свою природу, свои законы развития, своё сущностное предназначение и может применяться в разных целях. Вспомним про неодинаковый характер норм, неодинаковую степень их обязательности, устойчивости и крепости на разных уровнях языка (см. раздел 2.3). В зависимости от внеязыковых требований можно проводить разумное лингвистическое управление. В пределах таксономического состава языка это повлечёт за собой лишь некоторую корректировку самого понимания нормы. Конечно, углубление (или расширение) понятия нормы – смелый теоретический шаг, но он вызван реалиями нынешнего общения, торжествующими настроениями социума (см. раздел 2.2, картинки 7.4 и 7.8). Позволительно думать, что известные послабления общеязыковой нормативной однолинейности распространимы в первую очередь на поэзию и художественную прозу, театральные и кинопроизведения. Напротив, сингулярность нормы необходима в строгих научных текстах, в законодательстве. Не совсем ясная ситуация складывается в том, что многие именуют интернет-языком.
Каждый вид функционирования языка требует тщательного изучения всего таксона ненорм, в первую очередь семейства норм ограниченной сферы действия. Дело в том, что неизменное единство языка базово обеспечивается системообразующими уровнями фонетики и грамматики, их закрытым, технологическим характером, исчислимостью элементов и взаимосвязанных форм. Показательно в этом смысле растущее ныне небрежение к вариативности морфологии: оно отражает, конечно, неосознанную заботу о сохранении её целостности, неизменности при применении в любой сфере языка.
Многие теоретические наработки последних десятилетий очевидно, хотя и неосознанно, стимулированы поиском выхода из сложившегося положения. Тут и попытки разной интерпретации нормы, и изучение состава правильного языка. На память приходят исследования Г.Я. Солганика, посвящённые газетному языку, работы О.Д. Митрофановой, анализирующие язык науки, исследования устной научной речи, проведённые О.А. Лаптевой. Разочарование в теории функциональных стилей приводит к предложению некой векторной стилистики.
Правильность разных применений остающегося единым образованного русского языка обеспечивает открытые содержательно-семантические подсистемы лексики, стилистики, отчасти синтаксиса. Своеобразие ситуации фактически не исследовано, но, очевидно, такое исследование востребовано. Достаточно указать на дискуссию «Отечество и отчество», «Государственный язык необязательного использования» в связи с «отпиской из Федеральной антимонопольной службы» (Литературная газета. 2013. № 42; 2014. № 4), которая свелась лишь к частной проблеме использования иностранных слов при наличии сходных русских. Впрочем, это неосознанно, но симптоматично показывает, что специфику надо искать именно в лексике, а не в грамматике.
Чрезвычайно перспективно в этом плане описание государственного русского языка, успешно выполненное в Санкт-Петербургском государственном университете. Оно состоит из книг «Доктринальный и нормативно-правовой комментарий» (СПб., 2009) и «Нормы современного русского языка как государственного. Комплексный нормативный словарь современного русского языка» (СПб., 2007; расширенная версия со звуковым приложением: СПб., 2009, 2011). Обе части составляют базу для нормативно-правового применения Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации».
Эпитет «государственный» в сочетании с языком оправдан явно новаторским шагом – специфическим пониманием языковой нормы в словаре. В отличие от жёсткого выбора одной предпочтительной единицы, здесь норма интерпретирована как фиксация эффективности использования набора языковых средств (вариативных, аналогических, параллельных) в зависимости от конкретного контекста или речевой ситуации. Пафос не в том, что можно или нельзя, а в том, как можно и для чего.
Такого рода сведения дополнительны по отношению к всеобще принятой языковой норме, но необходимы для успешного общения в судо– и делопроизводстве, в печатной периодике, радиовещании, на телевидении. Словарь высвечивает важную для государственного функционирования языка когнитивную составляющую слов и их сочетаний, которая не всегда значима в обиходе и не фиксируется обычными словарями. В этом смысле предлагаемый лексикографический ресурс, не имеющий аналогов ни у нас, ни за рубежом, нацелен формировать гражданскую идентичность и обеспечивать эффективную информативно-коммуникативную общность в государственной сфере общения.
Сложившуюся с формированием нации и существующую поныне в виде игр в интересах социума и в интересах языка нормализацию превратить в кодификацию – значит перевести её в ранг строгой науки и тем ознаменовать всесилие человека, способного заменить коня в его союзе со всадником более удобным и сильным средством передвижения. В эпоху глобализма и технического прогресса такое развитие поиска и установления правильного языка рисуется не столь уж фантастическим. Его качества и успех будут зависеть от разума и умений кодифицирующей институции, к созданию которой мы приближаемся.
Нормализации суждено замещаться кодификацией. И главным критерием станет не норма, нормализация, а знание иерархической специфики применений языка, степень рукотворности которого повысится на научной основе. Если первый критерий удовлетворял общество от периода формирования нации до нынешнего дня, то второй порождается культурой глобализма, прогрессом цивилизации, объединяющим «поумнением» человечества.
Гегемонические силы, которые могут при этом возникать, счастливо натолкнутся на противодействие языка, прочно хранящего своё устройство в системообразующих подсистемах, но обеспечивающего содержательно-семантическую свободу и множественность в функционировании. Общественному мнению надлежит примирить идею сингулярности с реальностью полиполярности в рамках разумного единства. Понятие нормы (чего-то наиболее или даже всепригодного) если и останется, то применительно не ко всем частям языка. Критерием же правильного станет понятие кодов отдельных применений языка, образованного (сознательно образуемого) так, чтобы оптимально удовлетворять разнообразные сферы и формы его применения. Не нормализация языка как такового, а кодификация – описание его сложной системы и законов её функционирования.
В последние годы Россия становится страной закона. Нормотворческая работа вообще заметно активизировалась как в Думе и министерствах, так и в общественных структурах. Во многих случаях она касается языка, применительно к которому легче достичь согласия, чем в иных сферах. Нельзя не заметить, что в целом дело идёт именно к единому государственному регулированию, к созданию полномочного центра. Примечательно мнение И. Кириллова, знаменитого диктора и великого ревнителя русского языка. Одобряя недавнее создание Совета по русскому языку при Правительстве РФ, он писал: «Проблемы языка давно требуют системного государственного подхода, ведь правильной русской литературной речи сейчас практически нигде не услышишь» (РГ – Неделя. 2013. 14 нояб.).
Как раз это приветствовали многие в рассуждениях о вмешательстве человека в языковые дела (см. раздел 2). Правильный язык есть по природе своей рукотворный, он вообще может быть самодельным. Многое искусственное в нашей жизни становится более естественным, чем природное: фабричные смесовые материалы или выращенная садоводом яблоня не хуже первобытных холщовых, хлопковых, шерстяных, шёлковых тканей или яблони-дичка. Всё зависит от искусства созидающего.
Конечно, радоваться рано: специализированной институции для языковой кодификации как не было, так и не появилось. Более того, в научных кругах не преодолён скепсис относительно реальности её учреждения или даже потребности в ней. Однако в обществе не наблюдается сомнений в полезности кодификации, и не только среди педагогов. Нужная и полезная деятельность лишена централизации и, за неимением иного источника, по-прежнему основывается на нормализационных играх общества и языка. Нынешняя кодификация обречена действовать в царстве волюнтаризма и субъективизма, свойственных нормализации.
Научные истины не зависят от воли людей, а произвольные игры лишь взвешивают их импульсивные людские желания с системно-языковыми факторами. Кодификация же, изучая, осмотрительно учитывая реальности и потребности коммуникативной жизни общества, оптимально и целенаправлено отбирала бы единицы и устанавливала бы правила в соответствии с характером и объёмом образуемого языка.
Образцом истинного кодификатора был А.С. Пушкин, скорее всего, делал это он вполне сознательно. Обдуманное, с такой целью отобранное и сформулированное он сознательно и внедрял, причём делал это ненасильственно, опираясь на согласие читающей публики, на некоторый ощущаемый общественный договор. Его кодификация – в стремлении к неизбыточной достаточности, устранению или размежеванию вариантов – имела успех, потому что научно обосновывала и предугадывала ход развития, увлекала гениальной поэзией и прозой. Поэт был деликатен, нетороплив, не призывал к принуждению, но и потешался над той, кто «романов наших не читала» и «объяснялася с трудом на языке своём родном». Что ж, научная целесообразность требует, чтобы добро было иной раз с кулаками.
Правильность существенно меняется в новой ситуации, но её философская суть сохраняется уже потому, что языковое развитие одинаково, хотя с разной глубиной осмысления, происходит через функционирование, через использование языка людьми. Сегодня в социальных сетях понятие правильности приобретает глобальный характер, что соотносит это понятие с кантианско-шопенгауэровским рядом таких собственно человеческих понятий, как время или пространство, мирозданию не свойственных. В этом смысле норма как раз и чужда языку как природному орудию общения, она нужна людям ради собственного коммуникативного удобства, если не как предмет увлекающих разговоров применительно к отдельным фактам. Уместно вновь вспомнить различение А.М. Пешковским нормативной и объективной точек зрения.
Торжество разумной кодификации, исходящей из познанной и всеми разделяемой главной идеи (из «воспаления», лежащего в основе всех страданий тела), чурающейся насилия и хранящей преемственность, сделает стержень языка как основу общения во всех его ипостасях и всех целях использования определённее, обозримее, устойчивее. Коль скоро развитие образованного языка в том, что он всё меньше развивается (будучи образован, он далее образуется всё осторожнее), тем удобнее им пользоваться, тем легче его учить. Язык легко справляется с болезненными напастями вроде избытка заимствований или антисистемных влияний, позволяя мотивированно выходить за пределы строго определяемого корпуса обязательных манифестаций.
Таксономия единиц и правил сохраняет возможности развития как такового и творческого начала в оправданных допусках вечных его ресурсов при приспособлении к новшествам, художественном разнообразии, свободе самоутверждения. Такова светлая мечта. Её торжество требует немногого – чтобы люди согласились не убивать друг друга, договорились жить друг для друга, научились понимать и любить друг друга как самих себя, чтобы были дисциплинированы разумным порядком, хотя бы таким, который царит в муравейнике или улье с послушанием и разделением труда внутри сообщества их жителей, подчинением специалистам. Ведь смысл нашего существования – в служении нашей взаимозависимости, будь то распри, вражда, война, гибель или мир, согласие, счастье, творчество.
Цепляясь за традицию, за привычную правильность, в частности стилистическую, творцы пока далеки от новой стилистики, которой требует стремительно меняющаяся коммуникативная жизнь общества и которая зависит от внеязыковых факторов и всё меньше от самого состава и устройства языка. Общество должно это осознать ради своего же здоровья. Ведь не может не настать время, когда люди образумятся, согласятся поумерить личностные, групповые, этногосударственные амбиции, поступятся самоутверждением и станут вменяемыми ради блага национально-государственного единства.
Разум верит, что благовестие сбудется, что кодификаторы, бережно храня традиции, получая одобрение публики и властей, станут всеведущи, непогрешимы. Кодификация, как высшая властная ступень языкового образования этически, нормативно, литературно, эстетически правильного и всепригодного языка, удовлетворяющего все его применения в разных сферах общения, пока принадлежит царству грёз. В ней обретается и надежда на единый общечеловеческий язык, слитый из всех, избранный один, о котором пекутся не первое столетие интерлингвисты. Определяя себя на должность «председателя Земного шара», Велимир Хлебников стремился создать такой новый общий язык.
Может быть, в силу моей малой осведомлённости, опирающейся лишь на великолепные книги М.И. Стеблин-Каменского «Культура Исландии» (Л., 1967) и «Мир саги» (Л., 1984), эту веру в грядущий повсеместный успех кодификации укрепляет во мне пример исландцев, образовавших «самый литературный язык мира». Звуковые тексты скальдов понятны исландцам до сих пор несмотря на письменность. Их язык уберёгся от социальных и местных диалектов, от стилевого книжно-разговорного расслоения. Канонически лишённый избыточно мелькающих прикрас, он удобен и нисколько не утратил выразительности, изобразительности: вспомним творчество нобелевского лауреата Х. Лакснесса. Очевидна законодательная заслуга народа и созданного им в 930 году альтинга, верящего, по пословице, что «на праве земля строится, а бесправьем рушится». Прислушались бы к ней неосторожные создатели сегодняшних русских дисплейных текстов!
Язык должен помогать нам понимать друг друга, а для этого быть исповедальным в морали и нравственности. Нет оправдания потере чувства слова, даже если оно теряется в погоне за нормой или как-то иначе измеряемой правильностью. Не норма и правильность командуют нами – мы сами их изобрели для своего же спокойствия и удобства.
* * *
Обдуманная научно и согласно принятая просвещённой публикой кодификация, в отличие от таинственно сокровенно действующей нормализации, минимум два века скрывающей изменения языка иллюзией извечности его норм (даже не состава и объёма!), не может умолчать об антиномии неподвижности и непрерывной динамики языка. Кодификация есть консервация, но консервация вре́менная, сознательная, необходимая на стыке неизбежности движения и необходимости покоя.
Она не смеет скрывать саморазвитие языка, происходящее благодаря людям, но не всегда осознанное ими, а также опосредованно отражающее их потребности. Кодификация не может не озаботиться понятиями синхронии и диахронии, истории и данного состояния, но не маскировать в разумном обществе эти факты, а открыто, сознательно контролировать их.
Осмелимся напомнить, что нынешняя жизнь уже обнаружила склонность к консервации умением сдерживать то, что долго не хранится, излишне быстро меняется и даже портится. Молоко, которому, даже кипяченому, положено скиснуть через день, хранится без особого вреда потребителю много месяцев, будучи обработано химически и хитроумно упаковано производителем. Так и искусственная, по сути временна́я, но искусная кодификация образованного языка разумно удлинит срок его службы на благо людям, государственному и культурному единству общества.
Понятие правильности недостижимо вне мифически видимой своей извечности. Для А.С. Пушкина было вполне правильно ударение и в карантине́, и в каранти́не; нынешние студенты расстроятся, если им вчера говорили по нынешней аналогии в Харби́не, а сегодня скажут в Харбине́. В начале ХХ столетия правильно было только по́исковый, к его середине С.И. Ожегов неохотно счёл допустимым также и поиско́вый; нынешние ревнители правильности публично поправляют тех, кто скажет по́исковый, и я не знаю, как они относятся к профессиональному поискова́я партия. Сегодня называют поясным портретом то, что раньше называлось грудным портретом. Как бы, вроде – утратив значение несовершённости действия, стали некими смягчающими междометиями, а на самом деле и в самом деле, перестав различаться, стали утвердительными частицами.
Для удобства пользователей кодификация периода могла бы игнорировать сотни прихотливых, малообъяснимых фактов, засоряющих общение непредсказуемостью своей судьбы, во всяком случае запретила бы использовать их в качестве мерила правильности и предмета насмешки. Ставший разумным социум, несомненно, захочет и будет способен пресекать споры вокруг пустых, нервирующих нынешнюю публику мелочей (в первую очередь в таксоне норм в языке).
Иное дело – процессы вроде развития аналитизма. На потребу преходящим молодёжным вкусам не должно быть всем обществом одобрено и ускорено пока вялотекущее игнорирование флексии. Необходимо поставить прочный заслон перед этим процессом в системообразующей грамматике, а также перед изменениями фонетической системы языка. Ведь в противном случае легче и проще сменить свой язык на другой и отказаться от своего происхождения и своей истории, от своей культуры и отчизны.
Разумное общество должно, конечно, понимать истинное положение дел, уважать постоянное изменение языка за пределами своих интересов. Иными словами, оно должно уметь взглянуть на развитие языка как на континуальный процесс и как на процесс дискретный. Зачатки иной правильности образованного языка уже сегодня ощутимы, но их укоренение требует серьёзного изменения культурного императива и единодушного согласия всего общества, настоящей кодификации.
Объективно непрерывное изменение, скрытое в диахронии, воспринимается естественным, но в пределах синхронии всё представляется неизменным, а любые колебания или вариативность раздражают. Даже нынешние нормализационные игры подчиняются иной раз механизмам временно́го (и вре́менного!) преодоления вредного для общения противоречия между неподвижностью и движением.
Синхронию определяют как виртуальный период, в котором язык остаётся идентичным самому себе. Как кажется, большей объяснительной силой обладала бы увязка её с реальным звучащим общением конкретных лиц. Дети и внуки непосредственно общаются с родителями и дедами, даже если старших что-то и раздражает в языке младших. Правнуки же если и общаются с прадедами, то не длительно и не на равных. Переводя это в исчисление, получаем применительно к нашей стране плюс-минус 70 лет, а то и меньше. Тонкий в оценках русский язык проводит грань между понятием сейчас (славянский час – обозначение времени вообще, его промежутка, в иных языках – периода) и иноязычного момента, соответствующего мигу.
Промежутки, а не мгновения дрёмы и всплесков бодрствования в истории языка отражают разную скорость перемещения этих рамок. Сегодня при бурном развитии общества, его экономики, техники, демократических свобод люди не успевают приспособиться к их скорости, зашкаливающей вплоть до того, что в пределах средней продолжительности жизни представители разных поколений перестают понимать друг друга. Сжатые темпы жизни ограничивают покой, ускоряя технический прогресс. В то же время достижения цивилизации, прежде всего Интернет, сетевое общение, небезразличны для культуры, вовлекая её в соучастие.
Перемещение границ синхронических рамок означает прекращение мандата действующей правильности и даже направлений и способов образования общего правильного языка. Скорость их перемещения и внутренняя длительность каждого периода зависят от многих факторов. В Средние века русский язык дремал, его пробудило царствие Петра Великого. Размер синхроний в царствование династии Романовых обрёл затем эволюционную стабильность. В ХХ столетии русский язык то и дело восходил на Голгофу.
Языковеды и социологи связывают со сменой поколений динамику языка, в которой обеспечиваются потребности именно литературно образованного общего языка, его правильность на некотором следующем отрезке истории. Каждое поколение начинает своё синхроническое состояние с «ветрянки» студенческого жаргона, чтобы заявить себя, нужно ею переболеть. Так вырабатываются иммунитет против неприятия осколков синхронии дедов-родителей и способность обеспечить преемственность. В этом примирении синхроний велика роль также художественной литературы.
Обращаться за прогнозом в отдельном случае можно лишь к воле судьбы или же к глобальной Норме языка с учётом настроения социума. Оценки кодификаторами конкретных языковых единиц здесь и сейчас могут относиться только к текущей синхронии, пусть даже искусственно затягивающей их неизменность в таксономии безусловно рекомендуемых (норм), частично рекомендуемых (ненорм) или запрещаемых (антинорм).
Живя в языке, мы не замечаем, что он постоянно изменяется, как не замечаем, что сами стареем, хотя и пытаемся молодиться. Чтобы убедиться в этом, нужно сравнить свои фотографии, сделанные в разное время. Разница лишь в том, что для языка это необязательно морщины старости, а иной раз даже черты новой красоты.
В каждый данный период нам всё предстаёт (и хорошо, что так!) вечным, на деле же таковы лишь универсально-глобальные представления о благе, да и то лишь в перспективе. Совокупности правильных единиц и закономерностей, вытекающих из неё и сильно подверженных прихотям, суть моментальные фотографии бесконечной жизни. Возраст скрывает иллюзию, будто их состав не меняется от синхронии к синхронии, отчего они не кажутся чем-то инородным для языка как такового. По призыву Л. Дербенёва из слов песни, спетой незабвенным О. Далем:
Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг – за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.Библиография
Аванесов Р.И. Фонетика современного литературного языка. М., 1956.
Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1996.
Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970.
Алпатов М.В. Глобализация и развитие языков // Вопросы филологии. 2004. № 2 (17).
Амирова Т.А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. М., 1985.
Ахманова О.С., Бельчиков Ю.А., Веселитский В.В. К вопросу о «правильности» речи // Вопросы языкознания. 1960. № 2.
Бабайцева В.В. Принципы русской орфографии // Избранное. Ставрополь, 2010.
Богданов С.И., Кропачёв Н.М. Доктринальный и нормативно-правовой комментарий. СПб., 2009.
Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому языку // Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. М., 1963. Т. 2.
Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. и др. Стили произношения и типы произнесения // Вопросы языкознания. 1974. № 2.
Бородина М.А. Влияние иноязычных систем на развитие языка // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969.
Борьба вокруг нормы. Вариативность в литературном произношении / Под ред. Ж.В. Ганиева. М., 2006.
Будагов Р.А. Человек и его язык. М., 1976.
Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977.
Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. 1978. № 2.
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001.
Вербицкая Л.А. Русский язык сегодня. // Президиум МАПРЯЛ: 2003–2007: Сб. науч. трудов. СПб., 2007.
Вестник МАПРЯЛ. Ежеквартальный дайджест. М., 1978–2012.
Виноградов В.В. Заметки о языке советских художественных произведений // Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955.
Виноградов В.В. Литературный язык и язык художественной литературы // Вопросы языкознания. 1955. № 4.
Виноградов В.В. О культуре русской речи // Русский язык в школе. 1961. № 1.
Виноградов В.В. Русская речь, её изучение и вопросы речевой культуры // Вопросы языкознания. 1961. № 4.
Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3.
Виноградов В.В. История русского литературного языка // Избранные труды. М., 1978.
Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка ХVII – ХIХ веков. М., 2002.
Винокур Г.О. Культура языка. М., 1929.
Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.
Гельгардт Р.Р. О языковой норме // Вопросы культуры речи. Вып. 3. М., 1958.
Головин Б.Н. О качествах хорошей речи // Русский язык в школе.1964. № 2.
Головин Б.Н. О качествах хорошей речи // Русский язык в школе. 1965. № 1.
Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980.
Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком. М., 1999.
Горбачевич К.С. Изменение норм русского литературного язвыка. Л., 1971.
Горбачевич К.С. Вариативность слова и языковая норма. Л., 1978.
Горбачевич К.С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. М., 1984.
Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка: Пос. для учителей. М.; Л., 1989.
Горнфельд А.Г. Муки слова. М.; Л., 1927.
Горшков А.И. Литературный язык и норма (на материале истории русского литературного языка) // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976.
Граудина Л.К. Опыт количественной оценки нормы // Вопросы культуры речи. Вып. 7. M., 1966.
Граудина Л.К. Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты. М., 1980.
Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996.
Григорьев В.П. О нормализаторской деятельности и языковым «пятачке» // Вопросы культуры речи. Вып. 3. М., 1962.
Григорьев В.П. Культура языка и языковая политика (вместо рецензии на книгу К.И. Чуковского) // Вопросы культуры речи. Вып. 4. М., 1963.
Данеш Ф. Позиции и оценочные критерии при кодификации // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 20. М., 1988.
Демьянков В.З. Загадки диалога и культура понимания // Текст в коммуникации. М., 1991.
Дешериев Ю.Д. Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. М., 1988.
Димитрова С. Исключения в русском языке. Columbus, 1994.
Едличка А. О пражской теории литературного языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
Едличка А. Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 20. М., 1988.
Ейгер Г.В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания: Дис. … д-ра филологии. Калифорния, 1989.
Ефанова Л.Г. Категория нормы в русской языковой картине мира. Дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01, 10.02.19 / Томский государственный университет. Томск, 2013.
Живов В.М. О связанности текста, синтаксических стратегиях и формировании русского литературного языка нового типа // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2000.
Жлуктенко Ю.А. Теория языкового планирования // Современное зарубежное языкознание. Киев, 1983.
Журавлёв В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
Зубкова Л.Г. Принцип знака в системе языка. М., 2000.
Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. М., 2003.
Иванова С.В. и др. Активные процессы в современной лексике и фразеологии. Активные процессы в современной грамматике. Активные процессы в различных типах дискурсов // Материалы международных конференций. Москва – Ярославль: В 2 т. М.; Ярославль, 2007, 2008, 2009.
Инфантова Г.Г., Семина Н.А. и др. Активные процессы в современном русском языке // Материалы Всероссийской межвузовской конференции. Ростов-на-Дону, 2006.
Истрина И.С. Нормы русского литературного языка и культура речи. М.; Л., 1948.
Ицкович В.А. О языковой норме // Русский язык в национальной школе. 1964. № 3.
Ицкович В.А. Языковая норма. М., 1968.
Ицкович В.А. Норма и её кодификация // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970.
Ицкович В.А. Очерки стилистической нормы. М., 1982.
Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
Караулов Ю.Н. О состоянии русского языка современности. М., 1991.
Киров Е.Ф. Теоретические проблемы моделирования языка. Казань, 1989.
Кодификация норм современного русского языка: Материалы конференций издательства «Златоуст» / Под ред. А.В. Голубевой. СПб., 2011–2013.
Кожин А.Н., Крылова О.Б., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. М., 1982.
Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.
Конрад Н.И. О «языковом существовании» // Японский лингвистический сборник. М., 1959.
Костомаров В.Г., Леонтьев А.А. Некоторые теоретические вопросы культуры речи. Вопросы языкознания. 1966. № 5.
Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой массмедиа. М., 1994, 1996, 1999.
Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. М., 2005.
Костомаров В.Г. Рассуждение о формах текста в общении. М., 2003, 2010, 2013.
Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003.
Кронгауз М.А. Семантика. М., 2005.
Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2007.
Крысин Л.П., Скворцов Л. И., Шварцкопф Б.С. Проблемы культуры русской речи // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1961. Т. XX. Вып. 5.
Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.
Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
Лаптева О.А. К обсуждению теории русского литературного языка и модели его структуры // Облик слова. М., 1977.
Лаптева О.А. Экстралингвистика и смысл (Синтаксические двусмысленности) // Язык: система и функционирование. М., 1988.
Лаптева О.А. Теория русского литературного языка. М., 2012.
Лейчик В.М. Языки для специальных целей – функциональные разновидности современных развитых национальных языков // Общие и частные проблемы функциональных стилей. М., 1986.
Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1989.
Максимов В.И. Литературная норма и просторечие. М., 1977.
Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2005.
Меновщиков Г.А. К вопросу о проницаемости грамматического строя языка // Вопросы языкознания. 1964. № 5.
Митрофанова О.Д. Язык научно-технической литературы. М., 1973.
Михальская А.К. К современной концепции культурцы речи // Филологические науки. 1990. № 5.
Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы: слова, которые мы не знаем. М., 1997.
Неверов С.В. Общественно-языковая практика современной Японии. М., 1982.
Николаева Т.М. О принципе «не-кооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. Вып. 3. М., 1990.
Николаева Т.М. От звука к тексту // Язык манипулирует текстом. М., 2000.
Никольский Н.Н. Учебное пособие по стилистике и литературной правке. М., 1956.
Ожегов С.И. и др. Вопросы культуры речи. Вып. I–VIII. М., 1955–1960.
Ожегов С.И. Очередные вопросы культуры речи // Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955.
Ожегов С.И. Лексикология. Грамматика. Культура речи. М., 1974.
Панов М.В. О развитии русского языка в советском обществе. К постановке проблемы // Вопросы языкознания. 1962. № 3.
Панов М.В. Некоторые тенденции в развитии русского литературного языка XX в. // Вопросы языкознания. 1963. № 1.
Панов М.В. Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Кн. I–IV. М., 1968.
Панов М.В. О литературном языке // Русский язык в национальной школе. 1972. № 1.
Пешковский А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Избранные труды. М., 1959.
Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
Поливанов Е.Д. XX в. // Вопросы языкознания. 1963. № 1.
Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001.
Правильность и чистота русской речи // Опыт русской стилистической грамматики. СПб., 1912. (Перепечатано в кн.: Чернышёв В.И. Избранные труды: В 2 т. М., 1970. Т. 1.)
Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения. М., 1997.
Русская разговорная речь. / Под ред. Е.А. Земской. М., 1973.
Русский язык в его функционировании: уровни языка. М., 1996.
Русский язык в условиях языковой и культурной полифонии / Под ред. В.В. Красных. М., 2011.
Сгала П. Обиходный разговорный чешский язык // Вопросы языкознания. 1960. № 2.
Семенюк Н.Н. Норма // Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. М., 1970.
Серебренников Б.А. Роль внутренних и внешних факторов языкового развития и вопрос об их классификации // Общее языкознание. М., 1970.
Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь. М., 1983.
Сиротинина О.Б. Хорошая речь. Саратов, 2001; М.; 2009.
Сиротинина О.Б. Узуальная норма и её роль в развитии языка //Русский сегодня. Вып. 4. М., 2006.
Сиротинина О.Б. Что происходит с русским языком? // Проблемы речевой коммуникации. Вып. 7. Саратов, 2007.
Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
Современный русский язык. Активные процессы на рубеже ХХ– ХХI вв. / Под ред. Л.П. Крысина. М., 2008.
Современный русский язык: система – норма – узус / Под ред. Л.П. Крысина. М., 2010.
Солганик Г.Я. К проблеме классификации функциональных стилей на интралингвистической основе // Основные понятия и категории лингвистики. Пермь, 1982.
Солганик Г.Я. Тенденции развития современного русского литературного языка // Текст. Структура и семантика. М., 2011.
Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
Стилистика литературного редактирования / Под ред. проф. В.И. Максимова. М., 2004.
Толстой Н.И. Культурно– и литературно-исторические предпосылки образования национальных языков // Формирование наций. М., 1981.
Толстой Н.И. Язык и культура. Некоторые проблемы славянской этнолингвистики // Русский язык и современность: В 2 ч. М., 1991.
Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: функционирование русского языка в Интернете, концептуально-сущностная доминанта. М., 2004.
Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. М., 1982.
Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст. М., 2002.
Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., 1962.
Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
Шмелёв А.Д. и др. Практикум по экспериментальной психосемантике: тезурус личностных черт. М., 1988.
Шмелёв Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. К постановке проблемы. М., 1977.
Щерба Л.В. Спорные вопросы русской грамматики // Русский язык в школе. 1939. № 1.
Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. М., 1958.
Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Языковая система и речевая деятельность: Сб. ст. Л., 1974.
Явление вариативности в языке: Материалы конференции. Кемерово, 1997.
Язык и мышление: Материалы конференции. М., 1967.
Словари
Аванесов Р.И. Орфоэпический словарь русского языка. М., 1983.
Аванесов Р.И., Ожегов С.И. Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника. М., 1955, 1959.
Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000.
Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1986.
Апресян Ю.Д. Новый объяснительный словарь синонимов. 2-е изд., М., 2004.
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П., Чельцова Л.К. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника. М., 1972.
Вакуров В.Н. и др. Краткий словарь трудностей русского языка: для работников печати. М., 1968.
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи: опыт частотно-стилистического словаря вариантов. Стилистический словарь вариантов. М., 1976, 1978, 2001.
Грачёв М.А. Словарь современного молодёжного жаргона. М., 2007.
Елистратов В.С. Словарь московского арго: материалы 1980–1994 гг. М., 1994.
Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка. Грамматические формы. Ударение. М., 1994.
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. М., 2000.
Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1986, 1993, 2006.
Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 2000.
Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 1980.
Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: англо-русский словарь концепций и терминов. М., 2004.
Иванов Л.Ю. Трудные случаи произношения и ударения // Культура парламентской речи. М., 1994.
Иванов Л.Ю., Сковородников А.П., Ширяев Е.Н. Культура речи: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2003.
Крысин Л.П., Скворцов Л.И. Правильность русской речи: Словарь-справочник. М., 1962.
Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.
Кузнецов С.А. Современный толковый словарь русского языка. М., 2004.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. (любое издание начиная с 1952 г.)
Орфографический словарь русского языка. (издания 1953–2012 гг.)
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. М., 1983.
Рогожникова Р.П. Редкие слова в произведениях авторов ХIХ века: Словарь-справочник. М., 1997.
Сазонова И.К. и др. Орфографический словарь русского языка. М., 2006.
Семенюк А.А. Лексические трудности русского языка: Словарь русского языка АН СССР: В 4 т. М., 1957, 1961.
Скляревская Г.Н. Современный толковый словарь живого русского языка. Обоснование концепции. СПб., 2004.
Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. Нормы современного русского литературного языка как государственного. СПб., 2007.
Словарь современного русского языка АН СССР: В 17 т. М.; Л., 1948–1964.
Словарь русского языка АН СССР: В 4 т. М., 1957, 1961.
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Ред. Н.Ю. Шведова. М., 2007.
Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: В 4 т. М., 1935–1940.
Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб., 2004.
Яранцев Р.И. Русская фразеология: Словарь-справочник. М., 2006.
Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Примечания
1
Картинкой мы называем развёрнутые примеры, иллюстрирующие разные теоретические положения разделов. Все картинки сгруппированы в разделе 7.
(обратно)2
Далее – РГ.
(обратно)3
Далее – ВМ.
(обратно)4
Вариантность как таковую изучает ортология – особая дисциплина, которая фактически устраняется от нормативнопедагогической квалификации параллельно сосуществующих слов и способов выражения.
(обратно)
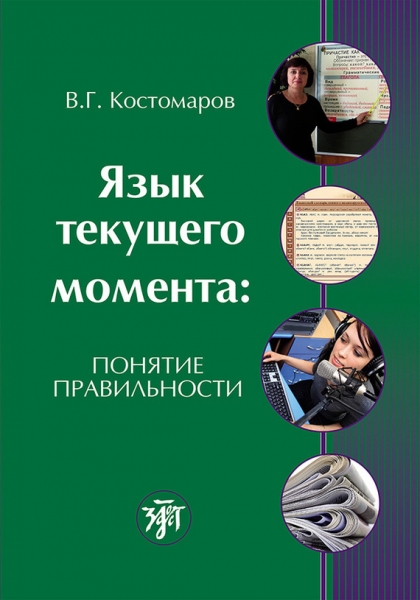






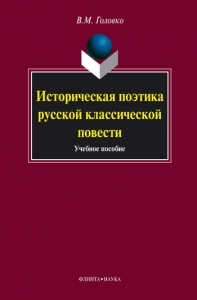

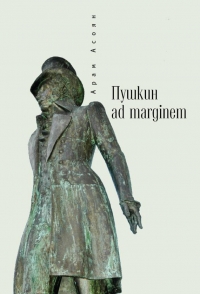


Комментарии к книге «Язык текущего момента. Понятие правильности», Виталий Григорьевич Костомаров
Всего 0 комментариев