Александр Васильевич Лавров Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации
Иван Коневской
«Чаю и чую» Личность и поэзия Ивана Коневского
«Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции» – так в свое время обозначил место Ивана Коневского в нарождающемся русском символизме Е. В. Аничков.[1] Кому-то, возможно, соположение этих фигур покажется не вполне корректным, и тем не менее, если вынести за скобки вкусовые в значительной мере, индивидуальные представления о масштабе той или иной творческой личности, имеются достаточные основания для проведенной параллели. Оба поэта были отверженцами по отношению к широкой литературной среде, оба были наделены творческим даром исключительной силы и своеобразия, духовной зрелостью, обретенной ими в ранней юности; наконец, оба писали на протяжении всего лишь нескольких лет. И если Артюр Рембо сам оставил творчество в 1873 г., в девятнадцатилетнем возрасте, стал авантюристом-негоциантом и дожил до 37 лет, то Иван Коневской (настоящее имя – Иван Иванович Ореус; 1877–1901) последнее стихотворение сочинил за три дня до гибели: он утонул, купаясь в лифляндской реке, не достигнув 24 лет.
Кардинально различной, однако, оказалась судьба творческого наследия французского и русского поэтов. До Рембо, уже в «постлитературный» период его жизни, доходили известия о пришедшей к нему славе, к которым он относился с полным равнодушием; ныне он – общепризнанный классик мирового значения. Ивана Коневского сегодня знают лишь немногие ценители русской поэзии символистской эпохи. Показательно, что выступление З. Г. Минц о нем на тартуской Блоковской конференции 1975 года было упомянуто в хроникальном отчете как доклад «о забытом поэте И. Коневском».[2] Но таким же забытым казался этот поэт и для его младших современников. Видевший в Коневском «чудесного Святогора слова», Сергей Бобров заявлял: «Мы не можем скрыть нашей крайней скорби о том, что поэт сей теперь, через какие-нибудь 11 лет после смерти своей – забыт, забыт совершенно. Знать пару стихотворений его из старых альманахов – это редкая утонченность. А между тем на поэтическом горизонте нашем после Тютчева не было столь огромной фигуры».[3] Слова о полном забвении в данном случае не совсем соответствуют действительности: имеется немало прямых свидетельств, подкрепленных специальными исследовательскими изысканиями, о том, что Коневской оказал заметное воздействие и на других символистов, и на поэтов постсимволистской эпохи,[4] – однако того места в истории русской литературы и в читательском сознании, которое ему по праву принадлежит, он не занял и по сей день.[5]
В статье «Иван Коневской. Поэт мысли», написанной в середине 1930-х гг., но опубликованной в извлечениях лишь в новейшее время, Н. Л. Степанов дал краткую общую характеристику этого мастера, которая остается исключительно точной и емкой в своих наблюдениях и выводах:
«Коневской не был организатором новой поэтической школы, как Брюсов, он не был реформатором, ниспровергавшим все поэтические принципы, как Хлебников или Маяковский, или “прóклятым поэтом” вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на рубеже двух эпох, творчество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном, связывавшим символизм с русской поэзией XIX в., с Баратынским, Тютчевым, Кольцовым, Ал. Толстым.
Коневской являлся одним из наиболее последовательных “поэтов мысли”. Поиски смысловой поэзии, философской лирики, отличающие творческий метод Коневского, представляют не только исторический интерес для современной поэзии. Многие поэты сейчас также пытаются найти путь к философской лирике, к смысловому обогащению слова. В этом отношении поэзия Коневского представляет поучительный эксперимент, не удавшуюся до конца, но тем не менее чрезвычайно интересную попытку создания “мыслительной” поэзии.
Коневской пришел слишком рано для того, чтобы стать одним из признанных вождей символизма, а его поэзия оказалась слишком несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем не менее значение Коневского для развития русского символизма (для Брюсова, Блока, Вяч. Иванова) и для послесимволистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма существенно. Дело не только в прямом влиянии Коневского на Брюсова и Блока, хотя это влияние также имело место, а в создании новых поэтических принципов, которые определили переход от поэзии 80-х годов к символизму. В творчестве Коневского, как в фокусе, видны основные линии этого перехода».[6]
1
Иван Ореус родился в Петербурге 19 сентября 1877 г. в семье полковника Ивана Ивановича Ореуса (1830–1909). Род Ореусов – шведского происхождения; на протяжении нескольких поколений Ореусы находились на русской государственной службе в весьма высоких чинах. Прадед Ивана Коневского Максим Ореус, принадлежавший к числу дворян С. – Петербургской губернии, занимал должность Выборгского губернатора, дед Иван Максимович Ореус «после сотрудничества с министром финансов гр. Канкриным, при котором он был товарищем министра, назначен сенатором, а затем первоприсутствующим в 3-м Департаменте Сената».[7] В автобиографии отца поэта сообщается: «Ореус Иван Иванович (сын скончавшегося в 1863 г.); родился в С. – Петербурге 11 дек<абря> 1830 г.; исповедания православного; учился сначала во 2-й С. – Петербургской гимназии, а потом в Школе гвардейских подпрапорщиков, откуда 26 мая 1849 г. выпущен прапорщиком в л<ейб>-гв<ардии> Преображенский полк; в 1853 г. поступил в Воен<ную> Академию ‹…› в 1855 г. кончил курс по 1-му разряду; в 1856 г. переведен в Генеральный штаб».[8] Впоследствии Ореус-отец занимал ответственные служебные должности: с 1863 по 1898 г. – начальник военно-исторического и топографического архива Главного управления Генерального штаба (с 1867 г. называвшегося военно-историческим архивом Главного штаба), с 1898 г. – член военно-учебного комитета Главного штаба. В 1881 г. он стал генерал-майором, в 1891 г. – генерал-лейтенантом, вышел в отставку уже после гибели сына – в 1906 г., после 57 лет службы, в чине генерала от инфантерии. Архивную службу Ореус-отец совмещал с профессиональными занятиями военной историей. Ему принадлежит книга «Описание Венгерской войны 1849 г.» (СПб., 1880) – поныне основной источник документальных сведений об этой кампании, в которой он в молодости лично участвовал, – в походе 100-тысячного корпуса генерала И. Ф. Паскевича против восставшей Венгрии. Многочисленные очерки и исследования Ореуса, основанные по большей части на архивных документах, печатались в «Военном сборнике» и «Русской Старине»;[9] около 250 его статей помещено в «Энциклопедии военных и морских наук», в которой он состоял постоянным сотрудником, более 500 его статей – в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза – Ефрона.
Мать поэта, Елизавета Ивановна, урожденная Аничкова, также происходила из дворянской военной семьи. Она вышла замуж за И. И. Ореуса в 1860 г. Иван был четвертым ребенком в их браке, трое детей, родившихся до него, умерли в детстве. Елизавета Ивановна скончалась 28 февраля 1891 г., когда Ивану было тринадцать лет. В семье осталось двое – 60-летний отец и сын-подросток, главный и, по сути, единственный объект его любви, заботы и попечения. Между ними сложились очень близкие и доверительные отношения. Как сообщает в биографическом очерке М. Будагов, И. И. Ореус-отец «живо интересовался ‹…› литературою и вообще искусством. Писателей он ценил большею частью прежних; обладая огромной начитанностью, знал наизусть много стихов и охотно читал своим проникновенным голосом лучшие произведения. Сам очень недурной поэт, он глубоко ценил русские народные песни, с большим вкусом и пониманием напевал их и другие музыкальные произведения в тесном семейном кругу».[10] Вместе с тем рано обозначившиеся художественные и философские устремления сына, направленные в сферу новейших исканий, характерных для последних десятилетий XIX века и отмеченных печатью «декадентства», индивидуализма, психологического надлома и изощренных чувствований, оказывались для отца, с его последовательным консерватизмом в общественных, нравственных и эстетических воззрениях, едва ли близкими или даже понятными. С другой стороны, очень многое воспринятое от отцовского консерватизма стало плотью и кровью Ивана Коневского.
В анонимном кратком биографическом очерке «Иван Коневской. Сведения о его жизни» (в примечании указывается, что эти сведения «сообщены близким родственником покойного») Ореус-отец писал о ранних годах жизни будущего поэта: «Выучившись на 7 году читать, он с жадностью бросился на книги, которые с тех пор стали его любимым развлечением. К игрушкам он не имел никакой склонности, да и к играм со своими сверстниками относился довольно безучастно. Родители имели возможность дать ему порядочное образование. Еще дома он основательно выучился французскому и немецкому языку и много читал на них. Менее основательно, но достаточно, овладел он позднее английским. Читая очень много, Коневской перечитал едва ли не всю художественную литературу на этих языках за два последних столетия. Скандинавских и итальянских писателей он читал в немецких переводах».[11]
Говоря об отсутствии у сына-подростка интереса к игрушкам и к обычным в отроческом возрасте увлечениям, генерал Ореус не упомянул о том, что игровой стихии его сын не оставался вовсе чужд: она воплотилась для него в области активно развитого воображения, питавшегося, безусловно, главным образом познаниями и впечатлениями книжного происхождения. Наглядное тому подтверждение – сохранившаяся среди бумаг Коневского объемистая тетрадь, озаглавленная «Краткие сведения о великих людях Росамунтии XIX века. В виде словаря» и датированная 1893 годом: автору «словаря» – 16 лет.[12] Налицо – по всем параметрам еще детская игра уединенного творческого сознания: создание параллельного мира, по аналогии с миром, воспринимаемым в реальности, и попытка очертить контуры его истории и культуры, проецируемые на новейшую историю и культуру России. И вместе с тем – уже вполне «взрослая» по затрачиваемым усилиям и серьезности подхода установка на тотальность и фактографическую точность описания воображаемой действительности, на всеобъемлющий энциклопедизм в реконструкции никогда не бывших событий и никогда не существовавших лиц. «Краткие сведения…» включают «Адрес-календарь города Ванчуковска» – список названий учреждений и их адресов, «Алфавитный список великих людей Росамунтии XIX века», свод справочных сведений об этих «великих людях», запечатленных в карандашных рисунках – профильных портретах (две сотни имен): «43. Граф Петр Алексеевич Габушин. Родился в 1852 г. в г. Татанцах на Муклясе (Новая-Литва)»; «97. Роман Иванович Клювский. Родился в 1810 г. в Николаинске (Зеленоморье), † в 1874 г. в усадьбе Лядвонском (Светозарщина, Ров-Ровенского провинца)» и т. д. В 1896 г. в России стараниями многих ученых было начато издание многотомного «Русского биографического словаря»; за три года до этого начинания юный Иван Ореус пытался усилиями своей неуемной фантазии создать нечто подобное применительно к Росамунтии.
Большинство измышленных фантомов фигурирует в «словаре» без развернутой биографии, однако таковой удостоился Алексей Жданомирович Авизов: «Родился 16 мая 1832 г. в Ванчуковске. Один из величайших росамунтских романистов. Считается основателем “бытовой” или “естествоиспытательской” школы в росамунтской письменности, школы, которая, по выражению Сахарина, служит соединяющим звеном между “государственно-мудролюбским” направлением Ванцовского кружка годины Великого Возрождения Росамунтии и романистами-душесловами восьмидесятых годов. Сущность направления авизовской школы заключается в том, чтобы рисовать в романах точное воспроизведение быта той или другой среды общества, причем отдельные члены этого общества рассматриваются исключительно как произведения этой среды, и потому рисуется только общий характер среды, а ни в каком случае характеры отдельных ее членов, которые интереса представлять не могут, по отсутствию в них разнообразия и тождественности их с общим характером среды. ‹…› Эта школа “бытовая” или “естествоиспытательская” во Франции имеет главным своим представителем Золá, но не следует думать, чтобы Авизов был его рабским последователем, напротив, он скорее является его предшественником, потому что наибольшей славы Золá достиг в семидесятых годах, Авизов же – в шестидесятых. Между прочим у Авизова почти вполне отсутствуют знаменитые цинично-грязные описания романов Зола. Если сцены, поддающиеся такому описанию, и не особенно редко встречаются в романах Авизова, то он их всегда описывает для всех понятными, но прикрытыми дымкой выражениями, никогда обнаженными и непристойными, потому что у Авизова есть художественное чутье, часто отсутствующее у позднейших романистов, называющих себя “авизовцами” – графа П. А. Габушина, О. Г. Наволосова и др». Далее следует развернутая характеристика повествовательной манеры росамунтского предшественника-антагониста Эмиля Золя, называются десять главнейших его романов с обозначением годов написания, приводятся и «библиографические» справки: «(См. об этом у Сахарина “Течения росамунтской письменности XIX века”, гл. V)». Очерчивая биографию росамунтского классика, составитель словаря предается неумеренной фантазии, замыкаемой, однако, в строгие рамки надлежащего энциклопедического стиля: «Его отец был какой-то загадочной личностью, вероятнее всего какой-нибудь еврей. Он неведомо откуда пришел в 1827 г. в Ванчуковск, называл себя Жданомиром Авизовым, неизвестно к какой народности принадлежал, а по религии – был из последователей сведенборгианской секты. По-видимому, он был совсем беден; но в Ванчуковске он завел букинистическую торговлю, где он продавал по высокой цене самые редкие и дорогие книги и эстампы, которых он приобретал, где только мог. Уже через три года он обладал чуть ли не миллионным состоянием. ‹…› Сыну своему, Алексею, он дал прекрасное домашнее воспитание и общее образование под руководством лучших преподавателей ванчуковских гимназий. Кроме того, до 12 лет молодой Авизов не принадлежал ни к какой религии, в 12 лет отец ему начал растолковывать сведенборгианское учение, а в 15 лет Алексей окрестился по сведенборгианскому обряду, как бы из личного убеждения», и т. д.[13]
Столь же серьезный, ответственный и даже педантичный подход, продемонстрированный применительно к сугубо игровому начинанию, отличает и все другие интересы и задания, которые ставит перед собою Иван Ореус в ходе своего уединенного, планомерного и методичного самообразования. В его архиве сохранились тетради со списками прочитанных книг и статей (с сентября 1894 г. и до конца жизни),[14] в которые были включены также упоминания отдельных рассказов и стихотворений, в рубрике «Театр (с осени 1994 г.)» – перечни увиденных спектаклей и посещенных театров, а также различные регистрационные заметки («Прочитанные мною “Sonnets by Dante Gabriel Rossetti” – перечень, «Разобранные мною стихотворения Shelley» – перечень, «Впечатления в мире музыки и театра» и т. п.). Там же – объемистая тетрадь «Книга материалов (выдержки из сочинений разных авторов). Часть I. Начата зимою 1892 – 93 гг.»[15] В начале ее – предуведомление: «В эту книгу я записываю все, что в читаемом поражает меня. Поэтому я сюда записываю не только те мысли, которые мне симпатичны, но все вообще мысли, которые мне кажутся замечательными, оригинальными, достойными запоминания, иногда – хотя бы для того, чтобы впоследствии их опровергнуть, как главный оплот мнений, которым я не сочувствую. Вообще, эта книга недаром названа мною “книгою материалов”. Я не раз воспользуюсь записанными в ней замечательными человеческими мыслями для обсуждения их в будущих моих сочинениях. И. Ореус».[16] Записи в тетради рубрицированы по алфавиту – подобно телефонной книге, с обозначениями букв справа по срезу листов; они включают пространные и/или многочисленные выписки из ряда авторов: Бьёрнсон, Бодлер, Волынский, Гёте, Ибсен, Фридрих Альберт Ланге («История материализма»), Метерлинк, Ницше, Сюлли-Прюдом, В. Розанов, Вл. Соловьев, Тэн, Л. Толстой, Шиллер. Завершают тетрадь указатель: «Оглавление. Список авторов выдержек. Вопросы и мотивы, затронутые в выдержках», – а также «Добавочные страницы, присоединенные к целому за недостатком места в некоторых рубриках». Отнюдь не всякий печатный компендиум оказывается составленным и организованным столь тщательно. Та же систематика выдержана в части 2-й «Книги материалов», начатой летом 1894 г.[17]
Приведенное предуведомление к «Книге материалов» сопровождено авторским примечанием: «Начато по совету Ипполита Александровича Панаева».[18] Жена И. А. Панаева была крестной матерью Коневского, с семейством Панаевых юный Иван Ореус общался с самых ранних лет и подолгу гостил в их имении в селе Михайловском. И. А. Панаев (1822–1901), двоюродный брат известного прозаика, поэта и журналиста И. И. Панаева, также оставил свой след в литературе: в 1840 – 1850-е гг. был сотрудником журнала «Современник», напечатал там несколько рассказов и роман «Бедная девушка», а также был причастен к созданию романов Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света» и, возможно, «Мертвое озеро»,[19] переписывался с Н. А. Добролюбовым, оставил воспоминания о Некрасове.[20] В последующие годы он заинтересовался философией, в результате чего появилось его двухтомное компилятивное сочинение «Разыскатели истины» (СПб., 1878), посвященное в основном изложению философских воззрений Канта, Фихте и Фридриха Генриха Якоби (философия чувства и веры последнего была особенно близка ее толкователю), а затем книги «Пути к рациональному мировоззрению» (ч. 1–2. СПб., 1880), «Свет жизни. Неотразимые факты и мысли» (ч. 1–2. СПб., 1893) и др. Панаев отрицательно относился к новейшим «научным веяниям», к позитивизму и критической философии, отдавая предпочтение христианско-моралистическим ценностям. Рано пробудившиеся у Коневского интересы к области отвлеченного умозрения были в значительной мере стимулированы общением с Панаевым и определенно формировались под влиянием взглядов и оценок наставника. Любопытно, что в числе источников, по которым он знакомился с философией Спинозы и Фихте, Коневской указывает книгу Г. Гейне «К истории религии и философии в Германии»: именно ее называет Панаев как давшую первотолчок к его философским штудиям;[21] что же касается Фихте, то, помимо названной книги Гейне, Коневской отмечает, что «знаком с ним: 1) по беседам Ип. А. Панаева».[22] Беседы с Панаевым и, возможно, чтение его книг могли отразиться на той убежденной и последовательной апологии христианства, которую Коневской развивал в гимназические годы: в христианском мировоззрении и вероучении он неизменно видел исходный творческий импульс для личностного и общественного совершенствования.[23]
С осени 1890 г. тринадцатилетний Иван Ореус, получавший первоначальное образование дома, был зачислен в 3-й класс 1-й петербургской гимназии,[24] которую закончил в 1896 г., выказав, как было зафиксировано в его аттестате зрелости, любознательность, «особенно выдающуюся по занятию словесными науками, в которых он приобрел самостоятельным в значительной степени трудом замечательный для его возраста запас знаний».[25] В гимназическую пору уединенный образ жизни, который вел будущий поэт в ранние отроческие годы, восполнился дружескими контактами в среде сверстников-гимназистов. В этот дружеский круг входили Алексей Веселов, Николай Беккер, Сергей Розанов, Алексей Каль – в будущем известный музыковед, братья Билибины – старший, Иван, впоследствии прославленный художник, окончивший 1-ю гимназию в один год с Коневским, и младший, Александр, окончивший ее двумя годами позднее, – наиболее близкий друг Коневского и в университетские годы. На почве этих связей возник неформальный кружок гимназистов, объединявшийся вокруг Ф. А. Лютера, преподавателя древних языков в 1-й гимназии, оказавшего на формирование личности Коневского существенное влияние (ему поэт посвятил четыре стихотворения). Видимо, и Лютер выделял из общей среды пытливого и начитанного гимназиста (Коневской зафиксировал 29 октября 1893 г. – уже на второй месяц обучения – его слова: «Ф. А. Лютер мне: Вы сознательнее остальных относитесь к своим поступкам»[26]).
«Что касается правдивости, то она составляла существенную черту в душе юноши, – в унисон со словами Лютера пишет Ореус-отец в биографическом очерке о сыне. – Он просто не умел лгать: всякая ложь возбуждала его к протесту. В гимназии это повело его ко многим выходкам, напоминающим подвиги Дон-Кихота. Сохранилась карикатура, нарисованная одним из гимназических товарищей Коневского. Он изображен в виде жреца, сжигающего на жертвеннике разные подстрочники, шпаргалки и другие приспособления для обмана учителей. В гимназии Коневской скоро был ознакомлен товарищами с теорией эротических наслаждений, но на деле сохранил целомудрие духа и тела и до конца недолгих своих дней остался девственником».[27]
Резко контрастировавший с большинством своих сверстников буквально по всем личностным параметрам, гимназист Ореус, однако, пользовался симпатией и уважением по крайней мере в том сравнительно узком кругу, который был обозначен выше. Братья Билибины и другие друзья его юности отдавали должное незаурядности таланта и ума влекущегося к серьезному творческому самоопределению начинающего поэта-мыслителя, и сам он ценил эти контакты, позволявшие преодолеть замкнутость, отрешенность и почти болезненную застенчивость, неприспособленность к нормам «светской» жизни. «В обществе малознакомых или малосимпатичных ему людей был он большею частью молчалив, – вспоминает Ореус-отец. – К житейским условностям и так называемым приличиям он относился весьма равнодушно. Надо было всегда, чтобы чья-нибудь дружеская рука заботилась о его туалете. Когда он занят был своими мыслями, иногда он, по-видимому, забывал, где находится. Даже на улице начинал он рассуждать сам с собой, смеялся, жестикулировал. В большом обществе ему случалось быть очень неловким и почти смешным».[28] Именно неловкость и внутренняя скованность юного Ореуса обращали на себя основное внимание при первых встречах с ним. Один из характерных в этом отношении эпизодов обрисовывает в своих воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич, близкая подруга Марии Станюкович, одной из дочерей писателя К. М. Станюковича (дочери Станюковича были троюродными сестрами братьев Билибиных). В ноябре 1896 г. Билибины «прихватили с собой своего друга студента-поэта И. И. Ореуса, пояснив нам, что они никогда с ним не расстаются: “Иван Иванович, как, впрочем, и полагается поэту, так рассеян и так не приспособлен к практической жизни, что ни на минуту не может быть оставлен без самой бдительной опеки: предоставленный самому себе, он, наверное, натворил бы всяких бед”.
Смущенный такой рекомендацией, Иван Иванович вошел в гостиную в галошах. Его приятели были, разумеется, очень довольны тем, что он не замедлил подтвердить их характеристику.
– Иван Иванович! – сказал наставительно Ал<ексан>др Яковлевич Билибин. – Калоши принято оставлять в прихожей.
Переконфуженный Ореус бросился обратно и, вернувшись уже без галош, направился в угол к печке, не оглядываясь по сторонам и словно никого не замечая. Может быть, он надеялся таким образом и сам остаться незамеченным. Но, конечно, взоры всех присутствующих были с любопытством обращены на него.
– Иван Иванович, – вступился на этот раз Иван Яковл<евич>, – когда входят в дом, здороваются с хозяевами… – И он подвел вконец смущенного и растерянного Ореуса – сначала к бабушке, сидевшей в кресле у лампы и от души смеявшейся над комическим entrée трех приятелей, затем к маме и ко всем остальным».[29]
Домашние собрания зимой 1896–1897 гг. в гостиной семьи Яфа на Захарьевской улице, на которых подруги-барышни (О. В. Яфа, сестры Станюкович, Ольга Пассек, Ирина Шохор-Троцкая и др.) весело и непринужденно общались с «синклитом беснующихся» (как аттестовали себя Билибины, А. Каль и Иван Ореус в подписи к их групповой фотографии[30]), стали местом обретения поэтом Иваном Коневским своей аудитории. «Он никогда не начинал сам, – вспоминает Яфа-Синакевич, – но и не отговаривался, когда его друзья ‹…› заявляли, что у Ивана Ивановича есть новые стихи. Судорожно охватив пальцами одно колено и ни на кого не глядя, он читал со странным напряжением, как бы выталкивая из себя слова (это и вообще была его манера говорить), – иногда повышая голос до пафоса. Эта необычная манера казалась нам забавной, и, каюсь, мы зачастую, переставая вникать в смысл и содержание его стихов, – всегда глубоких и тонких, всегда искренних и далеких от всякой приторной банальщины, – с трудом сдерживали смех. А между тем, все мы и тогда уже не могли не чувствовать и не ценить в нем совсем особенного большого человека, отмеченного печатью крупного, своеобразного таланта и одаренного красивой, благородной и кристально чистой душой».[31]
По свидетельству отца, «наклонность к литературному творчеству стала проявляться у Коневского с ранних отроческих лет. Сохранились его тетради от того времени, когда ему было лет 10–12, наполненные стихами и размышлениями в прозе».[32] Ныне существующий архивный фонд Коневского, сложившийся в основном из рукописных материалов, которые были востребованы в ходе подготовки посмертных изданий его сочинений, не содержит опытов, относящихся к концу 1880-х гг.; видимо, эти автографы остались в собрании Ореуса-отца и после его кончины (22 мая 1909 г.) были утрачены.[33] Самые ранние из сохранившихся опусов сосредоточены в тетради «Стихотворения И. Ореуса, написанные им с августа 1890 г.»[34] Наряду с оригинальными, его стихотворные произведения первой половины 1890-х гг. включают переводы из Гёте, Ибсена, из «Стихов философа» французского мыслителя Жана Мари Гюйо, оказавшего значительное воздействие на идейное формирование начинающего автора. Особенно активно Коневской стал предаваться стихотворчеству в университетские годы, именно тогда он вполне определился как поэт, выработал свою оригинальную стилевую манеру и очертил круг волнующих его тем и мотивов.
Иван Ореус поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета осенью 1896 г. – на классическое отделение (определенно под влиянием общения с Ф. А. Лютером), затем перешел с него на славяно-русское, которое и закончил весной 1901 г. Он слушает лекции крупнейших ученых того времени – университетских профессоров С. Ф. Платонова (русская история), Н. И. Кареева (средняя и новая история), А. И. Введенского (история древней философии, логика, психология), И. И. Холодняка («Энеида», Юлий Цезарь, Овидий, «Анналы» Тацита), В. К. Ернштедта (Аристофан, Пиндар, Платон, Аристотель), С. К. Булича (введение в сравнительное языкознание), И. Н. Жданова (история русской литературы), Ф. Ф. Зелинского (Цицерон, Гораций, римские древности), Ф. А. Брауна (история западноевропейских литератур), В. И. Ламанского (введение в славяноведение) и др.[35] В филологических штудиях студента Ореуса отражается его общая устремленность к разработке философских проблем; в русской литературе его влекут к себе всего более поэты-мыслители: соответственно темы его университетских зачетных сочинений – «Судьба Баратынского в истории русской поэзии» и «А. В. Кольцов (личная его природа и строй мыслей)». Примечательно, что эти – по своему назначению экзаменационные – работы по стилю и строю рассуждений существенно не отличаются от тех аналитических этюдов и заметок на философские темы, в которых юный поэт пытался определить контуры собственного миросозерцания.
Дополнительный стимул этим философическим устремлениям могло дать его участие в «Литературно-мыслительном кружке», куда он был введен новообретенным старшим другом С. П. Семеновым – студентом юридического факультета Петербургского университета, погруженным в философскую проблематику (Коневской познакомился с ним в имении Панаевых летом 1896 г.). Как сообщает в своей работе о Коневском Н. Л. Степанов (консультировавшийся при ее подготовке с еще здравствовавшими друзьями покойного поэта), «наиболее активное участие Коневского в кружке относится к 1896–1897 гг., когда он был его секретарем. Членами кружка состояли: Г. Л. Борейша, М. А. и С. А. Елачич, И. Я. Билибин, В. Р. Менжинский, Б. Э. Нольде, Ф. Д. Попов, С. П. Семенов, Н. М. Соколов, П. Ц. Дорф (Зимницкий), П. П. Конради, А. М. Рыкачев, Ф. А. Лютер и др., заседания происходили поочередно на квартирах участников кружка».[36] В записях Коневского о заседаниях кружка в сезон 1896–1897 гг. зафиксированы три его собственных реферата («О красоте в движении» – 14 октября, «О современной русской лирике» – 17 и 25 февраля), а также 13 выступлений его товарищей по этому объединению.[37] В собрании Н. Л. Степанова отложились сделанные им записи рассказов С. П. Семенова о деятельности кружка; в них, в частности, отмечается: «У Ореуса была видна аполитичность, чтó было чуждо некоторым участникам; был чужд сперва своеобразный стиль его изложения и подчеркивание значения эстетического момента. Ореус относился ко всем занятиям кружка с полным интересом, споры вел исключительно на идейной почве»; «Во время спора И. И. всегда с полным вниманием относился к высказываниям собеседника (противника) и интересовался малейшими оттенками его мысли, стремился вполне понять и усвоить противоположные мнения. И затем (по окончании спора) останавливался на этих противоположных воззрениях, стараясь детально определить отношение их к своим взглядам, к проверке их». Среди большинства участников «Литературно-мыслительного кружка» преобладали исторические и социологические интересы, Коневской же больше тяготел к отвлеченному философствованию и эстетическому анализу. Этим его склонностям, видимо, в большей мере удовлетворяли собрания, которые организовывал Я. И. Эрлих, студент историко-филологического факультета в 1894–1899 гг. и мыслитель мистического склада.[38]
Расширение круга общения в университетские годы и переход к ранней духовной зрелости существенным образом не изменили индивидуальность Коневского, какой она определилась в гимназические годы. Его однокашник по университету С. К. Маковский (впоследствии поэт и видный художественный критик, редактор журнала «Аполлон») вспоминал: «Товарищ он был на редкость обаятельный. Правдив, отзывчив, добр, деликатен. Понравился мне сразу и манерами, и всей внешностью…» И он же отмечает те черты, на которые было обращено внимание в простосердечных, но, по всей видимости, точных по существу записях О. В. Яфы: «Среди студентов за ним установилась репутация необычайно одаренного чудака. Какой-то уж очень особенный. И образован неправдоподобно, и застенчив до обморочной растерянности, и дерзостно смел в самоутверждении, и целомудрен, как красная девица. ‹…› Конфузливость его и рассеянность вызывали насмешки, но не делали его беззащитно-ручным. Ласковый к людям, внимательный ко всякой чужой боли, в то же время он никого не подпускал к себе на слишком короткое расстояние, даже ближайших друзей: ограждал пуще всего свое умозрительное одиночество».[39]
Уединенная духовная работа Коневского шла с той же методичностью и с тем же стремлением к освоению и истолкованию всего доступного ему культурного универсума, с какими он ранее пытался описать лица и события в воображаемой Росамунтии. В любой возникающей совокупности разрозненных историко-культурных реалий он пытается обнаружить системное, объединяющее и регулирующее начало, в рамках каждой темы или проблемы, на которую оказывается обращено его внимание, тяготеет к обзорной всеохватности. Так, выступлениям в «Литературно-мыслительном кружке» соответствует большая обзорная статья «Стихотворная лирика в современной России» (1897), посвященная разбору поэтических книг, появившихся за последнее десятилетие и позволяющих, с точки зрения автора, создать наиболее адекватное представление об эстетических достижениях и философских устремлениях новейшей русской поэзии, – сборников Н. Минского, К. Фофанова, Ф. Сологуба, А. Добролюбова, Д. Мережковского и Вл. Соловьева.[40] Аналогичный опыт – «Стихотворная лирика в современной французской поэзии», обширная статья, писавшаяся осенью 1897 г.: в ней давалась суммарная аналитическая характеристика творческих индивидуальностей Жюля Лафорга, Эмиля Верхарна, Анри де Ренье (эти авторы почти не были тогда известны в России даже по именам).[41] Общий план задуманного обзорного сочинения «Современная французская поэзия» предполагал развертывание гораздо более широкой панорамы – по рубрикам «Лирики и драматурги» (10 имен), «Эпики (прозаики)» (10 имен), «Критики» (7 имен).[42] Сходный по широте привлекаемого материала замысел – «Борьба между христианством и язычеством в современной Европе»; раскрытие темы намечалось в трех разделах: «I. Достоевский и Л. Толстой. II. Ибсен и Ницше. – Мережковский. III. Метерлинк, Ростан и др. – Тютчев, Алексей Толстой и Фет» (сокращение «и др.» проясняется в подстрочном примечании: «Французские язычники-парнасцы: Флобер, Мопассан, Леконт де Лиль, Эредиа, Ренан, Тэн, Баррес; Бодлэр, Сюлли-Прюдомм»).[43]
В этих и в ряде других творческих проектов, реализовавшихся лишь в малой мере, фигурируют десятки имен писателей, философов, композиторов, живописцев, о каждом из которых у Коневского, безусловно, была выработана своя точка зрения, сформулирована своя концепция или по меньшей мере ожидала своей формулировки. Изобилие привлекаемых имен отнюдь не означает, что Коневской в своих опытах освоения культурного пространства был всеяден; аналитические характеристики у него очень часто дополнялись оценочными, притом весьма пристрастными. При всей изначальной толерантности, с какою он подходил к восприятию разнородных идей, концепций и эстетических явлений, неизменно сказывалась его приверженность постулатам идеалистической философии и ее многообразным преломлениям в художественном творчестве.[44] Соответственно, материализм, позитивизм, «научный» мессианизм второй половины XIX века вызывали у него неприятие и отторжение. В одной из его рабочих тетрадей («Мысли, заметки (на память), наброски») зафиксирован любопытный хронологический перечень, озаглавленный «Мыслители, разрушившие для меня материализм и утвердившие во мне уверенность в бессмертии души»; открывается он записью, отнесенной к 1892–1893 гг.: «Naville[45] и вообще – рассуждения Ип. Ал. Панаева»; далее следует: 1893–1894 гг. – Шиллер, Кант, 1894 – 95 г. – Л. Толстой, Достоевский, Ибсен. Затем список расширяется: весна и лето 1895 г. – Сюлли-Прюдом, проф. Н. И. Кареев, К. Фламмарион, Ж. М. Гюйо; осень и зима 1895 г. – поэты Н. Ленау, Тютчев, А. К. Толстой, Н. Ф. Щербина, Д. Г. Россетти, К. Д. Бальмонт, П. Б. Шелли, норвежский прозаик А. Гарборг, спиритизм (журнал «Ребус»); наконец, зима 1896 г. – А. Л. Волынский (и В. Вундт в его изложении), Д. С. Мережковский, Вл. Соловьев, М. Метерлинк, Э. По, философ Л. М. Лопатин и приверженец спиритизма К. Дю Прель.[46]
«Разночинная» эпоха в русской литературе и общественной мысли XIX века с ее прямым или опосредованным утверждением материализма осмысляется Коневским как провал и в идейном, и в эстетическом плане, как время торжества ложных ценностей. В той же тетради содержатся его записи, в которых русские писатели XIX века разделены на три поколения. Классики различного калибра, от Тургенева, Л. Толстого и Некрасова до Щербины, Мея и Плещеева, безусловно им почитаемые, – «всё люди, родившиеся около 1820 г. или между 1820 и 1830 годом». «Любопытно, – заключает Коневской, – что поколение, родившееся в России между 1830 и 1850 г. (это, значит, именно люди 60-ых гг. и 70-ых гг.), не дало России ни одного великого поэта или прозаика ‹…› Типичные представители поколения, родившегося между 1830 и 1850 гг.: Добролюбов, Писарев, Чернышевский (хотя он родился в 1828 г.), Михайловский, Скабичевский, Гл. Успенский, Златовратский, Помяловский, Шеллер, Засодимский и др. Единственные проблески истинной художественности среди ровесников этого сброда явил[47] родившийся в 1840 году Апухтин (поэтому и молчавший в течение всего периода 60-ых, а почти что и всех 70-ых гг.). Только в самом конце этого периода в 1848 г. рождается тоже истинный поэт Голенищев-Кутузов. Зато в периоде между 1850 и 1870 гг. рождаются уже такие поэты, как Короленко (1853), Гаршин (1855), Минский (1855), Надсон (1862), Фофанов (1862), Мережковский (1865), Бальмонт (1868)».[48] Последнее, третье поколение русских писателей, по убеждению Коневского, с большей или меньшей устремленностью и сознательностью возрождает прерванную традицию художественного идеализма, и среди своих старших современников он выделяет именно их, хотя и не всех оценивает в равной мере высоко.
Книжные штудии восполнились у Ореуса-студента в летние каникулярные месяцы 1897 и 1898 гг. чрезвычайно яркими и познавательными впечатлениями, почерпнутыми в ходе двух продолжительных заграничных путешествий: в июне – июле 1897 г. он посетил Австрию, Баварию и Германию (побывал в Вене, Зальцбурге, Мюнхене, Нюрнберге, обошел пешком несколько областей Тюрингии), в июне – июле следующего года приплыл на пароходе из Петербурга в Любек, осмотрел Кёльн, совершил путешествие вверх по Рейну, ознакомился с горной Швейцарией и Северной Италией. Свои переживания и размышления, вдохновленные знакомством с Западной Европой, он отразил в целом ряде стихотворений, а также в прозаических этюдах и набросках, значительная часть которых вошла в разделы «Видения странствий» и «Умозрения странствий» его книги «Мечты и Думы». Эмоционально насыщенные описания увиденного и прочитанного сочетаются в этих текстах с аналитическими пассажами, в которых сказывается попытка распознать за явлениями сущность, увидеть в частном и случайном отображение общего и закономерного.
Дебют поэта в печати состоялся в 1896 г.: в ноябрьском номере журнала «Книжки Недели» за подписью «И. Ореус» был опубликован его сонет «Снаряды». Но полноправного вхождения девятнадцатилетнего автора в литературу тогда не произошло. Еще ранее, 31 июля 1896 г., он отправил в редакцию журнала «Северный Вестник» (для Н. Минского) два стихотворения («На лету» и «Меж нив»),[49] последствий это не возымело. Определенным препятствием на пути Коневского в литературные сферы была его пресловутая некоммуникабельность, оказывавшаяся непреодолимой при попытках наладить даже самые формальные литературные связи. «Какое же чудило ваш протеже Коневской», – передает С. Маковский слова Дягилева, рассказавшего ему о курьезном появлении в редакции «Мира Искусства» поэта, который умудрился сесть мимо стула на пол и тут же ретировался, так и не произнеся ни слова и не оставив рукописей.[50] Сходный эпизод припоминает П. П. Перцов: «Застенчив Коневской был до того, что, придя ко мне ‹…› переговорить об издании его сборника, он от смущения не мог ничего сказать, не закрывая лица руками, как красная девица, – и, наконец, повернулся ко мне спиной, потому что только в такой позе мог еще поддерживать связную речь». «В то же время, – продолжает Перцов, – он был абсолютно уверен в каждой своей строке, в каждом своем слове и не допускал никакого разговора о возможных переменах в написанном им». В Коневском, по мысли Перцова, ярчайшим образом воплотился «тип самозамкнутых и самовлюбленных одиночек»[51] – весьма характерный для ранних приверженцев индивидуалистического символизма в России. Болезненная неконтактность в сочетании с глубокой и упорной внутренней самоуверенностью – эти психологические особенности, конечно, не способствовали адаптации поэта к той среде, в которой могли по достоинству оценить его дарование.
Литературные знакомства Коневского стали завязываться лишь после встречи и сближения с Владимиром Васильевичем Гиппиусом, также студентом историко-филологического факультета и начинающим поэтом, исповедовавшим эстетизм и «декадентское» миросозерцание наряду со своим другом и гимназическим товарищем Александром Добролюбовым, выпустившим в свет в 1895 г. одиозный сборник «Natura naturans. Natura naturata».[52] Осенью 1898 г. Гиппиус стал приводить Коневского на поэтические собрания у Ф. Сологуба. К этой поре относится сообщение в письме О. В. Яфы к М. К. Станюкович: «Ореус преуспевает ‹…› говорят, недавно он читал свои стихи пред лицом Бальмонта, Минского и других поэтов, и был ими признан большим талантом».[53] Тогда же Коневской стал устраивать по вторникам аналогичные собрания у себя на квартире. По свидетельству Маковского, «посещала их по преимуществу молодежь с писательским зудом, но приходил кое-кто и из литераторов постарше: вспоминаются постоянно бывавшие Федор Кузьмич Тетерников (Сологуб), Д. Н. Фридберг и Владимир Гиппиус. Сам хозяин (на этих собраниях вижу его за столом – на председательском месте – в узенькой столовой) читал нам свои статьи, затрагивавшие всевозможные литературные и философские вопросы, но чаще – стихи».[54]
На квартире у Сологуба 12 декабря 1898 г. впервые увидел Коневского и услышал его стихи Валерий Брюсов. «Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт», – записал он тогда в дневнике.[55] После возвращения Брюсова в Москву между ним и Коневским завязалась интенсивная переписка. Брюсов выказал себя горячим, убежденным поклонником творчества молодого петербургского автора, которое стал всячески пропагандировать в своем московском окружении.[56] В лице Брюсова Коневской обрел не только благодарного читателя и интересного собеседника-корреспондента, но и деятельного, инициативного литератора, который готов был по мере собственных сил содействовать публикации и распространению его произведений. Вместе с Брюсовым Коневской работал над формированием «Собрания стихов» Александра Добролюбова (весной 1898 г. покинувшего Петербург и начавшего странническую жизнь в народной среде); книга вышла в свет в только что основанном символистском издательстве «Скорпион» (М., 1900) с двумя предисловиями – Брюсова и Коневского («К исследованию личности Александра Добролюбова»). В основном благодаря энергичному содействию Брюсова Коневской вписался в круг писателей-символистов, к которому влекли его собственные эстетические склонности уже в течение ряда лет. Н. Л. Степанов приводит его подробную регистрационную запись (1896–1897), начинающуюся фразой: «История моего знакомства с сущностью символизма: 1893 г. летом в Павловске» – и далее следуют перечни произведений Ибсена, Метерлинка, Россетти и критических интерпретаций З. Венгеровой, Минского, Мережковского, Бальмонта, Брюсова и др.[57] О том, что «сущность символизма» не сводилась для Коневского к литературно-художественным явлениям, народившимся и возобладавшим в конце XIX века, а осмыслялась расширительно, свидетельствует упоминание в этом перечне поэтов более раннего времени – Шелли, Ленау, Тютчева, Фета, Щербины. Малый круг имен новейших писателей и обновителей художественного слова вписывался для него в гораздо более широкий круг, который был представлен поэтами минувших эпох, обогатившими литературу своими опытами подлинно символистского мировидения.
Приобщение сына уважаемого в общественных верхах генерал-лейтенанта Ореуса к «декадентскому» сонмищу, которое вызывало тогда едва ли не повсеместное отторжение и негодование, побуждало скрыть эту «компрометирующую» связь под литературным псевдонимом. В словаре великих людей Росамунтии зафиксирована фамилия «Коневецкий», она же занесена в записную книжку за 1897 г. как псевдоним автора упоминавшейся выше обзорной статьи: «Иван Коневецкий. Современная русская лирика».[58] В письме к Брюсову от 23 июня 1899 г. фигурирует заглавие подготавливаемой книги «Мечты и Думы Ивана Коневского»,[59] однако десять дней спустя, в письме к А. Я. Билибину от 2 июля, указывается другой псевдоним: «Мечты и Думы Ивана Езерского».[60] В конце концов Иван Ореус решил выступать в печати под именем Ивана Коневского, хотя, по свидетельству Брюсова, он впоследствии сожалел, что не предпочел личину Ивана Езерского.[61] Псевдоним восходит к названию острова Коневец на Ладожском озере, известного находящимся на нем мужским монастырем. Остров располагается в географической сфере пересечения и взаимодействия скандинавских и русских влияний; для поэта – исконного петербуржца с родовыми шведскими корнями – его название соотносилось с представлением о собственной национальной и культурно-исторической идентичности. В стихотворении «С Коневца» (1898) он писал:
Я – варяг из-за синего моря, Но усвоил протяжный язык, Что, степному раздолию вторя, Разметавшейся негой велик.[62]Поэт Иван Коневской предстал перед читающей публикой, когда почти одновременно, в конце 1899 г., увидели свет его сборник стихов и медитативной прозы «Мечты и Думы», отпечатанный тиражом 400 экземпляров, и коллективный сборник «Книга раздумий», составленный из стихотворных циклов К. Д. Бальмонта, Валерия Брюсова, Модеста Дурнова и Ив. Коневского. Авторская книга Коневского заметного резонанса в печати не вызвала, можно было бы даже сказать – прошла незамеченной, если бы не появились два весьма критических отклика, один из них принадлежал былому сподвижнику, Вл. Гиппиусу.[63] «Книга раздумий», в которой был помещен цикл Коневского «От солнца к солнцу», удостоилась целого ряда рецензий, в основном выдержанных в характерном для тогдашней журналистики негативно-насмешливом тоне по отношению к писаниям «декадентов»; стихам Коневского соответственно досталось также в полной мере.[64] В книгу «Мечты и Думы» Коневскому не удалось включить (по недостатку средств, отпущенных на издание) объемный раздел, которому он придавал большое значение, – «Переводы стихов в прозе». Задача, которую ставил перед собой поэт, перелагая прозой на русском языке стихи и фрагменты из философских произведений, – «наиболее полная и яркая формула философского смысла главных современных настроений; весь выбор стихотворений и отрывков производился в виду этой цели».[65] Цикл переводов составили отрывки из произведений Алджернона Чарлза Суинбёрна, сонеты Данте Габриэля Россетти, фрагменты из книг Фридриха Ницше («Так говорил Заратустра», «Дионисовские дифирамбы») и Мориса Метерлинка («Сокровищница Смирения», «Мудрость и Судьбина»), стихотворения Анри де Ренье, Франсиса Вьеле-Гриффена, Эмиля Верхарна, а также отдельные вещи Ральфа Уолдо Эмерсона, Новалиса (из «Гимнов к ночи»), Гуго фон Гофмансталя, Гёте; о каждом авторе давалась краткая общая справка с указанием библиографических источников.[66] В 1900 г. Коневской предложил издательству «Скорпион» опубликовать эти переводы отдельной книгой, но благоприятного ответа не получил.[67]
После появления сборника «Мечты и Думы» литературные связи Коневского замкнулись исключительно на московском «Скорпионе», в котором ведущую роль исполнял Брюсов. В первом «скорпионовском» альманахе «Северные Цветы на 1901 год» (М., 1901) были напечатаны новые стихотворения Коневского, а также его полемическая статья «Об отпевании новой русской поэзии», содержавшая возражения на критическое выступление З. Гиппиус в «Мире Искусства». В следующем альманахе, «Северных Цветах на 1902 год», увидевшем свет в марте 1902 г., произведения Коневского – стихи и статья «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины» – появились уже посмертно. Безвременная кончина настигла поэта 8 июля 1901 г., в ходе очередного летнего путешествия, которое он предпринял вскоре по окончании Петербургского университета.
2
В записной книжке Коневского за 1897 г. зафиксировано предполагаемое заглавие задуманной им книги: «Чаю и чую. Гласы и напевы».[68] Позднее он предпочел вынести на титульный лист менее индивидуализированную, «объективную» формулировку: «Мечты и Думы», – однако сочетание двух фонетически близких глаголов в первом лице единственного числа также отображало содержание поэтического мира автора с исключительной точностью и лаконической полнотой.
Стихи Коневского – это прежде всего опыт личностного самовыражения, регистрация в ритмизованной форме раздумий на различные темы, как правило, самого общего характера и неизменно под отвлеченным, метафизическим углом зрения. «Коневской вовсе не был литератором в душе, – писал в статье «Мудрое дитя» Брюсов, сумевший узнать поэта при его жизни достаточно полно и глубоко. – Для него поэзия была тем самым, чем и должна быть по своей сущности: уяснением для самого поэта его дум и чувствований. Блуждая по тропам жизни, юноша Коневской останавливался на ее распутьях, вечно удивляясь дням и встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние, и силясь понять, что за бездна таится за каждым мигом. Эти усилия у него обращались в стихи. Вот почему у него совсем нет баллад и поэм. Его поэзия дневник, он не умел писать ни о ком, кроме как о себе – да, в сущности говоря, и не для кого, как только для самого себя. Коневскому было важно не столько то, чтобы его поняли, сколько, – чтобы понять самого себя».[69]
Второй глагол в формуле «Чаю и чую» аккумулирует в себе все те многоразличные формы эмоциональных и рациональных медитаций, посредством которых Коневской воспринимает и отображает в слове открывающийся ему мир. Но вместе с тем поэт и «чает» – пытается волевым усилием рефлектирующего сознания постичь этот мир в его целостности и внутренней противоречивости, провидеть за явлениями сущность, влечется к слиянию с всеединством. Внутренний драматизм, пронизывающий творческое самосознание Коневского, не связан непосредственным образом с обстоятельствами времени и места, обусловившими существование поэта, но продиктован самыми общими и непреходящими условиями метафизического свойства, осмысление которых составляло главное содержание его внутреннего мира. Тот же Брюсов правомерно усматривал в этой метафизической доминанте исключительную особенность творческой индивидуальности Коневского, отличавшую его от всех других поэтов его поколения, находившихся в орбите становящегося русского символизма: «Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, но просочились в его “мечты и думы”, и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком. Подобно всем своим сверстникам, деятелям нового искусства, Коневской искал двух вещей: свободы и силы. Но в то время как другие искали их в “преступлении границ”, в разрешении себе всего, что почему-либо считается запретным, будь то в области морали или просто в стихосложении, – Коневской взял вопрос глубже. Он усмотрел рабство и бессилие человека не в условностях общежития, а в тех изначала навязанных нам отношениях к внешнему миру, с которыми мы приходим в бытие: в силе наследственности, в законах восприятия и мышления, в зависимости духа от тела».[70] И далее Брюсов приводит фрагменты одного из стихотворений Коневского, в котором внутреннее «я» автора раскрывается со всей наглядностью:
В крови моей – великое боренье. О, кто мне скажет, что в моей крови? Там собрались былые поколенья И хором ропщут на меня: живи! <…..> Ужель не сжалитесь, слепые тени? За что попал я в гибельный ваш круг? Зачем причастен я мечте растений, Зачем же птица, зверь и скот мне друг? Но знайте – мне открыта весть иная: То – тайна, что немногим внушена. Чрез вас рожден я, плод ваш пожиная. Но родина мне – дальняя страна. <…….> Не только кость и плоть от кости, плоти – Я – самобытный и свободный дух. Не покорить меня слепой работе, Покуда огнь мой в сердце не потух. (С. 130–131)Это стихотворение написано в 1899 г. Но сходное по сути своей сочетание поэтических смыслов мы встречаем и во фрагменте, относящемся к 1894 г. – начальной поре творческого самоопределения Коневского:
Я с жаждой ширины, с полнообразья жаждой Умом обнять весь мир желал бы в миг один: Представить себе вдруг род, вид, оттенок каждый Всех чувств людских, и дел, и мысленных глубин. (С. 172)Рано сформировавшийся мир поэтических образов Коневского в дальнейшем не обнаруживает отчетливо выраженных признаков внутренней эволюции – и это особенно наглядно проявляется на фоне других мастеров, заявивших о себе в 1890-е гг.: каждая новая книга Бальмонта или Брюсова, изданная в это десятилетие, манифестирует собой новый этап творческого развития автора, преемственно связанный с предыдущим, но в то же время отмеченный именно ему одному присущими особенностями; даже Александр Добролюбов, ушедший в 1898 г. из прежней обиходной и литературной жизни, в своем «Собрании стихов» (1900), составленном из текстов, написанных до «ухода», обнаруживает существенно иные черты поэтической образности, чем те, которые были заявлены в его дебютной книге «Natura naturans. Natura naturata» (1895).[71] У Коневского же все стихи, написанные после выхода в свет книги «Мечты и Думы», могли бы органично вписаться в ее состав, войти в нее в виде дополнительного раздела или нескольких разделов. Безгранично расширив пространство своего поэтического мира до метафизической беспредельности и вместе с тем ограничив его параметрами рефлектирующего сознания, обращенного к самому себе, Коневской оставил для себя лишь одну возможность творческой самореализации – погружения в глубину собственной индивидуальности. Ранняя гибель поэта, сделавшего лишь первые шаги на поприще литературной деятельности, дает основания для сожалений о том, чему не суждено было воплотиться: «…когда заново знакомишься со стихами и прозаическими размышлениями Коневского ‹…›, чувствуешь, какой творческой силой сделался бы он, живи еще – ну хотя бы лет десять!»[72] «Какое направление приняло бы его творчество впоследствии – это тайна, унесенная с собой смертью», – осторожно замечает его отец.[73] Разумеется, нельзя отрицать возможности, роковым образом нереализованной, движения от себя самого, воплотившегося в «Мечтах и Думах», к себе другому; и вместе с тем нельзя не констатировать, что в единственной книге Коневского и в последующих опытах его творческая личность нашла законченное и многостороннее воплощение, предстала как определившаяся и четко очерченная система философско-эстетического мировосприятия. Трудно предугадать, повторим вслед за отцом поэта, какими существенно новыми сторонами она могла бы развернуться.
Цельность «чающей и чующей» натуры Коневского сказывается не только в том, что каждое из его стихотворных произведений являет ту или иную грань единой поэтической системы, но и в заведомо несуверенном статусе этой системы по отношению к более универсальной общности – всему комплексу творческих опытов автора. Все, что выходит из-под его пера, – это в конечном счете «думы»: стихотворения в той же мере «думы», что и прозаические этюды, философские изыскания, заметки о литературе, критико-аналитические обзоры, дневниковые записи и даже письма, адресованные духовно и житейски близким людям. Сочетание стихотворений и прозаических произведений в одной книге имело и до Коневского целый ряд прецедентов (ближайший по времени образчик – сборник Ф. Сологуба «Рассказы и стихи, кн. 2», изданный в 1896 г.), но именно в «Мечтах и Думах» оно предстает как форма реализации выстроенного в согласии с хронологическим принципом творческого дневника, воплощающегося в различных литературных формах. Центральный раздел книги, «Умозрения странствий», составлен из прозаических этюдов, распределенных по двум частям – соответственно 1897 и 1898 год, с примыкающей ко второй части статьей «Живопись Бёклина (Лирическая характеристика)», – в которых разворачиваются в различных формах медитативной прозы впечатления и размышления автора, вдохновленные двумя его летними путешествиями: природоописания соседствуют с эстетическими рефлексиями, порожденными современной нидерландской живописью, картинами Швинда, Бёрн-Джонса, Уоттса, Бёклина, росписями Владимирского собора в Киеве. Этот раздел книги еще обладает относительной самостоятельностью – рассекает на две неравные части раздел «Мельком», состоящий преимущественно из стихотворных текстов: подразделы I–V этого раздела предшествуют «Умозрениям странствий», подраздел VI замыкает книгу. Сдвоенный же («III. IV») подраздел в «Мельком», озаглавленный «Видения странствий» и столь же симметричный с «Умозрениями странствий» по содержанию и хронологическому членению (ч. 1 – «1897. Лето», ч. 2 – «1898. Весна и лето»), включает в себя стихотворения наряду с прозаическими этюдами; в их расположении друг за другом соблюден дневниковый принцип: последовательность отображенных в стихах и прозе «видений странствий» соответствует хронологическим вехам летних переездов автора. Если же принять во внимание, что в опубликованном варианте книга «Мечты и Думы» не вполне отвечала исходному замыслу, что из нее исключен раздел переводов в прозе, то можно говорить уже о трех составляющих этого единства, и по праву: переводы для Коневского – полноценные формы воплощения его собственных «дум», изложенные им на русском языке стихотворения и фрагменты иноязычных поэтов и мыслителей – такие же неотчуждаемые элементы его творчества, какими являются его оригинальные сочинения. Как провозглашал он сам в «Предисловии переводчика», «венца сподобится тот один, кто в своем единичном и личном бытии возмог обращаться в неисчислимое множество иных сущностей, но в каждой сущности ощущал заодно с вновь и впервые приятным все, что исстари с первых дней и от века ему было присуще, что был он сам».[74]
О том, что для Коневского не существовало средостений между текстами различной жанровой природы и целевого назначения, писал И. Г. Ямпольский; он сопоставил опубликованное им письмо к Вл. В. Гиппиусу (Люцерн, 2 июля 1898 г.), включавшее подробный рассказ о заграничном путешествии, с прозаическими этюдами из «Видений странствий» и «Умозрений странствий» и пришел к выводу о сходстве многих мотивов, манеры описания, деталей, фразовых конструкций.[75] Весьма любопытны и показательны в этом отношении записные книжки Коневского, в которых аккумулирована та первичная творческая плазма, которая позднее обретает свои индивидуальные очертания в форме различных жанровых образований. Наряду с заметками деловыми и справочными в этих книжках фиксируются – и преобладают – записи творческого характера: наброски и полные тексты стихотворений, черновые и беловые, отвлеченные размышления и дневниковые заметки, содержащие более или менее развернутые описания впечатлений от произведений искусства и увиденных городов и местностей. Записная книжка осознается Коневским как прототекст для последующей работы, ведущей к оформлению исходного материала в соответствии с жанровыми, композиционными, стилевыми заданиями. Иногда записная книжка и внешне оказывается у него подобием внутренне организованного и тематически определенного текста. Так, записная книжка № 6 (нумерация обладателя) имеет заглавие «Лето 1897 г. Летопись странствия. II» (т. е. продолжение предыдущей книжки, озаглавленной «Летопись странствия. I. 4 – 28 июня»), а также эпиграф из Вордсворта, позднее предпосланный 1-й части раздела «Видения странствий», и обозначение хронологических рамок содержащихся записей («28 июня – 20 июля»).[76] Совокупность этих записей может быть осмыслена как дневник, разнородный в жанрово-тематическом отношении. Стихотворные автографы чередуются с регистрационными записями, фиксирующими программы музыкальных вечеров и экспонаты музеев, путевые заметки, иногда посредством заглавий («Выход в долину Лихты и Шварцы», «Возвращение по нижней долине Шварцы» и т. п.) отделяемые от других записей в относительно самостоятельные и законченные прозаические микроэтюды, перемежаются «Мыслями» – отвлеченными рассуждениями, также вычленяемыми автором в особую рубрику (в 6-й записной книжке так озаглавлены семь пронумерованных им фрагментов). Некоторые из этих и подобных им отрывков, содержащихся в других записных книжках, были впоследствии опубликованы в составе посмертного сборника Коневского (например, набросок в 7-й записной книжке, озаглавленный автором «Западная Европа и русский мир», был напечатан как раздел I цикла «Русь (Из летописи странствий)»[77]), некоторые вошли в «Мечты и Думы», иногда в переработанном и расширенном виде (как набросок без заглавия «Вся жизнь и знакомый нам мир…» в 5-й записной книжке, в печатной редакции под заглавием «Предательская храмина» открывающий цикл «Умозрения странствий»[78]), но зачастую без существенных изменений: так, разделы «Рейнский край», «Lore-Ley», «Гейдельбергский “Schloss”» во 2-й части «Умозрений странствий» восходят к столь же развернутым и литературно оформленным рассуждениям в 7-й записной книжке.[79]
Стихи являются равноправным, но отнюдь не главенствующим компонентом этого многосоставного дневникового целого. Вообще случаи противопоставления стихотворных и прозаических составных частей в корпусе текстов Коневского единичны: очевидный пример – относительно ранняя «небольшая поэма» (согласно авторскому обозначению) «Землетрясение», первая половина которой излагается стихами (регулярными четверостишиями пятистопного ямба), а вторая – прозой: сначала – благостные картины («день солнечный, сияющий и яркий»), впечатления от созерцаемого «сброда костюмов, лиц», затем, уже прозой, – собственно землетрясение, разверзающиеся бездны, образ гибели мира; в стихах воссоздается гармонический строй бытия, в прозе – сметающий его хаос. В общей же системе творчества Коневского стихи и проза дополняют друг друга, одна форма самовыражения оказывается естественным продолжением, разворачиванием другой. В стихах «думы» Коневского облекаются, как правило, в более концентрированные и интегрированные, по сравнению с его же прозой, образные построения и способы высказывания, в прозаических этюдах логически-дискурсивные ходы мысли более наглядны, подробнее прочерчены, дают более определенное представление о специфике авторского индивидуального сознания.
Небольшой прозаический этюд «Гейдельбергский “Schloss”» может быть привлечен в качестве иллюстрации, демонстрирующей механизмы творческого мышления Коневского. Текст разделен на три абзаца. Первый абзац содержит описание возвышающегося над Гейдельбергом феодального замка с фиксацией отдельных деталей и резюмирующей характеристикой: «…во всей этой пестроте и лепных украшениях явно сохранена четвероугольная, светлая и светская стройность общего построения дворца. Нас обступило зодчество Возрождения, роскошное, изнеженное, игривое и внутренно-стройное»; это – первичный слой постижения объекта, описание видимого и введение его в обозначенную культурно-историческую орбиту. Следующий абзац представляет собой попытку перейти от видимого к воображаемому, реконструировать в общих чертах умопостигаемую картину минувшего, слагающуюся из сочетания усвоенного посредством книжных источников и музейных экспонатов с аналитической авторской фантазией: «Здесь жил блестящий двор германских владетелей прирейнских краев во время германского “гуманизма”. ‹…› Богатые достояния древних культур и их прямых наследников – южноевропейских народов здесь с жадностью присваивались тяжеловесными дебелыми князьями Германии с их меховыми мантиями и пушистыми бородами; и пиршественная утварь чистого итальянского изделия увивалась рейнскими виноградными лозами, и пфальцские вина лились рекой. Это было широкое роскошное время в этом светлом, живом краю мягких холмов, зеленеющих виноградниками и рощами, и долин, пестреющих богатыми городами. Много в треске и блеске его празднеств таилось странных смесей; с придворной манерностью и нарядным лоском неразрывно мешалось зверство и скотская порочность», и т. д. Наконец, все эти обобщенно очерченные, но насыщенные конкретными деталями образы прозреваемого исторического прошлого сменяются – в третьем, заключительном абзаце – переходом от заявленной частной темы, порожденной созерцанием Гейдельбергского замка, к синтезирующим умозаключениям, для которых ранее развернутые первичные впечатления и картины, возникавшие в авторском воображении, служили лишь необходимым первотолчком: «Так – всегда изо всех памятников Возрождения веет самой прихотливой разноцветностью тонов и составных частей. ‹…› Этот быт обаятелен, для вкусившего от всех образов человечества, своим небывалым ароматом, вышедшим из тонкого химического соединения между знаниями, созданиями и вымыслами самых разноличных племен и веков. В этом пряном вкусе совершается волшебная мечта – ощутить их всех не по-прежнему, порознь, а в единой совокупности».[80]
Все опыты творческой самореализации Коневского вдохновлены, по сути, одним импульсом – восприятия любого частного явления под знаком всеединства. Все его созерцания и «умозрения», отображенные в стихах и прозе, представляют собой апологию воспринимаемой реальности как совокупности отблесков мирового единства, в которых отображается предвечная Красота. «Πᾶν, Единство – безвидный водоем бытия, – провозглашает он в записи, датированной 30 мая 1897 г. – Силы разделительные, силы множественности действуют на него, подобно солнечным лучам на поверхность океана. Они высасывают из него влагу и отделяют ее от водного лона в виде постоянно расположенных смешаться, но уже в некоторой мере имеющих очертания испарений. Потом уже испарения эти еще более уплотняются в несколько обособленных друг от друга облачных клубов. Это – первые тени множественной жизни. Но великий Водоем бытия никогда не оскудевает, потому что он беспределен. Каждое испарение его вознаграждается новым притоком из беспредельности».[81] Переживания предустановленной мировой гармонии, раскрывающейся Коневскому в творческих медитациях, обретают торжественную, одическую тональность, подобную ломоносовским размышлениям о «Божием величестве»:
И плавал он в сверкающих волнах, И говорил: вода – моя стихия! Ныряя в зыби, в хляби те глухие, Как тешился он в мутных глубинах! Там он в неистовых терялся снах. Потом, стряхнув их волшебства лихие, Опять всплывал, как божества морские, В сознаньи ясном, в солнечных странах. («Сын солнца. 2. Среди волн»). (С. 87)Коневской убежден в том, что (как формулирует в заметках к статье о нем его друг Н. М. Соколов) «человек должен уподобляться отрешенной красоте, т. е. представлять в высшем согласии соединение сознания своей личности с безграничным простором всех своих душевных качеств».[82] И в то же время почти экстатические порывания к слиянию с всеединством сочетаются у поэта с осознанием своей индивидуальной отверженности от благой абсолютной субстанции, рождая разлады и противоречия в его душе. Стихийные, хаотические начала будоражат его внутренний мир, пытаются овладеть им, но встречают сопротивление и отпор:
Нет, не ликуй, коварная пучина! Я – человек, ты – бытия причина, Но мне святыня – цельный мой состав. Пусть мир сулит безличия пустыня – Стоит и в смерти стойкая твердыня, Мой лик, стихии той себя не сдав. («Сын солнца. 4. Starres Ich»). (С. 88)В конечном счете поэт, взыскующий полноты бытия и одновременно из этой полноты исходящий во всех своих жизненных восприятиях, приемлет и деструктивные, земные, плотские формы как необходимую составляющую динамического равновесия мировой гармонии. Эти начала окрашивают его мировосприятие в драматические тона, но вместе с тем обладают стимулирующей силой для роста и становления самосознания, для обретения духовной свободы. Многие произведения Коневского представляют собой диалог между различными голосами, звучащими внутри единого авторского «я», нескончаемый метафизический спор, как в одноименном стихотворении, в котором «вся толща вещественного бытия» (по формулировке Брюсова) осмысляется как необходимое условие постижения духовной субстанции:
Долго ль эту призрачную плоть Из пустынь воздушных выдвигать? Долго ль ею душу облагать, Воздвигать ее, чтоб вновь бороть? Без тебя безжизненно-волен, Без тебя торжественно-уныл, Я влекуся в плен твоих пелен И тобой я – уж не то, что был. ‹…› Не престань меня в пяту колоть, И затягивать, и вдаль гонять… Так из века в век нас не разнять, О творец мой и борец мой, плоть! («Спор»). (С. 138)Метафизическое содержание в корпусе текстов Коневского не просто преобладает – оно главенствует, подчиняя себе любые конкретно определенные творческие задания. Как отмечал в уже цитировавшихся заметках Н. М. Соколов, «отличие Ореуса от поэтов старого времени – Тютчева, Фета и др. – в том, что он сознал и провел чрез научно-философскую рефлексию свое художеств<енное> созерцание, усиленно развил в себе чувство “бездны” ‹…› и стремился поддерживать его в себе непрерывно ‹…› При этом он насильно вводил в пределы своей личности разные настроения и старался проникаться всякими ‹…› во имя расширения личности ‹…›».[83] Вбирая в себя «разные настроения», воспринятые благодаря освоению широчайшего круга литературных и иных источников, Коневской, однако, не выстраивал из них эклектическую совокупность, а неизменно пропускал сквозь реторту собственного «я». В своих стихах он, как справедливо подмечено, «создавал новый тип поэтического творчества, своеобразную “метапоэзию” – поэтическое философствование, в качестве главнейшего компонента включающее в себя “поэтическую рефлексию” о самой природе творчества на примере раскрывающего диалога с предшествующими поэтическими системами и образами».[84] Те же начала «метапоэзии» Коневской стремился уловить и осмыслить в стихах своих старших современников, о чем свидетельствует, например, его статья «Стихотворная лирика в современной России»; «метапоэтические», мировоззрительные критерии были для него исходными и главенствующими при вынесении собственных критических вердиктов. В своих оценках творческих достижений Фофанова, Минского, Мережковского и других мастеров Коневской старается сохранять безупречную объективность и толерантность – и вместе с тем он неизменно остается верен собственным критериям, собственному «я», которое для него не может не быть на первом плане. Разные поэтические лики, воссоздаваемые им в этой обзорной статье, обладают – при всей глубине и тонкости отдельных наблюдений – очевидным сходством между собой, и это не удивительно: все они – прежде всего феномены, рождаемые аналитическим сознанием автора. В представленной галерее литературных портретов, в характеристиках «чужих» стихов, в цитатах из них, влившихся в текст статьи, отображаются, как в зеркале, собственные стихи Коневского, насыщенные возвышенно-риторическими размышлениями и признаниями о разладах и противоречиях души, понимаемых и освящаемых как необходимая составляющая мировой динамической гармонии.
«Мировоззрение поэзии» – главное и едва ли не единственное, что привлекает внимание Коневского к поэзии вообще. Его статья о Н. Ф. Щербине, ярче всего выразившем себя как автор антологических стихотворений, вариаций на античные темы, а также как сатирик, юморист и эпиграмматист, озаглавлена «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины»; эстетические влечения и достижения поэта трактуются в ней как отблески целостного философского миропонимания, им самим, видимо, не осознанного и не обоснованного, но реконструированного его пытливым интерпретатором: «В кругозоре Щербины поэзия и пластика классической древности были наиболее совершенным образом такого мировоззрения, в котором – с одной стороны – вся стихийная вселенная представляется мирозданием, в самом полном смысле этого слова, целокупной красотой, необъятным живым существом, а с другой стороны – идеальные человеческие облики, все устроенные, отчетливые оболочки, изъявляют все необъятное величие внешнего мира. По этому мировоззрению – во всякой части есть целое, всё, бесконечность, и в бесконечности, во всем, в целом есть всякая часть».[85] Чей облик отчетливее проступает за этими предельно обобщенными аттестациями – Щербины или самого Коневского?
А. К. Толстой, творческая личность еще более широкого диапазона, чем у Щербины, опять же, близок Коневскому прежде всего «мировоззрительными» элементами, сосредоточенными наиболее интенсивно в драматической поэме «Дон Жуан». Прорицания Духов из этого произведения могли бы стать эпиграфом ко всей поэзии Коневского, аккумулируя в себе основной ее смысл и пафос:
Едино, цельно, неделимо, Полно созданья своего, Над ним и в нем невозмутимо, Царит от века божество. Осуществилося в нем ясно, Чего постичь не мог никто: Несогласимое согласно, С грядущим прошлое слито, Совместно творчество с покоем, С невозмутимостью любовь, И возникают вечным строем Ее созданья вновь и вновь.[86]Коневской приводит эти строки в философском этюде «Общие космологические основы моего мировоззрения» (октябрь 1896 г.).[87] В набросках аналитической статьи об А. К. Толстом (один из вариантов заглавия: «Поэзия Алексея Толстого – ее положение в ходе русской стихотворной мысли») он рассуждает о проявлениях индивидуализма у Толстого и о близости его метафизики к учению Платона, об отражении в его самосознании «любви мировой» и об иных отвлеченных материях: «…этот поэт полон борьбы за личность и неудовлетворенных порывов ее в состоянии несовершенном. Тем большей восполненности и удовлетворения достигает он в идеале. Его откровения сущности, божества, это – такие состояния, в которых нет больше желаний дальнейшего, будущего, иного неизвестного, полное безразличие, равнодушие воли, и в то же время – “творчество”, “пыл”, значит – развитие, значит – развитие, движение, открытие новых составов и форм».[88] Аналогичным образом интерпретируется поэтический облик Кольцова, в стихотворчестве которого Коневскому ближе и ценнее всего то, чем он в наименьшей мере запечатлелся в читательском сознании, – философские «думы»: «В Думах Кольцова кругозор степи развертывается вольным размахом в поднебесную ширь горизонта вечных тайн. ‹…› Под оглушительным дыханием вечного неведомого вихря его обуял трепет ужаса перед новыми исполинскими силами, которые ему угрожали, и ничтожеством своего человеческого тела, воли, мысли и чувства. Мироздание предстало перед ним как лютый враг и противник, как неведомое чудовище, как бездушная громада, которая оказывает на человека уничтожающее давление. И так лучше всего загорелся он мечтой самому померяться своими частными силами с сокрушительными могуществами мировых сил в незапамятных и нескончаемых их порядках и расположениях» («А. В. Кольцов (личная его природа и строй мыслей)», 1900).[89] Во всех подобных случаях эстетическая конкретика, позволяющая судить о «лица необщем выраженьи» каждой поэтической индивидуальности, не занимает Коневского сама по себе, она привлекает его внимание прежде всего открывающейся возможностью перенестись от нее в область универсальных понятий и абстрактных категорий, отображающихся в веренице возводимых им условных метафорических построений.
Среди русских авторов Коневского прежде всего влекут к себе, разумеется, те поэты, для которых философская проблематика составляет основу и главный внутренний смысл творчества. Самое почитаемое имя – Тютчев: анализом его поэтического мировидения открывается статья Коневского «Мистическое чувство в русской лирике» (1900). Наряду с Пушкиным Тютчев осмысляется в ней как «первоначальный русский поэт», отважившийся погрузиться в «бездну» – «бытие безначальное и бесконечное» – и тем самым постичь и передать глубочайшие тайны ищущего духа: «Тютчев ощущал вечность движения, движение вечности, то есть вечность, переходящую из точки в точку и из мига в миг, вечность, сущую в пространстве и во времени. Его прозрящее созерцание мироздания не разрешилось ни во что иное, как в это зияющее из века в век внутреннее противомыслие».[90] В очередной раз нам предоставляется возможность убедиться, как, погружаясь в Тютчева, Коневской познает самого себя. Н. К. Гудзий, исследовавший влияние Тютчева на поэзию конца XIX – начала XX века, пришел к выводу, что из ранних русских символистов наиболее органически связан с ним был именно Коневской;[91] он указывает на очевидные заимствования тютчевских тем, образов и фразеологии в стихотворении «Природа»:
И вдруг кругом меня всё тишь святая, Как суша, все незыблемо стоит, И, красотой бесстрастною блистая, Из недр своих природа жизнь струит, и т. д. (С. 176), –обнаруживающем аналогии со стихотворением Тютчева «Певучесть есть в морских волнах…»; усматривает вариацию тютчевского «Полдня»:
Лениво дышит полдень мглистый, Лениво катится река, И в тверди пламенной и чистой Лениво тают облака. И всю природу, как туман, Дремота жаркая объемлет, И сам теперь великий Пан В пещере нимф спокойно дремлет –в стихотворении Коневского «Душный час»:
Таинство душное дышит В полдень, в сосновом бору. Зноем так воздух и пышет. Небо в кипучем жару. Запах брожения плоти, Дикий, смолисто-сухой. Млеет во влажной дремоте Мир сладострастно-глухой. (С. 92);прослеживает целый ряд других параллелей, включающих формы повторений и анафоры, ораторские приемы речи, составные эпитеты и др.
Вровень с Тютчевым для Коневского встает другой поэт-мыслитель – Баратынский. В эпоху, когда подлинный масштаб творчества этого мастера был осознан еще очень немногими, Коневской расценивал его стихи в ряду наивысших достижений русского поэтического слова. Баратынский в его восприятии – гениальная личность, опередившая свое время, не понятая Белинским – «апостолом земного благоденствия, основанного на разумной энергии»,[92] – а также и его последователями, критиками-утилитаристами, длительное время определявшими и ограничивавшими кругозор читающей публики. В 1900 г. в связи с юбилеем Баратынского Коневской попытался обозначить, опять же в своем привычном абстрактно-умозрительном ключе, основные черты «мировоззрения поэзии» любимого автора, которые в очередной раз оказываются зеркальным отображением его собственного мировоззрения – если не во всей полноте, то по крайней мере во многих существенных аспектах, и прежде всего в осмыслении трагического диссонанса между самосознанием индивидуального «я» и надличностным мировым началом: «19-го февраля нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из величайших русских поэтов Е. А. Баратынского. В русской поэзии это – первый по времени и по силе таланта поэт, который сознал в своем творчестве безысходное состояние человеческой природы. Он пережил всю скорбь этого сознания и вместе с тем нашел некоторый исход не из самого сознания, но из скорби, которая им внушается. Живее и прежде всего он ощущал ограниченность человека во всех его ощущениях, как в деятельности познания, так и в деятельности инстинктов. Первоначальным источником душевной боли была для него зависимость всех предметов восприятия и желания от не им установленных порядков. Тоска Баратынского – это жажда бесконечного бытия, бесконечного счастья и свободы и сознание ограниченности и конечности всех предметов ощущения – воли и разума».[93]
Баратынский чрезвычайно близок Коневскому в равной мере как содержанием и тональностью поэтических медитаций, так и самим творческим методом, в котором главенствующую роль играло рефлектирующее начало:
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова! О жрец ее! тебе забвенья нет; Всё тут, да тут и человек, и свет, И смерть, и жизнь, и правда без покрова. Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком К ним чувственным, за грань их не ступая! Есть хмель ему на празднике мирском! Но пред тобой, как пред нагим мечом, Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.Апология мысли, провозглашаемая в этом стихотворении Баратынского, всецело отвечает магистральным и сокровеннейшим творческим идеалам Коневского. Столь же привлекательна для молодого поэта-символиста явленная здесь словесная фактура с ее четко обозначенными семантическими контурами в прямых номинациях и в метафорических уподоблениях; отвечает его личным предпочтениям и утяжеленный стих: пятистопный ямб у Баратынского интенсивно дополняется сверхсхемными ударениями – спондеями (выше соответствующие лексемы выделены курсивом), и Коневской в собственных поэтических опытах продемонстрирует аналогичную склонность: «Ты слово знал. В нем свет, в нем жар, в нем – влаги бой» («Старшие богатыри», II) – к шести ударным слогам строки шестистопного ямба добавляются три сверхсхемных ударения. Н. Л. Степанов справедливо заключает: «От Баратынского у Коневского подчеркнутая точность словоупотребления и образа, сочетающаяся с некоторой риторичностью стиха, которая отличает такие “раздумья” Баратынского, как “Последняя смерть” или “Осень” с их архаическим словарем и торжественностью одической интонации. Такие стихи Коневского, как, например, “По дням”:
Сияющие дни, родные встречи, И днесь, и искони – Постигну ль тайну ясной вашей речи, Сияющие дни? (С. 135) –кажутся как бы написанными современником Баратынского. Даже самая строфическая форма и размер этого стихотворения Коневского воспроизводит аналогичную систему стихотворения Баратынского (чередование пятистопного и трехстопного ямба):
На что вы, дни! Юдольный мир явленья Свои не изменит!Точно так же и словарь Коневского (“юдоль”, “селянин”, “дебри”, “краса”, “злак” и т. д.) восходит к стихам Баратынского».[94]
Как и для Баратынского, поэтическое слово значимо для Коневского прежде всего в силу своей способности быть вместилищем мысли и формой ее развития и углубления. Мыслью охватывается все многообразие явлений и человеческих представлений о них, фиксируемое в слове, которому Коневской вознес свою осанну в небольшом прозаическом этюде (1900): «Слова речей и языков – они измышлены прорицателями, вещунами и чародеями. В слове бесконечно великое совмещено с бесконечно малым. Вся полнота и широта мыслей, стремлений, побуждений, расположений, образов, звуков, вкусов, запахов, прикосновений, ощущений напряжения мышц, тепла и холода – сосредоточена, сжата в этих крупицах, условных звуковых значках. Волшебная власть их в том именно, что у каждого из них есть значение вещественное, вполне твердое и устойчивое; они не расплывчаты, как звуки музыки, и вместе с тем в этом твердом составе скрыты неисчислимые и неисследимые, призрачные глубины, оттенки, тени и дымки: эти твердые печатки, монетки и слепки бесконечно сжимаемы и растяжимы, то есть упруги. В этих вещественных, замкнутых подобиях, идолах (εἴδωλα) – вся необъятная полнота духа и Бога».[95]
Забота о возможно более точном, веском, семантически емком словесном воплощении мысли в творческих опытах Коневского всегда присутствует на первом плане. Многие беловые рукописи его стихотворных и прозаических произведений содержат незачеркнутые варианты – приписанные над словами основного текста слова-дубликаты, отражающие колебания автора относительно того, какому нюансу смысла следует отдать предпочтение при выборе одной из двух близких или сходных по значению лексических единиц. В этом смысле весьма любопытны вариативные элементы в автографах стихотворений Коневского. Такие варианты относительно немногочисленны – в особенности при сопоставлении с творческим наследием тех поэтов, которые были склонны радикально перерабатывать свои произведения, – но весьма характерны отразившимся в них стремлением подыскать слово или высказывание, наиболее точно формулирующее вынашиваемую поэтическую мысль. Так, черновой автограф стихотворения, опубликованного под заглавием «Недоумение»,[96] содержит три варианта заглавия – первоначальное, зачеркнутое («Тревога») и еще два незачеркнутых, записанных в один ряд («Боязнь» и «Смущение»): автор колеблется между двумя словами, по-разному передающими общий, синтезирующий смысл текста; предпочтение же было отдано четвертому варианту. Собственно в тексте того же стихотворения – сходные колебания, отражающие поиск наиболее адекватного слова. В двустишии «И нет всего, что дух лишь заклинает, // Проникнутый собой?» вторая строка заменяется в черновом автографе на «Влекомый лишь собой?», а в печатной редакции – на «Заворожен собой?». Заключительные строки в первоначальной записи: «Предстанет ли природы откровенье, // Иль снова дни пойдут?»; первая из этих строк исправляется: «Настанет ли кончины откровенье»; окончательная версия: «Настанет ли навеки откровенье, // Иль снова дни уйдут?» Черновых текстов стихотворений Коневского сохранилось не слишком много (в основном те, которые содержатся в его записных книжках), однако и представленные в большем объеме беловые автографы свидетельствуют о том, что автор при подготовке их к печати часто вносил правку – заменял отдельные слова и фразы, не нарушая общей изначально сложившейся художественной структуры и руководствуясь лишь стремлением к предельной образно-семантической отчетливости, филигранности поэтического высказывания.
Д. П. Святополк-Мирский относит Коневского к тому типу поэтов, чье творчество «складывается не из переживаний и настроений, а из объективированных образов и мыслительных обобщений»; по мнению критика, в русской поэзии этот тип мало представлен: до Коневского – Ломоносовым и Случевским, после Коневского – Хлебниковым.[97] Такое соединение упомянутых четырех поэтов может показаться произвольным, но едва ли опровержима мысль о том, что стихам Коневского трудно подыскать аналогии в творческих опытах его сверстников. И в своем понимании задач, стоящих перед поэтическим творчеством, Коневской занимал особую позицию в кругу русских символистов. Брюсов отмечает: «Коневской был совершенно чужд того культа формы в поэзии, которому мы, москвичи, служили тогда до самозабвения. В последнем счете для Коневского поэзия все же была только средство, а никак не “самоцель”. В каком бы то ни было смысле формула “искусство для искусства” была для Коневского неприемлема и даже нестерпима».[98] В своей мистической устремленности к постижению мирового всеединства Коневской также стоял особняком среди деятелей «нового» искусства, сформировавшихся в 1890-е гг., во многом предвосхищая творческие искания символистов «второй волны», заявивших о себе в литературе в первые годы XX века, – Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова. Поэтические дерзания, не исполненные высшего смысла, не вписывающиеся в обобщающую философскую перспективу, представляются ему ненужными, не имеющими никакой серьезной значимости, и с этой ригористической точки зрения он пристрастно оценивает произведения других приверженцев символистского направления. Глубокого содержания для него исполнены творческие устремления А. Добролюбова: «…создано им было особое творчество – не художественное и не научное, а составленное из отражений и теней, с одной стороны – от внешних впечатлений и настроений воображения, с другой стороны – от понятий и обобщений отвлеченной мысли» («К исследованию личности Александра Добролюбова», 1899).[99] Самой высокой оценки удостаивается Федор Сологуб, мастер точного и неизукрашенного поэтического слова (в письме к нему Коневской признается: «Я верую в святость Вашего творчества»[100]). Стихи Брюсова Коневской принимает строго избирательно: наряду с высокими оценками высказывает – нередко в непререкаемом тоне – критические замечания; таковых в его письмах к Брюсову имеется множество. Сугубо формальные искания, благодаря которым стараниями символистов на рубеже XIX – XX веков произошло радикальное обновление русской поэзии, чужды Коневскому именно в силу своего панэстетизма, провозглашающего взамен «мировоззрения поэзии» самоценные художественные цели, и поэт, наиболее ярко и полно отразивший эти тенденции в своем творчестве, – К. Д. Бальмонт – со временем начинает вызывать у него все более резкое неприятие. Для альманаха «Северные Цветы» Коневской предложил в ноябре 1900 г. «краткую эпиграмму» (которая тогда осталась неопубликованной), содержащую отзыв о книге Бальмонта «Горящие здания»: «Поэт говорит во вступительном стихотворении к сборнику: я хочу кричащих бурь. В этом обозначении исчерпана сущность его новой поэзии. Бури г. Бальмонта не воют, не ропщут, не бушуют, а кричат, визжат, орут “благим матом”, как теленок, которого режут, или “караул!”, как прохожий, на которого напали мазурики ‹…› визг не умолкает на протяжении нескольких сотен страниц, и критику остается поплотнее заткнуть уши».[101]
В том же году Коневской занес в записную книжку несколько заметок с обозначением «К размышлению», среди них – фраза: «Поэзии не подобает иметь тяготения к иному центру тяжести – ей подобает иметь центр тяжести в самой себе».[102] Этот «центр тяжести», однако, в понимании Коневского должен был быть метафизическим, «тайнозрительным» по своей природе, и какие-либо отклонения от него влекли – в частности, по его убеждению, автора «Горящих зданий» – к ложным, «мишурным» целям. Бальмонт был для него далеко не единственным мастером слова, соблазнившимся праздными эстетическими эффектами; аналогичный счет Коневской предъявлял и писателям, обладавшим к тому времени в литературе самой высокой репутацией, – например, Виктору Гюго, «мишурному пророку» («весь запас его художественных орудий – ослепительная мишура»), Альфреду де Мюссе («этот ничего не видит кругом себя, и умеет только, сидя в своем парижском будуаре, то плаксиво, то игриво копаться в своих амурных чувствицах и словоохотливо болтать о них»),[103] а также Гейне, Гофману, Шамиссо и Уланду, совокупно аттестованным как «дешевые, внешние и даже поддельные выразители».[104] Все эти решительные и, безусловно, самонадеянные приговоры, свидетельствующие в иных случаях о способности к метким (но не точным и уж никак не верным) обобщающим характеристикам, позволяют заключить, что и в отношении к современной русской литературной жизни Коневской ощущал себя совершенно независимым и не собирался считаться с ее условностями, традициями и приоритетами.
По эмоциональной тональности и общей колористической гамме поэзия Коневского резко контрастирует с доминировавшими в русском стихотворчестве последней трети XIX века темами и настроениями. Надсоновские ламентации, в которых преобладали мотивы отчаяния, уныния, усталости, еще звучали в полный голос и имели свою благодарную аудиторию читателей и подражателей; стихи же непризнанных «декадентов» в большинстве своем также отражали тот тип мироощущения, который по существу не диссонировал с «мечтами и звуками» эпохи «безвременья». Избрав заглавие «От солнца к солнцу» для своего первого поэтического цикла, опубликованного в «Книге раздумий», Коневской заявлял о приверженности к кардинально иному философско-эстетическому мировоззрению, одновременно предвосхищая те тенденции, которые возобладают и у других представителей «нового» искусства в самом скором времени (книга Бальмонта «Будем как Солнце» выйдет в свет в конце 1902 г.). Пафос оптимистического приятия мира пронизывает все поэтическое творчество Коневского. Один из критиков справедливо видит его основной импульс в «панкосмической жажде существования», которая создает из Коневского «настоящего, призванного, стихийного поэта», способного передавать «самые мельчайшие вибрации мирового дыхания»: «В его поэзии играет и бьется нерв чисто-растительной радости, слышен пульс какого-то органического восторга перед величьем и красотой мироздания. Более цельного, экстатического отношения к природе я не запомню в нашей молодой поэзии».[105]
В резкой оппозиции по отношению к старшим современникам Коневской выступает и в аспекте поэтической стилистики. Деградацию традиционного русского стиха, который в массовой эпигонской продукции конца XIX века стал вместилищем отработанного словесного и стилевого шлака, живо ощущали многие представители «нового» искусства и в своих исканиях, зачастую радикально-дерзновенных, осваивали новую поэтическую семантику, новую звукопись, новые формы метрико-ритмической организации. Коневской в стихотворных опытах также был радикален, но опять же на свой особенный лад: его новое слово – в реставрации, воскрешении слов, выражений, синтаксических конструкций очень старых, в большинстве своем вышедших из живого употребления и не востребованных современной ему поэзией; словесная «пыль веков» для него – родная и стимулирующая творческая аура. Н. Л. Степанов, анализируя язык и стиль Коневского, характеризует его как последовательного архаиста.[106] Столь однозначная аттестация вполне закономерна для автора, работавшего в 1930-е гг., безусловно, под обаянием концепций, обоснованных Тыняновым в «Архаистах и новаторах» (1929), она недооценивает значимость тех живительных токов, которыми обогащали поэзию Коневского новейшие мастера, и прежде всего французские и бельгийские символисты, оказавшие на него исключительно сильное воздействие. Но в целом интерпретация Коневского как убежденного архаиста соответствует действительности. В этом отношении примечательно, что именно «архаические» черты и вообще затрудненная речь были главным препятствием для установления контактов между его творчеством и читательской средой.
Предисловие Коневского к «Собранию стихов» А. Добролюбова обратило на себя внимание критиков исключительно «тяжелым и странным слогом» (Д. П. Шестаков),[107] «деланною вычурностью и неясностью выражений», прикрывающими «бедность и неясность мысли» (А. М. Ловягин).[108] Те же акценты – в откликах на посмертный сборник «Стихов и прозы» Коневского: «тяжелая речь»,[109] «нелепый набор слов» (Н. П. Ашешов).[110] Поступиться этими особенностями индивидуального стиля поэт не хотел, да, видимо, и не мог: представлены они были, как и все, что он делал, по глубоко осознанному убеждению. Ореус-отец заключает: «Понемногу выработался у Коневского свой собственный, своеобразный слог, во многом не удовлетворявший “академическим” требованиям. Язык Коневского отличается меткостью эпитетов, верностью образов, красивыми сочетаниями звуков, но синтаксис его запутан. Любил Коневской устаревшие, славянские слова и обороты, в стихах употреблял даже усеченные прилагательные. ‹…› Этот непривычный нашему времени язык возбуждал против себя много нареканий, но Коневской упорно его держался и против всяких посторонних поправок горячо протестовал».[111]
Индивидуальная манера, сформировавшаяся у Коневского, стала для него единственно возможной формой высказывания: в стихах она продемонстрирована с той же отчетливостью, что и в прозаических этюдах, философских записях, критико-аналитических статьях, дневниковых заметках и письмах (Брюсов свидетельствует, что тот же слог Коневской употреблял и в «дружеских беседах»[112]). В поэтической практике приметы этого архаизированного, синтаксически усложненного, нестандартного слога служили формой творческого самоопределения на фоне преобладавшего трафаретного стихослагательства, обнаруживавшего «легкость необыкновенную» в мыслях и образных построениях. «“Я люблю, чтобы стих был несколько корявым”, – говорил сам Коневской, которого раздражала беглая гладкость многих современных стихов. И этой “корявости” он, конечно, достигал, и не один читатель затруднится, читая строки вроде:
И был бы мир – венец, что Вечность – шар державы, –или:
И так бы превозмог мест, сроков протяженье…» –пишет Брюсов в своем очерке о поэте.[113] Д. П. Святополк-Мирский упоминает о «прекрасной корявости» Коневского,[114] но эта особенность вызывала приятие не у всех ценителей его поэзии (например, С. К. Маковский замечает, что «рядом с проблесками гениальности в его стихах много выраженного нечетко, наивно-замысловато», указывает на «неудачные словесные выдумки и попросту ошибки» в словоупотреблении[115]).
В силу отмеченных особенностей стихотворения Коневского вряд ли способны когда-либо завоевать признание и популярность в самых широких читательских кругах, однако их уникальному своеобразию сумеет отдать должное любой искушенный ценитель поэтического слова. Согласно проницательному наблюдению А. А. Смирнова, в архаизаторской тенденции и утяжеленном слоге Коневского на свой лад отображается «глубокая, безусловная искренность» автора, раскрывающего свою «детски-чистую» душу: «С этой искренностью, с этой чистотой ему не страшны никакие трудности, никакие запреты; с ней он преступает все пределы, и не останавливается, не дойдя до конца. Отсюда – его торжественный, изукрашенный слог, запутанный синтаксис, архаизмы. Красивые, громоздкие, шероховатые стихи его часто производят впечатление недостаточной отделки, обработки, какого-то импрессионизма формы; но если вчитаться в них, становится ясной невозможность изменить хотя бы одно слово. Витиеватая, затейливая форма не выдумана, не создана искусственно Коневским, но возникла естественно, необходимо, в силу его торжественного, проникновенного отношения к своим темам».[116] Эта индивидуальная поэтическая стилистика вбирает в себя широкий спектр составляющих: активно эксплуатируемый арсенал «архаических» поэтических средств, заимствованный из «золотого века» русской литературы и из еще более ранней, риторико-одической традиции сочетается с опытами обновления стиховой фактуры, родственными тем, которые осуществляли его современники-символисты, а также представители следующего поэтического поколения. Н. Л. Степанов указывает на ряд примеров нарушения у Коневского метрических схем, на тяготение его к дольнику и свободному стиху, на использование звуковых повторов и паронимов – сочетаний фонетически парных, но далеких по значению слов; приводит, в частности, строку из стихотворения «Порывы» («Здесь жестоко наш прах цепенеет»), замененную другим вариантом: «Ведь жестоко здесь кости коснеют» – «именно для большей звуковой крепости и организованности».[117]
В своих поэтических медитациях Коневской всегда старается следовать основному исходному принципу – фиксировать исключительно те наблюдения, впечатления и размышления, которые поддаются отражению в сфере отвлеченного умозрения. Образцов так называемой «интимной» лирики, продиктованных сокровенными личными переживаниями, в его стихах почти не встречается, а если реальная жизнь все же сталкивала его с проблемами подобного рода, разрешение их переадресовывалось в ту же метафизическую плоскость. Ею, в частности, было поглощено то, по-видимому, по своей первичной сути любовное чувство, которое на какое-то время внесло определенную сумятицу в его внутренний мир. Жизненной установке, сформулированной в строках стихотворения «Многим в ответ» (1897):
Я не любил. Не мог всей шири духа В одном лице я женском заключить (С. 84), –– суждено было подвергнуться испытанию, когда он зимой 1898–1899 гг. познакомился с Анной Николаевной Гиппиус, младшей сестрой З. Н. Гиппиус. Как свидетельствует Брюсов, «Коневской влюбился самым обычным образом и должен был признаться:
Нет! один я – не все мирозданье. Выйди, мой воплощенный двойник!В последнем поэт ошибался: та, кого он любил, отнюдь не была “его воплощенным двойником”. Напротив, ей было органически чуждо все особенно дорогое и близкое Коневскому: его миросозерцание, его любимые авторы, его постоянная углубленность ‹…› Любовь поэта-философа не встретила взаимности».[118] Осознание того, что «воплощенный двойник» на самом деле таковым не является, привело к прекращению едва завязавшихся отношений: об этом свидетельствует письмо Коневского к А. Я. Билибину (июль 1899 г.), в котором излагаются основные сопутствующие обстоятельства.[119] Несколько стихотворений Коневского, отразивших эти переживания, несут на себе отпечаток внутреннего драматизма:
Я расточал блага своих мечтаний, Я в тысячи лучей их разбивал. Построил много радужных я зданий – И ветер жизни в прах их развевал («Волнения», II; 1899). (С. 121–122), –однако эти ноты не вносят кардинального разлада в общую систему мировидения. Строки из цитировавшегося выше стихотворения «Многим в ответ»: «Но девы лик и сны вселенной – братья: // К единому всё диву я парил» – ознаменовали разрешение обозначившейся личной коллизии: «девы лик» поглощался «единым дивом»; следующие строки того же стихотворения: «Так – обнимусь я с женской красотою, // Но через миг – с горой или с ручьем» – уже намечали иерархию ценностей, в которой экстазы, переживаемые при соединении с природой, определенно обретали высший статус. «Человеческие чувства вообще исключены из его поэзии», – утверждал А. А. Смирнов, безусловно, доводя до крайности свои выводы о тех психологических изъянах, которые он подмечал в личности Коневского, и продолжал: «Можно кратко и полно обозначить болезнь Коневского двумя словами: отрицание плоти. Отрицание плоти, а следовательно и всей вообще личной, реальной жизни – главный мотив его творчества. ‹…› Наша литература хорошо знакома с чувством вражды, борьбы против плоти, но такого спокойного и искреннего отрицания, игнорирования ее никогда еще не бывало. И рядом с этим бесстрастным философским отрицанием в душе Коневского уживалась не менее искренняя, не менее глубокая любовь к жизни».[120] Во всеохватном и безраздельном приятии жизни возможность слиться «с горой или с ручьем» компенсировала драматическую отчужденность поэта от многих иных составляющих благого всеединства.
Среди «обширных всезрелищ»,[121] открывавшихся благодарному взору Коневского, созерцания феноменов природы вызывали у него наибольшее воодушевление. Он погружался в царство природы с подлинной страстью, и оно представало перед ним всеми своими глубинами и тайнами, резонировавшими в унисон с вибрациями его самопознающего духа. В этих восприятиях сочетались, по наблюдению Н. О. Лернера, «мудрость старца и joie de vive <жизнерадостность> ребенка»;[122] натурфилософские аналитические рефлексии претворялись в литургическое священнодействие, вдохновленное ощущением слияния со стихийной мировой жизнью. Менее всего стихи Коневского, воплотившие отмеченные особенности его личности, соответствуют привычным стандартам «пейзажной», природоописательной лирики. Цель поэта-«любомудра» – не описать, а постигнуть, охватить синтезирующими усилиями сознания то, что явлено в непосредственном чувственном восприятии. Приближение к сокровенной сути мироздания, предстающей как торжество высшей упорядоченности, метафорически реализуется у него в равной мере воспарением в высшие сферы отвлеченного созерцания и погружением в хаотическую толщу органического мира, воспетым в большом стихотворении – своего рода натурфилософской оде – «Дебри»:
Извивы троп, глубины кущ Моей душе всего милей – Святилища дремучих пущ, Где я пугливей и смелей: Ничто здесь явно не лежит. Все притаилось за углом, И чутко сердце сторожит Нежданный, странный перелом. (С. 107)В своих наблюдениях за природной циркуляцией поэт уже использует ту микроскопическую оптику, которую впоследствии возьмет на вооружение Н. Заболоцкий, созерцая «природы вековечную давильню».[123] И вместе с тем «дебри» открывают Коневскому за видимой суетой и разноголосицей надмирный, космический строй и согласие; микрокосм преображается в макрокосм:
Покой и жизнь – на всем окрест. Трава растет, и корни пьют. Из дальних стран, из ближних мест Незримые струи снуют. То углублюся я в траву – Слежу букашек и жуков; То с неба воздух я зову, Лечу за стаей облаков… <… > Брожу в сиянии немом, Пугливо ждущем торжестве. И явствен свет, и незнаком. И замер чуткий дух в траве. Свершится! – шепчет чуткий дух. Раскрылся радужный чертог. И так прозрачен мир вокруг, Что за стволами – некий бог. (С. 107–108)Тот же лад и строй, раскрывающийся при созерцании природных явлений, видится Коневскому, когда он осмысляет мир человеческих связей, воплощающийся в истории, современности, мифологических и эстетических образах. Общий метафизический ракурс, характерный для всех его жизненных восприятий, закономерно сказывается и при обращении к этим сферам. Более всего он ценит органическую культуру, развивающуюся преемственно и самопроизвольно, постепенно реализующую заложенные в ней животворные потенции, и соответственно с неприязнью относится ко всем формам искусственной стимуляции роста и преобразовательным экспериментам. В этом отношении характерно убежденное неприятие Коневским своего родного города: Петербург чужд ему своей умышленностью и сконструированностью. «Но чтό увидишь ты, попав на проезжие улицы невской столицы? – риторически вопрошает он А. Я. Билибина (5 июня 1900 г.). – Убийственно прямые и длинные, пересекающиеся под прямым углом и зияюще-широкие мостовые между домами, которым подобных по пошлому уродству не найти ни в одном западноевропейском или русском городе ‹…› в то время как Москва и германо-романские средневековые города свиваются как гнездо, внутри их чувствуются живые недра, взрастившие и питающие их, обаятельны затаенными завитками и уголками своих закоулков, Питер весь сквозной, с его прямыми улицами, проходящими чуть не из одного конца города в другой; внутри его тщетно ищешь центра, сердцевины, в котором сгущались бы соки жизни, внутри – зияющая пустота, истощение».[124] Образ «демонического» Петербурга воссоздается в стихотворении «Убийственный туман сгустился над столицей…», в котором, однако, пугающие фантомы в конечном счете лишь оттеняют и на свой лад утверждают всеблагое начало, выявляя свою неподлинную сущность:
Ты – в мире демонов, зловонных и холодных, И в их руках теперь – теснящая судьба. Но сущий – ты один, создатель чар природных И тех же демонов, чтоб с ними шла борьба. (С. 149)Столь же искусственными, идущими вразрез с определившимися формами общественного мироустройства представляются Коневскому попытки изменить это мироустройство организованными волевыми усилиями. От радикальных политических устремлений своего времени он далек; во время студенческих волнений, охвативших в 1899 г. Петербургский университет, чувствует свою глубокую отчужденность от основной массы однокашников, не в состоянии разделять их эмоции, но и репрессивные действия со стороны властей решительно не приемлет:
Кто вы, откуда вы, юноши бледные? Что вы беснуетесь в чахлом весельи? Иль закручусь я и с вами в метели, И увлекусь в эти шумы бесследные? Шутки докучные, буйства печальные, Но и зачем же гоненья ненужные? («Zeitgedichte», I. «Сумятица»). (С. 190)Невосприимчивый к вирусу социально-политической активности, Коневской, однако, выказывал живой, но при этом вполне отстраненный интерес к многоразличным формам общественной жизни – в аспекте общего преклонения перед разнообразными яркими манифестациями витального начала, перед «биениями жизни». Самое законченное выражение этого начала он видит в поэзии Верхарна; в ней – «ожесточенная воля художника-эпика, художника-ваятеля, борющегося с расплывчатостью жизни, да и в среде жизненных явлений избирающего для изображения лишь проявления стихийной или волевой мощи»; в ней и новое совершенное воплощение национального фламандского типа, преодолевающее, разумеется, в восприятии Коневского свои конкретно-исторические очертания и благодаря творческой силе мастера обретающее высший смысл: «Вергэрен – достойный преемник Рубенса, Тениерса и Иорданса по преображению родного народа своего в вечное знамение буйного потока плоти. ‹…› Но живой энергией, сообщенной ему лоном того же родного края, он, конечно, неизмеримо вырастал из граней этого быта, и перед порывом этой энергии должны были расступиться стены и плетни фламандских сел. В тоске сумеречных осенних полей он вы´носил страстную мечту о борьбе самовластной воли с ширью мира».[125] Столь же высоко, как и Верхарна, Коневской ценит и почитает гораздо менее знаменитого поэта-современника – Франсиса Вьеле-Гриффена, активно разрабатывавшего в своем творчестве легендарно-исторические и фольклорные сюжеты: «Вьелэ-Гриффин обаевает меня сочетанием тонкой сложности и углубленности мысленных мотивов с изобилием образов, подчас – задушевных, нежных, подчас – державно-великолепных».[126] Ощущение полноты и насыщенности жизни привлекает Коневского в молодом Андре Жиде (совершенно еще неизвестном в России в 1890-е гг.); он переводит фрагмент из его книги «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897; у Коневского: «Земные кормы»), с похвалой отмечая, что в ней «этот отрешенный от мира умозритель воодушевляется верой в телесные ощущения жизни, и строгая и свободная душа его страстно разливается в самых явных, очевидных ощущениях сознания и тела, ликуя поет, превознося надо всем воображаемым и умственно созерцаемым каждое мгновенное прикосновение жизни к организму человека».[127] С воодушевлением откликнулся Коневской и на прочитанную им в рукописи поэму Брюсова «Царю Северного полюса», воспевающую плавание викингов в полярных широтах: в ней его привлекает «ширь горизонта и размах воздуха», а также «полная гармония этих свойств с крайней яркостью и пластичностью образов».[128]
Завороженность интенсивностью и безбрежностью проявления созерцаемых мировых сил влечет Коневского от форм индивидуального творческого самовыражения к эпическим картинам, которые наиболее полно и ярко разворачиваются для него в отдаленных исторических временах и в мифологической перспективе. В этой устремленности вновь сказывается оппозиция поэта по отношению к преобладающим в общественной психологии и литературе конца века сумеречным, пессимистическим и «декадентским» настроениям: «безгеройному» времени он противостоит манифестацией героического начала, прославляет ясность и бодрость духа. Знаменателен эпиграф, который он предпослал своим записям «Дума, сердце и размахи. Некоторые размышления», относящимся еще к зиме 1893–1894 гг.: «И в героическом, удалом движении заиграл луч вечной идеи» – из стихотворения «Теперь и всегда» («Ora e sempre») Джозуэ Кардуччи.[129] «Удалого движения» исполнены фольклорно-мифологические герои, которых Коневской увлеченно живописует («Старшие богатыри»), и исторические пращуры («Варяги», «Среда»). Соответственно и в современном русском изобразительном искусстве наибольшего внимания у него удостаиваются В. Васнецов и М. Нестеров, вдохновивший его на стихотворный диптих «Образы Нестерова», а также М. Врубель как автор картины «Микула Селянинович и Вольга Святославич»: «Проникновенный и необъятный символизм стихийной былины запечатлен на этом холсте с мощью каких-нибудь доисторических исполинов, переворачивавших камни».[130] Концентрируется мифотворческая энергетика Коневского, опять же, в тех культурно-географических сферах, которые обозначены избранным псевдонимом. «Варяжское» и «славянское» начала переплетаются и обогащают друг друга на финской почве, ему интимно близкой («древний город края моих праотцев»,[131] – говорит о Выборге он, правнук выборгского губернатора). Финский национальный эпос «Калевала» – один из вдохновляющих источников для его стихотворных вариаций.[132] Самый живой отклик в его душе находят и картины северной природы; с нею Коневской чувствует глубокую внутреннюю связь, истоки которой он прозревает в глубинах родовой истории:
И в луче я все солнце постигну, А в просветах берез – неба зрак. На уступе устой свой воздвигну, Я, из-за моря хмурый варяг. («С Коневца»). (С. 95)3
31 июля 1901 г. Н. Г. Дьяконов, зять Ореуса-отца (муж его сестры), писал Брюсову: «Знакомый Вам Иван Иванович Ореус после последнего письма его из Риги от 8 июля не давал о себе знать ни отцу своему, генералу Ореусу, ни мне, его дяде. Наводя всюду справки, генерал Иван Иванович Ореус поручил мне запросить Вас, не получали ли Вы каких-либо известий за последнее время от его сына».[133]
Последнее письмо Коневского, сохранившееся в архиве Брюсова, датировано 21 апреля 1901 г.; видимо, Брюсов и оповестил об этом Дьяконова, прося одновременно сообщить о результатах предпринятых поисков. 10 августа Брюсову написал Ореус-отец: «Согласно желанию вашему, уведомляю о трагической судьбе, постигшей моего сына, – он утонул, купаясь в р<еке> Аа, в Лифляндии. Вы его знали и ценили. Прошу вас – если вы человек верующий – помолиться о его детски-чистой душе».[134]
Обстоятельства гибели установил Дьяконов, отправившийся на поиски по следам предполагаемого летнего маршрута Коневского. В предисловии отца к посмертному сборнику произведений сына об этом говорится: «Коневской скончался 8 июля 1901 года, 23 лет от роду ‹…› Как и в предыдущие года, в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие (“странствие”, как говорил он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться… и утонул.
Все эти подробности выяснились, конечно, позже, так как свидетелей его смерти не было. Тело Коневского было найдено через несколько дней и предано земле местным лютеранским пастором. Только после усиленных розысков отцу удалось узнать о судьбе единственного сына… Немецкая аккуратность местных властей сберегла все оставшееся от неизвестного покойника: одежду, вещи, бумаги. По этим признакам узнали безымянное тело и восстановили события последнего дня.
Останки И. Коневского были вторично преданы земле уже по православному обряду. Особого православного кладбища в Зегевольде не оказалось. Тело Коневского было положено в лесу, прекрасно содержимом. ‹…› Коневской любил лес, любил ветер; лесу и ветру посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в лесу и, при чудной, ясной погоде, бушевал сильный ветер. Скромная могила осенена кленом, вязом и березой».[135]
Некоторые дополнительные штрихи можно почерпнуть в воспоминаниях О. В. Яфы-Синакевич: «Иван Иванович погиб жертвой своей рассеянности, – друзья не доглядели таки за ним: возвращаясь со свадьбы одного из них (А. Ф. Каля ‹…›), он спохватился в пути, что забыл у него свой паспорт, и вышел на небольшой станции (Зегеволь<д>), чтобы тотчас за ним вернуться. В ожидании обратного поезда, он сдал вещи на хранение и пошел купаться. Предполагают, что он увлекся и зашел слишком далеко. Может быть, он слагал стихи в свои последние минуты и, в экстазе вдохновенья, нечаянно, по рассеянности, перешел в вечность… ‹…› На берегу была найдена его одежда, а сданный на хранение чемодан оказался наполненным его рукописями».[136]
Отсутствие очевидцев гибели и реконструкция картины происшедшего по косвенным признакам и свидетельствам невольно вызывали подозрения относительно того, не был ли уход поэта из жизни сознательным. «Тогда же, – вспоминает Маковский, – пошел слух в литературных кругах: Коневской не утонул случайно (хотя река Аа и славится опасными водоворотами). Нет, он погиб добровольно, ушел из мира плоти (как истый романтик), плывя до потери сознания, до блаженного обморока, отдавая себя под рассветным небом возлюбленной стихии. Мечта поэта обратилась в его “безумие”. Стала явью, бессмертной в смерти». «Это миф, разумеется… – отвечает на давние пересуды сам Маковский. – Разве поэты такого духовного закала и такой религиозной озаренности кончают самоубийством?»[137] Действительно, думается, что достаточных оснований для версии о внезапном суицидном озарении, охватившем Коневского, не имеется: она решительно не согласуется с определяющими чертами мировоззрения и психологического облика поэта. Напротив, смерть в результате какой-то несчастной и непредвиденной случайности представляется объяснимой и в известном смысле даже закономерной: зафиксировано несколько эпизодов, в которых непрактичный, неприспособленный к жизненным условиям, рассеянный и погруженный в себя Коневской ненароком оказывался в опасном, угрожающем положении.[138]
В русской печати гибель Коневского осталась почти незамеченной. В разделе «Некрологи» журнала «Литературный Вестник» появилось краткое сообщение с двумя ошибками в двух строчках текста: «Иван Коневский <так!>, поэт-символист, по образованию филолог Московского университета <так!>, утонул летом в р. Аа (в Лифляндии)».[139] Оплакивали поэта, кроме родных, лишь немногие ценители его творческого дара в кругу писателей-символистов, а также близкие друзья и товарищи по университету. В мемуарах Яфы-Синакевич приведено незамысловатое, но продиктованное искренним чувством стихотворение Марии Станюкович «Памяти И. И. Ореуса (Ивана Коневского)»:
Он плавал в воде в день таинственно-жаркий, Его унесла серебристо-седая волна. И солнечный луч – и палящий, и яркий Его озарил пред лицом благодатного сна. Он юноша светлый с изысканной странностью думы, Он юноша вещий, исполненный трепетных сил. Его оглушили небесные, долгие шумы, Он, тихий и ясный, в глубоких волнах опочил.[140]Стихотворение Брюсова «Памяти И. Коневского», датированное 3 октября 1901 г., написано непосредственно вслед за получением письма Ореуса-отца (от 29 сентября) с рассказом о вторичном погребении сына «по православно-христианскому обряду»;[141] скорбно-поминальные формулы отступают в нем перед торжественным прославлением духовного величия ушедшего поэта:
Ты просиял и ты ушел, мгновенный, Из кубка нового один испив. И что предвидел ты, во всей вселенной Не повторит никто… Да, ты счастлив. Лишь, может быть, свободные стихии Прочли и отразили те мечты. Они и ты – вы были как родные, И вот вы близки вновь, – они и ты![142]Существует множество свидетельств того, насколько глубоко пережил Брюсов трагическую гибель Коневского, насколько большие надежды он возлагал на дальнейший рост его творческой личности. В «Мире Искусства» Брюсов опубликовал некрологическую статью «Мудрое дитя (памяти И. Коневского)»,[143] ставшую основой для его последующих очерков о поэте (наиболее развернутый был помещен в 1918 г. в 3-м томе «Русской литературы XX века» под редакцией С. А. Венгерова). По инициативе Брюсова было предпринято посмертное издание сочинений Коневского. Осуществлялось оно в сотрудничестве с генералом Ореусом и с помощью Н. М. Соколова, одного из близких друзей покойного, которому были предоставлены для работы над книгой творческие рукописи поэта. Предложение подготовить для издательства «Скорпион» посмертный сборник было сделано сразу же после получения известия о смерти Коневского (в неизвестном нам письме Брюсова к Ореусу-отцу, на которое тот откликнулся 29 августа 1901 г.[144]). Работа над книгой затянулась на два года. По первоначальному замыслу Брюсова, который он изложил осенью 1901 г. в письме к Н. М. Соколову, она предполагалась более объемной и многосоставной, чем тот сборник, который увидел свет и вобрал в себя большинство стихотворений Коневского и лишь малую часть написанного им в прозе: «… не начнете ли Вы уже теперь розыски писем Ив<ана> Ив<ановича>, из которых многие непременно должны бы войти в сборник? ‹…› Далее, не пора ли уже составлять те “воспоминания” и “характеристики”, которые мы приложим к изданию? Кто именно предлагает их? Вы, Семенов, Конради – трое? или еще кто? Вот что мне кажется самым первым делом. Во всяком случае раньше осени 1902 года нельзя надеяться напечатать книгу, значит время есть. Хорошо бы весь матерьял собрать (хоть не переписанным) к середине декабря. Я буду в Петербурге, и мы могли бы устно и сообща распределить между собой работу. По моим представлениям книжка могла бы быть тогда составлена в рукописи к марту или апрелю».[145] Ни по срокам, ни по составу задуманного издания воплотить этот план не удалось. 18 марта 1902 г. Брюсов писал тому же адресату: «Я видел Вашу работу над книгой Коневского. Кажется мне, это то самое, что нужно. Если Вам это дело по сердцу, – продолжайте его. Вам, вероятно, уже указали на замеченные мною (конечно, случайно) варианты, Вами не отмеченные, в длинненьком альбомчике у Ив. Ив. Ореуса-старшего. Этот альбомчик следовало бы использовать. Раньше лета приступать к печатанию не придется. Но соберем ли мы матерьялы к тому времени?»[146] Но и ровно год спустя дело существенно не продвинулось. В письме к Н. М. Минскому от 18 марта 1903 г. Брюсов сетовал на нерасторопность издательства «Скорпион»: «Друзьям Ореуса-Коневского обещали издать его посмертный сборник (кстати – это десятое обещание) два года назад, а тоже еще не начинали…»[147]
Выход в свет «Стихов и прозы» Ивана Коневского в последние дни декабря 1903 г. вызвал несколько печатных откликов. В изданиях, занимавших в целом негативную позицию по отношению к «новому» искусству, формулировка на титульном листе «Посмертное собрание сочинений» лишь в малой мере сумела приглушить негодующий пафос критиков-«традиционалистов». Более других готов был считаться с указанным обстоятельством анонимный рецензент в «Русской Мысли»; по его мнению, «книга эта не может иметь литературного значения», она – «только история исканий рано умершего человека, и только в этом смысле, в смысле документов, рисующих историю тяжелых душевных усилий, она интересна», в целом же «личность автора остается неясной и непонятной»: «Если вглядеться в отрывистые, угловатые стихи, в прозу, какую-то лихорадочную, тяжелую, видно только одно: мы, читатели, как бы присутствуем при ряде тяжелых, трудных опытов, которые производил над собой остро мыслящий человек с целью найти, определить самого себя и свой путь».[148] Н. П. Ашешов, снисходительно отозвавшись о прозе Коневского («Тут хоть что-нибудь можно понять. И мы должны признать, что у молодого автора было несомненное критическое чутье и искренность»), в оценке его стихов беспощаден: «чепуха, в которой разобраться может только модернист, освободившийся от законов восприятия, мышления, умственных понятий и т. д.»[149] Наконец, поэт и консервативный публицист Николай Матвеевич Соколов в своем отзыве счел необходимым отмежеваться от составителя посмертного сборника, Н. М. (Николая Михайловича) Соколова, а при аттестации стихов Коневского не пожалел бранных слов («глупая белиберда», «предел глупости», «вымученная и кривляющаяся изломанность»): «Какими идиотами надо считать читателей, чтобы издавать и пускать в продажу эту неутомимую и ожесточенную чепуху!»[150]
Наряду с этими вердиктами появились, однако, и аналитические характеристики творчества Коневского, продиктованные стремлением понять и беспристрастно оценить его своеобразие и художественную значимость. А. А. Смирнов, в 1900-е гг. начинающий поэт и критик из круга петербургских модернистов, а впоследствии видный филолог, историк западноевропейских литератур, в статье «Поэт бесплотия» отметил «редкий, исключительный талант», проявляющийся «в острой сознательности, разумности» его поэзии: «Но эта сознательность – не обыкновенный, будничный рационализм. Принимая безудержный, стихийный характер, она достигает у него сверхчеловеческой силы. Природа, жизнь совершенно преображаются в его творчестве. Это – какая-то новая, мистическая натурфилософия, с ее своеобразным, поражающим “разумом” гор, моря, городов…»[151] Вместе с тем Смирнов осознает внутреннюю недостаточность, ущербность такого всеобъемлющего разума: «Этот холодный, мертвенный разум, эта попытка диалектики разрешить живой разлад едва ли кого удовлетворит» – и идет от такого осознания к предположению о том, что у Коневского не было внутренних потенций для разрешения противоречий, заложенных в его мировоззрении и творчестве (среди которых важнейшее – противоречие между глубокой любовью к жизни и «отречением от плоти»), что его индивидуальность окончательно сформировалась и воплотилась: «…ясно видно, как он все более замыкался в своем кругу. Какой-то рок, казалось, завладел им, и неожиданно ранняя смерть его не удивляет, не возмущает. Заметно, как творчество Коневского слабеет в последние два года его жизни. Он совершил свой малый круг, и совершить другой, более великий, ему не было дано».[152]
Еще более высокую оценку творчества Коневского дает автор статьи «Неизвестный поэт» С. Крымский (С. Г. Кара-Мурза). Если Смирнов прислушивается особенно чутко к нотам внутреннего разлада в самосознающей душе поэта, то для С. Крымского его художественный мир привлекателен прежде всего отображением в нем стихийной цельности и полноты бытия: «Коневской, по своим творческим настроениям и по своим теоретическим воззрениям на искусство, несомненно примыкает к группе наших молодых поэтов, во главе которых идут гг. Бальмонт и Брюсов. Но ни у одного из них я не встречал такого непосредственного, такого первобытно-девственного, чисто овидиевского проникновения в жизнь природы, каким отмечены все произведения Коневского. И в этой целомудренной любви к космосу таится ‹…› вся красота и прелесть его поэзии».[153] На тех же мажорных началах акцентирует внимание Н. О. Лернер в своем почти восторженном литературном портрете Коневского, обретающего под его пером черты нового Эвфориона – прекрасного юноши, сына Фауста и Елены из второй части трагедии Гёте, гибнущего в своем неудержимом стремлении в мировую беспредельность. Коневской в интерпретации Лернера – «вечный тайновидец», способный «зорко и пытливо» взирать на «солнце истины».[154]
В 1904 г., когда вышел в свет посмертный сборник произведений Коневского, уже заявили о себе в литературе наиболее крупные представители второй волны русского символизма, поэты мистико-теургического склада, по отношению к которым автор книги «Мечты и Думы» во многом оказывался предтечей. Однако это обстоятельство утверждению высокой репутации натурфилософской поэзии Коневского существенно не способствовало. Влияние ее на поэзию начала XX века было не магистральным, а своего рода «боковым», спорадически сказывающимся у авторов, принадлежавших к разным литературным поколениям. Замкнутый в своей самодостаточности, художественный мир Коневского лишь в редких случаях способен был стимулировать и обогащать творческие силы других поэтов.
Андрей Белый, дерзновенный «новатор», чьи первые литературные опыты побудили Брюсова летом 1902 г. с надеждой провозгласить: «Вот очередной на место Коневского!»,[155] – живого интереса к произведениям укорененного «архаиста» не проявил. Очевидные черты сходства с Коневским находили у Вячеслава Иванова; кажется, первым на эту параллель указал в упоминавшейся статье С. Крымский: «Стих Коневского, по большей части, легок и как-то мечтательно прозрачен, и это несмотря на то, что слова и эпитеты поэта временами бывают как-то умышленно тяжеловесны. Он нередко употребляет архаические русские слова, из боязни банальным обиходным словом навлечь оттенок будничной пошлости на изображаемый предмет. В этом отношении Коневской несколько напоминает другого, также мало известного, но весьма оригинального поэта Вячеслава Иванова».[156] Последний сумел воспринять творчество Коневского надлежащим образом («Его искания и постижения представляются мне полными глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрасным»), но серьезного внимания к нему не выказал и от родившейся было идеи написать о нем отказался: «…влечет – но и пугает трудностью тонкой задачи».[157] Н. Л. Степанов справедливо видит развитие круга тем и мотивов, характерных для Коневского, в поэзии Ю. Балтрушайтиса, в которой также «основной философской идеей ‹…› является соотношение личности и мира, познание его трансцендентной сущности», а в плане выражения «сказывается сочетание абстрактно-философской схемы и словесной точности, отличающее и поэзию Коневского».[158] Но в данном случае скорее можно говорить о созвучии творческих индивидуальностей, чем о непосредственном влиянии. Наиболее отчетливым и глубоко проникающим было воздействие Коневского на лирику Блока. В рецензии на книгу А. Л. Миропольского (1905), включающую поэму «Лествица», посвященную Коневскому, Блок воспользовался этим поводом, чтобы очертить в нескольких строках тот образ покойного поэта, который сложился в его сознании. По мысли Блока, Коневской представляет собой определенный этап русской поэзии, когда она из «собственно-декадентства» стала переходить к символизму; «одним из признаков этого перехода было совсем особенное, углубленное и отдаленное чувство связи со своей страной и своей природой», и в стихах Коневского он улавливает самое подлинное и глубокое постижение этого многосоставного «почвенного» начала: «финская Русь была воспринята им сильно, уверенно – во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности».[159] Многообразные следы влияния Коневского на Блока, фиксируемые в целом ряде скрытых цитат и реминисценций, концентрируются в основном в плане раскрытия «родовых», эпических пластов бытия (наиболее наглядно эта связь иллюстрируется сопоставлением стихотворения Коневского «В роды и роды» с циклом Блока «На поле Куликовом»).[160]
Среди меньших по масштабу поэтов символистской школы «гениального Ивана Коневского»[161] почитал Вл. Пяст; тому свидетельство – его стихотворение «На мотивы Ив. Коневского»:
Не хочу я глубин своеволья, – Мне лишь Воли мила безграничность; Пусть глубинно, – но смрадно подполье: В нем задохнется сильная личность. <….. > Собери ж своей Воли зачатки Для достойного плоти боренья. – Будут вновь непорочны, и сладки, И безмерны тебе откровенья.[162]Былой сподвижник и затем пристрастный критик его поэзии, Вл. Гиппиус после смерти Коневского сумел воспринять его творчество новыми глазами. Разделу «Преходимость» в книге стихов Гиппиуса (Вл. Бестужева) «Возвращение» предпослано посвящение: И. И. Ореусу,[163] – а другой сборник того же автора, подписанный псевдонимом Вл. Нелединский, в подборке сонетов на темы пережитых литературных интересов и привязанностей («Л. Толстой», «Иные», «Федор Сологуб», «А. Белый и Чехов» и др.) содержит и сонет «Ив. Коневской»:
Ореус милый! отрок прозорливый, Встревоженный от колыбельных дней До ранней смерти сумраком зыбей, В которых и погиб – за то, что так любил их. Любил ты зыбь во всем, что есть; улыбкой Встречал ты смену равнодушных дней, И ты любил усиливать их зыбкий И мерный гул – в разгуле их скорбей, В разливе их страстей. – Неутолимый В тоске и радости, ты мимо, мимо Всего, что чувственно, – скользил, скользил; Но чувственно – лишь холод струй любил: И он тебя настиг – и охватил Последней зыбью – так неодолимо![164]Память о Коневском побуждала к паломничествам на его могилу. В первую годовщину гибели поэта там побывали его отец и Н. Г. Дьяконов, а также А. Я. Билибин, возложивший венок от товарищей Коневского по гимназии, в июле 1903 г. – они же вместе с А. Ф. Калем и Ф. А. Лютером.[165] В июле 1911 г. могилу Коневского посетил Брюсов (эту поездку описала в своих воспоминаниях сопровождавшая его Н. Петровская[166]). В результате возникло его стихотворение «На могиле Ивана Коневского» (13 июля 1911 г.):
Я посетил твой прах, забытый и далекий, На сельском кладбище, среди простых крестов, Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий, Любовник тишины и несказанных снов. Ты позабыт давно друзьями и врагами, И близкие тебе давно все отошли, Но связь давнишняя не порвалась меж нами, Двух клявшихся навек – жить радостью земли![167]Еще один литератор, побывавший на месте упокоения Коневского, – давний его почитатель С. Г. Кара-Мурза, упомянувший об этом в одном из своих газетных очерков: «Зегевольд – это прелестное горное местечко, прозванное Ливонской Швейцарией. Покрытый яркой зеленью лиственного леса, глубокий обрыв навевает помимо красоты своей величественной картины яркие, исторические воспоминания, так как в густом лесу притаены остатки громадных рыцарских крепостей, возведенных ливонским орденом меченосцев ‹…› На дне этого колоссального обрыва протекает быстрая речка Аа, где и нашел свою погибель Коневской ‹…›».[168]
И еще один посетитель Зегевольда поведал о своей близости к Коневскому, «позабытому давно», как думалось Брюсову, «друзьями и врагами», но сохранившему способность вызывать живой отклик у новых мастеров поэтического слова, – Осип Мандельштам, живший там с семьей в ранней юности, летом 1906 г., а до того обучавшийся русскому языку и литературе в Тенишевском училище у «формовщика душ», Вл. В. Гиппиуса. В «Шуме времени» воспоминания о Зегевольде сливаются с мыслью о Коневском: «Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде ‹…› я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков ‹…›».[169]
Обойденный вниманием со стороны «русской молодежи», по слову Мандельштама, и вообще широких читательских кругов, Коневской со своими «трудными стихами» был воспринят и выделен из общего ряда предшественников в 1910-е гг. поэтами, принадлежавшими к различным литературным «конфессиям», – Вл. Нарбутом и Н. Гумилевым[170] в той же мере, как и С. Бобровым, Б. Пастернаком и Н. Асеевым: стихи «трудные» и «корявые» обнаруживали свою притягательную силу для тех, кто уже был пресыщен символистской мелодической виртуозностью. Знали о Коневском и стихотворцы, лишь мимолетно промелькнувшие на литературном горизонте. Выступавший в начале 1920-х гг. со стихами в витебских и петроградских изданиях С. М. Дионесов[171] написал в 1918 г. стихотворение «Памяти Ивана Коневского», которое позднее включил в свой рукописный сборник «Стихотворения» (1925), находившийся в библиотеке Г. А. Шенгели. Приводим эту пробу пера семнадцатилетнего автора как знак того, что личность и судьба Коневского иногда способны были волновать и вполне рядовых представителей «русской молодежи»:
Река таинственно молчала, аир шептался вдалеке, на золотящемся песке младое тело остывало. Живою Бездной взят певец святых восторгов мирозданья, кто сталь горящего сознанья вонзал в излучины сердец. Влекла неведомая сила его к таинственным волнам; река взяла его и нам труп бездыханный возвратила.[172]В пореволюционные десятилетия имя Коневского, казалось, вообще растворилось в далекой историко-литературной перспективе. Попытка Н. Л. Степанова выпустить в свет собрание его произведений успехом не увенчалась; сыграли свою роль, вероятно, и случайные причины, но сказалась в этом и определенная закономерность: отвлеченная философская поэзия откровенно идеалистического и даже религиозного содержания, принадлежавшая малоизвестному автору, творившему на рубеже XIX – XX веков и непосредственно связанному с символизмом, воплощением литературной «реакции», была мало приемлемой для советской печати. Всеми сторонами своей личности и характером своего мышления Коневской был решительно чужд тем антропометрическим стандартам, которые насаждались в «стране Советов», и показательно, что людям его ближайшего окружения, с которыми он общался в течение своей недолгой жизни, довелось вспоминать о нем в условиях, не ими самими созданных. О. В. Яфа-Синакевич описывает в мемуарах свое пребывание в ссылке в 1931–1932 гг. в городе Кадникове Вологодской губернии, где она познакомилась с другой политической ссыльной, Верой Федоровной Штейн: «Как только я упомянула братьев Билибиных и Ореуса, – В. Ф. схватила меня за руку и остановилась как вкопанная: – Ореуса?! Вы знали Ваню Ореуса?!! Да ведь мы с ним росли вместе! ‹…› он, уже будучи студентом, все хотел познакомить меня с какими-то своими друзьями, хотел ввести в какой-то кружок барышень и студентов ‹…› Так вы, значит, и были одна из этих барышень?»[173] Там же, в Кадникове, покойный Коневской сблизил их обеих еще с одним ссыльным, Вл. Пястом: 25 августа 1932 г. они «возвращались на закате нагруженные букетами полевых цветов, а Пяст тихо вспоминал стихи Ореуса про закаты».[174] Порой о Коневском вспоминали и в русской эмиграции. В лирико-аналитических рассуждениях Г. Адамовича мимоходом возникает «мало кому уже ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на истинных весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами».[175]
В краткой заметке, предпосланной подборке стихотворений Коневского, Р. Тименчик отмечает ряд конкретных импульсов, которые получили от поэта, погибшего на заре XX века, русские поэты, этот век определившие: «Стихи Коневского – распутье, перепутье русской поэзии двух веков ‹…› в складках интонации мерещатся голоса завтрашней русской поэзии. “Обетование” предвещает мелодику гумилевского хоровода пространств и времен. “Душе моей затворнице не выйти на порог” пророчит пастернаковскую “Душу”, “Наброски оды” – мандельштамовскую “биологическую поэтику”, а в стихотворении “Прояснение” –
Темнолазурные моря, Недосягаемые скалы, Златорумяная заря, Что по горам меня искала, И девы дивные дубрав Несутся, силы все собрав, –против последних двух строк мой покойный друг отметил в унаследованном мной экземпляре: “Хлебников”».[176]
Действительно, стихотворения Коневского аккумулировали в себе многие образно-интонационные ходы и построения, которые будут востребованы поэтической культурой в последующие десятилетия, будут рассредоточены по различным руслам, одно из которых отметил покойный блестящий знаток и собиратель русских поэтических книг XX века Ю. М. Гельперин, и хочется надеяться, что знакомство с «мечтами и думами» поэта, обделенного читательским и даже профессиональным филологическим вниманием, будет способствовать выявлению и осмыслению этих опознаваемых преемственных связей. «Хоть и не узнанный современниками, – писал о Коневском С. Маковский, – он был воистину предтечей “новой” поэзии нашей и останется в ее истории безусловнее, чем многие вожди старшего поколения».[177]
Иван Коневской: Перспективы освоения творческого наследия
«Он один из классиков русской поэзии, известный лишь посвященным‹…›».[178] Эта аттестация, данная Ивану Коневскому в 1920 г. князем Д. П. Святополк-Мирским в статье «Русское письмо. Символисты», может быть повторена и сейчас, более чем сто лет спустя после трагической гибели поэта. Для историков русской литературы рубежа XIX–XX веков творчество Коневского обычно оставалось на периферии их внимания, а тем исследователям, которые проявляли живой интерес к этому своеобразнейшему и духовно вполне сформировавшемуся, несмотря на раннюю смерть, поэту-мыслителю, фатально не удавалось довести результаты своей работы до читателя. В 1930-е гг. первое научное издание сочинений Коневского подготовил Н. Л. Степанов, но оно так и не вышло в свет; лишь десятилетия спустя была опубликована в извлечениях написанная для него вступительная статья ученого.[179] В последние годы жизни интенсивно занималась изучением Коневского З. Г. Минц; в 1975 г. она прочитала обобщающий доклад о нем в Тарту на конференции «Творчество А. Блока и русская культура XX века», а за несколько месяцев до кончины, в июле 1990 г. на IV международном славистическом конгрессе в Харрогейте, выступила оппонентом по докладу Дж. Д. Гроссман «Иван Коневской: Святогор русского символизма», сделав фактически содоклад, содержавший подробную аналитическую характеристику личности и творчества поэта. Однако оформить надлежащим образом свои изыскания и размышления она не успела; завершенной статьи об Иване Коневском у З. Г. Минц нет. Лишь в последние десятилетия исследовательское внимание к Коневскому несколько оживилось; в частности, появились два издания его сочинений – том, объединивший все ранее опубликованные тексты Коневского, дополненные разделом «Иван Коневской в стихотворениях, критических суждениях, воспоминаниях современников»,[180] и собрание стихотворений поэта, в котором использованы материалы из архива Коневского.[181]
При жизни Коневского вышла в свет всего одна его авторская книга – «Мечты и Думы» (1900), включавшая стихотворения и прозаические этюды. Преобладающее большинство стихотворений и избранные произведения в прозе составили сборник «Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений» (М., «Скорпион», 1904), подготовленный другом покойного поэта и его товарищем по Петербургскому университету Н. М. Соколовым и изданный под общей редакцией и со вступительной статьей Валерия Брюсова. В этих двух книгах, однако, представлена лишь часть творческого наследия Коневского; значительное количество его прозаических опытов, а также художественные переводы западноевропейских авторов, выполненные им в прозе, остались невостребованными в архиве.
Что касается самого архива Коневского, доступного на сегодняшний день исследователям, то приходится с сожалением констатировать, что он сохранился далеко не в полном объеме. Бумаги поэта остались у его отца, генерала И. И. Ореуса, который после гибели сына предоставил их Н. М. Соколову; предоставил явно не всё, что было тогда в его распоряжении: не были переданы документы и материалы, касающиеся биографии поэта (как свидетельствует Брюсов в статье «Иван Коневской (1877–1901 г.)», генерал «не позволил сыну выступать в литературе под своим именем, заставив его взять себе все скрывающий псевдоним», и даже после безвременной кончины «не разрешил назвать в печати настоящее имя поэта»[182]), письма к нему (уцелели лишь письма Брюсова, возвращенные их автору и отложившиеся в его архиве), ранние творческие опыты. Горячо любивший сына и тяжело перенесший его утрату, старик Ореус оставался невосприимчивым к его творческим исканиям и не разделял его эстетических пристрастий; это не могло не сказаться и на его отношении к рукописям, обладателем которых он стал. В письме к Брюсову от 6 октября 1901 г. Ореус-отец обещал переслать ему рукописи Коневского: «…разумеется, исключив те, которые никому кроме меня не интересны»; по выходе же в свет посмертного издания сочинений сына отдал распоряжение Брюсову (2 января 1904 г.): «…оставшиеся у вас рукописи прошу сжечь, – конечно, кроме тех, которые еще не напечатаны и которыми вы предполагаете воспользоваться для ваших изданий».[183] Вполне вероятно, что именно таким образом генерал Ореус поступил с остававшимися у него рукописными материалами, которые не были переданы Соколову и Брюсову; впрочем, судьба архива Ореуса-отца, умершего в 1909 г., неизвестна. Тем самым оказались утраченными многие ценные материалы, главным образом касающиеся биографии Коневского и его жизненного окружения (остаются неустановленными, в частности, адресаты ряда стихотворений Коневского, а также некоторые отраженные в них жизненные реалии).
Известно, что от Соколова часть рукописей Коневского поступила к Брюсову; неизвестно, однако, какие рукописи остались у Соколова: никаких следов его архива не обнаружено. Материалы Коневского, переданные Брюсову, частично отложились в его архиве (РГБ. Ф. 386), частично были переданы в Государственный литературный музей и затем в ЦГАЛИ, составив основу личного фонда Коневского (ныне: РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1); однако в начале 1930-х гг., когда архив Брюсова еще находился в распоряжении его вдовы, И. М. Брюсовой, часть материалов Коневского была передана Н. Л. Степанову для подготовки упомянутого выше несостоявшегося издания его сочинений. Впоследствии бóльшая часть этих бумаг пополнила личный фонд Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2, 3), однако меньшая часть на государственное хранение так и не поступила. Таким образом, каждый этап миграции архива Коневского характеризуется очередным умалением исходного комплекса текстов. Имеются отдельные определенные сведения о том, что изначально входило в этот комплекс (в том, что исключительно аккуратный до педантизма Коневской бережно сохранял свои рукописи и полученные им письма, сомневаться не приходится) и чем мы располагаем на сегодняшний день. Так, в одной из записных книжек Коневского имеется регистрационная запись: «Переписка моя с Веселовым (со времени разлуки с ним 30 мая 1896 г.)» – и далее перечислены 6 писем к гимназическому другу А. М. Веселову с точными датировками (с 10 июля 1896 до 4 июля 1897 г.) и 5 ответных писем Веселова.[184] Ни одно из указанных писем не выявлено, известны и опубликованы лишь 2 письма Коневского к Веселову, остающиеся за хронологическими рамками этого перечня: от 22 ноября 1897 г. и 9 октября 1898 г.[185] Вообще из писем Коневского к товарищам по гимназии и Петербургскому университету сохранилась лишь малая часть.
Остается признать, что большое количество документальных источников для исследования жизненного пути и творчества Коневского утрачено – и, скорее всего, безвозвратно. Тем не менее значительная часть архива Коневского, и прежде всего его творческие рукописи и предварительные заготовки к ним, сохранилась. Некоторые из этих произведений были напечатаны вскоре после гибели Коневского и вошли в его посмертное собрание, некоторые введены в читательский оборот в новейшее время, однако многочисленные рукописи (философские этюды, аналитические характеристики писателей, путевые заметки, записи дневникового характера и т. д.) остаются неизданными. Те же тексты Коневского, которые были опубликованы в начале XX века, не всегда с необходимой точностью воспроизводят оригинал: сокращения и редакторская правка рукописи считались в ходе подготовки этих публикаций допустимыми. Наглядный пример неаутентичного воспроизведения текста – публикация статьи «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины», которую Коневской незадолго до смерти представил в альманах «Северные цветы»,[186] где она и появилась (и в той же редакции перепечатана в новейшем издании сочинений Коневского).[187] Сравнение опубликованной версии с беловым автографом статьи[188] (который, видимо, и был предложен автором для альманаха) свидетельствует о том, что с текстом Коневского в данном случае обошлись крайне своевольно: сняты начало и конец статьи, изъяты несколько фрагментов из ее середины, опущен ряд стихотворных цитат. Эти сокращения коснулись отнюдь не длиннот или необязательных деталей и мелочей, но вполне концептуальных развернутых фрагментов. Как пример приведем изъятую заключительную часть статьи, в которой анализ поэзии Щербины дополняется параллелями с творчеством А. Н. Майкова:
Чтобы довершить характеристику мировоззрения Щербины, которое, как видно было, вскормлено было пластикой и образностью классической древности в их цельном и точном виде, а религию и метафизику ее обновляла в осложненном виде германского умозрения, остается отметить одну более частную, но чрезвычайно знаменательную черту. Нельзя не обратить внимания, при изучении всего объема стихотворений этого служителя т<ак> н<азываемой> «античности», что в этой культуре его влекут и очаровывают только те периоды ее, которые созданы были вполне обособленным еще характером эллинских племен, а все творчество Рима не возбуждает в нем, по-видимому, никакого участия. Но и уединенно эллинский быт и строй чувств и мыслей внушил его поэзии вполне достойные его и прочувствованные мотивы только характером своей пластики и полусвященной лирики, какая находила свое выражение в дифирамбах, одах, гимнах и трагических хорах. Поверхностным и незначительным является все, в чем Щербина задумывает воспроизводить тон идиллии, этого наиболее отличительного для александрийских периодов рода древней поэзии. Прямо постыдным и оскорбительным для памяти поэта художественным и мыслительным недоразумением представляются его сатиры и эпиграммы, этот особенно свойственный латинцам поэтический склад, отдел, занимающий в собрании его сочинений даже немалые размеры, но почти неудобочитаемый.
Между тем, если взглянуть на творчество другого русского стихотворца, славящегося как воспроизводитель классической древности, Ап. Н. Майкова, бываешь поражен тем внушительным преобладанием, каким пользуется в его кругозоре культура и гражданство Рима и вообще Италии. Один из краеугольных камней его поэтического творчества – александринские стихи, прямо дающие полную картину римского племени и общественности (Древний Рим). Что же касается до его отношения к самобытной Элладе, то нельзя не вспомнить на этот счет метко обобщающего суждения со стороны такого понимателя классического мира, как проф. Зелинский,[189] о том, что из эллинской среды Майковым были ощущены только картины александрийских идилликов.[190] От себя прибавим, что тем же задушевным чутьем идиллии сложился тот отдел поэзии Майкова, который один может сравниться с его прославлениями римского могущества – цикл детских настроений, обвеянных обстановкой русской деревни (во главе их – такая драгоценность его творчества, как идиллия: «Рыбная Ловля»).
Замечательно, для проверки майковского отношения к глубочайшим замыслам эллинской религии, его изображение полуденного сна «великого Пана».[191] Этот таинственный бог и Майкову внушает, правда, чрезвычайно чуткое и вещее внимание полуденной тишины, но с начала до конца его напев не призывает ни к чему, как только к тому, чтобы не был возмущен безмятежный глубокий сон великого жизнедавца. Можно сказать, что для Майкова Пан есть лишь верховный гений-хранитель детски мирного благоденствия, его освящение. Между тем, в стихах Щербины не тот ли самый бог Целокупности явственно чувствуется в дуновениях приближающихся бурь, «в лоне природы, в борьбе и волненьях, в страстных вакхических мира стремленьях»?[192] Не рисуется ли он воображению в трагических восторгах этого поэта, как олицетворенная священная энергия всего мира? Он же – и властитель вечного вешнего блаженства, он «сладко дремлет на солнце»,[193] но это уже вовсе не та беспечальная, туманно грезящаяся дремота среди камышей, какую представлял себе Майков, а покой всезрящий, отмеченный великолепным героическим сознанием своей внутренней мощи.
Значит, по-видимому, Майкову наиболее понятны и близки пребыли в «древнем мире» образы его вполне внешних прелестей и гармоний. Выражениями его нежной думы показались несложные позднегреческие идиллии, которые при том представились автору даже с большей жизненностью, когда им пересажены были на русскую почву. А гордая, жадная и творческая страсть эллино-римских народов виделась ему ни в чем, как в только извне движимом государственном управлении и построении римской власти. Он задивовался только на этот образ гармонии огромной, но мертвой, механической, которая содержалась в единстве лишь мастерским рассудочным распределением общественных отправлений и сосредоточивающим самовластием высокомерных, замкнутых в себе воль. Мимо внимания его прошла та гармония, то кровное общение душ, которому далеко было до сплочивающей, сколачивающей железом властительности Рима, но которое в недолговременном своем действии проникала таким обаянием небольшие городские общины эллинов и сходбища их на торжественных празднествах – обрядовых зрелищах и играх.
Щербина с задушевной любовью вслушался единственно в благоговейные строфы празднественных од и тайнодейственных гимнов и в величавые размеры трагических хоров: эти звуки слышались ему и за вдохновенными размышлениями философов, и за великолепием мраморных изваяний. В них чувствовалось ему истое объединение человеческих и мировых лиц, перед которым представлялось ничтожным изящество и величие Рима.
И так не был ли им сделан хоть шаг в сторону той цели, о которой упомянуто было проф. Зелинским в том же рассуждении о Майкове? Там отмечено было, что Майков не может быть назван деятелем того движения, которое должно наступить и которому принадлежит имя «Славянского Возрождения Древности» подобно тому, как XVI век назван Итальянским возрождением, век Гёте и Шиллера Германским возрождением классического мира.[194] Но выдающуюся характеристику этого движения профессор-классик признавал в книге полуславянина[195] Ницше о древнегреческой драме: «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» – книге, по выражению Ф. Ф. Зелинского – «чудной, истинно вакхической».[196] Вообще, глубокое понимание этой стороны древнегреческого духа, которая обнаруживалась с наибольшей полнотой в древнем культе Диониса-Вакха, которая, по новым исследованиям, и сложила хоровые части трагедий, ядро их действия, тот же знаток древности признавал существенным признаком, который должен принадлежать новому славянскому восприятию древности. И не присуще ли это свойство в высокой степени всему настроению творчества Щербины, для которого весь мир людской и природный представлялся «бегом вакхического хора», и средь его «кликов, плясок и песен»[197] поэт переживал нескончаемое самоутопление и самовозрождение?
10 – 28 февр. 1901.
Иван Ореус.[198]
Одним из важнейших источников для осмысления творческой личности Коневского являются его записные книжки; в них аккумулированы основные исходные импульсы для многообразных последующих вариаций самовыражения в стихах и прозе. Сохранилось 11 записных книжек за 1893–1900 гг., в них занесены черновые автографы стихотворений, дневниковые записи, заметки информационного и регистрационного характера, тематические описательные и аналитические фрагменты. Последние представляют особый интерес; созерцательный характер поэтической индивидуальности Коневского нагляднее всего раскрывается в зафиксированных им описаниях городов и местностей, во впечатлениях и рефлексиях, порожденных впервые увиденными различными ликами земли. В книге Коневского «Мечты и Думы» произведения этого рода скомпонованы в два раздела – «Видения странствий» и «Умозрения странствий»; входящие в них стихотворения и прозаические этюды написаны по следам двух путешествий по Европе, предпринятых автором в 1897 и 1898 гг. Ближайший аналог этим текстам правомерно усмотреть в ландшафтных медитациях европейских поэтов-романтиков; преемственную связь с ними подчеркивает сам Коневской, включая в виде эпиграфов к разделам цитаты из Вордсворта, Шелли и Китса. Свои «видения» и «умозрения» Коневской начал фиксировать, еще будучи гимназистом; уже во 2-й записной книжке (лето 1894 или 1895 г.) содержится фрагмент, написанный под впечатлением от Гельсингфорса («Одиночное путешествие в Гельсингфорс (“чтоб задать форс”)»[199]):
Гельсингфорс – в полном смысле слова дышащий и проникнутый полной жизнью город. Живость эта – не грубая и грязная хлопотливость промышленных и торговых приморских городов, вроде Марсели, Одессы, Ливерпуля, не та живость, которая воплощает в себе всю безобразную и уродливую сторону современной культуры. Нет, жизнь Гельсингфорса кажется мне проникнутой какой-то светлой, но возвышенной и деятельной жизнерадостью, которая прежде всего не может существовать без красоты. Куда ни ступишь в Гельсингфорсе, всюду – красота и изящество, так что просто загляденье, любо-дорого смотреть. Чувствуется, что главный нерв жизни города – служение музам в науке и искусстве, а промышленность и торговля лишь второстепенные отправления его. Я не видел почти ни одного здания в Гельсингфорсе, которое не носило бы на себе оттенок изящества, чего-то с любовью отделанного и отточенного. Этой любви гельсингфорсцев к созданию красивой обстановки удивительно благоприятствует и естественное его местоположение, представляющее собою чудесное сочетание красот морской и земной природы. Стиль искусственной красоты в Гельсингфорсе скорее всего приближается к древнему классическому, а иногда – ренессансу.[200] От этого и общий колорит города близко роднится с колоритом древнегреческого приморского города, однако с довольно резко обозначенным оттенком чего-то более сложного, горячего и страстного, даже таинственного, привнесенного новыми веками. Во всем этом стройном благообразии гельсингфорсской физиономии чувствуется, однако, тот мощный порыв к неведомой красоте, который в свою очередь неведом был древнему миру; этот ненасытный порыв сказывается, может быть, даже именно в том многообразии и сочетании различных стилей, которое усвоила себе современная архитектура вообще, и гельсингфорсская – в частности: то на тех, то на других путях, изыскиваемых с неутомимой силой фантазии и изобретательности, современное искусство усиливается явить миру свой чудесный идеал, и… до сих пор все не может удовлетвориться ею изысканным. Вот эта-то беспредельность искания в современном искусстве чудится мне с большой ясностью и в красоте гельсингфорсских строений. Но все же, любуясь на них, современная душа, жаждущая красоты, – как художника, так и простого платонического любителя ее, – может хотя до некоторой степени найти себе отраду и утоление после мучительного жгучего раздражения, которое должна возбудить в ней гнусная облупленность, топорность и казенщина, царящая в строениях даже столиц современного мира, а именно – в большинстве зданий «распрекрасного» Петербурга.[201]
(Негативное отношение к своему родному городу, выраженное в последних строках приведенного фрагмента, Коневской сохранил и в последующие годы.[202])
Уже в этом фрагменте сказывается характерная особенность мировидения Коневского – отсутствие локализованных, дискретных описаний и впечатлений (от отдельных зданий, улиц, памятников и т. п.) и обобщенный характер наблюдений и размышлений; все частности и конкретные детали, фиксируемые воспринимающим сознанием, суммируются в некий единый образ, который воссоздается посредством дефиниций, позволяющих сквозь совокупность внешних обликов уловить и осязать некую абстрактную историко-культурную модель. От непосредственных восприятий мысль Коневского неизменно устремляется к наблюдениям историософского характера, к размышлениям, уводящим в сферы этнического, национального и культурного генезиса. Несколько таких фрагментов, в значительной части извлеченных из записных книжек, составили в посмертном издании сочинений Коневского разделы «Русь (Из летописи странствий)» и «Мысли и замечания».[203] Целый ряд путевых заметок, содержащихся в записных книжках, Коневской включил в «Видения странствий» и «Умозрения странствий», иногда лишь с небольшими стилевыми и смысловыми изменениями и дополнениями, иногда в переработанном и более развернутом виде. Некоторые весьма содержательные фрагменты, однако, не были им доведены до печати. Так, записи, относящиеся к летнему путешествию 1897 г. («Летопись странствия. I. 4 – 28 июня»[204]) и имеющие поначалу отрывочный регистрационный характер («Переезд Петроград – Варшава», «Луга», «Псков», «Вильна», «Гродно»), включают фрагмент, суммирующий первые впечатления от впервые увиденных краев, которые служат в то же время своего рода трамплином для сугубо умозрительных построений:[205]
Варшава. Западной Европой пахнуло, буквально – пахнуло; на улицах почувствовался европейский запах, составленный из неуловимых оттенков. Дома тоже слажены и отделаны так, что чувствуется – здесь народ, у которого природная стихия – строительство, мастерство, рукомесленничество; в то время как даже в Петербурге дома лишь в единичных случаях не отличаются[206] хоть чуть-чуть чем-то неуклюжим и аляповатым. ‹…›
Польша – страна зеленовато-белая, страна бледно-зеленых ив и тополей, свесившихся над мутно-белыми реками.
Висла – река желтая – бело-желтая.
Литва – страна темно-зеленая и желтая, страна свежих, приветливых дубов, кленов, вязов, кудрявых лиственных лесов ‹…› С ними хорошо гармонируют сочные и пушистые звери – медведи, куницы. Она вольно и тихо переливается в угрюмое, серовато-бурое Полесье, страну мутей, гатей, тощих и длинных сосен.
Варшава – город грациозный, добродушно-щегольской, игривый, влюбчивый и легкомысленный,[207] цвета побуревшего золота. Удаль поляка – его щегольство; великорусской неистовой удали в нем гораздо меньше, или, по крайней мере, нет у него в ней той сиволапости, которая сказалась у нас в кулачных боях с рукавицами среди снеговых сугробов или охоте на медведей с рогатиной. Польская натура готова скорее усвоить себе тонкое рыцарское копье и шпагу, ловкость и отвагу, славянская же беззаветная удаль сказалась у ней преимущественно в залихватских танцах, как мазурка. У нас гусарский пошиб воплотил в себе черты польской, очень родственной ей венгерской, и великорусской удали. В поляках также бесконечно меньше также (sic! – А. Л.) русской тоски и недоумевающего, растерянного искания, кроткого и равнодушно-грустного русского скептицизма, столь отличного от французского – мальчишески-задорного и самотешащегося скептицизма.
В «Видения странствий» и «Умозрения странствий» Коневской включил те описания и рассуждения, которые или были индифферентны в оценках по отношению к объектам восприятия, или выражали приподнятое эмоциональное настроение путешественника, восхищавшегося и вдохновлявшегося увиденным. Эмоции и аттестации критического и порой негативного толка не были допущены автором в его «Мечты и Думы». Тем не менее они возникали в ходе путешествий по Европе и нашли свое отражение в записных книжках. Безусловно, Коневской считался с тем, что определяется современным словечком «политкорректность», когда решил воздержаться от включения в книгу, например, записи, сделанной в Базеле в июне 1898 г.:[208]
Дух зодчества базельских зданий – какой-то попугайно пестрый оттенок в обычной затейливой орнаментировке строений средневековья и века реформации. Пестрота эта придает почти шутовской характер варварским мещанским узорам, разводам и лепным украшениям по стенам зданий. В этом сказывается особенная черточка швейцарского племени – его грузность и неуклюжесть, доходящая до мешковатой иронии над собой. Швейцарские немцы являют до некотор<ой> степ<ени> живую карикатуру германской нации, и эта карикатура сама же себя осмеивает. В крайней вычурности базельских построек узнаешь ту крупицу, которая запала в дух великого базельца Бёклина и не без участия оказалась в создании его великолепно-цветистой в своем роде живописи. В нее же вошло нечто и из базельской goguenardise,[209] цветистой мясистости, сознательно доводящей себя до крайности и тем хохочущей сама над собой.
Самое развернутое из высказываний подобного рода – запись (19 июля 1897 г.) о Берлине, где Коневской оказался на завершающей стадии своих летних странствий по Германии. Коневской и в ней верен самому себе: он не отмечает ничего конкретного; образ, порожденный созерцанием германской столицы и, безусловно, вобравший в себя размышления и оценки, к тому моменту уже прочно отложившиеся в сознании, – предельно обобщенный, но определившийся в сознании «чувствительного путешественника» совершенно однозначно:[210]
Берлин – город, в котором осела на иноплеменной славянской почве все отребье – грубое, но здоровое (sic! – А. Л.), деятельная предприимчивая животность германской расы. С этими чертами в теснейшей связи и казарменный, бурбонский дух, проникающий его правительство и население. Дух, создавший Берлин и всосавшийся в жилы его населения, это есть именно дух всяких бродячих подонков общества, пополнявших в XVI в. и во времена тридцатилетней войны ряды ландскнехтов, дух кордегардии и солдатской харчевни, оторванный от всякой племенной почвы и исторических преданий, знающий только алчность на грабеж и удовлетворение животных похотей, и чтущий на свете, как святыню, лишь личность своего вождя: последняя душевная черта была вызвана главным образом, конечно, перешедшим в инстинкт сцеплением чисто корыстных соображений, побудивших их группировать свои мелкие позывы вокруг позывов одного сильного человека – вождя, частью же – естественным удивлением первобытного бродячего дикаря перед всякого рода проявлением физической силы, практического лукавства, настойчивости и выдержки. В сущности, и до сих пор душа Берлина, а через это – увы! – мало-помалу и всей Германии есть лишь стихийное преклонение перед преемниками власти этих диких вождей – прусскими монархами. Только это преклонение и ложится в основу современного берлинского патриотизма, и не имеет никакой органической связи с глубоким самосознанием германского народа, как не имел ее, конечно, и гонор ландскнехтов XVI и XVII вв. В среде того же разноплеменного сброда воинственных авантюристов вскормлен и тот своеобразный берлинский юмор или то, чтó хорошо выражается французским словом goguenardise, мало свойственный вообще германскому народу, но являющийся вполне естественным порождением бесшабашной походной жизни наемных орд.
Пагуба современной Германии, вырывающая ее из благороднейших устоев ее народного прошлого, это – то, что в ней задает тон бездушный Берлин, город мелкодушной и в глубочайшем смысле слова растленной внутренно наемной солдатчины; а понятие о наемности, продажности, всякой – стало быть – бесшабашности и беспринципности, заложено ведь уже в самом слове: солдат, происходящем от Sold – жалованье, харчи.[211]
В глубочайшем родстве с очерченным только что духом Берлина, растлевающим и всю современную Германию, стоит увлечение ее вообще и «молодого Берлина» в особенности нравственной проповедью Ницше. Та ведь мечтает о водворении в целом мире того же бесшабашного военного авантюризма – кулачного права, которое является закваской берлинского населения. Она ставит себе идеалом величайшего в истории изверга-кондотьера, атамана наемных дружин, Цезаря Борджиа, и это вполне естественно приходится по нутру сыновьям поклонников «юнкерского» величия Бисмарков и Вильгельмов I, еще маскировавших свои грубые ландскнехтские души под разными изречениями: «Sprüche» лютеранского благочестия вроде «für Gott, Kaiser u<nd> Vaterland».[212] Да, нравственная проповедь Ницше – самое яркое проявление дикого атавизма, военной одичалости, воцарившейся в современной Германии после военных торжеств 1870 года. И пусть не удивляются многим резким контрастам между безответной, механической дисциплиной прусской солдатчины и необузданным своеволием, обуевающим дух Ницше: ведь от казарменной муштровки, лишь капральской палкой и обаянием предводительского имени связывающей буйного зверя в человеке, один шаг до бесшабашного кондотьерства, ландскнехтства или казачества.
Замечательно, что и все почти лирики – провозвестники ницшеанства: Демель, Гауптман, Пржибышевский, Гальбе – порождения того же края, населенного помесью осадков германского племени со славянскими (Шпрэвальд, Лузиция, Силезия, Познань).
Уравнивание в заключительной части приведенного фрагмента германского «ландскнехтства» с отечественным казачеством лишает возможности увидеть в инвективах Коневского проявление специфически российских националистических эмоций. Русской «патриотической» германофобии поэт оставался чужд, – что не мешало ему распознавать среди многообразных ликов, увиденных им в Германии и вызвавших у него подлинное и безусловное преклонение, и тот «ландскнехтский» лик, наглядные проявления которого ему, погибшему в 1901 г., уже не суждено было воспринять.
Иван коневской – полемист
Альманах «Северные цветы на 1901 год» был первым коллективным детищем московского символистского издательства «Скорпион», призванным заявить о «новом» искусстве как сформировавшемся и внутренне консолидированном направлении. Главным инициатором этого и последующих альманахов того же заглавия был Валерий Брюсов. По словам вдовы поэта, И. М. Брюсовой, вспоминавшей в 1948 г. о работе над альманахом, руководителя «Скорпиона», С. А. Полякова, в этом деле занимали в основном вопросы оформления «Северных цветов», «в сборе же материалов, подборе сотрудников и т. д. большую роль играл В. Я. Брюсов ‹…› первый альманах создавался фактически за чайным столом в доме поэта».[213]
В «Северных цветах» Брюсов стремился сплотить все, с его тогдашней точки зрения, жизнеспособные силы русской литературы, противостоявшие эстетическому и идейному консерватизму. Помимо своего ближайшего московского, «скорпионовского» литературного круга, он намеревался привлечь в альманах петербургских модернистов, поэтов старшего поколения, связанных с традицией «чистого» искусства, и «предсимволистов» (К. К. Случевский, К. М. Фофанов и др.), а также наиболее крупных и талантливых писателей, работавших в реалистической традиции, но многими своими особенностями противостоявших идейному «утилитаризму», «направленчеству» и натуралистической бытописательности (Чехов, М. Горький, Бунин). Объединительный лозунг «Северных цветов» был предельно общим и широким: «Мы желали бы стать вне существующих литературных партий, принимая в свой сборник все, где есть поэзия, к какой бы школе ни принадлежал их автор»,[214] – поэтому и по составу участников первый альманах был довольно пестрым: в нем встретились уже признанные символисты (Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб) и поэты, не принадлежавшие к школе «нового» искусства, хотя до известной степени и смыкавшиеся с нею (Случевский, Фофанов, М. А. Лохвицкая), а также Чехов и Бунин; начинающие модернисты и такие случайные авторы, как Л. Г. Жданов и А. М. Федоров.
Используя при формировании «Северных цветов» объединительную тактику, Брюсов вовсе не добивался того, чтобы авторский коллектив альманаха воспринимался как некое монолитное единство. Элементы несходства в идейных и эстетических позициях участников, сосуществование различных взглядов на тот или иной предмет он воспринимал как показатель подлинной силы той литературной группы, которая была движущей силой этого начинания, как гарантию ее живых творческих возможностей. Критика, и порой весьма резкая, в адрес представителей «своего» литературного лагеря не исключалась Брюсовым, а даже предполагалась его стратегическими планами: внутренняя полемика могла послужить стимулом к развитию и обогащению духовно-эстетического базиса «нового» искусства. Позднее он шутливо отмечал, что «бранить своих сотрудников ‹…› – давняя привилегия “Скорпиона” (см. “Северные Цветы”)».[215] «Искренно высказанное мнение, новое и сознательное, имеет право быть выслушанным», – отмечалось в редакционном предисловии ко второму выпуску «Северных цветов».[216]
Уже в первом альманахе Брюсов рискнул напечатать отзыв, вполне согласовавшийся с впечатлениями от «декадентской» литературы тогдашнего подавляющего читательского большинства, – письмо князя А. И. Урусова (1900), в котором книга Бальмонта «Горящие здания» расценивалась крайне отрицательно («Mania grandiosa, кровожадные гримасы ‹…› Книга производит впечатление психиатрического документа»), а об Александре Добролюбове и Брюсове было замечено, что «это уж – начистоту! из клиники душевнобольных».[217] Там же появилась и полемическая статья И. Коневского «Об отпевании новой русской поэзии», содержавшая возражения на критическое выступление З. Гиппиус в «Мире Искусства».
Иван Коневской, по силе и яркости своих творческих задатков выдерживавший сравнение с самыми крупными мастерами русского символизма, был к тому времени автором книги стихов и медитативной прозы «Мечты и Думы» (1900), изданной незначительным тиражом и не вызвавшей заметного читательского резонанса, и участником коллективного сборника «Книга раздумий» (1900), включавшего подборки стихотворений четырех авторов (кроме Коневского, также Бальмонта, Брюсова и Модеста Дурнова). Стихи Коневского получили к тому времени признание в узком кругу ценителей, среди которых едва ли не самым убежденным и последовательным был Брюсов, всячески содействовавший ему на пути в литературную жизнь.[218] Публикация в «Северных цветах» статьи «Об отпевании новой русской поэзии» стала первым печатным выступлением Коневского в роли критика-полемиста.
Удивительно раннее духовное и творческое самоопределение, редкая в юношеском возрасте эрудиция и глубина познаний рождали в Коневском непререкаемую убежденность в правильности и адекватности своих восприятий и оценок, которая ни в малой мере не корректировалась отсутствием опыта «внешней» литературной деятельности и сколько-нибудь определившейся индивидуальной писательской репутации. Подмеченная Брюсовым «излишняя докторальность, учительность речи – но это от юности»[219] – парадоксальным образом сочеталась у Коневского с отсутствием навыков общения с людьми. Как утверждает П. П. Перцов, «Коневской был в равной степени застенчив и безмерно самоуверен».[220] Эта самоуверенность, которая, возможно, в какой-то мере служила компенсацией поведенческих психологических синдромов, отличает и высказывания Коневского по вопросам, касающимся текущей русской литературы. «Симпатии и антипатии самого Коневского, – продолжает Перцов, – распределялись как-то своеобразно и по мало понятным мотивам. Так, он вдруг возненавидел З. Н. Гиппиус, и в такой степени, что доходил до странных и даже не совсем нормальных поступков: прокрадывался по вечерам (вероятно, отчаянно борясь со своей застенчивостью) на лестницу дома, где жили Мережковские, и подбрасывал к их двери бранные памфлеты на Зинаиду Николаевну ‹…› Трудно решить, чем объяснялась такая идиосинкразия. Правда, Зинаида Николаевна тогда нападала на страницах “Мира Искусства” на “декадентов”, под которыми она разумела всех молодых авторов символической школы, кроме себя. Это разделение на агнцев-символистов и козлищ-декадентов, неясное никому, кроме нее самой, составляло всегда слабую струнку Зинаиды Николаевны ‹…›. Но никто, кроме Коневского, не впечатлялся так этими нападками».[221]
Статья Коневского «Об отпевании новой русской поэзии (Общие суждения З. Гиппиус в №№ 17–18 Мира Искусства 1900 г.)» – единственное доведенное до печати свидетельство этого полемического противостояния. Написана она была по поводу статьи Гиппиус «“Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского», но основного ее содержания – критического анализа пьесы Минского, вышедшей в свет отдельным изданием в марте 1900 г., – не затрагивала. Предметом отповеди Коневского стала данная Гиппиус суммарная оценка современного русского «декадентства». «Я даже не знаю, – писала Гиппиус, касаясь в самой общей форме состояния отечественной литературы, – есть ли у нас “чистые” декаденты и где они. Едва ли может иметь значение поэзия Брюсова, Добролюбова или Бальмонта. ‹…› Но вообще у декадентов, индивидуалистов и эстетов не только нет нового, но даже полное забвение старого, старой, бессознательной мудрости. Они убили мысль совершенно откровенно, без стыда, но не заменили ее “вопросами”, как либералы, а остались так, ни с чем. Это – нездоровые дети, которые даже играть не любят и не ищут игрушек. Их наслаждения, их эстетика не дает им никакой отрады, ибо они не знают ни прошлого, ни будущего, а только более чем – несуществующий – настоящий момент. И все им скучно, бедным, недолговечным детям, все им противно, все не по ним».[222]
Коневской решительно выступил в защиту «нездоровых детей». В новейшей литературе, которую общественное мнение считает «декадентской», он видит «богатые, стремительные и стройные силы», а наиболее красноречивое воплощение наблюдаемых Гиппиус негативных тенденций обнаруживает в ее собственном поэтическом творчестве: «С улыбкой поживем, и увидим, кто кого переживет – печальная ли пестунья, которой совсем нет мочи и тошно тянуть жизнь, ‹…› или балующиеся и беснующиеся ребятишки, которые раздражают ее своими козлиными прыжками».[223] Развернутая система аргументации, выдвинутая Коневским, произвела впечатление не только на автора «Торжества в честь смерти». Во второй половине февраля 1901 г. Брюсов информировал Коневского: «Перцов пишет мне: “Прочел статью Ореуса “Отпевание”; он сам прислал ее с “добавлением” неистово-яростных “поносных слов” (его терминология, м<ожет> б<ыть>, чрезмерно физиологического характера). Но статья замечательна. И Мережковские и я равно ею пленены (при всем несогласии). Язык косноязычен, мысль – безумна, но сила и меткость исключительна. Я всегда надеялся на Ореуса, не как на поэта”».[224] И далее следовало предложение Коневскому – безусловно, стимулированное отзывом из цитированного письма: «Не предпочтете ли Вы напечатать в “Сев<ерных> цвет<ах>” это “Отпевание” вместо статьи о Лафорге? так как статья о Лафорге может быть напечатана и позже, через год, а “Отпевание” имеет и значение для минуты, надо, чтобы ответ был сказан, когда не замолкла речь, на которую он отвечает».[225]
Коневской согласился на это предложение. «Мы получили “Отпевание”, – сообщал ему Брюсов в недатированном письме. – Но где же прибавленные “поносные слова”? где то, что прибавлено после статьи ее о А. М. Д<обролюбове>? Если это есть, пожалуйста, пришлите скорей». 3 марта Коневской отвечал: «Дополнение pro domo sua печатать лишнее: оно было написано, чтоб отвести себе душу»,[226] – но в следующем письме все же привел «Дополнительную заметку», пояснив, что «это – краткое извлечение и развитие мыслей, касающихся собственно А. М. Д. Все остальное, как сказано, pro domo sua».[227] Эту заметку Брюсов в «Северных цветах» не опубликовал: помимо критики в адрес Гиппиус, она содержала также негативную оценку «Мира Искусства» в целом (литературный отдел которого «давно являет зрелище пустыни») и его ближайших сотрудников, и столь однозначно резкие выпады были сочтены, по всей видимости, для печати непригодными.
«Дополнительная заметка» в основной своей части представляла собой краткую версию сравнительно пространного текста под заглавием «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua», над которым сделана помета: «Дополнение» (подразумевается – дополнение к статье «Об отпевании новой русской поэзии»). Написано было это «дополнение» по выходе в свет январского номера «Мира Искусства» за 1901 г., в котором была помещена статья Гиппиус «Критика любви. Декаденты-поэты»: лаконичная критика «декадентства», данная в статье об «Альме» Минского, в новой статье была продолжена критикой развернутой, предпринятой главным образом на материале «Собрания стихов» Александра Добролюбова (1900), изданного «Скорпионом» с предисловиями Коневского и Брюсова. В статье было впервые рассказано о Добролюбове – самом «крайнем» и убежденном «декаденте» и «самом неприятном, досадном, комичном стихотворце последнего десятилетия»[228] – на основе впечатлений от личного знакомства и с сообщением сведений о его жизни и об уходе из петербургской образованной среды. При всем сочувствии, с которым осмыслялся в статье страннический путь Добролюбова в плане религиозного искания, общая оценка поэта в его «декадентской» ипостаси была однозначно негативной: «Стихи его, конечно, – не стихи, не литература, они и отношения к литературе, к искусству, никакого не имеют. Было бы смешно критиковать их, судить, – хвалить или бранить. Это просто крики человеческой души ‹…›».[229] Аналогичную характеристику получило и предисловие Коневского: в его сочинителе Гиппиус увидела «духовного брата» Добролюбова. Думается, что именно уничижительная тональность, в которой формулировала Гиппиус свои доводы и приговоры, вызвала у Коневского наибольшее возмущение. Поэт не мог простить высокомерного тона и дистанцированного подхода автора статьи по отношению к «декадентству»; в ответ на отрицание творческих способностей у одного из самых ярких и радикальных выразителей новейших эстетических исканий он обвиняет Гиппиус в неспособности к внятной, логически выстроенной и доказательной критической аргументации.
Полемические ноты в адрес Гиппиус содержит и заметка Коневского «Альма, трагедия Минского». В характере героини этой «трагедии из современной жизни», идущей путями духовного самосовершенствования и стремящейся к абсолютной, неземной свободе, не без оснований распознавали черты духовно-психологического облика Гиппиус.[230] Пьеса Минского вызвала у Коневского и Брюсова сходные оценки. «“Альму” если судить судом праведным, должно осудить, – писал Брюсов Коневскому во второй половине апреля 1900 г. – Какой-то свод общих мест из новой поэзии, заранее все наизусть знаешь, каждое предложение словно краденое», – на что его корреспондент отвечал (3 мая): «“Альма” производит, точно, очень неприятное впечатление своей программностью, рекламностью, блеском и лоском в отделке речей и вообще глубоким техническим опытом и навыком в подделке под целый строй чувств, сущность которых тем не менее ни на одну минуту не проходит в душу писателя».[231]
Высказаться в более развернутой форме об «Альме» Коневского побудил, опять же, Брюсов, предложивший ему написать рецензию об этой пьесе для критического отдела будущих «Северных цветов»,[232] а вышедшая к тому времени пространная статья Гиппиус «“Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского» дала дополнительный стимул к развертыванию собственных суждений в полемическом противостоянии с формулировками, содержащимися в ней. Как и Гиппиус, Коневской находил в «Альме» определенную заданность и схематизм (Гиппиус отмечала, что герои трагедии – полупризраки: «Минский не умеет рисовать “типы” ‹…›; он только умеет рассказывать о своей душе»[233]), но, в отличие от Гиппиус, противополагавшей «смерти без воскресения» у Минского свой искомый религиозный идеал, признавал самодостаточность писателя в исповедании собственного кредо, «декадентская» субстанция которого оставалась непреодоленной. Заметка Коневского об «Альме» была передана Брюсову (вероятно, во время пребывания последнего в Петербурге с 3 по 6 ноября 1900 г., куда он приезжал с целью сбора материалов для «Северных цветов» и встреч с их предполагаемыми участниками), но опубликована в альманахе не была. К такому решению редакции Коневской был готов: «Предвижу, что мои рецензии вылетят в трубу из соображений “этикета”», – писал он Брюсову 20 ноября 1900 г.[234] (помимо рецензии на «Альму», Коневской представил «краткую эпиграмму» на «Горящие здания» Бальмонта, еще более резкую по своим оценкам и в «Северных цветах» также не напечатанную[235]).
Ниже печатаются две полемические заметки Ивана Коневского: «Альма, трагедия Минского» – по автографу, сохранившемуся в архиве Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 10); «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua» – по автографу, сохранившемуся в архиве Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2. Ед. хр. 2).
АЛЬМА, ТРАГЕДИЯ МИНСКОГО
Лучшее, что можно сказать об этой трагедии, это – что она в высшей степени остроумна: все лица в ней говорят «как по писанному», разрабатывая с математической последовательностью целые гаммы систем, какие теперь в ходу и в мысли, и в поэзии; разрабатывают они их как в теории, так и на практике, в «общественных отношениях». Но еще важнее отметить, что это – книга, которая может занять самое фальшивое положение в современной литературе, потому что она такого охвата, как будто представляет памятник целого века настроений и мировоззрений, и в сущности, вся она и состоит ни из чего, как из разных Schlagwörter,[236] поговорок, которые будут подхвачены всякими «публицистами» и припрятаны в том запасе ярлычков, который им необходим для того, чтоб «клеймить» явления духовной жизни. Между тем, на выражение этих присловий можно любоваться за их умную меткость, но, конечно, все направления новой мысли и новых сердец нашли в них себе только схематические формулы, и ни одно из них не пережито недрами и кровью. Это – вроде «новых стихотворений» Мережковского[237] – карманный указатель модных «тезисов». Ни речи Альмы, ни речи Веты, ни речи Будаевского – даже не лирика автора, не излияние его души; он здесь даже не говорит о своей «Психее», как думает З. Гиппиус в своей критике на эту драму в № 17–18 «Мира Искусства».[238] Но, жаждя слов «о важном и вечном»,[239] жаждя всякой догматики и правил на знаменитую тему – «чтό делать», она не могла не увлечься этим новым уложением жизни, признала его даже каким-то одиноким столпом в нашей литературе, в которой, по ее мнению, оказывается, «хоть шаром покати».[240] Прискорбное увлечение, лишний раз доказывающее пагубу искания поучений для задач искусства! Итак, по нашему мнению, чувства и поступки лиц в частных случаях этой драмы не коснулись души поэта. Но тот, по крайней мере, идеал, за который бьется Альма, это – давнишний идеал его, вновь обстоятельно и широко формулированный. Это – идеал безусловной бесконечности, которая, отрицая все известное, частное, не может совместить с бесконечностью даже бытия, и таким образом отрицает и самое себя, и выдыхается в пустоту. В этом идеале отрицательной «свободы», во имя которой Альма срывает с себя всякую любовь, и боязнь, и вражду, ко всему, у чего есть концы, решается на все и отрешается от всего, в нем, конечно, все тот же «мир несуществующий и вечный»,[241] ради которого мир «возникает» и обрекается «стремлению вечному к жертве».[242] В нем – свобода, потому что нет личностей и предметов, нет представлений, нет понятий, значит, нет пределов, ни положения в точке, ни передвижения из точки в точку. Значит, о нем нельзя ничего сказать разумным словом, потому что всякое понятие есть предел, положение только в этой точке, а не в той, всякое умозаключение есть движение, ход, который если попал в эту точку, уже не есть в той. Разум, слово тождественны с концами и пределами, с пространством и с временем, и потому о том мире, которого жаждет поэт Альмы, ни сказать, ни помыслить нельзя просто ровно ничего. Это – то самое, «чего не бывает», «чего нет на свете»,[243] как еще прямее и безраздумнее воскликнула нынешняя строгая наставница этого поэта, в той же критике противополагающая ему свой «догмат».[244] Таков, рассмотренный до крайних своих следствий «Бог», исчезнувший «Бог» его. Повторяем, что все происходящие среди людей и живых предметов борьбы Альмы за этого Бога, конечно, не более как мастерской логический и драматический механизм. Но анализ связей этого механизма занимателен, и зрелище его отправлений изящно.
Иван Коневской.В первой вылазке этой любви достается Александру Добролюбову, из которого извлекаются и сберегаются критиком немногие крохи, не то чтобы наиболее ценные или характерные для автора, но наиболее характерные для критика, как всегда бывает у исследователей, не умеющих перевоплощаться, но прочно застрявших в своей коре. Все прочее, в чем выражается весь Добролюбов, весь мозг его костей, это – как водится, в глазах критика бредни, «темна вода во облацех». А выдернутые клочки из его стихов обнаруживают разительное и неслучайное сходство с терминами из учебников г. Мережковского, ибо, как известно, это – единственная колейка, в которой пробирается проницательность З. Н. Гиппиус, та «печка», от которой она только и может «танцевать». «Царство неизменное… царство плоти и крови… Я освятить хочу и мелочь…»[245] – все это, как известно, «общие места» мысли г. Мережковского, азы философии, из которых тот блистательно складывает мозаику художественных личностей, но которые его супруга выставляет в виде голых, убогих камешков, мертвых условных значков на заповедных межах ее мысли. Намеки Добролюбова сопровождаются глубокомысленными комментариями г-жи Гиппиус, по всем правилам догматики Мережковского, только в виде, приноровленном к «начальному обучению», и пересыпаются нескромными личными наблюдениями и частными сведениями о curriculum vitae поэта. Не намерен высказывать здесь моих понятий об этом писателе, которого г-жа Гиппиус так обдирает и продергивает: они выражены мною в предисловии к последнему сборнику его писаний,[246] в котором, кстати сказать, помещена лишь ничтожная доля из всех его сочинений за последние пять лет, и, собственно говоря, без всякого иного смысла кроме того, что эти писания случайно облечены в полуметрическую форму, а не вошедшие в сборник – в более выдержанной прозе, хотя отчасти тоже ритмической. Об оскорбительной неблаговидности анекдотов и сплетен про поэта, быть может, будет замечено критику со стороны лиц, лично знавших и ценивших Добролюбова:[247] ими же будут уличены некоторые крупные передержки в фактических данных, как, напр<имер>, указание на стих Брюсова: «О закрой…», приписанный разбираемому автору.[248] Отвечу теперь лишь на те два слова, которыми щелкается то же упомянутое мое предисловие.
Оно отделывается критиканкой в четырех словах: «мучительное, уродливое, детски-жалкое, совершенно непонятное».[249] Эти приговоры я себе объясняю следующим образом. Понятие мучительности, конечно, происходит из суждения об уродливости и непонятности. Уродливость – дело вкуса и условной классификации. Этакое обозначение входит вполне в область все тех же утративших всякий постоянный смысл физиологических да гигиенических подразделений. Согласно им, к одному живому существу «по щучьему веленью, по моему хотенью» приклеивается ярлычок: «породистый, первый сорт», к другим – «выродок, урод, скверного качества». Кто этому указчик? Вкус, нрав, произвольная установка задач рода и особи. Чтό кому хочется, чтоб было или не было – единственное определение уродства, вырождения или породы, доброкачественности. Как же было мне не знать, что на потребу г-жи Гиппиус не угожу? Тут органический разлад.
Всякие сетования обличителей уродства, вырождения, извращения вкусов из века в век уподобляются негодованиям сторонников лжеклассической рутины на «чудообразные игрища» Шекспира и смесь родов искусства. Что бывало проповедь единства времени, действия, литературных, сценических видов – то теперь борьба против всякого рода неправильностей и диссонансов в построении речи, стиха и даже музыкальных звуков. И чем руководятся в таких случаях все ревнители вкуса и благородства, обличители искажения и уродства? Вечно памятны доводы за лжеклассическое разделение драмы и против «мещанских трагедий»: «А ежели ни г. Вольтеру, ни мне никто в этом поверить не хочет, так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пить с солью, кофе с чесноком, и с молебном совокупят панихиду. Между Талии и Мельпомены такая же разница, какова между дня и ночи, между жара и стужи, и какая между разумными зрителями драмы и безумными».[250]
До чего в этих милых метких словах первого нашего спесивого писателя-академика заложены, как в яйце, все постоянные обвинения рутинеров против новшеств и дерзостей. Тут вскрыта их вечная основа. Тут и воззвание о всех законах рассудка и стихий и вместе с тем прелестное самообличение традиций и староверства: все на поверку сводится к тем же инстинктам, которые заставляют человека есть щи с солью, а кофе с сахаром, все изливается в древнее присловье:
У всякого свой вкус, один другому не укащик, один любит арбуз, другой – свининый хрящик.Не мудрено, что критиканке мучительно слушать то, что на ее слух – какофония: только еще мучительнее меня слушать, я думаю, потому, что приходится «ломать себе голову». Мои речи совсем «непонятны»: таков самый полновесный резерв обвинений З. Н. Гиппиус. И так, увы! опять приходится слышать от критика это беззастенчивое признание, которое равно собственноручной расписке в критической несостоятельности, так что у человека обдуманного едва ли язык повернулся бы его высказать. «Мне, мол, непонятно» – отсюда, как мне кажется, единственный вывод: «значит, не моего ума дело, мне невдомек, не мне судить». Если кому чтό непонятно, тот, значит, непонятлив. Остается ему положить хранение своим устам или сказать: «пас». То, чтό перед ним, – то икс, которого ему не понять, то есть просто-напросто взять, тронуть: руки коротки, не дорос человек. Значит, остается сложить руки. Так нет, шалишь – как же это так, говорят тогда люди, мне не достать? Надо топнуть ногой, хлопнуть кулаком по столу, как ребенок, когда ушибся: на, мол, тебе, скверность, за то, что не даешься! «детски-жалкая» ты дрянь!
И вот каким образом критиком производится блистательный заключительный вывод из своих обвинений. «Коневской глубоко несчастный человек, такой, кого не слышат, погибающий, в отчаянии». Так… я, значит, погибаю, потому что моя мысль не вмещается в голове г-жи Гиппиус, недоступна для ее мозговой извилины. Я в отчаянии потому, что меня не слышат: туги, значит, на ухо; а кричать я не хочу; да ведь если б и крикнул, так ничего бы не вняли, кроме крика: дошло бы до барабанной перепонки, но не до мозга. Так бывает с великими художниками. Они хотят говорить громко и звучно, и прекрасно делают, благо на то их воля, и выходит превосходно. И народ их слушает и хвалит, потому чувствует – голосина здоровый; ну, а уж в чем дело – о том лучше не спрашивать. Достаточно справиться в «литературе о Пушкине». И от этого всей душой, в самом деле, жалко этих громко и внятно говорящих поэтов. Если же я для г-жи Гиппиус непроницаем и неприступен, а сам проникаю в каждое ее слово (о чем прошу ее узнать в другой прилагаемой статье),[251] так, кажется, мне грех роптать на судьбу: всякий позавидует такой шапке-невидимке. Беда в том для критика, что надо быть оборотнем, рыскать во все стороны, тогда как он вращается на своей оси, и не сняться ему с нее. Высоко и глубоко уходит его ось, да обида в том, что это прямая линия.
О, я готов даже поверить, что Вы, матушка, нас же любя, нас «секли», «били, жалеючи», следуя одному из упомянутых Вами распоряжений литературного сброда насчет «декадентов»! Но, с одной стороны, как Вам хорошо известно, этакая развязная жалость, с какой Вы залезаете якобы в душу, на самом же деле только в карманы людей,[252] есть лучшее выражение презрения и скрывает о себе изощренную злобу. Да полноте – Вам ли пристала сердобольность и милосердие? Кто, думаете Вы, попадется на удочку Вашей жалости?.. Ну, а затем, если Вы принимаете за правило все же обдумывать хотя бы только мысли людей, которых не слышат, так, право, не довольно одной бичующей любви: необходимо еще, как говорят «дети» про «отцов», «идти в ногу с наукой». Смею Вас уверить, что для понимания иных мыслей требуется чуть-чуть основательнее подготовка, чуть-чуть посложнее гимнастика и выправка ума, чем та, которая приобретается в цирке г-на Мережковского. Если застрял человек на азбуке диалектики и умозрения, да еще щеголяет тем, что излагает ее «для малолетних», где же ему уследить за сложными изгибами и узорами расчлененной периодической речи мышления? Поневоле станешь в тупик и скажешь: тарабарщина, китайская грамота! что, мол, такое брешет человек. Много значит тоже, какой у кого темп мышления: за большинством нынешних поэтов умеренному ходу сознания вовеки не угнаться – таким бешеным скоком движутся их представления и понятия, а голова все-таки не кружится.
Вот два-три указания – чем обусловливается понимание людей «осмеянных», которые заливаются таким неугасимым смехом над своими насмешниками, что он, как смех богов, точно так же не спускается до порога человеческой слуховой среды. Итак, посоветую Вам вперед тщательнее проверять и взвешивать силы и объем всех Ваших способов познания и ощущения, строже производить «критику познания», прежде чем приступать к критике его предметов. «Да искушает человек себе» – иными словами: не спросясь броду, не суйся в воду!
Уместно будет, по случаю Ваших и моих соображений о совокупности истекшего века и о перспективах наступающего, почтить память всех деятелей бывших и приветствовать глашатаев начинающих и грядущих возгласом, который заключает поздравительные стихи одного молодого поэта:
Друзья, наступил новый век! Человек, Принеси нам бутылку вина… Слава новому веку! Слава старому веку! Господа…А, в заключение, вот Вам еще картина, которая представит Вам цельное понятие о «положении дел» в критический момент на рубеже между двумя веками. Она произошла совсем неожиданно из плетения рифм, которым занимался я с другом моим Асканием, и участие его и мое распределено в ней в точно равномерных долях.[253] Авось это изложение покажется Вам в достаточной мере vulgatum[254] – не то, что мое предисловие!.. Да я и вообще старался теперь рассуждать с Вами так, чтоб Вам «разжевать и в рот положить».
Ранний метерлинк в ранних российских толкованиях: Иван Коневской
Начало мировой славы Мориса Метерлинка, как известно, ознаменовала в 1890 г. статья Октава Мирбо в газете «Figaro», содержавшая восторженную оценку «Принцессы Мален», первой пьесы никому не известного автора, провозглашенного современным Шекспиром. Год спустя на этот факт было обращено внимание в русской печати. Журнал «Вестник Иностранной Литературы» посвятил изложению содержания «Принцессы Мален», а также появившихся следом за нею одноактных пьес «Непрошенная» («L’intruse», 1891) и «Слепые» («Les aveugles», 1891) десять страниц печатного текста. Было отмечено, что написанная для сцены марионеток «Принцесса Мален» – «ничто иное как страшная сказка», а одноактные пьесы – «по удачному выражению одного критика, мрачные симфонии пессимистического символизма», что во всех пьесах бельгийского автора «психология совершенно отсутствует», и сформулированы общие заключения: «Метерлинк писатель не без таланта с сильным пристрастием к фантастическим ужасам в духе Боделера и Эдгара Поэ. Все его усилия направлены к тому, чтобы нагромоздить как можно больше ужасов так, чтобы у читателя волосы стали дыбом. Порою эти усилия доводят его до той грани, где уже начинается балаган, но спасает его большая колоритность и музыкальность формы».[255]
Почти одновременно с «Вестником Иностранной Литературы» заинтересованное внимание к начинающему драматургу-символисту стал выказывать театральный, музыкальный и художественный журнал «Артист». В анонимном «Иностранном обозрении», помещенном в январском номере за 1892 г., произведения Метерлинка удостоились не менее подробного освещения. «Мы давно должны были, – начинал свой обзор автор, – познакомить читателей с новым, весьма любопытным, явлением в области иностранной драматургии. Мы откладывали свое сообщение, ожидая, что интерес к этому явлению исчезнет, и курьез утратит свою притягательную силу. Но потому ли, что курьез слишком оригинален, или потому, что в солидных сферах драматической литературы царствует затишье, – упомянутая нами новость с каждым днем становится новее и популярнее» – настолько, что новоявленный «бельгийский Шекспир» затмил самых популярных драматургов новейшего времени, Г. Ибсена и А. Стриндберга, «оригинальностью своего дарования».[256] Обозреватель подробно останавливается на последнем из опубликованных к тому времени произведений Метерлинка, одноактной драме «Семь принцесс» («Les sept princesses», 1891), подчеркивая, что выстраиваемые автором драматургические ситуации, подернутые «какой-то таинственной дымкой, дышащей на зрителя ужасом и нервной дрожью», не поддаются однозначной разгадке: «Можно думать, что это – аллегория смерти, хотя слово “смерть” ни разу не произносится в течение пьесы. Может быть, это – идеальное изображение любви в лице Урсулы, умершей с отчаяния в тщетном ожидании милого? Может быть, здесь кроется преступление жестокой ревности шести принцесс к их сестре, предпочтенной принцем? Многим именно и является особенная прелесть в этой тайне, другим драма Метерлинка может показаться простым бредом слишком утонченного, а то и просто расстроенного воображения. Но никто из читателей не станет отрицать своеобразного колорита драмы, немногими чертами внешней обстановки и отрывочными фразами производящей по временам глубокое впечатление».[257] Дав следом столь же подробное изложение драмы «Слепые», критик приходил к выводу о глубокой симптоматичности пессимистической драматургии Метерлинка как проявлении «глубокого недуга, терзающего все силы природы современного человека, – и мысль, и чувство, и воображение»: «Метерлинк наравне с Нитче ‹…› – настоящее знамение нашего времени».[258]
В «Иностранном обозрении», помещенном в следующем номере «Артиста», снова шла речь о Метерлинке; на этот раз излагались «Принцесса Мален» и «Непрошенная», причем отдавалось должное драматургическому мастерству автора: «Нельзя не подивиться силе впечатления, производимого автором, путем самых простых, почти безмолвных сцен».[259] А в приложении к мартовскому номеру того же журнала была напечатана «L’intruse» в переводе Е. Н. Клетновой под заглавием «Втируша».[260] Наконец, год спустя в «Артисте» была опубликована развернутая статья известного литературного и театрального критика И. И. Иванова «Метерлинк и его драмы» (как явствует из текста этой статьи, именно Иванов ранее знакомил читателей с бельгийским драматургом в рубрике «Иностранное обозрение»). В этой статье творчество Метерлинка рассматривалось в самом широком плане – как характернейшее выражение европейского символизма, с его представлением о «тайне» как истинном содержании искусства: «Не идея, а эмоция, не анализ, а чувство, не ясное и определенное представление, а смутное предчувствие».[261] Дарование Метерлинка критик признает неоспоримым, выделяющим его из ряда других представителей новейших поэтических течений («… среди символической литературы именно только драмы Метерлинка представляют интерес – литературный и психологический») и даже допускающим параллели с творчеством Достоевского, сосредоточившего «всю силу своего дарования на раскрытии именно таких драматических моментов, какими вдохновляется Метерлинк»; в его драмах «всегда присутствует известная объединяющая идея», «пред нами несомненно новый и оригинальный способ – воплощать настроения в живых образах».[262]
Статья И. Иванова во многом отразила общую тональность восприятия раннего творчества Метерлинка в русской печати первой половины 1890-х гг. Последняя оказалась в целом гораздо более терпимой к бельгийскому драматургу, чем к другим его западноевропейским собратьям по символистскому движению, не говоря уже об отечественных приверженцах этого направления, неизменно попадавших под ожесточенный критический обстрел или становившихся объектами грубого глумления. Разумеется, звучали голоса, полностью отрицавшие художественную ценность творений Метерлинка, в которых распознавались лишь «дешевые средства оригинальничанья, рассчитанного на то, чтобы поразить чем-то новым, небывалым».[263] При этом от одного автора к другому перекочевывал один и тот же критический тезис: бельгийский драматург не пробуждает эстетические чувства, а лишь травмирует нервную систему читателей и зрителей. Метерлинк, по мнению П. Н. Краснова, пытается вызвать «впечатления суеверного ужаса», достигаемые «сочетанием туманности с грубостью»: «Цель Метерлинка навести на читателя ужас, и с некоторыми слабонервными лицами это ему действительно удается».[264] Особенно часто подобные заключения выносились по поводу первых постановок Метерлинка на русской сцене – «Втируши» на сцене Охотничьего клуба 3 мая 1894 г. и «Тайн души» («Intérieur», 1894) в театре Литературно-артистического кружка 28 ноября 1895 г.[265]
Тем не менее именно Метерлинка выделяли критики-традиционалисты из общего ряда символистов-декадентов; оценивая его произведения, они стремились продемонстрировать свою готовность к восприятию «истинного» символизма и толерантность собственных эстетических воззрений. А. И. Богданович рассматривал Метерлинка как «несомненного символиста», в отличие от многочисленных «неудачных подражателей»: «Первое, что резко отделяет его от русских его коллег, это простота языка, в котором нет ничего вычурного, деланного, безвкусного или фальшивого. Его язык является резкой противоположностью изысканности и утонченности других символистов»; содержание пьес Метерлинка сводится, при отсутствии «внешнего действия», к «чрезвычайно яркому представлению внутреннего мира» людей: «Получается как бы наша жизнь, но очищенная от всех лишних, ненужных правил, действий и декораций ‹…› Цель Метерлинка и состоит в том, чтобы показать эти драгоценные качества души в те исключительные минуты, когда условности рушатся сами собой и на первый план выступает наше сокровенное “я”».[266] А. Г. Горнфельд, рецензировавший первый сборник драм Метерлинка в русском переводе, оказался весьма пристрастен к их автору: «Необходимости в переводе драм Метерлинка на русский язык мы положительно не видим ‹…› знакомить нашего читателя с неопределившимися литературными индивидуальностями, значение которых подлежит еще обсуждению, кажется нам излишним»; но критик все же констатировал в произведениях бельгийского символиста определенные достоинства – оригинальность («Он создал свой жанр, не чуждый искусственности, быть может, жизнеспособный лишь в умелых руках своего творца, но в некоторых своих элементах новый и интересный»), умение «заменить интерес к личностям интересом к действию, к той элементарной трагедии, которую переживают эти абстрактные “общечеловеки”», а также отсутствие в драмах Метерлинка «многих недостатков того литературного течения, к которому он принадлежит: нет исключительного культа формы и тщетного стремления действовать на читателя какими-либо экстравагантными средствами».[267]
Однозначно негативное отношение к Метерлинку было заявлено в нашумевшей книге Макса Нордау «Вырождение», переведенной в 1894 г. на русский язык. Признаки вырождения Нордау выявляет едва ли не во всех художественных явлениях современности, и произведения Метерлинка дают для немецкого публициста в этом отношении самый благодарный материал: «… мы имеем дело с мистиком, бессвязным, слабоумным, окончательно впавшим в ребячество»; пьесы Метерлинка, согласно Нордау, – это «компиляция из Шекспира в переделке для детей или дикарей», а их автор – «умственный урод».[268] Аттестации, которыми наградил Метерлинка Нордау, в российской печати не вызвали полного доверия; напротив, даже такой антагонист по отношению к символистам, каким заявил о себе Н. К. Михайловский, счел необходимым противопоставить непререкаемому диагнозу, провозглашенному борцом с «вырождением», свидетельства французского журналиста Жюля Гюре, который, встретившись с Метерлинком, обнаружил в нем не потенциального пациента психиатрической клиники, а исполненного жизненной силы, здравомыслящего и вполне прагматичного человека. «Да и как назовешь продуктом вырождения этого здоровенного фламандца с широкими плечами, румяными щеками, хорошим аппетитом», – добавляет от себя Михайловский.[269] «Очевидно, Метерлинк не “невропат” и не декадент мысли», – резюмирует И. Иванов, опираясь на впечатления того же французского репортера.[270]
Примечательно, что поклонником драм Метерлинка оказался А. С. Суворин – литератор, всецело сформировавшийся в досимволистскую эпоху, но проявлявший живой и непредубежденный интерес к новейшим художественным веяниям (в частности, поощрявший творческие искания Мережковского). Он опубликовал в приложении к «Новому Времени» свой перевод одноактной драмы Метерлинка «Intérieur» под заглавием «Тайны души»;[271] понимая, что массовый читатель его газеты способен встретить эту публикацию с недоумением и раздражением, Суворин поместил накануне в «Новом Времени» свою статью «Маленькая драма», в которой с сочувствием характеризовал искания символистов как «юношеский бунт против усвоенных форм мысли и искусства», а о Метерлинке отзывался с особенной похвалой: «Среди декадентов Метерлинк является звездою по своей искренности, соединенной с поэтическим талантом». Суворин попытался раскрыть перед читателем своеобразие и глубинный смысл того необычного художественного мира, который выстраивает драматург-символист: «Встречаешь что-то новое, как будто детское и как будто серьезное вместе с тем. Знакомишься с чем-то таинственным, с какими-то тончайшими проявлениями души человеческой и природы в их гармонии между собою. ‹…› Это жизнь теней, но в них вы чувствуете свою душу в ее бессознательных, по крайней мере, движениях».[272]
Тогда же Суворин напечатал «Тайны души» вместе со своим предисловием отдельной брошюрой.[273] За этим массовым изданием последовало в начале 1896 г. издание вполне элитарное (200 экземпляров «на роскошной веленевой бумаге» и 10 экземпляров на японской бумаге) – пять драм Метерлинка в русском переводе (без указания, кем выполнены эти переводы).[274] В предисловии «От редакции» сообщалось, что Метерлинк – «одно из наиболее известных литературных имен нашего времени», но при этом само имя облекалось весьма осторожными формулировками, с явным опасением прогневить неподготовленного читателя: «Мы сознаем ‹…›, что те самые особенности таланта Метерлинка, которым он обязан своей славой, едва ли способны доставить ему обширный круг читателей в России. Метерлинк не из тех писателей, которые нравятся и завлекают. Его трудно читать, с ним нужно свыкнуться. Многие будут сбиты с толку его совершенно своеобразным стилем, кратким, отрывистым, как будто небрежным; этой видимой бессвязностью диалога, туманностью выражения, призрачностью его персонажей. Многих может оттолкнуть от Метерлинка его односторонность, исключительность мрачного колорита в его драмах, постоянные сумерки как на сцене, так и в душе действующих лиц. Нужно ли говорить, что, если мы и не отрицаем крайностей, зато видим в его пьесах и крупные достоинства, заставляющие нас забывать о детальных недочетах?»[275] О достоинствах сочинитель этого текста предпочел умолчать, однако изысканный облик издания, осуществленного с подлинной любовью к своему предмету, дает основания предполагать, что достоинства Метерлинка представлялись анонимным инициаторам первого собрания его пьес на русском языке немалыми и безусловными.
С наибольшей убежденностью о достоинствах бельгийского символиста высказывались в русской печати, естественно, провозвестники и приверженцы «нового» искусства. Публикуя в «Северном Вестнике» в своем переводе драму «Слепые», Н. М. Минский сопроводил ее разъяснительным предисловием, в котором указал на «двойную жизнь», которой живет символическое произведение: «Прежде всего, оно должно состоять из чувственных образов, быть совершенно наглядным и понятным ребенку. Но за внешними символами скрывается идейное, отвлеченное содержание. Такое произведение похоже на звездное небо, которое и простому глазу кажется прекрасным и глубоким, но взорам астронома открывает новые дали и прежде незримые миры».[276] И далее Минский раскрывает некоторые из символических смыслов, которые таятся в художественной ткани «Слепых». Аналогичным образом указывает на «тонкий философский смысл», которым проникнута «отмеченная яркою печатью выдающегося таланта» драма «Тайны души», А. Волынский: «Отвлеченная идея, составляющая душу этого произведения, нашла себе выражение в простом, реальном и трогательном сюжете – без малейшего бытового оттенка, в образах, не имеющих твердых индивидуальных очертаний, но близких и понятных каждому человеку».[277]
И. Иванов в своей выше упоминавшейся статье отмечал, что «драмы Метерлинка гораздо выше его лирических стихотворений».[278] Прежде всего стихотворения Метерлинка дали основания для тех определений, которыми наградил бельгийского автора Макс Нордау; следом за ним щедро цитировал стихи Метерлинка в своих прозаических переводах и Н. К. Михайловский, убежденный в их претенциозной бессмысленности. Напротив, З. А. Венгерова брала под свою защиту первый сборник стихотворений Метерлинка «Теплицы» («Serres chaudes», 1889), сразу причисленный «к разряду “непонятной” поэзии»; кажущееся «непонятным» она истолковывала как отображения «новых настроений», которые принесла изменившаяся жизнь: «В стихотворениях Метерлинка проходит отраженная в сознании поэта современная жизнь – она кажется то удушливой теплицей, то обширным госпиталем для безнадежно больных; все его странные картины ‹…› являются лишь символами ненужности и бессмысленности столь многого в нашей жизни».[279]
Небольшой сборник, содержащий 33 стихотворения, «Теплицы» вызвали к себе живой интерес русских поэтов: в первой половине 1890-х гг. было опубликовано несколько переводов из этой книги, выполненных В. Брюсовым (включившим свое переложение в 1-й сборник «Русские символисты»[280]), а также второстепенными поэтами, к «декадентскому» направлению не причастными.[281] В кругу адептов «нового» искусства в России «Теплицы», наряду со стихотворениями Ш. Бодлера, П. Верлена, Ст. Малларме, расценивались как одно из вершинных достижений символистского творчества и воплощение новой поэтической образности, складывающейся в художественное целое посредством сложных внутренних ассоциативных связей. Неудивительно, что восемнадцатилетний выпускник 1-й петербургской гимназии Иван Иванович Ореус, еще не выступивший в печати под псевдонимом Иван Коневской, но уже определившийся в своих эстетических и мировоззренческих симпатиях к новейшим поэтическим и философским исканиям, взявшись летом 1896 г. за очерк о Метерлинке, обратил основное внимание именно на его поэтический сборник.
Свою первую статью, посвященную памяти И. Коневского (1877–1901), В. Брюсов назвал «Мудрое дитя».[282] Заглавие указывало на ранний возраст, в котором один из наиболее одаренных и ярких молодых поэтов-символистов ушел из жизни, и одновременно на раннюю духовную зрелость, взращенную на почве глубокой образованности, которая охватывала самые широкие сферы художественного творчества и умозрения. Исключительную широту познаний Коневской демонстрировал уже в гимназические годы, уже тогда он вынашивал планы целого ряда аналитических работ, в том числе и тех, в которых осмыслялись современные литературные искания. В кругу имен, пробуждавших у него живейший интерес, оказался и Метерлинк. В рабочей тетради, начатой в августе 1895 г. и включавшей наброски статей и различные заметки, имеется запись о метерлинковских «Слепых»;[283] в той же тетради в знаменательном перечне «Мыслители, разрушившие для меня материализм и утвердившие во мне уверенность в бессмертии души» указан в числе прочих и Метерлинк (с датировкой: «Зима 1896 г.»).[284] К дневниковой записи, сделанной на пароходе «Elbe» 31 мая 1898 г., примыкает запись «Любимые писатели», включающая пять имен: Достоевский, Эмерсон, Жан-Поль Рихтер, Ибсен и Метерлинк.[285] В плане задуманной работы на тему «Борьба между христианством и язычеством в современной Европе» значится: «Метерлинк, Ростан и др.», в той же тетради – наброски о Метерлинке и его «Теплицах».[286] Ряд выписок из текстов Метерлинка имеется в тетради Коневского, озаглавленной «Книга материалов (выдержки из сочинений разных авторов)».[287] Наконец, в сборник переводов произведений западноевропейских писателей, выполненных Коневским, включены и произведения Метерлинка – стихотворение «Больница (из “Serres chaudes”)», разделы из философских трактатов «Сокровище Смиренных» («Le trésor des humbles», 1896; у Коневского: «Сокровищница Смирения»): «Звезда», «Пробуждение Души», «Трагизм повседневности», «Мистическая нравственность», «Невидимая Благость», «Внутренняя красота», «Глубокая жизнь», «Об Эмерсоне» – и «Мудрость и Судьба» («Sagesse et Destinée», 1898; у Коневского: «Мудрость и Судьбина»): фрагменты XIII, XCIV, CXVII.[288]
Очерк Коневского «Морис Метерлинк» (подписанный настоящим именем автора: И. Ореус) представляет собой завершенный фрагмент более широкого неосуществленного замысла, в рамках которого предполагалось проследить отражение мистического начала в творчестве целого ряда писателей и художников второй половины XIX века. В тетради, содержащей автограф очерка о Метерлинке (на обложке – обозначения: «М. М. И. О.», т. е.: Морис Метерлинк. Иван Ореус), текст очерка предваряется планом, очерчивающим тематические контуры общего замысла:
Memento:
Современные провозвестники художественного мистикизма:
I. Морис Мэтерлинк: его поэзия и философия.
II. Мировоззрение английских «прерафаэлитов» в живописи и поэзии (Росетти, Моррис, Суинбёрн, Берн-Джонс, Миллэ).
III. Тайны нравственного мира (Генрик Ибсен).
IV. Светлый мистик (несколько новых слов о мировоззрении Алексея Толстого).
V. Просветленный мудрец (Роберт Броунинг).[289]
Очерк Коневского о Метерлинке выделяется на фоне практически всех трактовок бельгийского символиста в русской печати любовным, самозабвенным погружением в завораживающий его автора художественный мир: перед нами интерпретация, готовая переродиться в со-творчество. Заслуживает вместе с тем внимания и общая философско-эстетическая установка начинающего русского поэта на преодоление декадентства посредством мистического постижения глубинных основ преходящей действительности. В полный голос призывы изжить декадентство в подлинном символизме зазвучат в России уже после безвременной кончины Коневского.
Текст очерка печатается по автографу, хранящемуся в архиве И. Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 5 – 10).[290]
И. Ореус
МОРИС МЕТЕРЛИНК
Из всех современных ныне живых поэтов пишущий по-французски бельгиец Maurice Maeterlinck[291] (наряду с Ибсеном, англичанами Суинбёрном и Моррисом[292]) является несомненно самым благородным провозвестником истинного символизма, одухотворенного философскими и психологическими обобщениями – в драме и отчасти лирической поэзии.
История творчества Метерлинка, которое как раз со времени появления его последнего произведения, первого философского опыта поэта: «Le Trésor des Humbles» (П<ариж>. 1895) вступило в новый фазис, это – разительный и возвышающий образец внутреннего перерождения и возрождения современного духа к отрадному мистическому миропониманию из тьмы смрадного, истощенного декадентства, тяготеющего к разложению и прекращению мировой жизни и мутившего лучших людей Франции со второй, можно сказать, половины нашего столетия (Флобер, Гонкуры, Мопассан – в сущности такие же декаденты, как Бодлэр, Гейсманс и Маллармэ[293]). Едва ли другой поэт нашего времени начинал свое литературное поприще таким сборником стихов, как «Теплицы» («Serres chaudes». Brux<elles>. 1887).[294] Автору было 25 лет, выступал он, стало быть, для нашего времени довольно поздно, но и 25 лет кажутся детским возрастом, если вдумчиво прислушаться к этим диким воплям и глухим стонам задыхающейся и изнемогающей души, поистине настолько переболевшей, насколько наверно не приходилось болеть иному глубокому старику. Дух поэта разрывается от кричащего разлада между ненасытимой сверхчеловечностью жажд и порывов своих – с одной стороны, и ничтожным бессилием своего человеческого существа – с другой; болезненно-страстно ищет он кровного соприкосновения и единения с божественным началом мира, с «мирами иными», а вкруг да и в нем самом царит густая непроницаемость, глухое бездушие самодовольной пошлости и животности. Да, вся груда случайного, мелкого и нелепого в окружающей действительности, точно чудовищный вал, воздвигнутый из песка и мусора, отрезывает его от созерцания неведомой вечной сущности мира, загораживает ему горизонты и просветы, подчас раскрывающие перед нами смысл жизни и действие невидимых сил в каждом ее мгновении; оцепляет его в душной ограде[295] доступных чувственному познанию истин и явлений и та несокрушимая стена, которою конечные истины точных наук обнесли мир этих явлений и навеки нас отлучили от заветного запредельного познания. Владычество тех же мук он прозревает во множестве сталкивающихся с ним сердец, но… удивительнее всего, как они сообщаются ему… Тут мы вступаем в такие душевные области, ощущение которых составляет исключительное достояние, или, вернее, проклятие нашего страдальца-поэта. Предмет его муки давно знаком нашему веку, но Метерлинк раскрывает новую, еще неисследованную глубь, проникает в новый, еще неизведанный слой этой вековой скорби; чувство не ново, но углубленность и обостренность его еще неслыханная. Вот в чем потрясающая сила поэта! Как бы вы думали, например, достигают до его сознания самые сокровенные скорби чужой души? О, вовсе не через продолжительное сознательное общение с этой душой, нет – ему достаточно брошенного на него взгляда, прикосновения руки, чтобы эти физические ощущения мучительно отдавались в его сердце глухим чувством бездны неисследимых томлений и скорбей; она зияет из-за этих взглядов, это – та «тьма», которая «распростирается между пальцами» прикасающихся к нему рук (как свидетельствуют об этом удивительные пьесы сборника: «Regards» и «Attouchements»[296]). И вот, неотразимо сознавая свое бессилие утишить это море скорбей, он сжимает нам душу страшным стоном: «Пожалейте человека за эту силу!», за эту обостренную чуткость и восприимчивость силы ощущения.
А что это за образы, в которых все эти беспросветно-темные ощущения и впечатления сказываются его духу! Да, в ту самую минуту, когда они поражают судорожно натянутые струны его, они в то же время, точно действием[297] каких-то чар заполоняют его сознание одуряющим вихрем самых пестрых, бессвязных, до нелепости неожиданных, живущих неестественно-напряженной жизнью, неотступно-мутящих фигур и картин, кровно родственных, однако, самим родоначальным чувствам или впечатлениям. Этот нестройный мир беспорядочно-разрозненных образов, в которые мгновенно претворяются в душе Метерлинка все впечатления жизни, это – какие-то то белесовато-серые, то свинцово-темные поминутно набегающие и меняющие самые причудливые очертания облака и тучи, часто просто какие-то клубы мглы, отяготевшие над горестной низиной… это, воистинну – кошмары, видения. Пока они теснят, опутывают и заставляют крутиться поэта в своем безумном вихре, из уст его еле успевают вырываться отрывочные, бессвязные возгласы, в которых на лету схватываются и в трепете жизни запечатлеваются все эти удушливые символы внутренних мук поэта. Таков всесильно господствующий тон его поэзии: это – проникновенный бред лихорадочно-возбужденной натуры, обнажающей самые нежные покровы своей души под действием ударов мирской жизни. В этом-то бреде – сила цепенящая, заколдовывающая… чего стоит одна эта пестрота и разнообразие, а также и тонкая отчетливость этих видений фантазии, чтó свидетельствует о какой-то, если можно так выразиться, изумительной гибкости, прямо питаемой сердечными ключами и работающей под их неудержимым напором, – у самой этой непосредственной фантазии…[298]
Что и говорить – по тому самому, что поэт вводит нас таким образом в новый концентрический круг нашего внутреннего ада, нам, несмотря на то, что верхние его круги нам известны, многое в этих страшных краях дико, чуждо, непонятно. Не у многих страдание достигало с метерлинковской полнотой до этой большею частию в хаосе бессознательного скрытой области нашей роковой муки[299] – разъединения между человеческим естеством и таинственными откровениями во внешних восприятиях и внутреннем самосознании о природе того непознаваемого начала, которое, однако, как «что-то» подавляюще-неизмеримое, чувствуется при каждом осмысленном взгляде на жизнь. Так, по необычайной полноте этой муки, многое в видениях Метерлинка ничего нашей душе не говорит. Но общий колорит всякого проймет, а сплошь да рядом и отдельные образы метят прямо в сердце с изысканной жестокостью, переворачивают душу.
Вот – «удушающая теплица в дремучих лесах», «больница, жарко отопленная в июльский день», – в этих двух образах – весь земной мир. А в этом мире человек мыслящий и жаждущий, слишком великий для земли и потому бессильный действовать на ее поверхности, это – водолаз, задыхающийся под тусклым водолазным колоколом с головой, навеки замкнутой в этом «море из горячего стекла», это – «голодающая задумчивая царевна», это – «большой броненосец на всех парусах на канаве с стоячей водой», это – «целый народ, столпившийся в предместьях и не могущий выбраться из города»… а сколько людей, ищущих вырваться из своего существа, безвозвратно отдать себя всецело, потопить свое «я» в самоотверженном, крестоносном подвижничестве, которые с радостным упоением надрывают себя, изводят, губят все свои жизненные силы – отчаянные искатели Бога в добровольном самораспинании, в глазах их поэту видятся уплывающие «корабли, по-праздничному освещенные и распустившие все паруса под бурей»… а сколько таких же пламенных, несокрушимых, суровых геройских и апостольских душ, которые осуждены тянуть всю жизнь унылую лямку кропотливой, медлительной, осмотрительной, главное – подлаживающейся к слабостям людским деятельности… а те подвижнические натуры, что тревожно озираются и нигде, ни в чем не находят достойного предмета, которому стоило бы принести в жертву свою жизненную энергию, а чистые, возвышенные созерцатели и мечтатели, которые заброшены в грязную сутолоку близорукой, нравственно-загрубелой деловой или промышленной деятельности: вот они, они «проходят по насыщенной вялым[300] воздухом теплице», – эти «охотники на лосей, которые сделались больничными служителями»,[301] эти «сестры милосердия, томящиеся посреди океана в бездействии без больных», эти «садовники, обратившиеся в ткачей» или «поселяне, работающие на заводах»… И всё новые и новые оттенки мучительных и неразрешимых диссонансов человеческой души, всё новые разновидности душ, рожденных исковерканными и «с вывихом», – «столько страданий, еле заметных и все же таких разнообразных» продолжают мерещиться сознанию поэта. Сколько нежности, сердечной теплоты и глубокого понимания еле заметных тайников души светится в иных образах!.. Какое щемящее чувство вызывают эти «дети, заблудившиеся в урочный час обеда»: как раз в то время дня, когда плотнее и теснее всего они все сбиваются в родном уголку, вокруг приветливого огонька, когда им особенно дико находиться далеко от дома, им приходится беспомощно бросаться в разные стороны в каких-то глухих, неприютных, безвыходных дебрях… так представляешь себе, что обычный час обеда – на склоне дня, уже сгущаются сумерки, а бедные затерянные детки в этот-то жуткий, смутный час дальше всего от светлого, веселого дома. А как безжалостно и бездушно сияет земное ярко-ликующее солнце над всеми этими бессильными и напрасными болями, порывами, томлениями: оно погружает их в какую-то гнетущую истому и дремоту: вот проходят «девы, возвращающиеся с длинной прогулки под палящим солнцем, проголодав с утра»,[302] вот «больные царевны», разбитые летним светом и зноем, «ложатся спать в полдень на все лето»,[303] а как уныло звучит «в полдень похоронный звон» или «звук шарманки на солнце» (musique d’orgues au soleil!).[304]
Май – Июнь 1896 г. Петроград – Михайловское.Трое из «Рокового ряда»
Валерий Брюсов и Людмила Вилькина
В 1916 г. Валерий Брюсов написал венок сонетов «Роковой ряд»: в каждом из 14 сонетов венка воссоздавался образ одной из возлюбленных, запечатлевшихся в памяти автора. В седьмом сонете воспета Лила; под этим условным именем подразумевалась Людмила Вилькина:
Навек закрепощенных в четкий стих, Прореяло немало мигов. Было Светло и страшно, жгуче и уныло… Привет тебе, среди цариц земных, Недолгий призрак, царственная Лила! Меня внесла ты в счет рабов своих… Но в цепи я играл: еще ничьих Оков – душа терпеть не снисходила. Актер, я падал пред тобой во прах, Я лобызал следы твоих сандалий, Я пел терцинами твой лик медалей… Но страсть уже стояла на часах… И вдруг вошла с палящей сталью взгляда, Ты – слаще смерти, ты – желанней яда.[305]В заключительном терцете уже возникает тема следующего, восьмого сонета – тема страсти, которую пробудила в авторе «ангел или дьяволица» Дина – Нина Петровская. Радостно-мучительная, всепоглощающая любовь, соединившая поэта с Диной, контрастирует с той гаммой переживаний, которую вызвала в нем «царственная Лила» – «недолгий призрак»: мотив игры, осознанного актерства, определяющего для него в данном случае весь стиль поведения, акцентируется в художественной реконструкции этого жизненного сюжета. И все же «недолгий призрак» не промелькнул во внутреннем мире Брюсова «мимолетным виденьем» – иначе не довелось бы ему вписаться в протяженный, но строго и взвешенно выстроенный «роковой ряд». И в биографических любовных реестрах «недолгий призрак» не был забыт. «Мой Дон-Жуанский список» Брюсова в рубрике «А. Серьезное» включает запись: «1903 – 4. Людмила (Вилькина)»; аналогичная запись – в его же перечне «Mes amantes»: «1903 – 4. Людмила (Людмила Николаевна Вилькина-Минская)».[306]
Занесенные в «роковой ряд» одна за другой, – хотя и несопоставимые друг с другом по тому месту, которое они занимали в жизни Брюсова, – Людмила Вилькина и Нина Петровская, при всем несходстве их психологических обликов и манеры поведения, являли собою две модификации, два варианта одного типа творческой личности, чрезвычайно характерного в целом для культуры русского символизма. Обе они участвовали в литературной жизни, публиковались в модернистских изданиях, но не создали эстетически значимых, по большому счету, произведений и не сумели выделиться, благодаря написанному, из среды многочисленных «малых» представителей своего направления, остались на его периферии. Обе они, однако, оказались весьма заметными фигурами, без которых картина символистской литературной жизни была бы менее выразительной и заведомо неполной: в своей биографии, в формах и стиле своего самовыражения и своих жизненных контактов Петровская и Вилькина в полной мере сумели осуществить то, чего им не удалось добиться в художественных формах, – реализовать, каждая на свой лад, декадентско-символистскую модель «жизнетворчества», пересоздать косный и рутинный быт по эстетическому канону, предстать одновременно жрицей и жертвой этих преображенных, извращенно-обновленных форм бытия.[307]
Людмила (до перехода в 1891 г. из иудейского в православное вероисповедание – Изабелла; Бэла,[308] как ее называли близкие) Вилькина (1873–1920) родилась в Петербурге в семье коллежского асессора Николая Львовича Вилькина. Мать ее, Елизавета Афанасьевна, урожденная Венгерова, была дочерью общественного деятеля и директора банка в Минске Афанасия Леонтьевича Венгерова; в числе ее семи братьев и сестер – историк русской литературы и библиограф Семен Афанасьевич Венгеров, пианистка и преподавательница музыки Изабелла Афанасьевна Венгерова, историк западноевропейских литератур, критик и переводчица Зинаида Афанасьевна Венгерова.
С детских лет Изабеллу – Людмилу Вилькину (получившую образование в петербургской женской гимназии княгини А. Л. Оболенской) окружала литературная атмосфера, и в этом отношении ее союз с поэтом и философом Н. М. Минским, одним из провозвестников «нового» искусства в России, оказался вполне закономерным: их совместная жизнь началась в 1896 г. (отчасти благодаря содействию Зинаиды Венгеровой, также связанной с Минским близкими отношениями[309]), официально брак был заключен 8 июня 1905 г.[310]
Поначалу Вилькина пыталась обрести себя на артистическом поприще,[311] но затем литературные интересы возобладали. О том, что Белла Вилькина «пишет недурные стихи и рассказы», Зинаида Венгерова известила свою подругу 21 сентября 1895 г.; правда, 4 января 1896 г. писала ей уже в другой тональности: «Беллины стихи, конечно, пустяки. Может быть, из ее прозы что-нибудь выйдет – пока она старается работать».[312] И год спустя (в письме от 12 января 1897 г.) – снова о ней же, о ее упорном стремлении к литературной работе, невзирая на телесные недуги:
«Она очень больная женщина, сидит взаперти, занимается, пытается писать – по душе своей очень любящая и сосредоточенная натура, с сильными страстями, принимает жизнь всерьез, страдает, любит, ревнует – в общем симпатичная и жалкая женщина, особенно теперь с ее болезнями. Николай Максимович собирается вместе с ней за границу, но теперь ей нельзя двинуться с дивана из-за всяких опухолей и воспалений. ‹…› Перевод “Аглав<ены> и Селиз<еты>” сделан Белой и недурно».[313]
С пьесы «Аглавена и Селизета» началась многолетняя работа Вилькиной по переводу на русский язык произведений Мориса Метерлинка. Эти переводы неоднократно переиздавались при ее жизни, а также и в последующие десятилетия. Переводила она, кроме того, пьесы Октава Мирбо и Гергарта Гауптмана, романы Поля Адана, рассказы Андре Савиньона и многое другое.
На рубеже веков Вилькина заявила о себе в печати и собственными произведениями – стихотворениями, рассказами, обзорами и рецензиями, спорадически появлявшимися в журналах и газетах («Неделя», «Книжки Недели», «Новое Дело», «Ежемесячные Сочинения», «Новое Время», «Звезда»). Литературного имени эти публикации ей не создали, зато определенную известность Вилькина сумела завоевать в писательской среде, находясь рядом с Минским, в их петербургской квартире на Английской набережной, которая благодаря главным образом усилиям ее хозяйки приобрела репутацию модного «салона» в «декадентском» стиле. О новообретенном амплуа, определившем образ жизни и характер поведения Вилькиной, Венгерова писала 22 ноября 1901 своей постоянной корреспондентке: «Бэла Минская утончается, превращается в запятую, занята “культом своей красоты” и приискиванием поклонников. ‹…› Она, кажется, навсегда застынет на искании счастья в “ухаживаниях”, что бы ни менялось вокруг нее».[314]
Среди «поклонников» и конфидентов, увлеченных Вилькиной и занимавших на протяжении более или менее длительного времени определенное место в ее жизни, помимо Брюсова, представлены и другие знаменитости – К. Д. Бальмонт,[315] В. В. Розанов, Д. С. Мережковский,[316] Л. С. Бакст, К. А. Сомов; значатся в их числе и фигуры не столь выдающиеся: поэт, прозаик и драматург С. Л. Рафалович, прозаик и драматург Осип Дымов, поэт, филолог, в будущем известный историк западноевропейских литератур А. А. Смирнов[317] и другие.
Опрометчивой, однако, была бы попытка увидеть в Вилькиной воплощение «декадентского» панэротизма и аморализма, разоблачить ее как новоявленную Мессалину, ищущую любовных радостей и острых ощущений в мире литературно-артистической богемы. Вилькина – может быть, последовательнее, чем иные ее современники – старалась соблюдать верность кодексу «декадентских» идей, чувствований и настроений, но трактовала этот кодекс на свой лад. Полноте и определенности переживаний и страстей она неизменно предпочитает зыбкость и двусмысленность, искренности и правде чувств – их имитацию, цельности мировидения – внутреннюю противоречивость, реальности – иллюзию. В предисловии к ее единственной авторской книге Розанов отметил, что Вилькина способна жить и творить только в «зале своего воображения»: «Она ‹…› предпочитает больше грезить, нежели видеть».[318] Сонеты Вилькиной изобилуют афористическими формулами, раскрывающими суть ее мироощущения, которое не могло не оставить своего отпечатка и на характере взаимоотношений с приближавшимися к ней людьми: «Люблю я не любовь, – люблю влюбленность»; «Я не любви ищу, но легкой тайны. / Неправды мил мне вкрадчивый привет»; «Я – мир, в котором солнце не зажглось. / Я – то, что быть должно и не сбылось».[319] Эгоцентризм всегда оставался необходимым ферментом в среде ее прихотливых личных переживаний, был главной стимулирующей силой во всех ее увлечениях и «романах», придавал им ущербность и «недовоплощенность».
Умевший быть проницательным Д. С. Мережковский даже в ту пору, когда он позволил себе безрассудно ею увлечься, отчетливо различал эти особенности ее личности и неоднократно в письмах к Вилькиной на них указывал: «Вы влюблены в себя, и другие люди служат Вам только зеркалами, в которые Вы на себя любуетесь ‹…›» (март 1905 г.); «Все люди вообще разделяются на два рода: на тех, которые умеют любить, не желая быть любимыми, и на тех, которые хотят быть любимыми, не умея любить. Вы принадлежите ко второму роду, я – к первому. Я знаю, что хотя Вы никогда меня не полюбите, но Вам хочется, чтобы я Вас любил» (26 апреля 1905 г.); «…Вы умеете желать беспредельным желанием, никогда не доходя до конца желаний ‹…›. Вы умеете пить вино поцелуев, опьяняясь и все-таки оставаясь трезвою в опьянении…» (18 июня 1905 г.).[320]
Тот же Мережковский в одном из писем к Вилькиной назвал ее «колдуньей», которая варит «любовное зелье из многих похищенных сердец».[321] Действительно, Вилькина стремилась к умножению числа своих поклонников с той же энергией и увлеченностью, с какой профессиональный коллекционер прилагает усилия к пополнению собрания принадлежащих ему раритетов. Сохранилась тетрадь, в которую она одно время заносила копии своих писем к тем корреспондентам, которых считала «полоненными» ею, – к Л. С. Баксту, К. К. Случевскому, Брюсову и др.[322] С коллекцией полученных ею «откровенных» писем она охотно знакомила сторонних лиц. В записи об одной из первых встреч с нею (ноябрь 1902 г.) Брюсов отметил: «Минская показывала мне письма Бакста, где он соблазнял ее. “Для художника не существует одежд, писал он, я мысленно вижу вас голой, любуюсь вашим телом, хочу его”».[323] Розанов жаловался З. Н. Гиппиус (декабрь 1906 г.):
Проклятая Леликина, Лолекина, Вилькина и проч. позволяет читать мои к ней письма, – совершенно «непозволительные» ‹…›. Права это делать она не имеет никакого; но тут очевидно не в праве дело, а в ее уме и порядочности – по части чего у нее безнадежно. Что делать – не знаю, как поступить – не понимаю. Написать Минскому? Он на нее чрезвычайно влиятелен, и вообще из его воли она не выходит. ‹…› Конечно, никакой любви ни раньше, ни теперь у меня не было, а это все проклятая «философская любознательность». ‹…› Теперь эта дура «полегоньку» и «помаленьку» читает это разным друзьям своим – кажется, Сомову, Нувелю и проч.; а главное, хвастает: «У меня есть полный матерьял для 3-го тома соч<инений> В. В. Розанова, который я издам после его смерти».[324]
Получив это послание, Гиппиус сочла нужным предупредить Брюсова о том, что его переписка с Вилькиной также не застрахована от публичной огласки.[325] Впрочем, Брюсов в данном случае мог особенно не волноваться: в его посланиях к Вилькиной не содержалось тех пикантностей, на которые оказался столь щедр Розанов, а отношения с нею ко времени истории с розановскими письмами уже давно приобрели формально-отстраненный характер.
Познакомился же Брюсов с Вилькиной в начале ноября 1900 г., в один из приездов в Петербург. «Видели вчера Минского и беседовали с ним долго и хорошо; и с г-жой Минской, которая в сторонке соблазняла меня “полюбить страшное”», – сообщал Брюсов 4 ноября 1900 г. А. А. Шестеркиной.[326] Встречи были возобновлены два года спустя, когда Брюсов, находясь в Петербурге, участвовал в подготовке к изданию журнала «Новый Путь». Уже в это время в его записях сказывается ирония по отношению к «декадентской» «мэтрессе»: «Людмила подражает Зиночке <З.Н. Гиппиус. – Ред.>, лежит на кушетке у камина. ‹…› Она говорила декадентские слова и кокетничала по-декадентски» (16 ноября 1902 г.)[327]. Упоминая о Минском в письме к С. А. Полякову от 23 ноября 1902 г., Брюсов добавлял: «С женой его, знаменитой Людмилой, видаюсь каждый день, в какой-то фантастической ее комнате, со ступенями вниз, в их роскошном полувенецианском палаццо на берегу Невы. “Играем в любовь”. (По счастью, я скоро уеду)».[328]
Аналогичны и его отзывы в письмах к жене (не сообщая в них обо всех обстоятельствах своих встреч с Вилькиной, Брюсов, видимо, не кривил душой, характеризуя ее «обольщения» в ироническом тоне): «… был у Минских. Роскошная квартира вроде венецианского палаццо; вид на Неву. Людмила меня приняла в некоей уединенной комнате, куда надо идти по ступеням вниз. Полтора часа она меня соблазняла, но не соблазнила, конечно, да и не соблазнит. ‹…› Сегодня опять буду у ней» (17 ноября 1902 г.); «… в 5 пошел к Минским. Опять попал в круглую комнату, и начала меня Людмила опять соблазнять (в переносном смысле). Соблазняла, соблазняла. Потом пришел Минский, говорил “философские разговоры”. Ушел. Опять меня Людмила соблазняла и поила чаем» (та же дата, «ночь»);[329] «Г-жа Минская продолжает меня прельщать, рассказывает, как была она любовницей Бальмонта. Я пишу ей стихи ‹…› и делаю вид, что интересуюсь ею ‹…› (Но ты тоже не бойся. Это тоже забава, которая не зайдет дальше первого столба)» (22 ноября 1902 г.). В то же время Брюсов не скрывал от жены того, что находиться в обществе Минского и Вилькиной ему приятно и интересно: «… у них мне легче дышать, чем у Мережковских. И люди у Минских бывают более мне по сердцу, чем богословы от Мережковских» (21 ноября 1902 г.).[330]
Резюме этой первоначальной стадии их взаимоотношений Брюсов изложил в дневниковой записи:
За Минской я ухаживал. Впроч<ем>, платонически. Дарил ей цветы. Мы целовались. Перед самым моим отъездом мы устроили поездку в Финляндию, в один пансион. Провели в общем вместе и наедине часов 10, и я свободно мог бы похваляться ее близостью. Ибо в пансионе (в Мустамяках) провели часы и в запертой комнате. Но только целовались. Она взяла с меня какие-то нелепые клятвы и обещание отдать ей обручальное кольцо. Между проч<им>, меня поразило, как она зависима от мира в мелочах жизни, как она боялась, что опоздала домой на 1½ часа.[331]
Под впечатлением от совместной однодневной поездки в Финляндию Брюсов написал стихотворение «Лесная дева» (26 ноября 1902 г.), посвященное Вилькиной:
На перекрестке, где сплелись дороги, Я встретил женщину: в сверканьи глаз Ее – был смех, но губы были строги. Горящий, яркий вечер быстро гас, Лазурь увлаживалась тихим светом, Неслышно близился заветный час. Мне сделав знак с насмешкой иль приветом, Безвестная сказала мне: «Ты мой!», Но взор ее так ласков был при этом, Что я за ней пошел тропой лесной, Покорный странному ее влиянью. На ветви гуще падал мрак ночной… Все было смутно шаткому сознанью, Стволы и шелест, тени и она, Вся белая, подобная сиянью.[332]«Лесная дева» – Вергилий этих вариаций на дантовскую тему – скрывается от героя, заблудившегося в тумане, но он ждет следующей ночи и предвкушает новую встречу: «Приди! Зови! Бери меня! Я – твой!»
Призыв, которым завершается стихотворение, претворился в жизнь во время следующего приезда Брюсова в Петербург, в январе 1903 г. Любовному союзу Брюсова и Вилькиной, впрочем, суждено было осуществиться, по всей видимости, в тех же иллюзорных и мимолетных формах, что открывались лунатическому взору лирического героя «Лесной девы». Со стороны Брюсова это увлечение было непродолжительным, и он не раз пытался в письмах к Вилькиной указать на временную и психологическую дистанцию, отделившую былого рыцаря «лесной девы» от него же самого, находящегося уже во власти новых переживаний:
«Я Вам пишу, Людмила, как далекой, как женщине, быть может, иных столетий, быть может, вымыслу художника. Я не очень убежден, что Вы существуете. ‹…› Да, на той вазе, которую мы начали расписывать, были проведены только первые штрихи. Но она разбилась. Стоит ли ее склеивать, чтобы дорисовать намеченные рисунки?» (31 января 1903 г.);[333]
«Да, быть может, тот миг был как единственный дар. Но разве все дары принимаются? ‹…› Ах, с меня довольно одного. Я отдаю себя самого – себе. Я не хочу принадлежать никому, и спокойно могу не владеть никем. ‹…› Я Вам целую руку лишь в знак прощания» (между 20 и 23 февраля 1903 г.);[334]
«Я вспоминаю Вас часто, Людмила, но не знаю, как стал бы говорить с Вами при встрече. Быть может, нам было б не о чем говорить» (не позднее 15/28 августа 1903 г.);[335]
«… теперь наши голоса словно действительно звучат из телефонной трубки, измененные, искаженные: Вы не узнаёте моего, мне странен Ваш. Вы пытаетесь говорить со мной, как в той жизни, когда мы были – на краткий миг – рядом; я пытаюсь отвечать так же. Но Вы – уже не та, и я – иной. Поверьте этому до конца: иной! иной! просто другой человек, только с тем же именем, – как и Вы другая, хотя с теми же глазами, с той же притаившейся улыбкой, с тем же наклоном тихо-розовой шеи, который я почему-то запомнил полнее всего, – и навсегда» (25 января 1904 г.).[336]
Вилькина не желала примириться с охлаждением Брюсова и даже готова была простить явные знаки невнимания к ней с его стороны, но, думается, не столько от полноты и силы своего чувства к нему, сколько по двойному расчету. Связь с мэтром московских символистов, при отмеченной выше страсти к «коллекционированию» престижных поклонников, льстила ее самолюбию, а также могла – на что она явно надеялась – способствовать упрочению ее положения в писательской среде: Вилькина была глубоко уязвлена тем, что ее попытки заявить о себе на литературном поприще не приносят желаемых результатов, что в творчестве ей не удается и не суждено стать вровень со многими из ее конфидентов.
Начальную стадию своих отношений с Вилькиной Брюсов определил как «игру в любовь»; в значительной мере игровой, искусственный характер эти отношения сохранили и в ту пору, когда о любви можно было говорить только в прошедшем времени. В письмах к Вилькиной Брюсов выступает как бы в двух ипостасях – делится своими вполне искренними и доверительными суждениями на литературные и иные темы, выражает собственное мироощущение, обсуждает разнообразные частные вопросы и – откровенно лицедействует, «подыгрывает» корреспонденту, выступая в обличье экзальтированного и утонченного духовного гурмана, эстетизируя события собственной жизни, выстраивая велеречивые образные ряды, призванные передать тайные, невыразимые ритмы душевной жизни, – как, например, в июльском письме 1903 г., с признаниями об увлекших его математических штудиях: «…я дифференцирую и интегрирую, с последней страстью, непобедимо ‹…› я знаю, что здесь есть пути к таким высотам, к которым взойти иначе – нельзя: ни в любви, ни в преступлении. Эти вершины за пределами даже вечных льдов, потому что за пределами земли и ее атмосферы. ‹…› Небо то бледнеет от страсти и жжет неумолимо, то гаснет, мутнеет, словно Божий глаз, покрывшийся бельмом, в мире что-то совершается, убивают королей и умирают папы, мне пишут, зовут меня по имени, окликают, – но в моей жизни длящийся полдень, остановившееся время, я заворожен виденьями чисел, вечных! вечных!»[337]
После 1904 г. связь между Брюсовым и Вилькиной сохранялась лишь благодаря переписке, которая постепенно утрачивала прежнюю видимость интимности. Взаимоотношения их фактически сошли на нет после появления в журнале «Весы» (1907. № 1) отрицательного отзыва Брюсова о книге Вилькиной «Мой сад», выпущенной московским издательством «Гриф». «Статью о Вилькиной я писал “скрепя сердце”, – сообщал Брюсов К. И. Чуковскому 21 февраля 1907 г. – Но ведь должен же был кто-нибудь откровенно заявить, что она как поэт, – бездарность (и очень характерная, очень совершенная бездарность)».[338] Брюсов критиковал как эстетическую ущербность сонетов Вилькиной (отсутствие изобразительности, «скудные и общие определения» вместо эпитетов, «стих лишен музыкальности, а порой и прямо неблагозвучен»), так и во многом уже устаревшую, по его убеждению, художественную идеологию автора:
Содержание «Моего сада» исчерпывается кругом «декадентского» мировоззрения. «Я – целый мир», «Я – в пустыне», «Мне жизнь милей на миг, чем навсегда», «Я и обычное считаю чудом», «Люблю я не любовь, – люблю влюбленность» и т<ому> под<обное> – все это мысли, которые уже довольно давно перестали быть новыми даже у нас.[339]
Приговором Брюсова Вилькина была задета до глубины души; остроту ее реакции не могли сгладить ни опубликованные одновременно положительные рецензии на «Мой сад» Сергея Соловьева (Золотое Руно. 1907. № 1) и Андрея Белого (Перевал. 1907. № 3. Январь) – появление последней было инспирировано Минским,[340] – ни сочувственные увещевания мужа, постоянно побуждавшего ее поверить в силу и подлинность дарованного ей таланта.[341] Задуманную ранее вторую книгу стихов и рассказов Вилькина так и не сформировала; впоследствии, проводя почти все время вместе с Минским за границей, она фактически отошла от российской литературной жизни, лишь от случая к случаю публикуя единичные стихотворения и переводы.
Смерть Людмилы Вилькиной в Париже в 1920 г. прошла незамеченной. В печати появилось лишь ее «посмертное стихотворение», аккумулировавшее в нескольких незатейливых строках квинтэссенцию того эстетического мироощущения, с которым она когда-то пыталась самоопределиться в русской литературе:
Когда нет Радости, То никакой нет радости Пить. Когда нет Цели, То никакой нет цели Жить. Радость без Радости Только одна: Сон. Цель без Цели Только одна: Смерть.[342]Валерий Брюсов и Нина Петровская: биографическая канва к переписке
Публикации эпистолярных документов с теми особенностями содержания, которые ярчайшим образом воплотились в переписке Валерия Брюсова и Нины Петровской: «пять пудов любви» (по чеховской иронической аттестации сюжета будущей «Чайки»)[343] и «мильон терзаний», этой любовью порожденных, – чаще всего способны вызывать нарекания и даже решительные протесты: как можно предлагать стороннему читателю такие сугубо личные послания, тиражировать интимные признания, обращенные к одному-единственному адресату, делать то, что составляло тайну двух людей, публичным достоянием! Тех, кто берет на себя риск и труд собирать, систематизировать, печатать подобные тексты, вполне могут подвергнуть – и не раз подвергали – остракизму за беззастенчивое копание «в чужом белье», за искание дешевой популярности, за пренебрежение этическими нормами и т. д.
В нашем случае удел публикаторов отчасти, может быть, облегчается тем, что им дарована вполне убедительная индульгенция. Дело в том, что один из корреспондентов, Валерий Брюсов, считал вполне естественным и даже желанным тот факт, что его переписка с Ниной Петровской рано или поздно будет опубликована, и даже озаботился тем, чтобы сделать на этот случай соответствующие распоряжения. Сохранилось его письмо к С. А. Соколову, бывшему мужу Петровской, которое наделено статусом официального завещательного документа:
9 мая 1911 г.
Многоуважаемый Сергей Алексеевич!
Передавая Вам, с согласия Н. И. Петровской (Соколовой) на хранение Вам ее письма ко мне (после чего последует передача Вам моих писем к ней), прошу Вас соблюсти следующие условия:
1) Письма не должны быть распечатаны до смерти обоих корреспондентов, т. е. до смерти моей и Н. И. Петровской, – иначе как с обоюдного, письменного, согласия того и другого.
2) Письма не могут быть опубликованы (напечатаны), полностью или частью, раньше, как через десять лет после смерти того из нас, кто переживет другого.
3) Право опубликования этой переписки и все связанные с этим литературные права предоставляются Вам, С. А. Соколову, под условием, что письма будут распечатаны в присутствии особой комиссии, в состав которой войдете и Вы, и что подготовкой к печати и редактированием издания этой переписки будет заниматься та же комиссия.
4) Редакционная комиссия, указанная в предыдущем пункте, должна состоять не менее как из пяти лиц, непременно причастных к литературе, и желательно, чтобы в нее были приглашены лица, знавшие лично меня и Н. И. Петровскую, причем предположительно указываются мною следующие лица: К. Бальмонт, С. А. Поляков, С. М. Соловьев, Б. Н. Бугаев (Андрей Белый).
5) Организация этой комиссии поручается Вам, С. А. Соколову, с тем, чтобы состав ее был опубликован в газетах.
6) На случай Вашей смерти, Вы, С. А. Соколов, не преминете сделать распоряжение о передоверении всех вышеуказанных прав на хранение и издание передаваемой Вам переписки другому лицу.
Настоящее предварительное заявление имеет быть со временем заменено другим, более подробным. Но если б это не было по каким-либо причинам исполнено, настоящее заявление получает всю силу выражения моей воли.
Дано Сергею Алексеевичу Соколову, в литературе Кречетову, от Валерия Яковлевича Брюсова. Москва, 9 мая 1911 года.[344]
Собраться для подготовки переписки к публикации в 1938 г., десять лет спустя – согласно завещательному условию – после смерти Петровской и четырнадцать лет спустя после смерти Брюсова, предполагаемые участники «редакционной комиссии» уже не могли: в живых из них тогда остались только трое, причем К. Д. Бальмонт жил в эмиграции в Париже, а из двоих находившихся в Москве – С. А. Полякова и С. М. Соловьева – один, С. М. Соловьев, был недееспособен, пребывал во власти психического заболевания (после ареста в 1931 г. и дальнейших следственных действий). Не мог предвидеть Брюсов в 1911 г. и тех общественных условий, которые начисто исключали возможность опубликования его переписки с Петровской на родине корреспондентов ко времени вступления в силу приведенного выше документа. Примечательно, однако, явное стремление поэта сделать в будущем свою романическую переписку достоянием гласности. Личную жизнь он осознавал как весьма важную составляющую часть своего единого литературного облика и поэтому заботился о том, чтобы она была надлежащим образом документирована, чтобы не возникло ненароком «белых пятен». Брюсову важно, чтобы с должным вниманием и необходимой полнотой были собраны и оценены непосредственные свидетельства тех отношений, которые преломлены в эстетических зеркалах и освещены отраженным светом в любовных стихах его книги «Stephanos» и в романе «Огненный Ангел», чтобы признания о потаенных внутренних ощущениях и интимных чувствах, сообщенные близкой женщине, пополнили когда-нибудь всеобщее представление о его целостном, личностном, литературном, в конечном счете, образе.
Для Нины Петровской литературного компонента во взаимоотношениях и в переписке с Брюсовым почти не существовало, или, по крайней мере, эта особенность никогда не выступала в ее сознании на первый план. Письма были для нее лишь формой контакта, способом передачи собственных эмоций другому человеку и какого-либо иного содержания и смысла в себе не заключали. Когда ее отношения с Брюсовым подошли к своему концу, должна была исчезнуть, по желанию Петровской, и их документальная, «материальная» составляющая – переписка. Петровская не раз требовала от Брюсова возвращения ее писем – с тем чтобы затем их уничтожить (так она, по всей видимости, поступила с адресованными ей и остававшимися в ее распоряжении поздними письмами Брюсова: ни одного его письма к Петровской, написанного после апреля 1909 г., нам не известно). Если бы Брюсов пренебрег собственным умыслом в отношении этой переписки и выполнил требования бывшей возлюбленной, мы не только лишились бы одного из исключительно ярких и эмоционально насыщенных памятников русской эпистолярной культуры символистской эпохи; мы не имели бы возможности ознакомиться с самым значительным из того, что вышло из-под пера Нины Петровской, что позволяет оценить ее как одну из наиболее выразительных, наиболее характерных, «знаковых» фигур своего литературного круга.[345] Ни литературно-критические статьи и рецензии, ни – в еще меньшей мере – ее беллетристические опыты не выдерживают сопоставления с той эпистолярной исповедью, которую обращала Петровская к Брюсову из года в год и которая – конечно же, без всякого расчета с ее стороны – заключала в себе не только интимно-личное, но и, в определенном смысле, литературное содержание.
Специфику этой «литературности» первым, и наиболее полно и внятно, осмыслил В. Ф. Ходасевич, когда в своем поминальном очерке о Петровской («Конец Ренаты», 1928) выделил как самую отличительную особенность русского символизма стремление к «сплаву жизни и творчества»: «…часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь ‹…› Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, “жизненного” порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей “дар писать” и “дар жить” расценивались почти одинаково».[346] Петровской, безусловно, удалось воплотить прежде всего символистский «дар жить», и непосредственным документальным отпечатком, свидетельствующим о наделенности этим даром, остались ее письма – среди них в первую очередь письма к Брюсову.
О жизни Нины Ивановны Петровской до той поры, как она вошла в круг московских «декадентов», мы не знаем почти ничего. Не обнаружено никаких деловых бумаг и документов, по которым можно было бы установить полные имена ее родителей, род занятий отца, когда и где она окончила гимназию и т. д. Немногие скудные и крайне неопределенные сведения суммированы Ходасевичем, с которым ее какое-то время связывали доверительные отношения: «Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестою одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала “литературной эпохи” в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким».[347] Долгое время в биографических справках о Петровской обозначался 1884 год как год ее рождения; трудно сейчас установить, кем впервые и на каких основаниях была введена эта датировка, многократно повторенная в различных печатных источниках. Исходя из признаний Петровской в письмах к Брюсову, которые представляются вполне достоверными, теперь можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что она родилась в марте 1879 г. Ее младшая сестра, Надежда Ивановна Петровская, страдала физическими и психическими недугами, отягощенными во второй половине 1900-х гг. какой-то романической историей (не вполне внятные указания на эту личную драму имеются в письмах Нины Петровской к Брюсову); после смерти их матери в 1909 г. Надежда Петровская перешла всецело под опеку старшей сестры и разделяла с ней все последующие жизненные тяготы.
Петровская публиковала свои рассказы и статьи под девичьей фамилией, которая и стала ее литературным именем. В московском окололитературном сообществе она объявилась в 1902 г. как Нина Ивановна Соколова, жена адвоката и начинающего поэта Сергея Алексеевича Соколова (псевдоним – Сергей Кречетов), основавшего в том же году издательство «Гриф», которое, вслед за символистским «Скорпионом», учрежденным двумя годами ранее, ставило сходные задачи – быть пристанищем для писателей модернистской ориентации, утверждать «новое» искусство. С 1902 г. Петровская начинает рассказ о пережитом и в своих «Воспоминаниях».[348] Никакой предыстории это повествование о московском «декадентском» микромире не имеет – ее заменяют признания об обострившемся «томлении по жизни», о «горькой тоске существования», о «странной пустынности» как доминирующем чувстве; всем этим переживаниям «муки небытия», однако, было найдено противоядие: «Вся новая русская литературная проповедь ‹…› была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов. Маленькие сборники его “Chefs d’œuvres” и “Me eum esse”, – потом пышное “Urbi et Orbi” стали для меня символом моей новой веры».[349]
Литературный дебют Петровской состоялся в 1903 г.: в «Альманахе книгоиздательства “Гриф”», которым заявило о себе новое издательское предприятие, были опубликованы ее рассказы «Осень» и «Она» – небольшие лирико-психологические этюды, написанные в форме мужского монолога (как и большинство последующих ее рассказов). С аналогичными опытами Петровская выступила в двух следующих альманахах «Грифа», вышедших в свет в 1904 и 1905 гг. Ранние рассказы Петровской являли собой характерные образчики «декадентской» прозаической миниатюры, с детальной разработкой образно-метафорического ряда и ослабленным сюжетом; темы любви и смерти, религиозно-экстатические и «демонические» мотивы часто окрашиваются в них в тона специфически модернистского урбанизма.[350] Литературного имени эти публикации автору не создали (если о ранних рассказах и упоминали, то чаще всего мимоходом и довольно пренебрежительно[351]), известность же в узком кругу лиц, причастных к деятельности «Грифа» и «Скорпиона», Петровская получила главным образом за наглядно проявленный «дар жить», за выразительное воплощение в индивидуальном психологическом облике и поведенческом рисунке специфически «декадентских» черт.
В какой-то мере одной из форм подобного самовыражения стал ее непродолжительный роман с Бальмонтом (вспоминает Ходасевич: «Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой ‹…›. Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья»[352]). Эта мимолетная история всколыхнула волну домыслов и слухов, циркулировавших в литературной богеме,[353] которым вскоре был дан дополнительный стимул: пытаясь изжить в себе последствия отношений с «оргиастическим» Бальмонтом, Петровская устремилась в «аскезу», в поиск возвышенного, духовно просветленного чувства. Так начался осенью 1903 г. ее «мистериальный» роман с Андреем Белым, который в январе – феврале 1904 г. обернулся романом тривиальным, «земным» и дополнительно окрашенным теми же «декадентскими» обертонами. Белый драматически воспринял такую перемену в отношениях: он осознавал, что его «порывания к мистерии, к “теургии” потерпели поражение»,[354] что воплотить в жизнь новую форму человеческих связей, о которой он грезил, ему оказалось не по силам; но и у Петровской, искренне и страстно полюбившей поэта-теурга, ожидавшей от него той же цельности и полноты чувства, которые испытывала она сама, «бегство» возлюбленного, его попытки видоизменить и в конечном счете прекратить общение с нею вызвали гамму самых мучительных переживаний.[355] С осени 1904 г. «роман» Петровской и Белого (судя по его позднейшим признаниям) не возобновлялся, но психологические последствия этой истории сказывались еще довольно длительное время. Когда между Петровской и Брюсовым установилась близость, Андрей Белый довольно долго фигурировал в их отношениях как третий отсутствующий участник (инициалы его настоящего имени – Б. Н. – то и дело мелькают в письмах Петровской к Брюсову).
Брюсов познакомился с Петровской тогда же, когда и с ее мужем Сергеем Соколовым и другими начинающими литераторами из «Грифа» – видимо, в феврале – марте 1903 г.[356] О Соколове и обо всей компании, группировавшейся вокруг него, у Брюсова сразу сложилось весьма невысокое мнение. Вторичность и второсортность их творческих опытов по отношению к тому, что делалось авторами из «Скорпиона», для него были очевидны (впоследствии в «Воспоминаниях» Петровская косвенно солидаризировалась с его позицией, утверждая, что издательство Соколова «никаких новых течений не выявило, своего слова не сказало, а так и осталось эстетически-барственной затеей в духе времени, стучанием в открытые уже двери»[357]). Петровскую Брюсов на первых порах из «грифовского» круга никак не выделял и даже позволял себе насмешливые, а порой и вполне скабрезные суждения о «Грифихе».[358] Обратить на нее более пристальное внимание его побудила, по всей вероятности, завязавшаяся романическая история с Андреем Белым, о которой Брюсов поначалу поминал, впрочем, в сугубо ироническом ключе – как, например, в записи, относящейся к весне 1904 г.: «Нина Петровская предалась мистике. ‹…› А Белого мать, спасая от “развратной женщины”, послала на страстную неделю в Нижн<ий> Новг<ород>».[359]
Ходасевич полагает, что в пробуждении живого интереса Брюсова к Петровской значительную роль сыграла мифотворческая составляющая. Женщина, отвергнутая поэтом-теургом, пренебрегшим чувственной любовью ради верности «светлому» мистическому началу, закономерно попадала в орбиту притяжения «мага», служителя «тьмы» (именно таковым было амплуа Брюсова, создававшееся им самим и принимавшееся другими в игровом символистском пространстве): «Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, когда наметился ее разрыв с Белым, потому что, по своему положению, не мог оставаться нейтральным. Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, “томиться и скрежетать”. Следственно, теперь Нина, ее соперница, ‹…› превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа “отомстить” Белому».[360] Петровская, восстанавливая в «Воспоминаниях» некоторые эпизоды, предшествовавшие ее сближению с Брюсовым (встречи на литературных собраниях, спиритические сеансы и др.), также упоминает про «демоническую» окраску, определявшую тональность складывавшихся отношений: «…я однажды сказала В. Брюсову: – Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда…»; «– Вот видите, В<алерий> Я<ковлевич>, – обступил ведь “сон глухой черноты”, и уйти некуда, – нужно, значит, войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же».[361] Именно эти апелляции к «тьме», к эстетическому декоруму, к миру «декадентских» обольщений и фантазий послужили главным эмоционально-психологическим началом, которое соединило мэтра русских символистов и вполне рядовую на писательском поприще носительницу символистского мироощущения. Примечательно, что и годы спустя, реконструируя в памяти начало романа, определившего весь ход ее последующей жизни, Петровская прибегает к тому же образному строю, который, видимо, являл собой не только оболочку, форму завязавшихся в 1904 г. отношений, но и в какой-то мере их подлинную суть; жизненные коллизии обретали силу, регенерировались в плетении метафор:
«В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где как жемчужина Клеопатры была растворена его душа, и сказал:
– Пей!
Я выпила и отравилась на семь лет…».[362]
Судя по ряду ретроспективных указаний в переписке, первые любовные встречи Брюсова и Петровской относятся к началу октября 1904 г. 12 ноября того же года Брюсов выслал А. А. Шестеркиной автограф стихотворения «Опять душа моя расколота…»;[363] сообщая тот же текст в ноябрьском письме к Л. Н. Вилькиной, он пояснял: «…Вы найдете здесь стихи, на которые смотрите не как на стихи (ибо, разумеется, у меня есть лучшие), но как на фотографию моей сегодняшней души».[364] Это стихотворение невозможно зачислить по ведомству привычной любовной лирики, однако в своей основной психологической тональности, в самозабвенном погружении в амбивалентный мир полярных, доведенных до предельной остроты катастрофических переживаний оно, безусловно, было вдохновлено отношениями с Петровской и во многом предвосхищало последующие отражения этих отношений в брюсовских стихах и прозе:
Опять душа моя расколота Ударом молнии, и я, Вдруг ослепленный вихрем золота, Упал в провалы бытия. <…..> И мне от жгучей боли весело, И мне желанен мой костер, И небо черный полог свесило На мой полуослепший взор.В марте 1905 г. Брюсов признавался: «На жизнь мою иногда находят смерчи. И тогда я не властен в себе. В таком смерче я сейчас».[365] Этот «смерч» вызвала в его внутреннем мире Нина Петровская. Она же была главной причиной тех переживаний, на которые указывал Брюсов в дневниковой записи «Из 1904–1905 года»; в ней идет речь о том же самом «смерче»: «Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Бóльшая часть переживаний воплощена в стихах моей книги “Stephanos”. Кое-что вошло и в роман “Огненный Ангел”. Временами я вполне готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые, начать всю жизнь сызнова. Литературно я почти не существовал за этот год ‹…› Связь оставалась только с Белым, но скорее связь двух врагов…»[366]
Как «связь двух врагов» воспринимал Брюсов свои отношения с Андреем Белым, опять же, под знаком Петровской, которая еще продолжала остро реагировать на слом своего «мистериального» романа. Тайные встречи мужа И. М. Брюсовой с женой С. А. Соколова в Москве завершились совместной поездкой в Финляндию: июнь 1905 г., проведенный в Гельсингфорсе и на озере Сайма, Брюсов и Петровская осознавали и тогда, и впоследствии как самую знаменательную, самую счастливую пору своей жизни. Вынужденное расставание в последующие месяцы они пытались компенсировать перепиской; пожалуй, именно в письмах к Петровской этой поры Брюсов, обычно подчеркнуто «холодный» и «внешний», строгий и сдержанный в выражении своих чувств, достигает наивысшего эмоционального накала и исповедальной искренности; в этих посланиях Брюсов раскрывается теми гранями своей личности, о существовании которых многие, возможно, и не догадывались:
«Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней. Как много раз я говорил, – да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого, как некогда Пизарро, открылись мне оба океана – моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидать последние глубины, последние тайны моей души. Может быть, ради этого месяца прожил я все томительных тридцать лет моей жизни, и воспоминаниями об этом месяце будут озарены все следующие тридцать лет. Как символ этих дней, Твой образ стал для меня святыней» (1 июля 1905 г.);[367]
«… я опять прежний, и я опять там, опять с Тобой, почти до иллюзии, почти чувствую прикосновение Твоих губ, Твоих рук. Да! да! это было! было! а Ты угадала, что бывше<е> покажется мне сном. Но неужели человеку позволено изведать такое счастье, позволено говорить “я счастлив”, и не ждет за это горькая расплата, несказанное мучительство. О, я принимаю все» (7 июля 1905 г.);[368]
«… я могу еще раз повторить все слова о любви, которые я говорил Тебе за эти девять месяцев, повторить их более сознательно, более сосредоточенно, но всё с той же страстью. И могу сказать другие слова, которые не сказались в свое время, которые я не посмел прошептать Тебе, но которые были живы, хотели жить и теперь находят свое воплощение» (10 июля 1905 г.).[369]
Хорошо знавший поэта С. А. Поляков, глава «Скорпиона» и издатель «Весов», свидетельствовал по праву: «Роман Брюсова с Н. И. Петровской – самый серьезный из всех его романов».[370] В перечне возлюбленных, оставивших значительный след в его жизни («Мой Дон-Жуанский список»), Брюсов обозначает связь с Петровской самыми большими временными рамками: «1904 – 910» (в другом варианте списка, «Mes amantes»: «1905–1911»).[371] «Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам?» – вопрошала Петровская в «Воспоминаниях» и формулировала ответ – вполне убедительный и проницательный: «Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той – “тайной”, которой не знали окружающие, с той, которую он в себе любил и, чаще, люто ненавидел ‹…›».[372] Отношения с Петровской выделяются из общего «донжуанского» ряда, выстроенного Брюсовым, не только своей продолжительностью и, соответственно, интенсивностью, но и яркостью и разнообразием их преломления в художественном творчестве. В приведенной дневниковой записи Брюсов указывает книгу стихов «Stephanos» и роман «Огненный Ангел». За осуществление своего масштабного беллетристического замысла он активно принялся летом 1905 г., после возвращения из Финляндии, и Петровская дала тогда Брюсову все необходимое и достаточное для воплощения образа главной героини исторического романа из немецкой жизни XVI века.
О биографическом подтексте в «Огненном Ангеле», о перипетиях взаимоотношений сторон в реальном треугольнике (Андрей Белый – Петровская – Брюсов) и воссозданном по его подобию треугольнике воображаемом (граф Генрих – Рената – Рупрехт) написано уже немало, конкретные обстоятельства выявлены и осмыслены детально,[373] поэтому сейчас нет необходимости в очередной раз подробно развивать эту тему. Важно подчеркнуть все же, что выразительность, художественная подлинность образа Ренаты были достигнуты в первую очередь благодаря тому, что Брюсов позволил себе в данном случае едва ли не с документальной точностью запечатлеть реальные черты прототипа. Петровская утверждает: «…во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния ‹…›, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, – словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе – в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства “Гриф”».[374]
Отблески личности Петровской различимы и в других произведениях Брюсова второй половины 1900-х гг. – в частности, в рассказе «Сестры» (1906), где в образе Кэт, влекущейся к «любви беспредельной, безграничной», наделенной «темным вдохновением» и понимающей «все тайные жажды» существа своего возлюбленного,[375] запечатлены самые характерные черты психологического облика Петровской. В подтексте книги «Στέφανος. Венок» (1906) Петровская представлена в различных ракурсах: открывавший книгу в первом издании раздел «Вечеровые песни» включал цикл стихотворений «На Сайме», навеянный впечатлениями совместной жизни с Петровской в Финляндии; раздел «Из ада изведенные» был составлен из лирических медитаций, прямо или косвенно воплощавших тот самый «смерч», который пробудила в Брюсове Петровская. Любовь, воспеваемая в этих стихах, – всепоглощающая, испепеляющая страсть, нерасторжимая смесь восторгов и мучений, предельных, одновременно обогащающих и опустошающих переживаний:
Кто нас двух, душой враждебных, Сблизить к общей цели мог? Кто заклятьем слов волшебных Нас воззвал от двух дорог? Кто над пропастью опасной Дал нам взор во взор взглянуть? Кто связал нас мукой страстной? Кто нас бросил – грудь на грудь? <……> В диком вихре – кто мы? что мы? Листья, взвитые с земли! Сны восторга и истомы Нас, как уголья, прожгли. Здесь, упав в бессильной дрожи, В блеске молний и в грозе, Где же мы: на страстном ложе Иль на смертном колесе? («В застенке», 10–11 декабря 1904 г.);[376] Астарта, Астарта! и ты посмеялась, В аду нас отметила знаком своим, И ужасы пыток забылись как малость, И радость надежд расклубилась как дым. Одно нам осталось – сближаться, сливаться, Слипаться устами, как гроздьям висеть, К святыням касаться рукой святотатца, Вплетаться всем телом в Гефестову сеть. («Из ада изведенные», 28–30 июля 1905 г.; I, 406).Стихотворение «Портрет» (20–21 февраля 1905 г.) из того же раздела рисует внешний облик Петровской:
Черты твои – детские, скромные; Закрыты стыдливо виски, Но смотрят так странно, бездонные, Большие зрачки. <…….> Не сомкнуты губы бессильные, Как будто им нечем вздохнуть, Как будто покровы могильные Томят тебе грудь. (I, 397).Даже в разделе «Правда вечная кумиров», составленном из стихотворений на мифологические темы, лики Брюсова и Петровской проступают под знакомыми масками; они угадывались порой и в тех стихотворениях, которые создавались безотносительно к обстоятельствам реального «романа». Так, Андрей Белый распознавал их в образах диалогического стихотворения «Орфей и Эвридика», законченного 10–11 июня 1904 г. (т. е. за несколько месяцев до начала «романа»); в своих воспоминаниях он назвал главу, описывавшую взаимоотношения с Петровской (в тексте – под обозначением: Н***) и Брюсовым, «“Орфей”, изводящий из ада»: образы Орфея и Эвридики (позднее использованные Белым в статье «Песнь жизни», 1908 г.), обыгрывавшиеся в разговорах Белого-Орфея и Петровской-Эвридики, перекочевали, по убеждению мемуариста, к Брюсову: «Она вызвала меня и ‹…› требовала, чтобы из “ада извел”; и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об “Эвридике” ‹…›, – неспроста он потом в своем стихотворении об “Эвридике”, об Н***, ей подставил слова:
Ты – ведешь; мне – быть покорной… Я должна идти, должна. Но на взорах облак черный, Черной смерти пелена».[377]Происшедшую в воображении Белого перекодировку «мифа» в «реальность» иллюстрирует выполненный им карикатурный рисунок «Орфей и Эвридика»: Брюсов (весь в черном) влечет за собой Петровскую (в светлом облачении), поднимающуюся из гробницы (обозначенной черным квадратом).[378] Стихотворения «Клеопатра» и «Антоний» (в первом издании «Венка» помещенные в разделе «Из ада изведенные», позднее перенесенные в раздел «Правда вечная кумиров») уже впрямую обозначают параллели между историческими героями и их современными прототипами (Антоний – Брюсов, Клеопатра – Петровская); они актуализируют занимавшую Брюсова и Петровскую идею двойного самоубийства, а также, помимо апелляции к исторической мифологии, вызывают многослойные литературные ассоциации – от «Антония и Клеопатры» Шекспира до «Египетских ночей» и других пушкинских текстов.[379]
Назвав Петровскую «музой поэта Валерия Брюсова», Андрей Белый в подтверждение такого определения добавил: «вспомните любовную лирику лучшей его книги – “Венка”: половина стихотворений обращена к ней».[380] Сама Петровская сильно желала увидеть открывавшее «Венок» печатное посвящение ей и была до крайности уязвлена тем, что автор на такой демонстративный акт не решился. Брюсов явно не хотел дополнительно осложнять свою семейную жизнь: жена его, Иоанна Матвеевна, не могла оставаться в неведении относительно того, о чем уже судачила вся литературная Москва.[381] В отличие от многих прежних любовных увлечений, эта брюсовская связь протекала «на виду»; Петровскую воспринимали по большей части как спутницу поэтического «мэтра», таковой она и запечатлелась в памяти современников: «С ней я почти не была знакома, но, по случайным встречам на лекциях и собраниях, помню ее. Деланная томность, взбитая, на пробор декадентская прическа. Туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность. Общее впечатление скорее – неряшливости» (Б. М. Рунт-Погорелова);[382] «Вы, конечно, знаете ее, эту маленькую “женщину в черном”, – вечно в черном. Пышные волосы, расчесанные пробором посередине, темное лицо, большие черные глаза, черное шелковое платье с шлейфом – такова внешность. Странная внешность, которая не таит в себе очарованья и говорит о мужской силе ума, мужской беспристрастности и, пожалуй, бесстрастности. Даже немножко мужской голос» (А. А. Тимофеев);[383] «…молодая женщина, внешность которой нельзя было определить ни в положительном, ни в отрицательном смысле: до такой степени ее лицо сливалось со всеми особенностями фигуры, платья, манеры держаться. Все было несколько искусственное, принужденное, чувствовалось, что в другой обстановке она другая. Вся в черном, в черных шведских перчатках, с начесанными на виски черными волосами, она была, так сказать, одного цвета. Все в целом грубоватое и чувственное, но не дурного стиля. “Русская Кармен” назвал ее кто-то. ‹…› Валерий Яковлевич рядом с Н<иной> П<етровской> был сумрачен и хорош» (К. Г. Локс).[384]
Отношения с Брюсовым прямо или косвенно подразумевались и в тех немногочисленных случаях, когда объектом внимания оказывалось художественное творчество Петровской – точнее, ее единственная небольшая книжка рассказов «Sanctus Amor», вышедшая в издательстве «Гриф» в 1908 г. (руководитель «Грифа» С. А. Соколов, сблизившийся в 1906 г. с Л. Д. Рындиной и затем на ней женившийся, сохранил с бывшей женой добрые отношения). «Сочинения какой-нибудь Нины Петровской: “Sanctus Amor” – не более как самообъективизация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью и пишущей, как всегда в таких случаях, с помощью ассимилированных ума и “творчества”», – заключала З. Н. Гиппиус,[385] и в ее оценке сказывается та общая установка, которая объединяла многих в восприятии Петровской и предполагала приоритет «жизнетворческого» образа по отношению к литературным опытам. Андрей Белый, посвятивший книге Петровской отдельную небольшую статью в «Весах» (1908. № 3), также подразумевает пол «исчерпывающей сущностью» автора, отмечая, что все безликие герои рассказов выступают «как манекены, опьяненные любовью».[386] Лишь критики, стремившиеся разграничить автора и его творчество (или имевшие представление только о последнем), оказывались способными оценить рассказы Петровской по существу и уловить их своеобразие – при всей скромности дарования и очевидной ориентации на стилевые образцы (новейших писателей, «умеющих передавать музыку настроений», – К. Гамсуна, П. Альтенберга, О. Дымова и др.): «Неоригинальность стиля “Sanctus Amor” показывает, что автор рассказов – художник не крупный; думается, что автор и сам не претендует на это; он только умеет запечатлеть в себе тончайшие оттенки жизни, беспощадно-многообразной, умеет отдавать душу переживаниям, чтобы рассказать потом людям ее тихую песнь».[387]
Сборник «Sanctus Amor» составлен исключительно из повествовательных миниатюр на любовную тему, отдельные коллизии в них имеют автобиографический подтекст (аллюзии на отношения с Брюсовым наиболее явственны в рассказе «Раб»). В беллетристических опытах, как и в мироощущении Петровской, любовь – высшее, самое сильное и самое трагическое из человеческих переживаний, пребывающее в постоянном непримиримом конфликте с житейской повседневностью: «Моя любовь то, что называют “безумием”. Эта бездонная радость и вечное страдание. Когда она придет, как огненный вихрь, она сметет все то, что называется “жизнью”. В ней утонет все маленькое, расчетливое, трусливое, чем губим мы дни. Тогда самый ничтожный станет богом и поймет навсегда великое незнакомое слово “беспредельность”».[388] Все рассказы выдержаны в единой стилевой тональности: сдержанная, лаконичная манера письма, минимум изобразительных средств, преобладание лирико-импрессионистических и психологических зарисовок, наиболее выразительные образцы которых в русской прозе тех лет были представлены творчеством О. Дымова (Петровская его высоко ценила: «Бесконечная простота внешних приемов, протестантское отношение к традиционной форме рассказа, своеобразно-красочный стиль – все это свежо, самобытно, радостно оторвано от изгнивших корней одряхлевшей декадентской литературы и так близко заветам единственного учителя в области художественной прозы – Кнута Гамсуна»[389]).
Брюсов считал, что у Петровской имеются большие духовные и интеллектуальные резервы и недюжинные профессиональные способности для того, чтобы сформироваться в крупного литературного мастера, и со своей стороны всячески пытался пробудить в ней творческую активность. В годы издания «Весов» Петровская, главным образом по брюсовской инициативе, регулярно выступала в журнале с отзывами о новейших книгах (опубликовано около 20 рецензий, часть их подписана псевдонимом: Н. Останин); в этих опытах, выдержанных в духе программных эстетических установок журнала, сказываются критическая зоркость и наблюдательность, литературный вкус, мастерство анализа[390] – именно те качества, которые характерны для статей, обзоров и рецензий Брюсова (свою преемственность по отношению к его установкам Петровская иногда впрямую декларирует[391]). Когда, после прекращения «Весов», Брюсов стал заведующим литературно-критическим отделом журнала «Русская Мысль», он привлек к сотрудничеству и Петровскую, всячески стараясь обеспечить ее литературной работой.[392] И все же реализовать свои писательские способности Петровская сумела лишь в самой малой мере; свои основные душевные силы, весь энергетический потенциал своей личности она растратила на внутренние переживания – и на любовь к Брюсову прежде всего; точнее – на чувства, вызванные Брюсовым, – поскольку, помимо любви, они включали широкую гамму самых противоречивых, взаимоисключающих эмоций.
После радостно-безмятежного «медового месяца» в Финляндии их отношения перешли в новую фазу, конфликтно-драматическую. Петровская не могла удовольствоваться ролью любовницы, которую только и мог предложить ей Брюсов в своей жизни; она требовала от него такого же безраздельного чувства, каким сама одаривала. Временами Брюсов оказывался готов пойти навстречу ее страсти и своим собственным порывам, но житейский «здравый смысл» неизменно брал верх; брало верх и то ровное, иногда слабое, но неизменно постоянное, прочное чувство, которое он испытывал к своей жене. В уже цитировавшемся письме к М. М. Рунт (март 1905 г.), в котором он говорил о «смерче» в своей жизни, Брюсов заверял (стремясь через свояченицу воздействовать на жену, угрожавшую семейным разрывом): «Ничего дурного, злого Жанне – я не желаю. Я просто поглощен чем-то иным, не ею. Она чувствует это и отчаивается. Проще: она ревнует. ‹…› Я прихожу поздно домой, – она что-то подозревает, рыдает, происходят мучительнейшие сцены, о которых не хочется рассказывать. Ее ошибка – что она всю свою жизнь положила в меня, и когда я ухожу – у нее не остается жизни. Ей надо создать свою жизнь, личную, собственную. Ибо жить только для нее я не могу. ‹…› Она часто как безумная, и мучит меня жестоко упреками, рыданиями, своим отчаяньем. ‹…› Нельзя упорно думать об одном: “ах, он меня не любит, ах, он мне не верен”. Это стало ее idée fixe, навязчивой идеей, на которой можно помешаться. ‹…› Я очень хочу жить с ней еще много, много лет, – до конца дней. Мне было бы очень плохо без нее. Я очень рад, что моя жена – она, а не кто другой. ‹…› Но ведь уходить от меня, когда она меня любит, когда я ее люблю, когда я вовсе не хочу разлучаться с ней и когда она больше всего хочет быть со мной – очень уж бессмысленно».[393]
Столь твердую готовность сохранять семейный союз Брюсов сформулировал еще в дни, когда его роман с Петровской был в стадии интенсивного расцвета; закономерно, что решения не порывать с преданной ему и любящей его Жанной он не изменял и впоследствии, и в особенности оставался ему твердо верен тогда, когда его страсть к Петровской угасала либо сменялась новыми любовными влечениями. То предпочтение, которое отдавал Брюсов в конечном счете своей жене, домашнему укладу и даже литературной работе, Петровская расценивала как предательство их любви и впадала временами в полное отчаяние. Излиянию этих эмоций посвящены десятки и сотни страниц ее писем к Брюсову, на которых постоянно фигурируют три главных действующих лица – он, она и «она», никогда не называемая по имени жена возлюбленного. Петровская изливала на нее все презрение и весь сарказм, на какие была способна, но эти старания пропадали втуне.
Свидетельствует Ходасевич («Конец Ренаты»): «Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с “прохожими”, как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. “Прохожих” она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы ‹…›».[394] Один из таких «приступов» случился публично, 14 апреля 1907 г. – на лекции Андрея Белого в Политехническом музее: «На лекции Бориса Николаевича, – писал Брюсов З. Н. Гиппиус, – подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф <С. А. Соколов. – Ред.>, Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, – совсем, как в лермонтовском “Фаталисте”. И, следовательно, без благодетельной случайности или воли Божьей, вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма, от “Скорпиона” конверт с траурной каймой».[395]
Попытки «возбудить ревность» Брюсова также приводили иногда к серьезным последствиям. В 1907 г. Петровская вызвала жгучий интерес к себе со стороны Сергея Ауслендера, начинающего петербургского прозаика и племянника М. Кузмина. С посвящением Петровской была опубликована стилизованная новелла Ауслендера «Корабельщики, или Трогательная повесть о Феличе и Анжелике», написанная в сентябре – октябре 1907 г.;[396] Петровская же – возможно, «мстя» Брюсову за то, что он не провозгласил ее имени в «Венке», – в «Sanctus Amor» демонстративно обозначила (на следующем листе за титульным, литерами того же размера, что и имя автора и заглавие книги): «Посвящаю Сергею Ауслендеру». Взаимное увлечение привело к тому, что Ауслендер и Петровская отправились весной 1908 г. в совместное путешествие по Италии[397] (оно впоследствии нашло отражение в сюжете романа Ауслендера «Последний спутник», в котором Петровская является прототипом главной героини, Юлии Михайловны Агатовой; эпиграф же, предпосланный роману, – пушкинская строка «Ты любишь горестно и трудно» – мог бы служить эпиграфом и к жизнеописанию Петровской[398]). В ходе путешествия вспыхнувший было новый роман исчерпал себя: «мальчик» (так Петровская именовала Ауслендера в письмах к Брюсову) ее решительно разочаровал, – а «перемена мест» целительного действия не оказала. Упомянутое выше стихотворение «Молния» Брюсов называл «фотографией моей сегодняшней души»; аналогичную фотографию души Петровской правомерно видеть в ее очерке «Мертвый город», написанном по впечатлениям от знакомства с Венецией. Панорамы, всегда и всех пленявшие и воодушевлявшие, она окидывает равнодушным взором, различает в них лишь «притворно красивую всемирную открытку», зато пытается распознать «настоящее лицо Венеции, искусно скрытое», выявляет его и глядится в него, как в зеркало: «…это, воистину, город смерти и великого унынья. Изъеденные змеиными узорами, стены белеют мертвенно и тускло. ‹…› Кто-то запел, но, точно испугавшись, оборвал. Скользнула гондола – длинная, черная, как тело чудовищной рыбы. Качнулся фонарь, бросил желтую скользящую чешую, и опять холодна, мертва и дышит гнилью недвижная вода. Тишина огромного кладбища подавила жизнь этих людей. ‹…› Днем они побеждают смерть, а ночью она побеждает их, замедляет движенья, делает плоскими фигуры и восковыми веселые подвижные черты. И только здесь в этих улицах, где разрушение выступает, точно пятна на лице трупа, только здесь можно видеть, как рассыпается прахом чья-то безумная мечта. И покидая Венецию, хочется сказать: – Прощай! Прощай навсегда».[399]
Временное облегчение давали Петровской только сильно действующие средства – алкоголь, затем наркотики. В 1908 г. она была уже всецело в зависимости от морфия. Отношения с Брюсовым постепенно приобрели характер мучительных препирательств и психологических эксцессов в духе тех, что описаны в романах Достоевского (Белый замечал о Петровской: «…я бы назвал ее Настасьей Филипповной, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички, болезнь которой суеверы XVI и XVII столетия называли одержанием ‹…›»[400]), периоды сближения чередовались с «изменами», которых они не скрывали друг от друга (у Брюсова – не очень продолжительная, но сильная страсть к В. Ф. Коммиссаржевской, у Петровской – связи, установившиеся в 1908 г. во Франции, которые, судя по ее признаниям, могли радикально изменить ход ее жизни), и Брюсов иногда готов был поставить финальную точку во всей истории. Однако после кратковременных встреч и конфликтных объяснений осенью 1908 г. во Франции (Брест) и Бельгии (Намюр) взаимное притяжение возобладало, их отношения получили второе дыхание. Примечательно, что произошло это главным образом благодаря активным усилиям Брюсова: лавина его писем, отправленных Петровской зимой 1908–1909 гг., – тому убедительное подтверждение.
В любовных стихах, вошедших в книгу Брюсова «Все напевы» (1909), мотивы, неразрывно связанные ранее, в «Венке», с образом Нины Петровской, получают новое развитие, дают иногда, может быть, еще более яркий отблеск все той же страсти:
Идем творить обряд! Не в сладкой, детской дрожи, Но с ужасом в зрачках, – извивы губ сливать, И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе, И ждать, что страсть придет, незванная, как тать. Как милостыню, я приму покорно тело, Вручаемое мне, как жертва палачу. Я всех святынь коснусь безжалостно и смело, В ответ запретных слов спрошу, – и получу. Но жертва кто из нас? Ты брошена на плахе? Иль осужденный – я, по правому суду? Не знаю. Все равно. Чу! красных крыльев взмахи! Голгофа кончилась. Свершилось. Мы в аду. («Обряд ночи», 1905, 1907; I, 493–494).Однако та же страсть приобретает иное обличье в семи стихотворениях из «Всех напевов», объединенных в раздел «Мертвая любовь»:
Мы, безвольные, простертые, Вновь – на ложе страстных мук. Иль в могиле двое, мертвые, Оплели изгибы рук? Или тени бестелесные, Давней страсти не забыв, Всё хранят объятья тесные, Длят бессмысленный порыв? («Снова», 1907; I, 482).И, наконец, в стихотворении «Возвращение» (23 ноября 1908 г.) Брюсов возвещает новую «программу» любви, очерчивает изменившиеся контуры прежнего чувства, но провозглашает его силу и подлинность. Стихотворение построено как диалог двух голосов – Она, изведавшая «грешные пути», кается перед бывшим возлюбленным, Он уверяет ее в верности, в готовности вновь испытать пережитое:
Она Все былое мной давно До конца осквернено. Тайны сладостных ночей, И объятий, и речей, Как цветы бросая в грязь, Разглашала я, глумясь, Посвящала злобно в них Всех возлюбленных моих! Он Что свершила ты, давно Прощено, – освящено На огне моей любви! Душный, долгий сон порви, Выйди вновь к былым мечтам, Словно жрица в прежний храм! <…..> Ты – моей души алтарь, Вечно чистый и святой! И, во прахе пред тобой, Вновь целую я, без слов, Пыльный след твоих шагов! (I, 495–496).Пафос этого стихотворения Брюсов попытался воплотить в жизнь, когда Петровская, вняв его упорным настояниям, вернулась из Парижа в Москву. Но тогда же, весной 1909 г., упоение от новых встреч быстро сменилось привычной психодрамой. Уезжая в очередной раз за границу, Петровская, видимо, уже не ожидала возобновления прежнего: новых встреч больше не было, надолго угасла переписка, – однако Брюсов смог, неожиданно для нее и для самого себя, вырваться к ней в Париж, где они прожили осенью 1909 г. вместе около полутора месяцев – сумели тогда подарить друг другу еще один, после Финляндии, «медовый месяц». Как писал Брюсов в стихотворении «Видение во сне» (Париж, сентябрь 1909 г.), отразившем переживания той поры:
Все, что сердцу было свято, Все вернул мне этот лик, Нежность губ, печальность взора… И душа была объята Прежним пламенем в тот миг![401]Новый всплеск страсти получил и дополнительную окраску: Брюсов, самозабвенно стремясь полностью погрузиться в мир пристрастий и фантазмов своей возлюбленной, стал принимать наркотики. И. М. Брюсова предъявляла Петровской самый неоплатный счет за то, что она пристрастила ее мужа к морфию.[402] Отныне Брюсов, слагая строки сонета «К***» («Усталый сын изысканного века…», 20 сентября 1910 г.):
…Твой верный друг – аптека, Сулящая гашиш, эфир, морфин… О, яды сладкие, дарующие благо Преображенья! Вкрадчивая влага, Вливающая силу и мечту![403] –подразумевал уже не условного адресата, воображаемого, исторического или современного, «пытателя естества», а, конечно, себя самого. Возможно, уезжая из Парижа в Москву, он предполагал, что распрощается не только со своей любовью, которую отрадно было воскресить и было немыслимо продолжать, но и с ее наркотической составляющей; с дороги написав возлюбленной о проведенных с нею парижских неделях как о «потерянном рае», он явно не грезил о «возвращенном рае», и Петровская это чутко уловила и оскорбилась (послания Брюсова к ней этой поры, как и последующие, неизвестны, но по сохранившимся письмам Петровской отчасти можно реконструировать психологическую ситуацию того момента). Не получилось ни того, ни другого – ни с любовью, ни с ее составляющей. Петровская, пробужденная к жизни парижским «медовым месяцем», – и вопреки явному нежеланию Брюсова – вскоре возвратилась в Москву. Наступила последняя, самая тяжкая стадия их взаимоотношений.
К. Г. Локс сообщает в своих мемуарных записках: «…когда В<алерий> Я<ковлевич> умер, Жанна Матвеевна доверила мне письма Н<ины> П<етровской> к нему. Эти письма – вопль истязуемой женской души. Где кончались истязания и начинались самоистязания – судить не берусь».[404] Приведенная характеристика относится в наибольшей степени к письмам Петровской 1910–1911 гг. Многие из них, переполненные бесконечными укорами, жалобами, проклятиями и мольбами, сочинялись в состоянии наркотического транса и получали благодаря этому особенно сильную эмоциональную окраску; без наркотиков Петровская уже не могла существовать и в своем пристрастии к ним не раз оказывалась на грани жизни и смерти. Отношения с Брюсовым становятся для нее невыносимыми, и в то же время она влечется к нему, порицает за холодность, за пренебрежение ею – и умоляет о новых встречах, просит провести с нею вместе хотя бы несколько летних недель – о постоянной совместной жизни уже не мечтая (Брюсов, после ряда «уклонений», все же пошел навстречу: в июле 1911 г. они побывали вдвоем в Лифляндии). Роман вступил в стадию длительной агонии, которую Петровская готова была принять как свою духовную и физическую гибель; ее alter ego, о котором она постоянно вспоминает, – образ умирающей Ренаты из «Огненного Ангела». «Рената (бывшая)», – подписывает она одно из своих писем к Брюсову (13/26 ноября 1911 г.).[405]
Те, кому Петровская тогда изливала свою душу, порицали Брюсова, считали его поведение жестоким. «Я не любил его за Вас – это Вы знаете», – признавался Ходасевич Петровской в своих чувствах к Брюсову – добавляя, правда, в том же (возможно, неотправленном) письме слова, которые не могли свидетельствовать о его беспристрастности: «…знайте, что я люблю Вас больше, чем всех других людей вместе».[406] Действительно, «гибель всерьез», на которую шла и к которой стремилась Нина Петровская (не приходится отрицать и оттенка самоуслаждения душевными страданиями, который подметил в ее письмах Локс), с драмой Брюсова, всего лишь разрываемого между любовницей, семейным очагом и новыми влечениями, сопоставления не выдерживает. Однако приходится считаться и с неотъемлемым правом Брюсова – быть самим собой, быть верным изначальным структурообразующим основам своей личности, своему «протеизму» и своему творческому предназначению. Брюсов ясно осознавал, что он неспособен к постоянной совместной жизни с Петровской – и не только потому, что таковая внесла бы нежелательные и даже разрушительные коррективы в определившиеся ритмы его литературной деятельности (которая для него в иерархии ценностей всегда оставалась на первом плане) и создала бы дискомфорт в налаженных обыденных житейских условиях (Петровская хорошо понимала это: «Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассвете усталого, сонного, чужого»[407]). Главным препятствием был психологический максимализм Петровской, требовавший, чтобы вся жизнь была подчинена одной страсти, исчерпывалась этой страстью. Брюсов последовать такому призыву был не в силах. Его максимализм мог распространяться лишь на единственную, но всеобъемлющую сферу – на творчество, «сочетания слов».
Последний всплеск их любви нашел поэтический отклик в стихах, составивших раздел «Страсти сны» в книге Брюсова «Зеркало теней» (1912).[408] Одному из семи входящих в него стихотворений («Да, можно любить, ненавидя…», 1911) предпослан эпиграф из Катулла «Odi et amo» («Ненавижу и люблю»), который звучит психологическим камертоном для всех поэтических отражений в очередной раз возобновленного чувства:
Опять безжалостные руки Меня во мраке оплели. Опять на счастье и на муки Меня мгновенья обрекли. Бери меня! Я твой по праву! Пусть снова торжествует ложь! Свою не радостную славу Еще одним венком умножь! Я – пленник (горе побежденным!) Твоих колен и алчных уст. Но в стоне сладостно-влюбленном Расслышь костей дробимых хруст! (II, 38).С посвящением Нине Петровской в «Зеркале теней» помещено стихотворение «В ответ на одно признание» (датировка: 9 апреля 1910 г.). Это – поэтический отклик, по всей видимости, на утешающую легенду, которую Брюсов и Петровская творили в противовес драматической реальности их отношений: они встретились слишком поздно для того, чтобы создать «сказку» «из нашей страсти», чтобы воплотить любовь во всей полноте и гармонии:
Ты обо мне мечтала в годы те, Когда по жизни шел я одиноко, И гордо предан огненной мечте О женщине безвестной и далекой. <……> Какие б я слова нашел тогда, В каких стихах пропел бы гимны счастья! Но розно мы томились те года, И расточали праздно, навсегда, Двух душ родных святое сладострастье! (II, 85).Этому поэтическому мифотворчеству противостояло в сознании Брюсова, однако, ясное представление о действительности – в данном случае воплотившееся как «видение» в прозаической миниатюре из цикла «Сны» (1 июля 1911 г.; вопрос о том, представляют ли собой тексты, включенные в цикл, запись подлинных снов или творческую фантазию автора, – конечно, праздный). Поразительно, что в этом «сне» очерчен тот облик Петровской, который она обретет годы спустя:
«В каком-то городке, по-видимому немецком, на бульваре, за киоском, я встретил ее, ту, которую любил когда-то.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять положение, до которого она дошла. Кричащее, но бедное платье, громадная, но нищенская шляпа с жалким, хотя и большим пером, поблекшее лицо, густо покрытое румянами.
Жалость, неизмеримая жалость наполнила мою душу, и я сказал ей:
– Неужели ты не узнала меня? Я все тот же, каким был, я – твой, по-прежнему твой. Теперь я нашел тебя вновь, и мы более не расстанемся никогда. Пойдем со мной.
Она долго смотрела на меня, как бы узнавая, потом ответила:
– У тебя есть жена.
Я возразил:
– Больше у меня никого нет, кроме тебя. Ты одна существуешь для меня в мире. Даю тебе клятву быть вечно верным тебе, быть твоим рыцарем, твоим слугой. Хочешь, я стану сейчас на колени перед тобой?»
Он уговаривает ее, влечет к «роскошному отелю, где остановился», она просит его подождать и ускользает.
«Через миг я уже бросился догонять ее. Но ее нигде не было».[409]
В 1911 г., когда был написан (или записан) этот «сон», история любви приблизилась к финалу. 12 сентября 1911 г. И. М. Брюсова сообщила Н. Я. Брюсовой: «Я Вале поставила летом ультиматум: если он не оставит m-me Гриф, – я уйду. Отъезд свой я обдума<ла>. Условие это поставлено главным образом из страха, что опять она изобретет какое-нибудь гибельное для В<али> исхищрение, вроде морфия. Скучно и противно все это. Поговорили, поговорили и опять помирились, вернее я еще осталась, а В<аля> обещался бывать у ней реже».[410] Уехала не Иоанна Матвеевна, а Петровская. После тяжелой болезни, усугубленной морфием, было решено отправить ее для лечения за границу в сопровождении врача Генриха Койранского (который пытался избавить от наркотической зависимости и ее, и Брюсова).[411]
Вспоминает Ходасевич (мемуарный очерк «Брюсов»): «Наступил день отъезда – 9 ноября.[412] Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, “национальный” напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки».[413] После этого Петровская в Москву не возвращалась и с Брюсовым не виделась.
Сразу после ее отъезда Брюсов написал стихотворение «Покорность» (ночь 10/11 ноября 1911 г.), в котором нетрудно уловить чувства и мысли, вызванные только что пережитым расставанием:
Не надо спора. Буду мудрым. Склонюсь покорно головой Пред тем ребенком златокудрым, Что люди назвали Судьбой. <…..> Хочу: в твоем спокойном взоре Увидеть искры новых слез; Хочу, чтоб ввысь, где сладко горе, Двоих – один порыв вознес! Но буду мудр. Не надо спора. Бесцелен ропот, тщетен плач. Пусть вверх и вниз, легко и скоро, Мелькает жизнь, как пестрый мяч! (II, 44–45).Несколько лет спустя Брюсов воскресил в памяти Петровскую, создавая венок сонетов «Роковой ряд» (1916); в 14 сонетах венка он запечатлел образы 14 своих возлюбленных. Нина Петровская воспета в 8-м сонете («Дина»):
Ты – слаще смерти, ты – желанней яда, Околдовала мой свободный дух! И взор померк, и воли огнь потух Под чарой сатанинского обряда. В коленях – дрожь; язык – горяч и сух; В раздумьях – ужас веры и разлада; Мы – на постели, как в провалах Ада, И меч, как благо, призываем вслух! Ты – ангел или дьяволица, Дина? Сквозь пытки все ты провела меня, Стыдом, блаженством, ревностью казня. Ты помнишься проклятой, но единой! Другие все проходят за тобой, Как будто призраков туманный строй. (II, 306).Отголоски пережитого вместе с Петровской время от времени возникают и в позднейших стихах Брюсова – например, в стихотворении «Памяти одной» (28 мая 1920 г.), в котором поэт обращается к тому, что было «пятнадцать лет назад», т. е., по всей вероятности, к путешествию в Финляндию.[414] Однако в целом его жизнь и творчество насыщаются новым содержанием, новыми темами, и живому образу Петровской среди них уже нет места. По-новому пробует строить свой жизненный уклад за границей и Петровская – сохраняя, однако, отчетливое осознание того, что впереди у нее не полноценная жизнь, а лишь доживание.
В первые годы пребывания за границей она пытается активно сотрудничать в русской печати. Тому был и вполне объяснимый стимул – недостаток средств, хотя Брюсов и бывший супруг С. Соколов оказывали ей материальную поддержку. В периодике появлялись ее рассказы, которые предполагалось даже издать отдельной книгой (в 1914 г. издательством «Гриф» анонсировалась вторая книга ее рассказов «Разбитое зеркало», однако издание не состоялось). По сравнению со сборником «Sanctus Amor» новые беллетристические опыты Петровской – в большинстве своем печатавшиеся, благодаря протекции Соколова, в московской газете «Утро России» – отличаются творческой зрелостью, стремлением к более широкому и объективному отражению действительности, заметно повысившимся уровнем повествовательного мастерства.[415] Дополнительный литературный заработок давали Петровской газетные и журнальные рецензии, которые регулярно публиковались до ее отъезда за границу,[416] но, не имея возможности знакомиться в Италии с русскими книжными новинками, она принуждена была от этой работы отойти. Литература, однако, не спасала, не облегчала жизненных тягот. К материальной нужде и постоянному нервному расстройству присовокупились прежние недуги, порожденные злоупотреблением алкоголем и наркотиками.
Свидетельствует Ходасевич («Конец Ренаты»): «Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой».[417] В связи с последним сообщением более внятные сведения содержатся в письме Соколова к Брюсову от 24 ноября 1912 г.: «В начале пребывания Нины в мюнхенской клинике Красного Креста ‹…› мюнхенский профессор подавал надежду на благополучный и сравнительно скорый исход ее болезни (туберкулез колена) при правильном лечении. ‹…› Боль до крайности велика. Первое время Нина терпела, но потом отказалась и при малейшей попытке сделать что-нибудь с ногой стала поднимать, как сама пишет, “звериный вой”, почему все доктора отступали. ‹…› В связи с этим положением вещей она стала умолять меня письмами и телеграммами (мне и Генриху Койр<анскому>), чтоб ее перевезли в Москву».[418] Вместо Москвы Петровская перебралась в Варшаву к Брылкиным, родственникам второй жены Соколова. 25 февраля 1914 г. Соколов извещал Андрея Белого: «Адрес Нины для писем сейчас: Варшава. Гурная. 8. Кв<артира> Брылкиных. Туда можно всегда писать, – ей доставят верно. ‹…› Она почти 3 года вне Москвы, сперва за границей, где перенесла тяжелую и многомесячную болезнь, с осени – в Варшаве. К весне, вероятно, опять уедет за границу. Вы ей напишите, – она будет очень счастлива, – Вас всегда поминает добром и с нежной симпатией. У ней были очень тяжелые душевные потрясения. Хорошо лишь то, что теперь она совершенно излечилась душой от власти Брюсова и давно порвала с ним абсолютно».[419]
Разрыв с Брюсовым не означал, однако, затухания его образа в сознании Петровской; в этом образе лишь восторжествовали негативные черты. Описывая Ходасевичу свои годы, проведенные за границей, она признавалась, не называя Брюсова по имени – как бы табуируя самое важное: «Задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. ‹…› Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».[420] Проклиная Брюсова, она, однако, полностью отождествила себя с героиней «Огненного Ангела» и даже попыталась воплотить в действительность религиозно-церковную ипостась личности брюсовской Ренаты: «Единственная моя реальность сейчас – это Чудо. За эти же годы, по глубочайшему религиозному убеждению перешла к Католичеству ‹…› мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro, – Renata… ‹…› С меня стерлась вся мишурная позолота и если не “свиная кожа”, то осталась только религия (в моем понимании) да холодная мудрость души, жившей и умиравшей миллион раз».[421] «… Два года тому назад с горячей верой я обратилась в католичество», – писала Петровская 16 января 1922 г. папе Бенедикту XV, ходатайствуя о материальной помощи; подпись под письмом: «Nina Renata de Sokoloff».[422]
Живя в основном в Италии, Петровская бедствовала больше всего в годы мировой войны, когда связи с Россией фактически прервались и поддержка со стороны бывшего мужа прекратилась (Соколов, ушедший в армию добровольцем, в марте 1915 г. попал в немецкий плен). «Война застала ее в Риме, – пишет Ходасевич, – где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения».[423] Сообщая М. Горькому о своем намерении написать книгу об Италии («в своем роде “Мои университеты”»), Петровская признавалась: «За 9 лет жизни без гроша в кармане я узнала там и быт и людей и такие положения, которые никому и не снились в золотые дни символизма».[424]
В сентябре 1922 г. Петровская переехала в Берлин, тогда главный литературный центр русской эмиграции, где стала постоянной сотрудницей «сменовеховской» газеты «Накануне» и литературных приложений к ней, выходивших под редакцией А. Н. Толстого. С ноября 1922 до июня 1924 г., когда газета закрылась, там регулярно печатались произведения Петровской – фельетоны, очерки, рассказы, рецензии, обзоры итальянской литературы, переводы итальянских новелл. В переводе Петровской, обработанном А. Н. Толстым, в 1924 г. в Берлине были изданы «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди – первоисточник «Золотого ключика»,[425] в Москве в 1923 г. – «Хвостик. Повесть из жизни муравьев» Вамбы (Луиджи Бертелли). Полтора года сотрудничества в «Накануне» оказались периодом наиболее активной литературной деятельности в ее жизни, а также порой полноценного возвращения в российскую писательскую среду, постоянных контактов как с прежними московскими знакомцами (Андреем Белым, Ходасевичем и др.), так и с авторами нового поколения.[426] Один из представителей последнего, Роман Гуль, руководивший после ухода А. Н. Толстого изданием литературных приложений к «Накануне», очертил в мемуарах облик Петровской – красноречивое свидетельство того, какое разрушительное действие оказали на нее десять лет заграничной жизни: «Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакиированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н. И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии – всегда черная шляпа с сногсшибательными широкими полями, как абажур. Острая на язык».[427]
Сходные впечатления сохранила и Нина Берберова, подтверждавшая, что и в Берлине для Петровской в центре внимания по-прежнему оставался носитель табуированного имени: «С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. ‹…› В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала ему письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что он ответит ей и позовет ее в Москву. ‹…› Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. ‹…› Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил».[428]
За время пребывания в Берлине Петровская, видимо, в очередной раз переменилась в своих эмоциях по отношению к Брюсову и с явным предубеждением воспринимала теперь неодобрительные отзывы о нем окружающих. 31 декабря 1922 г. она сообщала О. И. Ресневич-Синьорелли: «О В. Брюсове говорят, что он так унизился с Б., так упал, так выродился, состарился… Тоже не верю… пока не вложу “персты в язвы”…»[429] В первой публикации письма сообщается, что «Б.» в этом фрагменте – «лицо неустановленное», однако, думается, сокращение подразумевает здесь не конкретную персону, а множество существ или явление: большевиков или большевизм. Не готова была Петровская присоединить свой голос к общему хору порицающих Брюсова за союз с новой властью. Но присоединила его к другому хору – славящих Брюсова по поводу 50-летия со дня рождения: «Очень просили меня написать, и нельзя было уклониться, осталось бы пустое место, именно мое. Написала, и вот затосковало сердце… Портрет его повесила, смотрю… Стал он старый, старый, уже не на “мага”, а на “шамана” похож. Смотрю и понять не могу, как и зачем эти годы мои прошли!..»[430] В своей юбилейной статье, однако, Петровская подобным настроениям не поддается; она описывает не тот новейший портрет, который был у нее перед глазами, а прежний, знаменитый, работы Врубеля; и Брюсов в ее трактовке, задрапированный в заведомо старомодные символистские словесные облачения, – это мэтр русского символизма в период его расцвета, в тот период, на который приходились лучшие дни, ими совместно прожитые:
«Выступая на арене, весь закованный в стальной панцирь своего таланта, или уединяясь в свои заклятые пещеры, – Валерий Брюсов разбрасывал в первые же годы щедро дары своих неисчерпаемых сокровищ. ‹…› “Весы” под руководством Валерия Брюсова стали питомником молодых талантов, аскетической школой деятелей искусства, которым было суждено взорвать мертвенность окостеневших форм и на долю которых пришлась тяжелая задача – поднять на должный уровень косную, влюбленную в прошлое, враждебную толпу.
Быть может, на этом испепеляющем костре, на этом очистительном огне, куда Валерий Брюсов бросил без остатка душу и жизнь, и возник тот гранитный облик врубелевского портрета, веющий потусторонней жутью.
Превратить свою жизнь в суровую трагедию искупления, сказать, что
Все в жизни лишь средство Для ярко певучих стихов,и знать только одно, что: “От века из терний поэта заветный венок” – дано лишь немногим в русской литературе».[431]
Со смертью Брюсова, последовавшей 9 октября 1924 г., для Петровской окончательно отодвинулась в прошлое эпоха символизма, к которой всецело принадлежала и она сама, и вся история ее взаимоотношений с одним из вершинных выразителей этой эпохи.
Свидетельствует Роман Гуль: «…о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для “Литературного приложения”. Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное “Литературное приложение” с большим портретом Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла “Литературное приложение” и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: “Да… Это он…”. И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената всю жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь».[432]
Сразу же после кончины Брюсова Петровская взялась за «Воспоминания». Это – последнее и, может быть, наиболее значительное ее литературное произведение, воссоздающее различные эпизоды из жизни московских символистов в первые годы XX века и отличающееся новым, трезво-аналитическим взглядом на «декадентские» настроения и соблазны. В центре повествования – «настоящий» Брюсов, которого Петровская, стремясь возвыситься над собственными эмоциями, пытается осмыслить, великодушно отодвигая в сторону собственные беды и обиды; «настоящего», до конца ею понятого Брюсова она противопоставляет расхожим мнениям и кривотолкам о нем. Отвечая на упрек Ходасевича (собиравшегося опубликовать «Воспоминания» в берлинском журнале «Беседа») в том, что «объективная оценка В. Брюсова, как поэта и человека» у нее «чудовищно повышена», Петровская заявляет: «О моей оценке В. Брюсова-поэта можно сколько угодно спорить ‹…› Но “человека”?.. Я его знала таким, и не могу рассказывать об ином. Смею сказать, – я знала о нем то, о чем не догадывались другие. И больше: по-моему, только я, – путем самосожжения, правда, – приблизилась к его подлинной сущности, заслоненной тысячами “стилей” сознательных и бессознательных. В нем жило наполовину безумие, но воистину в этот пылающий горн он обеими руками лил холодную воду. ‹…› Писала же я о нем только правду и почти всегда горькую для меня».[433] В следующем письме к Ходасевичу Петровская развивала ту же тему: «Валерия никто, наверно, не помянет добрым словом. Тем хуже… А может быть тем лучше, что его никто, кроме меня, не понял. Я же ему себя не простила ‹…›, я просто поняла, что иным быть он не мог. Никто не может быть иным, а до конца пребывает тем, кто он есть. ‹…› Через годы, после его смерти я полюбила то счастье, что звала трагедией и горем по недомыслию моему. Поняв все это, ничего не ставлю ему в счет. Если это все-таки называется “простить”, – то да, – я простила, и образ его для меня сейчас лучезарен. ‹…› На “коммунизм” Валерия у меня моя точка зрения. Но скорее откушу язык, чем поведаю ее даже Вам… ‹…› Не сердитесь – всё о Валерии сейчас для меня Sacro e Santo <Свято и Священно – ит.>. Иначе не могу чувствовать. Слушайте: однажды в час великой тоски я написала ему письмо (недавно, в январе) и всунула в бумаги. Ну… звала прийти как-ниб<удь> ночью… И странно, – забыла что написала на три дня. На 4-ую ночь он пришел, – то был полусон, полуявь. В моей комнате, сел за столом против кровати и смотрел на меня, живой, прежний. И вдруг я вспомнила, что он умер… И завопила дико. Ах, с каким упреком он на меня посмотрел, прежде, чем скрылось видение. Звала сама же! Вот что сказал его взгляд».[434]
«Воспоминания» опубликовать тогда Петровской не удалось, а с прекращением издания «Накануне» для нее иссякли возможности литературного заработка. Беспросветная нищета – удел последних лет ее жизни. К лету 1927 г. она вместе с младшей сестрой перебралась в Париж, где жила случайными заработками – мыла посуду в ресторанной кухне.[435]
Свидетельствует Ходасевич: «Нина Петровская перед смертью была ужасна, дошла до последнего опускания и до последнего ужаса. Иногда жила у меня по 2–3 дня. Это для меня бывали дни страшного раскаяния во многом из того, что звалось русским декадентством. Жалко бывало ее до того, что сил не было разговаривать. Мы ведь 26 лет были друзьями».[436] Удерживала ее от смерти лишь необходимость заботиться о беспомощной больной сестре. В январе 1928 г. сестра умерла. Петровская пыталась последовать за ней сразу же, но не получилось: «Я колола ей руку иглой четыре раза, потом себе. Думала, заражусь трупным ядом. Но нет»; «Я верю в “тот свет” и, чтобы сделать ей радость, снова перешла в православие».[437] Последние дошедшие от нее слова – точнее, последний вопль – в письме к А. П. Шполянскому от 22 февраля 1928 г.: «Вся моя душа до дна парализована горем, а физически я так слаба, что не могу выйти на улицу, не держусь на ногах даже в комнате. Сейчас я живу буквально подаянием и как-то не стыжусь этого. За 45 дней после смерти моей сестры я увидала жизнь голую и поняла, что многие ее законы ложны и лживы. Я полумертвая, а это самая “жизнь”, пока не покончено с телом, ни с чем не считается. Мне подали счет за отопленье на 60 fr. Мне нечем их заплатить. ‹…› Я прошу лично Вас, я очень прошу (иначе меня вышвырнут из отеля), достаньте мне где-ниб<удь> эти 60 fr. Они мне нужны завтра вечером».[438]
На следующий день, 23 февраля 1928 г., Петровская покончила с собой в своем парижском жилище, отравившись газом. Отпевание состоялось 26 февраля в Русской церкви на рю Дарю, похороны – на кладбище Банье.[439]
В парижской газете «Дни» появился следующий анонимный некролог:
«Нина Петровская.
Известная писательница и переводчица Нина Ивановна Петровская покончила с собой. Кончилась ее подлинно страдальческая жизнь в маленьком парижском отеле, и эта жизнь – одна из самых тяжелых драм в нашей эмиграции.
Полное одиночество, безвыходная нужда, нищенское существование, отсутствие самого ничтожного заработка, болезнь – так жила все эти годы Нина Петровская, и каждый день был такой же, как предыдущий – без малейшего просвета, безо всякой надежды. Несколько месяцев тому назад она перебралась из Берлина в Париж, но и в Париже не стало лучше. Вынужденная жить буквально подаянием, помощью отдельных писателей, тоже дававших ей не от избытка, одинокая и забытая, – она не выдержала этой жизни, сложившейся для нее особо несчастно.
Мы еще вернемся к характеристике Нины Петровской. Пока же обнажим голову пред свежей могилой».[440]
Возможно, что этот текст был составлен Ходасевичем. К более подробной характеристике Петровской Ходасевич обратился, опубликовав вскоре в парижской газете «Возрождение» (12–14 апреля 1928 г.) мемуарно-аналитический очерк «Конец Ренаты», который долгие годы был едва ли не единственным источником общих сведений о ней. Едва ли не единственным – потому, что в читательском обиходе оставался еще и «Огненный Ангел».
«Санаторная встреча» (Мария Вульфарт в жизни и стихах Валерия Брюсова)
24 ноября 1913 г. в Москве покончила с собой возлюбленная В. Брюсова поэтесса Надежда Львова.[441] Брюсов был потрясен до глубины души, готов был возлагать на себя вину за происшедшее; такой же неоплатный счет предъявляли ему многие, знавшие Львову и осведомленные о характере их отношений. Один из многих – Владислав Ходасевич, который сообщал в мемуарном очерке о поэте: «Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда – в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной “встрече”…»[442]
Имени той, с кем состоялась у Брюсова эта санаторная «встреча», Ходасевич, видимо, не знал. Не возникало оно долгие годы и в литературе, затрагивавшей биографию и творчество Брюсова. Видимо, впервые оно было упомянуто (в неточном написании) в 1974 г. в примечаниях к стихотворению «Еврейским девушкам» («Красивые девушки еврейского племени…»), написанному в Вильно в августе 1914 г. и включенному в позднейшую книгу Брюсова «Миг» (1922): «В 1914 г. Брюсов принял близкое участие в судьбе молодой еврейской скрипачки Марии Вульферт, которую ему удалось устроить в Варшавскую консерваторию. Вероятно, знакомство с Вульферт натолкнуло поэта на тему этого стихотворения».[443] То же имя фигурирует в статье Артура Приедитиса «Курземские друзья Брюсова», при ней помещен и фотопортрет скрипачки (Варшава, 1915).[444] Краткая справка о взаимоотношениях Брюсова с Марией Вульфовной (Владимировной) Вульфарт дана в наших пояснениях относительно биографического подтекста стихотворения Брюсова «Умершим мир!»,[445] содержащего отклик на гибель Львовой, которое заканчивается строками:
Умершим мир! И нас не минет Последний, беспощадный час, Но здесь, пока наш взгляд не стынет, Глаза пусть ищут милых глаз![446]Наконец, в общих чертах канва взаимоотношений Брюсова и Вульфарт прослежена в новейшей биографии поэта, написанной В. Э. Молодяковым, и в статье А. Л. Соболева «История Марии Вульфарт», вышедшей в свет почти одновременно с первой публикацией настоящей заметки.[447]
Поэтический образ Марии Вульфарт воссоздан в 14-м сонете («Последняя») венка сонетов «Роковой ряд», в котором Брюсов воспел четырнадцать возлюбленных, оставивших заметный след в его жизни:
Да! Ты ль, венок сонетов, неизменен? Я жизнь прошел, казалось, до конца; Но не хватало розы для венца, Чтоб он в столетьях расцветал, нетленен. Тогда, с улыбкой детского лица, Мелькнула ты. Но – да будет покровенен Звук имени последнего: мгновенен Восторг признаний и мертвит сердца! Пребудешь ты неназванной, безвестной, – Хоть рифмы всех сковали связью тесной. Прославят всех когда-то наизусть. Ты – завершенье рокового ряда: Тринадцать названо; ты – здесь, и пусть – Четырнадцать назвать мне было надо![448]Особенность «последней» в ряду других героинь «Рокового ряда» заключается прежде всего в том, что она воплощает образ «потаенной» любви: «Пребудешь ты неназванной, безвестной». Тому способствовали и житейские обстоятельства: прежние возлюбленные Брюсова обретались в Москве или Петербурге, многие из них были вхожи в «свет» и известны в литературно-художественном мире, М. Вульфарт же пребывала в отдалении от российских столичных кругов – в Риге, Варшаве, в городке Тальсен Курляндской губернии (безусловно, именно она подразумевается в строках стихотворения «Еврейским девушкам»: «В Варшаве, и в Вильне, и в задумчивом Тальсене // За вами я долго и грустно следил»[449]).
По письмам М. Вульфарт к Брюсову и некоторым другим документам из его архива можно в общих чертах воссоздать историю их знакомства и сближения, лишь отчасти прослеженную в упомянутой книге В. Молодякова и более подробно описанную А. Л. Соболевым.
Вопреки приведенному позднейшему утверждению Ходасевича, Брюсов после самоубийства Львовой не отправился из Петербурга прямо в Ригу, а вернулся (1 декабря 1913 г.) в Москву, где провел несколько дней с приехавшим тогда в Россию Эмилем Верхарном[450] и лишь после этого отбыл в сопровождении жены в санаторий доктора М. М. Максимовича на Рижском взморье в Эдинбурге II (ныне Дзинтари): «Врачи советовали санаторное лечение для укрепления нервов. По этому поводу декабрь и январь 1913/14 г. он провел под Ригой».[451] Скорее всего, именно там в декабре 1913 г. состоялось его личное знакомство с пациенткой санатория, юной Маней Вульфарт, которое – видимо, уже после отъезда в Москву И. М. Брюсовой – переросло в «роман».[452] Переживаниями этой новой любовной связи – сравнительно легкой и безмятежной, в очевидном контрасте с надрывным драматизмом отношений с Львовой, – явно продиктовано стихотворение Брюсова «На санках» (11 января 1914 г.) из его книги «Семь цветов радуги» (1916):
Санки, в радостном разбеге, Покатились с высоты. Белая, на белом снеге Предо мной смеешься ты. <…..> Нет ни ужаса, ни горя: Улыбнулся детский лик, И морозный ветер с моря В душу ласково проник.[453]М. Вульфарт уехала с Рижского взморья еще до возвращения Брюсова в Москву: первая ее открытка отправлена ему из Тальсена (ныне Талси) в Майоренгоф (ныне Майори; ближайшее к санаторию Максимовича почтовое отделение) 27 января 1914 г. на имя «А. Bakoulin» («конспиративный» прием; фамилию своего деда со стороны матери А. Я. Бакулина Брюсов неоднократно использовал и в печати как один из своих псевдонимов),[454] следующее письмо – от 30 января – уже в Москву. Новая их встреча состоялась в Петербурге в середине февраля 1914 г., М. Вульфарт приезжала к ее общей с Брюсовым знакомой по санаторию Максимовича Елене Павловне Шапот; по возвращении в Ригу она послала Брюсову 18 февраля две телеграммы: «Привет моему мальчику корзина найдена – глупая девочка» (видимо, подразумевается полученная от Брюсова корзина цветов), «Привет от твоей глупой девочки», – и в тот же день письмо в Москву с обращением: «(“Милый”) мой глупый и гадкий мальчик!»[455] Эти незатейливые фразы отчасти проливают свет на характер отношений и стилистику игрового поведения, которые складывались у Брюсова с его новой возлюбленной. Впрочем, семейное положение Брюсова и в данном случае накладывало свой отпечаток и давало повод его юной подруге для душевных волнений. Так, по возвращении из Петербурга М. Вульфарт писала Брюсову (19–23 февраля 1914 г.): «Мне тетя, напр<имер>, следующее говорит: милая, знай, что мы желаем тебе только добра, и поэтому выслушай меня: я знаю (она говорит) и все знают, что В. Я. в тебя влюблен, но ты ведь должна знать, что у него жена, и ты им разрушишь жизнь. Как тебе не совестно ‹…› Бранят меня с утра до вечера. ‹…› Я себе никогда не прощу, что поехала теперь в Петербург». Или – по получении известия о болезни И. М. Брюсовой (Рига, 29 апреля 1914 г.): «Валерий, даю Вам честное мое слово, что если мне не напишете, что с ней, почему она заболела, именно чем она страдает и т. д., Вы ничего больше от меня не узнаете. Должно быть, она из-за меня страдает, и этого я не переношу. Я покончу <c> собой, если это так…»[456]
И. М. Брюсова действительно была сильно озабочена новым увлечением своего супруга и даже, разузнав о его встрече с Вульфарт в Петербурге, обратилась с упреками в посредничестве к Е. П. Шапот. Последняя объяснялась в письме к ней от 13 марта 1914 г.: «Втроем мы бывали в театре, смотрели Петербург. Бывали в ресторане. ‹…› Может, Вы считаете недопустимым, что я, зная многое, не отвернулась от Манечки и В. Я. и не разыграла комедию, которую разыгрывали все санаторские гусыни. Я не могу, я не умею оценивать то, что не подлежит суду людей».[457] Узнав об этой переписке, Брюсов в свою очередь написал Е. П. Шапот (17 марта 1914 г.): «Вернувшись из Петербурга, я рассказал, что виделся там, часто, с Вами и с Манечкой, – только это. ‹…› И. М. приняла мои слова очень остро, и были у нас печальные разговоры ‹…› ни о каких фактах я ей ничего не сообщал (даже не говорил, что Манечка жила у Вас). Психологию И. М. я понимаю (как стараюсь понять психологию всех, с кем встречаюсь), но понимание это еще нисколько ее письма не оправдывает».[458]
Вновь они встретились в Риге в конце апреля – начале мая 1914 г. Стихотворение Брюсова «В старинной Риге» (1 мая 1914 г.) – тому почти документальное подтверждение:
Здесь, в старинной Риге, В тихий день ненастья, Кротко я встречаю Маленькие миги Маленького счастья. ‹…› Иль влюблен я снова? Иль я снова молод?[459]Вообще едва ли не все брюсовские стихотворения любовной тематики, относящиеся к 1914–1915 гг., так или иначе связаны с образом рижской возлюбленной поэта. Это – и «Безвестная вестница» (1914),[460] предвосхищающая «неназванную, безвестную» из венка сонетов, и названная по имени (и многократно возвеличенная анафорическим повторением заглавной буквы имени во всех словах) героиня мадригала «Мой маяк» (1914):
Мой милый маг, моя Мария, – Мечтам мерцающий маяк. Мятежны марева морские, Мой милый маг, моя Мария, Молчаньем манит мутный мрак… Мне метит мели мировые Мой милый маг, моя Мария, Мечтам мерцающий маяк![461]2 мая 1914 г. Брюсов вместе с М. Вульфарт побывал в Зегевольде (ныне Сигулда) под Ригой – в значимом для него месте, где был похоронен высоко ценимый им Иван Коневской (ранее он посетил Зегевольд вместе с Ниной Петровской в июле 1911 г., десять лет спустя после гибели поэта, и тогда же написал стихотворение «На могиле Ивана Коневского»[462]); в этот день они оттуда отправили Е. П. Шапот в Петербург приветственную открытку.[463] 5 мая они расстались. В письме от 12 мая Вульфарт укоряла Брюсова: «Удивляюсь, что за все время, уже неделя как ты из Риги, и получила я лишь секретку из поезда да телеграмму. А где же письмо, которое ты обещал из Петербурга?»[464] Разлука компенсировалась интенсивной перепиской (сохранилось 39 писем Вульфарт к Брюсову за 1914 г., его же письма к ней, по всей вероятности, утрачены); при этом Вульфарт постоянно терзалась вынужденным одиночеством и неопределенностью своего положения: «Но Валерий! почему Вы раньше не согласились со мной, когда я Вам говорила, что я Вам скоро надоем, когда уверяла Вас, что я слишком незначительный человек для Вас. Действительно, что же во мне, в самом деле? такая же смертная, как все остальные! (не больше чем маленькая девочка…) ‹…› Напишите проще, и если Вы этого сами желаете, я Вас совсем освобожу от себя, я не желаю Вас мучить, но – и не желаю играть! ‹…› Валерий! так и знайте, я Вас никогда не забуду, даже – если Вы это захотите. Мне это все равно! Прощайте пока, а кто знает, мож<ет> быть, навсегда!»[465]
Цитированное письмо датировано 29 июля 1914 г., а десятью днями раньше, 19 июля, Германия объявила войну России. Парадоксальным образом война не разъединила, а вновь сблизила Брюсова с его возлюбленной. В августе Брюсов отправился на театр военных действий как корреспондент «Русских Ведомостей». Основным местом его пребывания до апреля 1915 г. включительно стала Варшава,[466] куда прибыла с ним и М. Вульфарт, ставшая на это время постоянной спутницей его жизни (в квартире в доме № 1 по Мазовецкой улице); Брюсов заехал за ней в Тальсен по дороге из Москвы (27 августа 1914 г. он надписал в Тальсене Фердинанду Вецвиэту 15-й том своего Полного собрания сочинений и переводов; эту надпись воспроизводит А. Приедитис в указанной выше статье). Более полугода совместного проживания в Варшаве (с учетом постоянных разъездов Брюсова по нуждам корреспондентской работы) оказались самой продолжительной, но и финальной стадией развития их отношений. После возвращения поэта в Москву последовала целая серия писем Вульфарт из Варшавы, в которых выражались надежды на новое соединение, а также сетования по поводу брюсовского недуга, о котором ей стало известно, – пристрастия к морфию (25 июня 1914 г.: «Это твоя погибель – ты это знаешь. К сожалению, и я знаю, что ты никогда этого не бросишь. Моя любовь тебе мало для этого. Пусть будет проклята та, которая тебя погубила.[467] Я помочь не в силах. Я знаю это. ‹…› Ведь я хочу, чтобы наша жизнь устроилась совсем по-другому. Я хочу жить, жить, но не смогу же я жить, видя тебя погибающим, этого я не могу, тогда лучше вместе. ‹…› Клянусь тебе, что я умру, если ты не бросишь»[468]). Последнее в 1915 г. письмо Вульфарт к Брюсову датировано 8-м июля, в нем она сообщала, что решила остаться в Варшаве (ее близкие родственники в том же году эвакуировались в Воронеж).
После этого Брюсов и Мария Вульфарт более никогда не встречались. Ее сестра Эрика Владимировна Вульфарт написала Брюсову из Воронежа 20 апреля 1916 г.: «…не знаете ли Вы кое-что про Маню» – и спрашивала ее адрес.[469] Среди писем Марии Вульфарт к Брюсову сохранилось присланное «Обществом польских евреев» (16 июля 1917 г.) сообщение о том, что она живет в Варшаве и ожидает денежной помощи; 8 августа 1917 г. Брюсов переправил через эту организацию для нее 100 рублей. Приводим в извлечениях последнее ее письмо к нему.
Варшава, 20-ого июня 1918.
Многоуважаемый г-н Брюсов!
Уже минуло 3 ½ года с тех пор, как не имею известий от моих родителей, а также от родных и знакомых. Это очень печально и очень больно. Неужели Вы никак не могли мне несколько слов написать. ‹…› Сейчас нахожусь в больнице, ибо нервы мои ужасно страдают. ‹…› Умоляю Вас, Валерий Яковлевич, немедленно, если возможно телеграммой, сообщить, где все находятся, а также о себе. ‹…› Еще раз умоляю сообщить мне о судьбе моей матери, сестер и братьев. ‹…› Поймите, больше 4 лет быть совершенно одной. Это не так легко и просто, да еще не имея денег. Если кому-нибудь возможно, очень бы попросила, мне выслать немного денег. Ибо мне они нужны. Итак, надеюсь, Вы меня не оставите на произвол судьбы. Неужели Вы меня уже забыли. Но, может быть, Бог нам еще поможет сойтись, тогда мы поговорим. ‹…›
Ваша очень огорченная Марья Владимировна Вульфарт.[470]
Судя по этому призыву о помощи, М. Вульфарт тогда переживала настолько отчаянное положение, что уповала на заведомо неосуществимое – на способность Брюсова разыскать в разгар Гражданской войны ее близких родственников. Последнее, по всей видимости, известие о былой варшавской подруге пришло к Брюсову от ее сестры Эрики из Воронежа в письме от 2 января 1919 г.: «…недавно получили письмо от Мани из Варшавы. Она просила меня известить Вас об этом и прислать ей Ваш адрес ‹…› она, как видно, устроилась: служит в каком-то учреждении, продолжает заниматься музыкой (но, кажется, собирается к нам)».[471] Воспользовался ли Брюсов присланным ему варшавским адресом Марии Вульфарт, мы не знаем, как и не располагаем вполне достоверными сведениями о ее дальнейшей судьбе.[472]
Статьи
Эдгар По в Петербурге: Контуры легенды
В статье об Эдгаре По («Поэ (Edgar Allan Рое) – знаменитый американский поэт‹…›»), помещенной в 1898 г. в солиднейшем и эталонном по тем временам Энциклопедическом словаре за подписью З. В., подразумевавшей одного из лучших знатоков западных литератур XIX века З. А. Венгерову, содержится следующий фрагмент: «Изгнанный из унив. за бесчинства, П. поссорился с Аллэном из-за неуплаты последним его долгов и отправился в Европу с целью сражаться в рядах греков против Турции. Блуждания по Европе, без денег и друзей, были полны приключений и кончились тем, что П. очутился в Петербурге, слоняясь по кабакам и живя как бродяга и нищий. Его разыскал американский священник Миддльтон и помог ему вернуться в Америку, где П. помирился с Аллэном и на его счет поступил в военную академию».[473]
Все содержащиеся в приведенной цитате сведения о блужданиях по Европе великого американского писателя, как авторитетно утверждают ныне его биографы, не соответствуют действительности. Восходят они к самому Эдгару По, составившему в 1839 г. по просьбе Руфуса Гризволда краткий автобиографический «меморандум», в котором он, в частности, сообщал, что в юности «в донкихотском порыве бежал из дома без гроша в кармане, чтобы принять участие в борьбе греков, сражавшихся за свою свободу, и, не добравшись до Греции, попал в Россию, в Санкт-Петербург. Из затруднительного положения, в котором я там оказался, – продолжает По, – меня любезно выручил мистер Г. Миддлтон, американский консул в СПб»[474]. Эти биографические подробности были повторены Гризволдом в некрологе По, появившемся в газете «Нью-Йорк геральд трибьюн», в «мемуаре» о писателе, сочиненном тем же Гризволдом, и перекочевали в статью «Эдгар По» (1852) Шарля Бодлера, положившую начало европейской славе американского автора. Само собой разумеется, сообщения о его странствиях проникли и в русскую печать.[475]
В анонимной статье «Эдгард Поэ», появившейся в 1866 г. в «Заграничном Вестнике», в частности, сообщалось: «… игорные долги ссорят его (По. – А. Л.) с названным отцом, и молодой человек отплывает в Грецию на битву с турками. ‹…› Отправившись в Грецию, он очутился потом в С. – Петербурге, откуда, при содействии американского посланника Генри Мидлестона, вернулся в отчизну».[476] «Затруднительное положение», в котором якобы оказался юный Эдгар По во время своего пребывания в российской столице, порождало догадки и домыслы о том, какие именно затруднения испытал заезжий американец: возникали неведомо на чем основанные подробности, причем одни и те же соображения или утверждения у разных авторов преподносились то как сомнительные, то как сугубо достоверные сведения. В предисловии «От переводчика», предпосланном выполненному им переводу «Ворона» – первому переводу стихотворного произведения По на русский язык, – С. А. Андреевский писал об авторе: «Между событиями его жизни замечателен тот факт, что, будучи почти мальчиком, он вздумал принять участие в восстании греков. Об его приключениях на Востоке ничего, впрочем, неизвестно; но достоверно то, что он был задержан, за неимение паспорта, в Петербурге и вынужден был обратиться к защите американского посольства, чтобы избегнуть уголовной ответственности по русским законам».[477] Другой русский популяризатор американского писателя выражал сомнение в том, что в Грецию юный По не попал «по недостатку средств»: «…недостаток средств не помешал Эдгару прожить целый год в Европе и забраться затем к нам в Петербург», – и заключал: «Как бы то ни было, в 1829 году мы видим его в Петербурге, где он затеял какой-то скандал с полицией и, чтобы избегнуть ее кары, вынужден был обратиться к американскому консулу Генриху Мидльтону, который помог ему возвратиться на родину». «Вообще пребывание Эдгара Поэ в Европе и в Петербурге, – осторожничает далее повествователь, – до сих пор остается необъясненным во всех его биографиях, и хотя опубликование его писем за эту эпоху часто обещалось американскими журналистами, но до сих пор не было приведено в исполнение».[478] В энциклопедической статье Венгеровой, призванной по самому назначению своему опираться исключительно на достоверные сведения, фантазирование, однако, набирает высоту: американский дипломат преображается в милосердного священника, а сам Эдгар По – в обитателя петербургского городского дна (прямое следствие многочисленных свидетельств об алкоголизме По, активно муссировавшихся в писаниях о нем, а также сведений о загадочных предсмертных днях писателя: 3 октября 1849 г. он был подобран в Балтиморе на улице в неадекватном состоянии, в грязной и рваной одежде).
Биографическими разысканиями о писателе документально установлено, что Эдгар Аллан По жил в Европе (в Англии и Шотландии) только в детстве – в 1815–1820 гг. – и после этого пределов Нового Света не покидал. В мае 1827 г. в Бостоне, после ссоры с опекуном Джоном Алленом, отказавшим ему в материальном обеспечении, восемнадцатилетний По вступил добровольцем в армию под именем Эдгара А. Перри и затем служил в составе артиллерийской батареи в фортах Моултри (остров Салливана, Южная Каролина) и Монро (Виргиния), уволился из армии в апреле 1829 г. Именно эти два года солдатской службы, проведенные вдали от всех, с кем он раньше и позднее общался, были в авторском «меморандуме» поглощены путешествием в Европу; тем самым «темный» период в биографии поддавался освещению в том свете, какой казался писателю наиболее угодным. Механизм мифотворчества в данном случае вполне понятен: рутинная солдатчина, житейская проза в своем самом наглядном воплощении – удел, несовместимый с образом художника-творца высокого романтического склада, который культивировал в себе Эдгар По. Другое дело – устремление вослед Байрону, одному из поэтических кумиров юности, борцу за свободу Греции. Другое дело – служение «Музе Дальних Странствий», которое для автора «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» всегда было волнующим и привлекательным, и в этом смысле воображаемое посещение далекого и неведомого Петербурга могло ассоциироваться с путешествиями по неизвестным морям и землям, которым Эдгар По принес в своем творчестве весомую дань. (Примечательно, что, согласно зафиксированным свидетельствам, во время армейской службы По писал письма своей приемной матери, на которых как обратный адрес был указан Санкт-Петербург:[479] похоже, что легенда о пребывании в столице Российской империи уже тогда зародилась в сознании будущего писателя.) Эдгар По принадлежал к тому роду художников, для которых мечты и вымысел могли обладать подлинно безусловной реальностью, большей, чем явленная действительность, и эта особенность творческой натуры становилась питательной почвой для обогащения собственной биографии плодами воображения: известно, что своему университетскому товарищу Томасу Боллингу По рассказывал о предпринятых им «заморских путешествиях», что в 1848 г., за год до смерти, он поведал Марии Луизе Шью о якобы совершенном им путешествии в Испанию (где был ранен на дуэли и выхожен некой шотландской дамой) и в Париж (где написал роман, изданный под именем Эжена Сю), и т. д.[480] Злоключения в Петербурге – из того же ряда; не исключено, впрочем, что в Петербурге некогда побывал старший брат писателя Генри, и Эдгар в своих фантазиях мог отталкиваться от его подлинных свидетельств.
Сочиняя свою статью для Энциклопедического словаря, З. А. Венгерова явно не была знакома с разысканиями, предпринятыми в последние к тому времени десятилетия исследователями Эдгара По, – в том числе с двухтомной биографией, написанной Джоном Инграмом (1880), – которые однозначно разрешили вопрос о пребывании писателя в Петербурге. Между тем в конце XIX века легенду дезавуировали и на страницах отечественных изданий. Одному из первых сборников русских переводов из Э. По была предпослана статья французского критика Эмиля Эннекена, в которой не подвергался сомнению факт отъезда писателя в Европу в июне 1827 г., но тем не менее утверждалось: «Относительно пребывания По по сю сторону океана ничего точного неизвестно. Говорят, По решил ехать в Грецию сражаться против турок. Но ничто не доказывает, что он осуществил свой план. <..> Что же касается до его приключения в С. – Петербурге, где он, по Гризвольду, был замешан в ссору с матросами, задержан русскими властями и при помощи американского консула возвращен на родину, то это чистая выдумка. Исследования, сделанные в консульских книгах, не открыли ничего подобного».[481]
В ряде последовавших сообщений о жизни Эдгара По, появившихся в русской печати, факт его отъезда в Европу по-прежнему не подвергался сомнению, но неизменно указывалось на скудость и неопределенность фактических сведений, а о Петербурге, как правило, осторожно умалчивалось. В 1895 г. вышли в свет два сборника переводов из Э. По, авторы которых, не сговариваясь, написали примерно одно и то же. Один из них, журналист Генрих Иосифович Клепацкий, известив о решении По «в связи с примером Байрона ‹…› покинуть Америку и ехать в Грецию – сражаться за свободу эллинов», заключал: «Что происходило с По в течение следующих восемнадцати месяцев, – вопрос, до настоящего времени невыясненный».[482] Другой переводчик, К. Д. Бальмонт, перифрастически утверждал, что По «в 1827 году уехал в Европу, чтобы принять участие в той освободительной войне, которая оказалась роковой для другого поэта, тогда уже достигшего своего зенита и приехавшего в Грецию умереть на поле битвы. Удалось ли Эдгару По осуществить свой план, неизвестно. Несколько лет он скитался по Европе, но где он был, что он делал, этого не знают его биографы».[483]
Библиограф Н. Н. Бахтин, выступавший под псевдонимом Н. Нович, факт европейского турне Эдгара По сомнению не подвергал, но отмечал, что «о его путешествиях и приключениях в Европе ничего достоверного не известно».[484] Анонимный автор биографического очерка об Эдгаре По обтекаемо касался вопроса об отъезде в Грецию в 1827 г. и европейских странствиях По, но вполне определенно заявлял относительно Петербурга: «По находился в отсутствии более года, но никогда не рассказывал о том, что было с ним за это время, но и не опровергал впоследствии рассказов, ходивших по этому поводу. Более или менее достоверно лишь то, что он доехал до Англии, а что было с ним далее – остается до сих пор неизвестным. Рассказ о том, что он попал в Петербург и здесь оказался замешанным в какую-то темную историю, из которой помог ему выпутаться американский посол, лишен всякого основания».[485] Наконец, Михаил Александрович Энгельгардт, наиболее деятельный – наряду с Бальмонтом – переводчик Эдгара По на русский язык, сумел вплотную подойти к истине. Полагая, как и многие другие, что «увлечение греческим освободительным движением заставило Эдгара бросить Америку и отправиться в Европу помогать грекам», Энгельгардт добавлял: «Кажется, впрочем, до Европы он не добрался, а поступил вследствие крайней нужды в солдаты под чужим именем. Рассказ о том, как он, в конце концов, очутился в Петербурге, без денег, без документов, в каких-то, по-видимому, неприятных отношениях к полиции и как из этого отчаянного положения выручил его американский посланник, доставивший ему возможность вернуться в Америку, – относится в действительности к его брату, моряку».[486]
Механизм мифотворчества, однако, продолжал исправно работать. Некий д-р Ч. Мостович в статье о По сообщил, что «американский Гофман» (именно так озаглавлена статья) отправился в Миссолунги (надо полагать, для того, чтобы сражаться плечом к плечу с Байроном: именно в этом греческом городе в 1824 г. закончил свои дни английский поэт), «но, узнав еще в дороге о внезапной кончине Байрона, Поэ остался в Европе и начал вести такой разгульный образ жизни, что, попав в Петербург, был, по ходатайству нашей администрации, выслан с. – американским посланником на родину».[487] Русский эпизод в очередной раз воссоздается в статье С. А. Торопова «Мрачный гений».[488] О том, что легенда была способна устоять под натиском непреложных фактов, свидетельствуют две краткие заметки об Эдгаре По, помещенные в журнале «Исторический Вестник». В первой из них, напечатанной в 1897 г., «темный» период в биографии писателя освещается посредством сообщения достоверных сведений: «… в действительности он поступил в солдаты и несколько времени был образцовым и замечательно трезвым рядовым, писавшим в свободное время стихи».[489] Во второй заметке, появившейся ровно десять лет спустя, однако, в очередной раз сообщается, что По «не попал в Грецию, а очутился в Петербурге, где, как всегда, вел жизнь разгульную и кончил тем, что был взят в полицию», – и далее вновь о помощи американского посланника.[490] Сообщение о «бесконечных скитаниях по всей Европе» содержится в статье, приуроченной к 100-летию со дня рождения Эдгара По,[491] а очередное упоминание о пребывании в Петербурге – в краткой биографической справке о писателе, уместившейся на одной странице малого формата.[492]
Жизнестойкость легенды о посещении Эдгаром По Петербурга объясняется, конечно, ее исключительной привлекательностью для российских почитателей гения американской словесности. Вполне откровенно в этом отношении высказался К. Д. Бальмонт – создавший своего рода культ Эдгара По в отечественной среде почитателей «нового искусства», называвший его величайшим из поэтов-символистов и переведший на русский язык полный корпус его произведений. О том, что «возвышающий обман» для Бальмонта, знакомого с основными и наиболее авторитетными биографическими трудами об Эдгаре По, был милее и предпочтительнее «тьмы низких истин», свидетельствует фрагмент из его фундаментального «Очерка жизни Эдгара По» (в 5-м томе Собрания сочинений писателя), касающийся именно «петербургского» эпизода:
«Восемнадцатилетний юноша, в смутном очерке, явил себя поэтом, и затем, в течение целого ряда лет, от 1827-го до 1833-го года, жизнь его, в описаниях биографов, принимает противоречивые лики, и мы не знаем, был или не был он в какой-то год этого пятилетия в Европе, куда он будто поехал сражаться за греков, как, достоверно, он хотел в 1831-м году сражаться против русских за поляков, – был ли он или не был в Марселе или ином французском приморском городе, – и не очутился ли он, как то рассказывают, и как рассказывал он сам, в Петербурге, где с ним произошло будто бы обычное осложнение на почве ночного кутежа, и лишь с помощью американского посла он избежал русской тюрьмы. Или он на самом деле, как уверяют другие, под вымышленным именем Эдгара Перри, просто-напросто служил в американской армии, укрывшись, таким образом, от докучных взоров? Одно вовсе не устраняет возможности другого, и если легенда, которую можно назвать Эдгар По на Невском проспекте, есть только легенда, как радостно для нас, его любящих, что эта легенда существует!»[493]
В подкрепление своего права довериться «легенде» Бальмонт указывает, что в биографии Эдгара По «промежуток времени между 1827-м годом и 1829-м ‹…› затянут неизвестностью или освещен указаниями, которые представляются недостоверными и неполно убедительными».[494] С сомнением относится русский поэт и к факту военной службы По под именем Эдгара Перри. Эти акценты в бальмонтовском биографическом очерке вызвали особую похвалу другого поэта-символиста, Вл. Пяста – рецензента 5-го тома Собрания сочинений По: «Бальмонт сознательно избегал в построении биографии всего легендарного и был даже более осторожен, чем другие, европейские и американские, биографы. ‹…› Так, в неисследованной полосе 1827 – 29 годов Бальмонт не помещает с уверенностью По в Европу, – но и против версии о его волонтерстве в американской армии он приводит весьма ядовитые аргументы. ‹…› Бальмонт указывает на несоответствие примет Эдгара Перри (под именем которого По, якобы, зачислился в армию) с приметами поэта».[495] Поощряя Бальмонта на словах за недоверие к «легендарному», Пяст в то же время солидаризируется с ним и в недоверии к документально установленному. И Бальмонту, и Пясту очень трудно согласиться с версией о солдатской службе По, лишающей «петербургскую» легенду каких-либо фактических оснований.
Привлекательность этой легенды – не только в том, что ее бытование пришлось на эпоху становления русского модернизма, когда Эдгар По, наряду с Шарлем Бодлером, Оскаром Уайльдом и некоторыми другими иностранными авторами, воспринимался как провозвестник новейших эстетических веяний, когда факт его посещения Петербурга – предполагаемый или только воображаемый – мог послужить символическим прообразом связи между предтечей символизма и его преемниками – русскими символистами. Думается, что в рассматриваемой коллизии не менее значимую роль играет и второй непременный компонент – собственно Петербург, со всей его определившейся к тому времени культурно-исторической и литературной мифологией. Петербург фантасмагорический, демонический, являющий, по словам Гоголя, «всё не в настоящем виде» («Невский проспект»), город-мираж, готовый рассеяться, город, в котором сосуществуют люди и тени, – все эти контуры петербургского мифа идеально резонируют с творческим миром Эдгара По, являющим собой «дворец воображения»: «Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня поистине самим бытием, единственным и непреложным».[496] Эти откровения героя «Береники» определяют тот образный код, которому подчинены многие другие персонажи, рожденные сознанием американского писателя; по словам 3. А. Венгеровой, «вся эта толпа существ с тревожными взглядами, бледными судорожными лицами, эти мятущиеся души, живущие на грани безумия, создают в произведениях П<оэ> фантастический мир, где возможное и несуществующее сливаются в новый род чудесного <.. >».[497] Петербург «строгий» и «стройный», расчисленный, прямолинейный, выверенный по ранжиру – еще одна ипостась, резонирующая с Эдгаром По, создателем безукоризненно выстроенных «логических» рассказов и мастером, способным «самые исключительные внешние или психологические положения», по слову Достоевского,[498] развертывать в ясные, четко скомпонованные и интеллектуально выверенные сюжеты. «В самых фантастических рассказах, – отмечает та же Венгерова, – он наиболее трезв, наиболее виртуоз ‹…›. Творчество Поэ не бессознательное. Душа его полна мистических настроений, но, чтобы передать их, он пользуется всеми ресурсами своего холодного, острого, насмешливого ума, создает искусственные формы, наиболее отвечающие его намерениям, и никогда не дает стихийным элементам творчества выходить из-под сдерживающей власти рассудка».[499] Правомерно предположить, что в подсознании – а может быть, и в сознании – литераторов, очарованных легендой о пребывании Эдгара По в Петербурге, американский писатель («безумный Эдгар») и мифопоэтический Петербург представали как две индивидуальности, влекущиеся друг к другу, ощущающие глубинное родство и единую сущность своих натур.
Уже в пореволюционные годы немало способствовал оживлению легенды Вл. Пяст, поведавший в своей мемуарной книге (1929) о событии, происшедшем в дни Февральской революции: «… полицейские сожгли свой архив (заключавший, как мне удалось впоследствии узнать, между прочим, вещь сказочной ценности для истории мировой литературы – документ, подтверждающий истинность того, что стало считаться с XX века легендой: запись о задержании на улице в начале 30-х годов XIX века американского гражданина Эдгара Аллена По)».[500] Похоже, что для того, чтобы попытаться убедить в достоверности разоблаченной легенды, Пяст сочинил еще одну легенду. Сообщение о якобы сгоревшей «вещи сказочной ценности» не побудило исследователей скорректировать канву биографии Эдгара По (примечательно, что датировавшийся ранее 1827–1829 гг. период предполагаемого пребывания писателя в Старом Свете у Пяста сместился к началу 1830-х гг.), однако заинтересовало нескольких писателей и подвигло к беллетристическим экзерсисам.
Привыкший начинать свою творческую работу там, где кончается документ (хотя бы в данном случае и сгоревший), Юрий Тынянов задумал новеллу об Эдгаре По в Петербурге. Об этом неосуществленном замысле писателя сообщил Н. И. Харджиев, приведя устный рассказ Тынянова «по памяти»:
«В ночную ресторацию на Невском приходит Пушкин. За соседним столиком сидит большелобый юноша со странным взглядом, сверкающим и мглистым. Юноша пьет водку, бормочет английские стихи. У Пушкина возникает непреодолимое желание протянуть ему руку. Но юноша смотрит на незнакомца почти презрительно и произносит сквозь зубы:
– У вас негритянская синева под ногтями…
Таков финал “жестокого рассказа” о воображаемой встрече тридцатилетнего Пушкина с двадцатилетним Эдгаром По».[501]
Следы этого замысла, сохранившиеся в рабочих записях Тынянова, проанализированы Е. А. Тоддесом.[502] Предполагалось двойное заглавие задуманного произведения: «Чревовещатель Ваттуар (Э. По в Петербурге)» (подразумевался Александр Ваттемар, французский артист, мим и чревовещатель, гастролировавший в Петербурге в 1834 г. и общавшийся тогда с Пушкиным[503]). Судя по программе рассказа, основная сюжетная нить должна была развиваться по линии взаимоотношений По и Ваттуара. Программа, в частности, включает пункты: «Взгляд По на Петербург. ‹…› Разговор о России. “Красный кабак” – Пушкин, офицеры.[504] Разговор о женщинах, поэзии. По Ваттуару: “Скажите, что не понимаю”. Ленора Катенина. Пушкин приводит цитату из Шекспира. По поправляет etc. ‹…› Арест. Американский консул. Обратное путешествие. Ленора». В плане отражена «криминальная» составляющая исходного сюжета, но Тынянов счел уместным затронуть в нем и темы, непосредственно относящиеся к сфере его собственных историко-литературных изысканий (что справедливо отмечено Е. А. Тоддесом): «Ленора Катенина» – это баллада «Ольга» (1816), выполненное русифицированное переложение немецкой баллады Готфрида Августа Бюргера «Ленора», ранее переведенной Жуковским в другом стилевом регистре («Людмила», 1808). Полемика вокруг этих произведений, проанализированная Тыняновым в статье «Архаисты и Пушкин» (1926), и балладные образы из русской литературы начала XIX века должны были, по всей видимости, корреспондировать с мотивами творчества Эдгара По (Линор в стихотворении «Ворон», рассказ «Элеонора»).
Неизвестно, знал ли о намерении Тынянова познакомить Пушкина и Эдгара По Валентин Катаев, но персонаж его производственного романа «Время, вперед!» мистер Рай Руп, заезжий американец на советской стройке, «обнаружил выдающуюся эрудицию в области русской истории», чему дается следующее подтверждение (гл. 47):
«Он заметил, что некоторые поэмы Пушкина имеют нечто родственное новеллам Эдгара По. Это, конечно, несколько парадоксально, но вполне объяснимо. ‹…›
В свое время Эдгар По, будучи еще юношей, посетил на корабле Петербург. Говорят, что в одном из кабачков он встретился с Пушкиным. Они беседовали всю ночь за бутылкой вина. И великий американский поэт подарил великому русскому поэту сюжет для его прелестной поэмы “Медный всадник”».[505]
И в харджиевской записи устного рассказа Тынянова, и в приведенном у Катаева откровении американского эрудита время встречи Пушкина и Эдгара По – ночь. Видимо, для отечественных интерпретаторов образа американского писателя это время суток было по отношению к нему наиболее предпочтительным, соответствовало мрачному колориту, господствующему во множестве его произведений, оказывалось своего рода непременным атрибутом его творческого мира (ночь обозначается в первой строке самого знаменитого произведения По – «Ворон»). В ночное время разворачивается и действие рассказа Гайто Газданова «Авантюрист» (1930); перепечатав его, Л. Н. Чертков указал на приведенный выше фрагмент из «Встреч» Пяста как на исходный творческий импульс.[506] В рассказе описана случайная встреча в Петербурге светской дамы Анны Сергеевны с незнакомцем-иностранцем, который представляется как странствующий по свету без определенной цели авантюрист («Я не очень хорошо знаю, зачем я приехал в Россию. Но, во всяком случае, я буду искренне жалеть, что через несколько часов я ее покину ‹…›»[507]), американский поэт Эдгар Аллан По. Выступающий подобием Вечного Жида, «безумный Эдгар» в изображении Газданова заключает в себе характерные признаки собственных неврастенических персонажей, носителей трансформированного сознания (выражение его лица – «неуловимо ненормальное, почти сумасшедшее», сам герой признается: «…в глазах всех знающих меня я только бродяга и сумасшедший»[508]) – и вместе с тем он исполнен обаяния и величия вдохновенного гения. Красота внешнего облика и стиля поведения Эдгара По, постоянно отмечавшиеся его современниками, у Газданова несут отпечаток мертвенности («…он не похож на живого человека ‹…› изумительное совершенство этого лица, скорее, было бы свойственно статуе или картине»; «… точно тут ‹…› лежало застывшее тело с мертвым и прекрасным лицом»[509]) – и вместе с тем этому человеку, по случайности заблудившемуся среди живых и самых обыкновенных людей, доступно мучительное сверхчеловеческое знание: «Я слышу звон снега и слова, которые еще не произнесли, но сейчас произнесут; ‹…› я чувствую, как тяжелым облаком летит в воздухе война, о которой еще никто не думает; и, сидя в Лондоне, я слышу, как трещит и содрогается корабль, который сейчас пойдет ко дну в середине Тихого океана».[510] Созерцание Петербурга пробуждает в нем эсхатологические мысли – по аналогии со «странной, но навязчивой грезой» о Петербурге у Достоевского («Подросток», гл. 8, 1):[511] «…не думали ли вы, глядя вокруг себя ночью в Петербурге, ‹…› что конец мира, когда он наступит, будет очень похож на это? ‹…› наши потомки будут просто замерзать и вот так же глядеть на прекрасные здания, погруженные в белизну и звон снега, как мы с вами смотрим на это сейчас».[512] В видениях газдановского Эдгара По, которые предстают перед читателем в финале рассказа, «в приморском холодном тумане возникает гигантская фигура, держащая в руке пылающий факел»,[513] напоминая о загадочном образе, венчающем «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»: «… нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване».[514]
И еще один российский эмигрант соблазнился той же легендой – поэт Борис Нарциссов, автор цикла «Эдгариана», входящего в его четвертую книгу стихов «Подъем» (1969). Стихотворение «Разговор» из этого цикла – вопрошание к тени американского писателя, которому волею судьбы было отказано в общении с двумя корифеями русской литературы, его современниками:
Зачем, зачем тогда, в ненастный вечер, Вы с братом Вильямом, матросом, В Санкт-Петербурге не остались? Ну, хорошо, участок, протокол, – Но ведь Руси веселье тоже пити! Об этом бы не стоило и думать! А вы бы встретились тогда С веселым смуглолицым человеком (Вы хорошо французский знали). Его рассказ про Германа и Лизу Британцы поместили рядом с вашим, С коротким примечаньем перед текстом: «Два старых мастера живут вовеки…» Там был другой – корнет гвардейский – – Тот хорошо английский знал – А ужас он носил с собою в сердце… Вот эти бы вас поняли, как надо! Ведь, всё равно, потом в России Вы были, – скажем, точно дома…[515]На Пяста как на первоисточник сюжета своего рассказа «Драгоценный груз» указывает в послесловии к нему Леонид Борисов: «Владимир Алексеевич Пяст незадолго до своей смерти (в 1940 году) говорил мне, автору этого рассказа, об Эдгаре По, о документе, погибшем во время пожара полицейского архива в 1917 году. Помнится, что он, Пяст, называл мне не тридцатые годы, а именно 1847 год, когда американец Эдгар Аллан По был ночным гостем Санкт-Петербурга‹…›».[516] Видимо, Пяст сумел поверить в легенду настолько беззаветно, что решил изменить ранее обнародованное им хронологическое указание и отважился отправить Эдгара По в Россию в последнюю пору его жизни, когда все перемещения писателя в пространстве были надежно документированы и вояж из Нового в Старый Свет невозможно было представить даже в виде гипотезы. В рассказе Борисова По отправляется в Петербург как корреспондент американского журнала, в пути читает другим пассажирам парохода «Улялюм» и «Ворона», попадает, как и его герой Пим, в шторм, и прибывает в ночной – непременно ночной – Петербург («В полном мраке вошли в Неву»[517]). Вместе с матросами с парохода По отправляется в какой-то подозрительный трактир, в хозяйке которого он узнает черты своей умершей жены Виргинии, затем бродит по ночному призрачному Петербургу («Вот он, Санкт-Петербург, ночной, непонятный, чудесный»[518]), обозревает Медного Всадника, пьет водку в воровской компании, подвергается ограблению и наконец попадает в полицейскую Казанскую часть. Далее – по изначальному сценарию легенды: на помощь писателю приходит американский торговый представитель, и наутро По отправляется на том же пароходе в обратный путь. Опытный беллетрист, автор биографических повествований об А. Грине, Ж. Верне, Р. Л. Стивенсоне и других знаменитостях, Борисов в данном случае не рискнул насытить псевдобиографический сюжет исторически достоверным материалом, вместо этого он распахнул перед взором Эдгара По мифопоэтический Петербург – погруженный в туманную мглу, в дождевой полумрак, кажущийся, мерцающий отблесками галлюцинирующего сознания героя.
Как известно, одним из произведений, насыщенных реминисценциями из Эдгара По, является «Лолита» (1955) Владимира Набокова – реминисценциями, сознательно выведенными автором на поверхность начиная с первой страницы текста, на которой упоминается имя американского писателя, и с имени Аннабеллы Ли (детской любви Гумберта Гумберта), указующего на стихотворение По «Аннабель Ли», и кончая главной сюжетной коллизией, соотносимой с женитьбой По на совсем юной Виргинии Клемм (об этом в «Лолите»: «Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар»[519]). Дж. Д. Гроссман полагает, что Набоков «сочинил пародию на Эдгара По в образах героев “Лолиты”»;[520] многослойные аллюзии из По в этом романе не раз становились предметом анализа.[521] Нас в данном случае интересует лишь небольшой фрагмент, имеющий, возможно, определенное отношение к рассматриваемому сюжету. Следом за сообщением о женитьбе Эдгара на Вирджинии в «Лолите» говорится: «Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. “Мосье По-по”, как один из учеников Гумберта Гумберта в парижском лицее называл поэта Поэ».[522]
Разумеется, в Соединенных Штатах Америки имеется свой Санкт-Петербург, и не один (К. Проффер отмечает, что писатель здесь заменяет Петербург во Флориде Петербургом штата Виргиния, где на самом деле проходил медовый месяц, во избежание каламбурного соотнесения с именем молодой жены По).[523] Но для Набокова, надо полагать, упоминание названия его родного города в данном случае не могло не скрывать определенного подтекста, и, возможно, не только автобиографического. Не таит ли в себе оповещение о пребывании Эдгара По в американском Санкт-Петербурге ироническую реплику по поводу всего того, о чем шла речь выше? И не сигнализирует ли о том, что контуры прослеженной легенды были различимы автором «Лолиты», избранная им в русском варианте текста романа архаическая транслитерация фамилии писателя – еще бытовавшая в ту пору, когда юный тенишевец Набоков мог прочесть статью З. А. Венгеровой об американском писателе Поэ в энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона?
Юрий Сидоров: На подступах к литературной жизни
В статье «То, чего не читают» (1913) В. Ф. Ходасевич указал на повсеместное читательское равнодушие к стихам: по его мнению, никто их не читает, ни плохих, ни хороших; не читают даже крупных поэтов, а «молодые, начинающие» вообще оказываются в самом безнадежном положении: «Их книги заранее обречены разойтись в том количестве, сколько знакомых у автора».[524] Ходасевич привел список из 25 «молодых, начинающих» авторов, в который вошли имена, ставшие со временем популярными и даже прославленными: А. Ахматова, В. Пяст, М. Шагинян, В. Шершеневич и др., – однако были в этом перечне поэты, известность которых действительно ограничивалась кругом их личных знакомых, с годами расширившимся лишь за счет профессиональных историков литературы и любителей книжных раритетов. Один из этих поэтов, упомянутых Ходасевичем, – Юрий Сидоров, скончавшийся в возрасте 21 года, едва достигнув совершеннолетия (по российским установлениям того времени).
Поэтические опыты Сидорова собраны в небольшом посмертном сборнике «Стихотворения», изданном год спустя после кончины автора тиражом 1000 экземпляров.[525] В редакционной преамбуле сообщалось: «Юрий Ананьевич Сидоров родился в Петербурге 13 ноября 1887 года. Тринадцати лет поступил он в третий класс Борисоглебской гимназии, из восьмого класса которой перевелся в город Калугу, где и закончил успешно свое среднее образование. Осенью 1906 года он был принят в Московский университет, на философское отделение историко-филологического факультета. 21-го января 1909 года Юрий Сидоров умер».[526] Стихотворным текстам Сидорова в сборнике предшествовали три небольшие вступительные статьи – Андрея Белого, Бориса Садовского и Сергея Соловьева, объединенные общим горестным чувством утраты даровитого юноши, не успевшего даже в малой мере воплотить свои творческие задатки. Андрей Белый восклицал: «… о, я знаю – он был бы большим поэтом: его юношеские опыты свидетельствуют о таланте; талант, вспыхнув, быстро и ярко в нем разгорался на наших глазах».[527]
При жизни Сидорова были напечатаны лишь два его стихотворения – в альманахе «Хризопрас» (в посмертный сборник они не были включены). В январе 1909 г. – видимо, в дни предсмертной болезни или сразу после кончины – увидел свет его первый критический опыт в высокопрестижной «Русской Мысли»: рецензия на книгу Георгия Чулкова «Покрывало Изиды» (К. Г. Локс в мемуарной книге передает с чужих слов реакцию Валерия Брюсова по прочтении этой рецензии: «Вот человек, который нам нужен»[528]). Журнал «Весы» в апрельском номере за 1909 г. представил покойного поэта своей аудитории подборкой из четырех стихотворений. За ней последовал упомянутый посмертный сборник, не оставшийся по выходе в свет незамеченным. В одном из откликов говорилось, что стихи Сидорова «производят хорошее впечатление»: «В них много хорошего литературного вкуса, изящества и музыкальности, и, чтó особенно ценно, они оригинальны и не шаблонны. Но в них чувствуется иногда явная подражательность современным поэтам-модернистам (например, А. Блоку и В. Брюсову). Очевидно, что в лице Ю. Сидорова наша современная литература, столь бедная настоящими поэтами, потеряла крупное и серьезное дарование. Автор лежащей пред нами книжки дал литературе очень мало: он отцвел, не успев расцвести, но то, чтó он успел дать, полно яркой и свежей талантливости. Его стихотворения запоминаются и охотно перечитываются».[529] Более сдержанным и осторожным в своих оценках был В. М. Волькенштейн: «Трудно судить, в каком направлении развивалось бы дарование молодого поэта. Большинство стихов, оставленных им, – красочные наброски, сделанные довольно свободно, но недостаточно прочувствованные, как-то недостаточно интимные для того, чтобы посторонний читатель мог судить о нем ‹…› все эти яркие эскизы еще лишены той силы художественного содержания, которая необходима для того, чтобы стихотворение волновало и запоминалось».[530] Наконец, Е. Л. Янтарев (Бернштейн) вообще отказывал поэтическим опусам Сидорова в каком-либо литературном значении и полагал, что друзья покойного без всяких оснований возвеличивают его имя: «Ю. Сидоров был самым обыкновенным юношей, очень начитанным, очень не глупым, с громадной любовью к искусству, литературе. Таких восторженно любящих литературу, начитанных и пишущих стихи юношей тысячи, и из их числа Сидоров ничем не выделялся. Совершенно неизвестно, конечно, что вышло бы из Сидорова впоследствии, и труднее всего судить об этом по его слабым, наивным и несовершенным стихам ‹…› стихи Сидорова из тех, какие пишут все начинающие поэты его лет и развития. Есть несколько удачных строк, есть два-три новых образа, но в общем все тускло, наивно, подчас по-детски напыщенно, подчас просто смешно. Есть влияния почти всех современных поэтов. И решительно нет ничего своего, подлинного, такого, что давало бы хотя отдаленное основание утверждать о будущем значении Сидорова».[531]
Валерий Брюсов, напротив, в своих оценках не проявил обычной для него критической суровости и нелицеприятности и даже согласился с доводами тех, кто высоко отзывался о покойных поэтах (сборник Сидорова он рецензировал параллельно со «Стихотворениями» В. Полякова, еще одного безвременно ушедшего автора): «Почти всегда в начинающем писателе гораздо больше сил потенциальных, которые чувствуются при непосредственном с ним общении, нежели возможностей осуществить свои замыслы. ‹…› Вот почему приходится доверять показаниям друзей двух умерших поэтов и стараться найти в оставленных ими “опытах” крупицы тех богатств, какие с ними погибли».[532] Содержание книги убедило Брюсова в том, что «потенциальные силы» у ее автора имелись и готовы были с большей выразительностью проявиться: «В стихах Сидорова много подражаний, но самые эти подражания свидетельствуют об исканиях, о желании учиться своему делу. И то там, то здесь среди строф и стихов, сделанных по чужому образцу, мелькают приемы самостоятельные, видны попытки создать свой язык. Отдельные стихи решительно хороши ‹…›».[533] «Потенциальные силы», таящиеся за стихами, «еще такими незрелыми, такими подражательными», почувствовал у Сидорова и Н. Гумилев: «… попадаются у него свои темы ‹…› уже намечаются основные колонны задуманного поэтического здания: Англия Вальтер Скотта, мистицизм Египта и скрытое горение Византии».[534]
Все рецензенты посмертного сборника Юрия Сидорова констатировали, в той или иной мере и с различными оценками, преобладание в нем подражательных, ученических опытов, выявлявших сугубую зависимость их автора главным образом от его старших современников – символистов. «Переимчивый» характер своего стихотворчества, видимо, вполне ясно осознавал и сам Сидоров. Три стихотворения в сборнике посвящены Андрею Белому и представляют собой вариации характерных для этого поэта лирических тем; в них слышны отзвуки и из первой книги стихов Белого «Золото в лазури»:
Я в воздушном, возлюбленном храме, Я – услышавший тайную весть: «С нами свет просветляющий, с нами, Смертной ночи не будет и несть» («Всенощная»), –и из позднейших его стихов, объединенных в книгу «Пепел», увидевшую свет незадолго до смерти Сидорова:
Только вихри, мятели и вьюги По пустынным, по снежным полям. В неизбежном, в безвыходном круге И несутся, и вьются… А там, – Там народ мой изверился в Бога, А единый оставшийся путь: Занесенная снегом дорога, Безнадежная смерть как-нибудь. Злое сталось с отчизной моею, Не видать ни земли, ни небес, Вьюга, вьюга несется над нею И смеется, и плачет, как бес. («Мчатся бесы»).[535]Историко-мифологические мотивы и «экзотическая» образность, отличительные для поэтических миров Бальмонта и Брюсова, в стихах Сидорова также развиваются на свой лад: начинающий поэт, правда, не парит над всеми веками и народами, а избирает для себя одну, но мало освоенную русской поэзией сферу – Древний Египет. (Отсвет этих тяготений знакомые Сидорова замечали даже в его внешнем облике: «Окаменелое, желтое, безволосое, похожее на маску лицо египетского аскета оживлялось детской улыбкой»;[536] «Бритая голова и прекрасные темные глаза, какая-то глубокая не то что старость, а древность делали его действительно похожим на бюст современника Рамзеса или Аменхотепа. Он знал об этом и писал “египетские стихи”».[537]) Впрочем, и египетские мотивы в его творчестве обнаруживают ближайшие отголоски опять же в русской поэзии: «Псалом офитов», например, непосредственно соотносится с «Песней офитов» (1876) Вл. Соловьева. Специфически декадентские «диаболические» дерзновения также оставили свой след в стихах Сидорова; в посмертный сборник составители не рискнули включить его стихотворение «Каинит» (январь 1907 г.), которое привел Борис Садовской в своей книге «Ледоход» (имя Христа заменено в этой публикации точками):
Осанна вам, Содом-Гоморра, Хвала, – ваш блуд святой велик; Тебе, под тенью сикомора … предавший ученик; Кто воссылал богохуленья, Как гимн, во имя крыльев зла, Всем, кто дерзнул на преступленье, Да будет вечная хвала.[538]Урбанистические зарисовки Сидорова очевидным образом навеяны аналогичными опытами Брюсова. Первое стихотворение начинающего автора, появившееся в печати и еще очень далекое от художественного совершенства, но отразившее живые и подлинные эмоции, рожденные революционными днями 1905 г., представляется, с одной стороны, всецело зависимым от брюсовских «Грядущих гуннов» и, с другой – бросающим отсветы в будущее, предвосхищающим одические инвективы и образную ткань блоковских «Скифов»:
Новые варвары
Наде Ц.
Нам часто твердят, что новые варвары, мы; Хотим разорвать золотые листы Пергаментов древних; храм знанья, Культуры старинной, хотим мы зажечь, – Поэтому смертью ликует наш меч, Подняли мы наши огни. Пусть так, – я не стану скрывать, Мы клятву даем до конца разрушать; Но разве не ярче те песни, что меч наш поет, Чем старых писаний чернильный налет? И в факелах наших не солнце ль горит? Глаза ваши тусклые ядом слепит. Но мрамором строен ваш храм из колонн – Коробится там и гниет почерневший картон. Поверьте – не меньше, а больше, чем вы, Мы любим святого познанья цветы. Мы знаем – светильник из пламенных роз Откроет нам Бога, – явится Эрос. Припомните, мудрые, – варвары Бога нашли, Христос – этот варвар, крушитель устоев, преград, И мир содрогнулся, как бурей объят. И муки терпели от вас, но радостно шли. Затем им смиренно хвалу возносили Вы, черви могильные, им же потом говорили: «Рим должно разрушить, чтоб счастье найти, – Не правда ли, братья, ведь нужно идти?» Вы – мерзкие гады, – слепцы. О, вот почему, не боясь, я кричу: «Я – варвар, но миру я Бога найду».[539]Отчетливо обозначаются в стихотворениях Сидорова «неоклассические» тенденции, характерные и для одновременно рождавшихся поэтических опытов его друзей – Бориса Садовского и Сергея Соловьева, и для авторов, с которыми он не был лично связан (например, для петербуржца Юрия Верховского). Сидоров ориентируется одновременно на «золотой век» русской поэзии, пушкинскую традицию, и на культуру XVIII века, стилизуя ее отличительные жанровые особенности; объект его лирических излияний выступает под условным – вполне в духе стилизуемой эпохи – именем Алины:
Какая странная отрада В исходе лета, ясным днем Среди зеленых кленов сада Сидеть с Алиною вдвоем! («Минута»); И поцелуи снова сладки И так волнующе легки, Когда разыщется в перчатке Просвет белеющей руки. Глядеть на нити паутины, На золотые кружева, Приготовляя для Алины Признаний робкие слова!.. («Привет, осеннее веселье!..).[540]Реабилитация «вещного» мира, развоплощенного в «декадентско» – символистской мелодике и риторике, сказывающаяся в этих лирических экзерсисах («перчатка», увиденная на руке сидоровской Алины, скоро, благодаря Ахматовой, окажется одной из опознавательных примет новой поэтической образности), сближает юношу-стихотворца с теми его сверстниками, которые громко заявят о себе несколько лет спустя после его кончины. Показательно, что будущий теоретик акмеизма в своей рецензии на сборник Сидорова отметил с похвалой стихотворение «Олеография»,[541] свидетельствовавшее о еще одном определившемся увлечении автора – английской живописью XVIII века и прежде всего творчеством Томаса Гейнсборо:
Верхом вдоль мельничной плотины, Спустив поводья, едет лорд: Фрак красный, белые лосины И краги черные ботфорт. А рядом в синей амазонке Милэди следует, склонив Свой стан затянутый и тонкий. Кругом ряды зеленых ив.[542]Всего в посмертном сборнике Сидорова помещено немногим более пятидесяти стихотворений, сочинялись они, по всей вероятности, в последние два-три года его жизни – в пору, когда он, став студентом, обосновался в Москве и завел знакомства в кругу своих однокашников и одновременно начинающих литераторов. В стихах Сидорова налицо скрещение самых многообразных влияний и личных вкусовых пристрастий – но и в мироощущении его также поначалу отсутствует какая-либо определенность. Борис Садовской, познакомившийся с ним в октябре 1906 г., сообщает в очерке «Памяти Ю. А. Сидорова (Из личных воспоминаний)»: «До чего был еще молод и неустойчив тогда Юрий, явствует, между прочим, из того, что на неизбежный в известную пору жизни вопрос “како веруеши?” он объявил себя “мистическим анархистом”, – причем товарищ тут же упрекнул его за быстрое отступничество от социал-демократической доктрины. Впоследствии Юрий очень сердился, когда я в шутку называл его “мистическим анархистом”».[543] Увлечение «мистическим анархизмом» Георгия Чулкова миновало быстро, причем Сидоров счел необходимым наглядно продемонстрировать свое кардинально изменившееся отношение к этому идейному поветрию; в первом (и единственном) печатном критическом выступлении он подверг пристрастному анализу сборник статей Чулкова «Покрывало Изиды». Указав на преизбыток в книге прославленных имен, к которым постоянно апеллирует автор в своих построениях, Сидоров заключает: «… и имен множество, и мысли, так сказать, необычайны, а сам г. Г. Чулков представляется нам все неопределенней. Как бы именами этими не подчеркнул он себя, а зачеркнул и сделался безыменным. ‹…› Понятия и имена большого смысла и содержания, но нет ни малейшего права ни сочетать их так, ни так ими пользоваться ‹…›». Приведя многочисленные примеры терминологической путаницы и невнятицы в теоретических выкладках Чулкова, критик выносит свой вердикт: «Ни к чему не обязывают эти слова. Услышал он их, пустил как сплетню, и пошли они гулять по белу свету, создавая г. Чулкову славу и философа, и критика, и мистика. Если бы осознал г. Г. Чулков свой безудержный дилетантизм, если бы чему-либо определенному поучился, во что-либо определенное поверил, – не имели бы мы прежних книг Г. Чулкова, не имели бы и этой».[544]
В изобличении идейных построений Чулкова Сидоров всецело разделял ту критическую установку по отношению к «мистическому анархизму» и связанным с ним явлениям в литературе, которую последовательно проводили «Весы», главный печатный орган московских символистов. В «Весах» сотрудничали Садовской и Сергей Соловьев, первые его друзья из литературного мира, эпизодически выступал там и еще один товарищ по историко-филологическому факультету, филолог-классик Владимир Нилендер; через Соловьева Сидоров познакомился с ведущим «весовцем» Андреем Белым.[545] В то же время Сидоров отнюдь не солидаризировался с основной идейно-полемической тенденцией «Весов», направленной не только против «мистического анархизма», но и на защиту символистских эстетических канонов от каких-либо посягательств и переоценок (26 июня 1908 г. он писал Садовскому: «Академизм и классицизм, огражденность “Весов” не способствует нимало их всамделишному достоинству: что-то уж очень смахивают сии самые, кажется, привлекательные лозунги на объявление об импотенции или, хуже того, свидетельствуют о гниении трупа человека, умершего с голоду»[546]). В отношении к современной литературной ситуации у начинающего автора уже складывался вполне самостоятельный критический подход; первоначальный хаос разнонаправленных увлечений от месяца к месяцу (годами духовную эволюцию Сидорова измерять не приходится!) преодолевался, претворялся в более или менее устойчивую и осмысленную систему жизненных, идейных и эстетических приоритетов.
«Призраки Египта и Византии, неизменно владея его мыслями, уже не насыщали, как прежде, его испытующего ума: смутная потребность какого-то последнего синтеза неясно предчувствовалась его душой», – вспоминает об исканиях Сидорова, относимых к 1907 г., Б. Садовской.[547] Сергей Соловьев, ближе узнавший Сидорова год спустя, указывает на вполне к тому времени определившуюся доминанту его внутреннего мира, на обретенный «последний синтез»: «Тогда сложилось уже его миросозерцание, проникнутое духом византийского аскетизма. Раньше Сидоров прошел через увлечения современности, он был поклонником Бодлэра, его влекло к себе учение египетских офитов. Из этой школы он вынес верное понимание греха, евангельское отрицание мира. Любимыми писателями его были Гоголь и Константин Леонтьев. ‹…› Однажды я, исходя из фальшивой точки зрения на Франциска Ассизского, противопоставлял его якобы природное христианство византийскому аскетизму. Сидоров ‹…› оживленно воскликнул: “Что написал Франциск? Гимн солнцу! А Златоуст написал литургию!” Я признал себя побежденным».[548] При этом православная церковность сочеталась у Сидорова с тяготением к далекому от ортодоксальности «неохристианству» Мережковского: «На личности г. Мережковского были сосредоточены все надежды Юрия до самых последних месяцев его жизни. Надеждам этим суждено было окончиться глубоким разочарованием».[549] А уже совсем не ортодоксальный, но горячо любимый Сидоровым Шарль Бодлер сопрягался в его сознании с миром совсем иных ценностей: по свидетельству К. Локса, «как хорошо было бы перевести Бодлера на церковнославянский язык! – говорил Ю<рий> А<наньевич>, – как бы он зазвучал!»[550]
Ближе других знавший Сидорова Борис Садовской писал: «… видя Юрия то аскетом-подвижником, то гулякой праздным, то царепоклонником, то анархистом, – я неизменно выносил одно и то же впечатление: полной искренности каждого из этих движений, сразу и всецело овладевавших чуткой его душой».[551] Садовской способствовал первой публикации стихотворений Сидорова в сборнике «Хризопрас».[552] 21 февраля 1907 г. датировано шуточное «Послание Борису Садовскому при дарении ему фарфоровой безделушки» Сидорова:
Благословят тебя все боги Египта и сам Озирис.[553] Прими подарок мой убогий, Прими, поэт «Весов» – Борис. Пусть небеса совьются в свиток, Пусть все погибнет дважды, bis. Но сетью прочных крепких ниток Да свяжет дар мой нас, Борис. Хоть красный нос, как гусь, имеет, Но не беда… Пренебреги. То кровь рубином в клюве рдеет Моей к тебе, моей любви. Фарфоровый сей белый лебедь, – Напоминанье пред тобой, Когда в предсмертной будешь мгле петь, О милый друг, как лебедь пой.[554]По письмам Сидорова к Садовскому (отдельные фрагменты из которых последний опубликовал в своей книге «Ледоход») можно убедиться в том, что их автор поверял старшему другу свои самые сокровенные мысли и признания, свои сомнения в самом себе: «… тебе посвящаю лучшую часть своих дум, стремлений и желаний. Пусть они будут неразрывно связаны с твоим именем, любимый мой. Прими этот бедный все-таки, я не скрываю, дар мой и храни его так же, как я храню в своей памяти и сердце твой образ» (Москва, 31 марта 1908 г.).[555] Сидоров делится с Садовским впечатлениями от прочитанного, размышлениями о текущей литературной жизни и умственных исканиях, а также глубоко волнующими его личными проблемами: «Мое собственное творчество увядает с каждой минутой. Пишу в месяц по одному плохому стихотворению. Вероятно, эти неудачи и заставили меня усесться поплотней за философию. Я ведь прочно помню гёльдерлиновское изречение, что философия есть госпиталь для неудавшихся поэтов» (Москва, 21 марта 1908 г.); «Дорогой мой, ведь кровью пишу я. Этим жил, в этом искал, этому молился. И вовсе я не умнее и не проницательнее остальных. Но что же мне делать, когда ясно вижу я во всем только по-прежнему одну восторгающуюся чернь. Мне неприятно было, когла ты звал меня мистиком. Какой я мистик, – я студент И<мператорского> М<осковского> У<ниверситета>, фил<ологического> фак<ультета> фил<ософского> отделения, с неважными способностями и наивно без всяких глубин верующий по символу православной церкви. Только невыносимо больно, до тяжелых мужских, бессильных и злобных слез, когда убеждаюсь я в том, что самое святое и чистое, бисер души твоей разметан перед свиньями. ‹…› Да не претендую я на свое особое благородство и аристократизм, но знаю, что всегда все-таки различу parvenu в обществе и комильфотное и не ком<ильфотное> благодаря полученному воспитанию. ‹…› В последние дни в Москве я еще живей сознал свое невыносимое одиночество и беспомощность, когда встретился с здоровым и сильным Соловьевым. Ему просто как-то непонятно было, очевидно, что со мной, и невольно, конечно, подобно Белому, заставила меня эта встреча уйти в себя и замолчать» (Калуга, 26 июня 1908 г.). 4 августа 1908 г. из Калуги, по возвращении из Оптиной пустыни («Хорошо там, и многому научился я, и многое узрел»): «Плохо, друг. Начну разбираться в воспоминаниях, произведу смотр самому себе, кто, мол, виноват, что такой малосильный и слабенький, и больной парнишка из меня вышел, и прямо руки опускаются. Ну, конечно, женщины причиной. Уж очень любил и люблю я их, этих нежных дьяволов ‹…› думается, все же я недаром пушкинским воздухом подышал, жизненным, а не поэтическим воздухом. Немножко душа-то и воспиталась для сжигающей безнадежной страсти, т. е. подсохла попросту и сгорает вернее и скорее от ее тихого и неугасимого огня».[556]
Чувство отчужденности от окружающего мира и во многом также от современной литературной действительности, сказывающееся в письмах Сидорова к Садовскому, роднило обоих корреспондентов. Правомерно предположить, что именно Садовской, ко времени знакомства с Сидоровым уже вполне определившийся в своих консервативно-монархических идеалах и неприятии либеральных и радикальных взглядов, преобладавших в среде творческой интеллигенции, способствовал оформлению разнонаправленных и хаотических умонастроений своего молодого друга в более или менее определенную систему мировоззрения. К. Локс пишет о Сидорове: «… он был славянофил. Любил К. Леонтьева, считал себя православным, и как мы узнали после его смерти, готовился надеть священническую рясу. Все это у него сплеталось с обаянием настоящей культуры, которую нужно носить в крови и нельзя купить ни за какие деньги».[557] Укореняясь в своих идейных установках, Сидоров проявлял все большую нетерпимость к тому, что после потрясений 1905 г. открывала разворачивавшаяся у него на глазах панорама литературы и общественной мысли. В письме к Садовскому от 26 июня 1908 г. он огульно нарекает все новейшие идейно-эстетические веяния, вызывающие в России брожение умов, «протухшей пошлятиной»: «Ах, естественно, мне могут указать на Запад – смотрите, ведь и там не лучше и там то же самое происходит, однако там не волнуются и спокойно созерцают, что происходит. Но, во-первых, я еще не встречал человека, знающего, что такое совр<еменная> иностр<анная> литература (не Ведекинд же и Гурмон с Гилем) ‹…›, а во-вторых, нам, наследникам Пушкина и Гоголя, не след утешаться примером Запада. ‹…› После хамских прокламаций стали читать Арцебашевых <так!> и Сологубов ‹…›. После нелепой политической смуты – нелепая интеллектуальная. И раз находятся мистические религиозные и социологические защитники первой чепухи, найдутся апологеты второй. Эх, прискорбно, что нет Столыпина, Трепова, одним словом, “усмирителя от литературы”».[558]
Безотрадные впечатления от литературной современности Сидоров компенсировал обращенностью в прошлое – к русским классикам и полузабытым писателям ушедшей эпохи, к старым журналам консервативной направленности. «В здешней библиотеке, – писал он Садовскому из Калуги 12 апреля 1908 г., – я набрел на “Русское Обозрение” за семь лет с 90<-го> по 97<-й> ‹…› Ах, дорогой друг мой, сколь много там полезного, поучительного, важного и дельного. Раскрывая любой том, нахожу я дорогие имена Леонтьева, Победоносцева и Каткова с одной стороны, с другой Фета, Пушкина, К. Павловой и других. ‹…› Прибавь к этому Гёте, читаю я его в тихие вечерние часы, и Декарта, над которым бесплодно сижу второй месяц, и ты поймешь, что не только отбросы современной литературы: Арцыбашевы и tutti quanti, но (что греха таить) и корифеи ее, вроде Брюсова, В. Иванова, – покрылись для меня дымкою забвения, ушли в туман полузабытого прошлого. Там ярче и живей вижу я облики упомянутых гениев и талантов. Приготовил я тебе небольшой подарок ‹…›. А именно, у букиниста посчастливилось мне приобрести “Сочинения” А. Погорельского в 2-х томах, Смирдинское издание 53 г. ‹…› люблю его за робкие, но верные и простые краски, за прекрасный и бесхитростный язык, за яркую и странную фантастичность, в которой он следовал великому учителю своему Гофману (предмету моей большой и искренней любви) ‹…›».[559] Вместе с Сергеем Соловьевым Сидоров открывает еще одного любимого писателя, всецело принадлежащего канувшей в прошлое литературной эпохе, – Вальтера Скотта: «С лихорадочной поспешностью в последние дни жизни читает он романы Вальтера Скотта, чуть ли не по роману в день, очевидно ища в разумности и объективной красоте Вальтера Скотта оружие против обставшего его извне и изнутри хаоса».[560] Общий пассеизм мировидения отображался у Сидорова в гармонировавших с ним эстетических образцах.
Консервативные и ортодоксально-церковные тенденции, возобладавшие в сознании Сидорова в последние месяцы жизни, не успели найти достаточно внятного и последовательного отражения в его творчестве. Трудно по стихам Сидорова также составить хотя бы самое общее представление о той или о тех, кто вдохновлял его на лирические признания, адресованные условно-поэтической Алине. Некоторые его стихотворения посвящены Ольге Павловне Михайловой – с нею же, согласно сообщению в письме к Садовскому от 31 марта 1908 г., он переписывался в это время; в последнем письме к Садовскому от 2 января 1909 г. фигурирует некая Надежда Николаевна, жительница Москвы (она же – Надя в дневниковых записях Сидорова). Никакими сведениями об этих женщинах и о том, какую роль они сыграли в жизни Сидорова, мы не располагаем; ничего определенного, впрочем, нельзя сказать и о калужской жительнице Марии Феоктистовне Власовой, адресате нескольких писем Сидорова, относящихся ко второй половине 1908 г.[561] Письма эти, однако, весьма выразительно характеризуют личность, круг интересов и эпистолярную стилистику их автора, поэтому представляется не лишним привести два наиболее содержательных из них. Первое написано по возвращении в Москву из Калуги, где Сидоров проводил лето в родительском доме и, по всей вероятности, регулярно общался с М. Ф. Власовой:
Дорогая Мария!
Сейчас уже второй час ночи, я устал за весь свой долгий и утомительный городской день, но все же хочется побеседовать хоть и немного с Вами. За три месяца спокойной и уединенной относительно жизни в Калуге я успел отвыкнуть и позабыть Москву, и вот словно ураганом завертела меня, ошеломила меня и напугала она своими интересами, трамваями, людьми и шумами. Только теперь несколько начинаю разбираться в том пестром хаосе встреч, впечатлений и новостей, которыми приветствовал меня город. Пока так распределилось время. Утром в Университете два или три часа толкаюсь и занимаюсь всяческими казенно-учебными делами, потом с кем-либо из знакомых или один пускаюсь в странствование, коего пути и цели не поддаются определенным наименованиям. Тут и Café Grèce должно упомянуть, и музеи, из них меня особо порадовала Третьяковская галерея с драгоценными новинками, «Демон» Врубелевский из них в первую голову; синематографы, церкви и букинисты. У последних, а именно у своего знакомого, почтеннейшего Аф. Аф. Астапова, старика, лично близко известного В. Соловьеву, Л. Толстому, Достоевскому,[562] мне посчастливилось найти не имевшуюся у меня ранее брошюру К. Н. Леонтьева, как Вы знаете, моего ближнего любимца и учителя, книжку стихов несправедливо забытой поэтессы К. Павловой и прелестную гравюру с одной картины Генсборо. Вечерами или… впрочем, ей Богу, вечерами не могу вспомнить как я распоряжаюсь. Один совершенно не походит на другой. Два раза был в театре, и т<ак> к<ак> теперь здесь всякие Метерлинки, Д’Аннунцио и проч., то мне, спасаясь от них, пришлось побывать в балете и в оперетке. От балета я в упоении (видел «Коппелию»), и пушкинские стихи так и напрашиваются на язык.
Одной ногой касаясь пола, Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст Эола …… … амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят («Евг<ений> Он<егин>»).[563]Но не подумайте, следя за столь эпически хладнокровным повествованием, что я чувствую себя прекрасно. Я не могу и не хочу доверить письму неприятностей, обид и мучительных минут, пережитых мною в этот небольшой срок пребывания в новой обстановке. Лишь при нашей встрече, подобной бывшим при той близости, которая установилась между нами за последнее время, мог бы рассказать Вам, мой дорогой друг, кое-что из этой области больных и злых душевных состояний.
Пора бай, бай. Напишите мне, близкая, о себе, о думах своих, о своем самочувствии, о всем, о чем пожелается. Простите.
Ваш всем сердцем Юрий.
1908 г. 3-го сентября 1908 г. Москва.
P. S. Мой точный адрес: Смоленский бульв<ар>, д. Мишке, кв. № 7. Шапошниковых.
Второе письмо Сидоров отправил две с небольшим недели спустя:
Дорогая Мария!
Нет, не так хочется начать мне письмо мое, ибо пишу я его к нежной, больной и близкой девушке. Милая, милая сестра моя, если бы не тяжелое утомление, если бы не необходимость в покое и бездействии, тотчас же ответил бы Вам и теперь вот многое рассказал бы. Но усталость не позволяет исполнить всего этого. Вы поймете и не прогневаетесь. Правда, очень утомлен я, а все же незримое и тихое счастье полнит душу и волнует и радует вместе. Некто, казавшийся мне чужим и далеким в долгих и страшных значением своим беседах последних двух дней, вдруг стал около меня, и я чувствую, что найду в нем руку помощи, как и он во мне. Тут не расскажешь, правильнее – не доверишь этого равнодушной бумаге, поэтому остается мне лишь попросить Вас так, непосредственно понять это и порадоваться вместе со мной. Все же хоть несколько слов скажу о себе и своей жизни. Утром я всегда отчасти намечаю, что буду делать днем, но один день не походит на другой, и поэтому совершенно невозможно схематизировать для повествования свое время. Люди, впечатления меняются с каждым новым восходом солнца, и мне приходится посему начать с книг. В трамваях, в каждую свободную минуту я вытаскиваю из кармана книжку афоризмов Ларошфуко и прочитываю несколько отрывков. Автор – скептический и злой француз с сухим и резким слогом; лишь иногда зато среди его отрывистых и злобных мыслей выглянет то, что всего ценнее в XVIII в., – остроумная, тонкая и пленительная улыбка. А вечером перелистываю «Фауста», 2-ую часть преимущественно, и мощная, строгая и свежая ласка Гётевского стиха как-то укрепляет и ободряет меня. Вот уже свыше недели как взял Байрона, но боюсь приступать к нему. Боюсь того, что он отнимет у меня последние силы. О всяких случайных и маловажных книжках я умалчиваю, хотя, конечно, пришлось и их пробежать малую толику.
О людях, окружающих меня, не буду говорить. Видите ли, конечно, права пословица: «Скажи, кто твои знакомые», и т. д., но мне мнится, что Вы и так знаете меня. А говорить о людях тяжело, трудно и ответственно.
Мне так дорого и знакомо чувство, охватывавшее Вас при чтении Мережковского. Непонятно лишь, откуда и почему потом появился ужас в душе Вашей. Хочется напомнить о совершенной любви, изгоняющей страх. А я грешный и слабый все же молюсь о Вас, милая сестра моя, Господу «светом Твоего познания просвети и святей… Церкви причти´».
Кончаю. Всем сердцем своим и душою сейчас около Вас я, родная моя.
Ваш Юрий.
Москва 1908 г. 20 сент<ября>.
«Я очень, очень рада вашей дружбе с моим Юрой, – писала мать Сидорова М. Ф. Власовой 26 октября 1908 г., – и конечно, за ваше такое хорошее чувство к моему юноше – единственному сокровищу моей жизни – вы стали мне еще милей… ‹…› Спасибо вам за него, спасибо, что любите его; он и сам вас любит».[564] Последующие письма М. Сидоровой к Власовой – единственные, видимо, непосредственные сохранившиеся документальные свидетельства о болезни и смерти ее сына.
17 декабря 1908 г. Сидоров (как явствует из его письма к М. Власовой, датированного этим днем)[565] приехал к матери в Калугу, намереваясь прожить там до конца января или начала февраля. В Калуге он приступил к работе над прозой (сохранился черновой набросок под заглавием «Повествование Сфинкса»[566] – новая вариация на волнующую его «египетскую» тему), к чтению сборника статей памяти Вл. Соловьева (Вопросы Философии и Психологии. 1901. № 56) и книги В. Л. Величко «Вл. Соловьев. Жизнь и творения» (СПб., 1902).[567] 11 января М. Сидорова написала М. Власовой «по просьбе Юры»: «… он лежит в сильнейшем жару, с 40,1 градус<ной> t’рой. Вчера пришел от всенощной и жаловался, что болит горло, ночью уже весь горел, сегодня целый день не может встать с постели, все время очень высокая t’ra ‹…›». В письме от 14 января – врачебный диагноз: «…“ложный дифтерит” или “гнилостная жаба”. Страдает очень. Улучшения пока нет»; 15 января: «… почти все время в забытье, на голове – лед, сильно болит и голова и горло»; 16 января: «… бред, галлюцинации, почти все время полузабытье». Следующая записка – недатированная; безусловно, от 21 января 1909 г.: «Он умер, моя девочка. Завтра в 9 утра отпевание в Маленьком Соборчике. Сегодня в 4 часа дня вынос из дома туда же в закрытом гробу. Иначе нельзя. К нам – нельзя. Сидорова».[568] Другие заболевшие дифтеритом, унесшим жизнь Юрия Сидорова, поправились; как сообщила позже его мать А. К. Виноградову, в квартире их сделана самая тщательная дезинфекция: «… сожжено все, что было на мне, на Юре, его постель, и проч.».[569]
Неожиданная смерть юноши-поэта потрясла его знакомых и друзей. Андрей Белый посвятил его памяти ранее написанное стихотворение «Жизнь»,[570] Сергей Соловьев откликнулся сонетом «Памяти Юрия Сидорова», в котором Карл Эдуард Стюарт и Фёргюс Мак-Ивор, персонажи вальтерскоттовского «Уэверли», соседствуют с Алиной из стихов Сидорова и особо им чтимым Иоанном Златоустом:
Я вижу гор Шотландских властелина, Я слышу лай веселых песьих свор. Под месяцем теней полна долина, Летит Стюарт и грозный Мак-Айвор. В тумане вереск. Мрачен разговор Столетних елей. Плачет мандолина, И шепчет ветр над урною: Алина!.. О, темных парк жестокий приговор! Но се алтарь. Клубится ладан густо. Какая радость в слове Златоуста! Выходит иерей из царских врат, И розами увит его трикирий. Я узнаю тебя, мой брат по лире! Христос воскрес! Мы победили, брат.[571]Стихотворения Белого и Соловьева первоначально предполагались к напечатанию в посмертном сборнике стихотворений Сидорова (их автографы – на первых листах наборного экземпляра книги[572]), но там были помещены только их поминальные предисловия. Автор третьего предисловия, Борис Садовской, также откликнулся на кончину стихотворением (23 января 1909 г.), которое мать Сидорова полностью процитировала в письме к М. Ф. Власовой от 6–7 марта 1909 г.:
Памяти Юрия
Мне телеграф принес листок свой неизбежный. Читаю: умер ты и погребен, поэт! Ты отлетел от нас туда, в тот мир безбрежный, Где ни земной тоски, ни воздыханий нет. Ты отлетел к теням, тобой боготворимым. К учительским стопам блаженный ученик Припав, беседуешь с наставником любимым, Склоняешь перед ним благоговейный лик. Небесным иноком под ризою лазурной Кадишь нам дымкою вечерних облаков. К друзьям, склонившимся над дружескою урной Доносит ветер твой родной и тихий зов.[573]Не приходится гадать, насколько ярко и полно могли бы развернуться в будущем его личностные и творческие предначертания. «Трогательна любовь друзей к безвременно умершему поэту, – заключал Е. Янтарев, – но она не может сделать из Сидорова гения, о котором мог бы грустить мир».[574] Андрей Белый, выражавший уверенность в том, что Сидорову суждено было бы стать большим поэтом, все же в своем очерке о нем делал акцент на том, что покойный был «замечательный человек», и всячески подчеркивал приоритетность этого исключительного достоинства по отношению к писательскому дарованию. К. Локс более всего ценил в Сидорове дар общения, любовь к дружеской беседе и его особенный талант – умение быть праздным: «… мы поддавались этому обаянию, слушали его прелестные стихи, и ждали от нашего друга многого, хотя не было человека более праздного, чем он. Но в этой праздности было какое-то очарование ‹…›. Если сказать, что он писал стихи и очаровывал блеском своего ума, то этого будет еще слишком мало для обозначения сути такого безделия. В кармане студенческой тужурки Ю. А. носил томик дешевого суворинского издания Пушкина. Пожалуй, в чтении Пушкина и заключалось его безделие. Оно было именно таким, какое нужно поэту. Вместе с тем я со времени его смерти не встречал собеседника более очаровательного. Дело было даже не в уме, а в способе рассматривать вещи и увлекаться всевозможными и часто противоположными мыслями».[575]
Подмеченная мемуаристом способность Сидорова увлекаться «противоположными мыслями» способствовала тому, что в личности покойного поэта на первый план выступали то одни, то другие интересы и склонности, наиболее близкие в соответствующий момент тому, кто размышлял о нем. Из двух кратких очерков Сергея Соловьева, посвященных Сидорову, создается впечатление, что их автор каждый раз ищет в нем подобия самому себе: в первом очерке, помещенном в посмертном сборнике, Соловьев – еще поклонник античности, приверженец «аполлинического» искусства – видит в Сидорове прежде всего поэта-пушкинианца, певца Алины, развертывающего перед читателем «вытканный золотом и цветами ковер объективно-прекрасного»;[576] во втором очерке («Памяти Ю. А. Сидорова») уже обретший опору в лоне церкви Соловьев акцентирует совсем другие черты: «Я простился с Ю. А. за месяц до его смерти. Он говорил мне, что решил принять священство, что иначе он более не выдержит жизни. Он казался глубоко утомленным, хотя бодрым и полным надежд»; «Эта безвременная смерть юноши накануне посвящения в духовный сан произвела впечатление рокового удара и грозного предостережения».[577]
Три как минимум пути открывались Юрию Сидорову для полного воплощения своей индивидуальности – поэта, священнослужителя, «замечательного человека»; три этих пути могли размежеваться, могли и слиться в один. Что же касается «грозного предостережения», о котором упомянул в связи с безвременной кончиной Сидорова Сергей Соловьев, то его дано было почувствовать и покойному всего за несколько дней до того, как он был сражен дифтеритом. В начале января 1909 г. он был потрясен известиями о катастрофическом землетрясении в Италии, уничтожившем город Мессину и огромное количество жителей (около 100 тысяч человек). Сохранился черновик письма Сидорова к С. Соловьеву, содержащего отклик на это событие: «Несколько дней я не выпускаю газет из рук и в великом удивлении и страхе обретаюсь. Причина сему землетрясение в Сицилии и в Кал<абрии>. Мнится, предвестием и знамением является оно человечеству.
Никто меня не любит, Лишь мать сыра-земля.И вот очевидцы пишут, что земля таяла, уходила, исчезала из-под ног. Отказалась земля, отреклась. А дальше сообщения, что огоньки какие-то бегают всё по земле, что провал в Реджио образовался и оттуда огонь пышет, вóроны в несметном числе из Африки слетелись и т. д. и т. д. Страшно, страшно, страшно. Помните Гоголя. Землетр<ясение> “оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики… лучше знают это и говорят, что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю”. Страшно, страшно, страшно. [Люди, вы не узнаете Божией десницы?] Ибо верю старикам, а не грамотным людям. Отвечайте, родной, что чувствуется, что слышится Вам в этой газетной вести».[578]
Литературные ассоциации – цитаты из «Страшной мести» Гоголя[579] и из стихотворения Брюсова «Конь блед» (зачеркнутая фраза) – помогают Сидорову осмыслить свершившуюся природную катастрофу в ином, более широком регистре, как угрожающее предвестие разрушительных катаклизмов глобального масштаба. Сходным образом воспринял тогда итальянское землетрясение Александр Блок – как символическое предзнаменование: всплеск «стихии», сметающей хрупкое строение «культуры».[580] Отдаленный гул из будущего, услышанный в те дни Блоком, возможно, не менее отчетливо различил и осознал его младший современник, начинающий поэт, задаткам которого так и не суждено было развиться.
Вячеслав Иванов и Александра Чеботаревская
Говоря о том, насколько значимой была роль Вячеслава Иванова в жизни высшего культурного слоя предреволюционной России, Федор Степун в очерке о нем особо подчеркивал, что этот поэт и мыслитель был «подлинным перипатетиком», одним из создателей «единой безуставной вольно-философской академии»: «В его петербургской, а позднее московской квартире всегда собиралось великое число самого разнообразного народа и бесконечно длилась, сквозь дни и ночи, постоянно менявшая свой предмет, но никогда не покидавшая своей верховной темы беседа. Более симпозионального человека, чем Вячеслав Иванов довоенной эпохи, мне никогда уже больше не приходилось встречать».[581] «Симпозиональное» начало в личности Иванова выделяли, как самую приметную и замечательную черту, и другие его современники. С. А. Аскольдов, например, считал, что Вячеслав Иванов, наряду с Андреем Белым, единственный гениальный писатель после Достоевского, но, в отличие от Белого, «мало раскрыл свою гениальность, она больше чувствовалась в личных беседах с ним»,[582] а Е. В. Аничков, завсегдатай «симпосионов» на ивановской «башне», утверждал: «Едва ли можно назвать другого поэта, которого все существование, вся личная жизнь в такой мере поднялась бы до постоянного, превратившегося в какое-то основное занятие или служение, экстаза, прерываемого лишь несколькими беглыми и короткими часами обыденной жизни».[583] Почти в унисон с ними говорил об Иванове и Н. А. Бердяев: «Это был самый замечательный, самый артистический козёр, какого я в жизни встречал, и настоящий шармёр. Он принадлежал к людям, которые имеют эстетическую потребность быть в гармонии и соответствии со средой и окружающими людьми», – и добавлял слова, весьма существенные для развертывания нашего локального сюжета: «В. Иванов был виртуозом в овладении душами людей. Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо. ‹…› Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широко благожелательное».[584]
«Симпозиональность», безусловно, была одной из частных жизненных форм воплощения универсальной «соборной» устремленности Иванова и в то же время одной из форм синтетического творческого самовыражения, в которой, на манер афинской школы, возможно было сочетать отвлеченное умозрение, теоретическую мысль с импровизированной свободой живых человеческих контактов. Выражалась эта особенность и в конкретных повседневных проявлениях, ярче всего – в специфическом игровом быту, сложившемся в петербургской квартире Иванова, на знаменитой «башне».[585] О. Дешарт составила краткую хронику ее заселения:[586] немногим более года обитателями квартиры были только Иванов и его жена, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, но в окружении множества гостей, в начале 1907 г. там ненадолго обосновались Волошин с женою, затем – Константин Шварсалон, сын Зиновьевой-Аннибал от первого брака, и Лидия, дочь ее и Иванова (территория «башни» разрасталась – была занята соседняя квартира и соединена с основной); позже присоединились новые постоянные обитатели – А. Р. Минцлова, М. А. Кузмин, в 1908 г. 14 недель прожил Иоганнес фон Гюнтер, время от времени обретался Ю. Н. Верховский, подолгу наездами останавливались В. Ф. Эрн, Ф. А. Степун, Андрей Белый; постоянно бывали и многочисленные визитеры, приходившие к Иванову для «аудиенциальных» бесед.
Становище на «башне» – зримое воплощение той атмосферы, которая царила вокруг Вячеслава Иванова постоянно. Самоочевидно, что в одиночестве поддерживать ее Иванов был бы не в силах: «симпозиональность» требовала и определенных внешних организационных усилий по ее поддержанию, и внутренней энергии участников этого спонтанного интеллектуального хора. Бердяев справедливо подметил, что в своем умении овладевать душами людей Иванов особенно неотразимо воздействовал на женщин. Женщины исполняли исключительно значимую роль в деле сохранения вокруг Иванова «хорового», «соборного» ореола. Одни из них принадлежали к типу мудрой Диотимы («башенное» второе имя Зиновьевой-Аннибал), участницы духовного пиршества, или евангельской Марии, молитвенно внимающей речам-откровениям, были взыскующими и благодарными собеседницами – как, например, Евгения Герцык, sorella – сестра Иванова, по его собственному определению. Другие, как трудолюбивая и рачительная Марфа, заботились о внешней, организационно-материальной стороне, обеспечивающей духовный «симпосион», – как многолетняя домоправительница семьи Ивановых Мария Михайловна Замятнина. Александра Николаевна Чеботаревская, другой ближайший друг ивановской семьи, сочетала в своем отношении к Иванову черты «небесной» Марии и «земной» Марфы, она «заботилась и суетилась о многом» и вместе с тем «избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк X, 42).
Александра Чеботаревская – Кассандра, как прозвали ее в родной семье,[587] – была одновременно и духовной ученицей Иванова, восприемницей его философско-эстетических построений, и почти членом его семьи, помощницей в житейских делах. Вспоминая в позднейшей дневниковой записи о М. М. Замятниной, М. Кузмин отметил, что Иванов и Зиновьева-Аннибал «умели пробуждать бескорыстную и полнейшую к себе преданность в людях честных, великодушных и несколько или бесплодно романтических, или наивных»;[588] это же наблюдение с полным правом можно переадресовать и к Чеботаревской. Старшая сестра более известной в символистской литературной среде Анастасии Чеботаревской, жены Ф. Сологуба, Александра, по характеристике Д. Е. Максимова, «была человеком аскетического склада, глубоким и отзывчивым»; знавшая многих крупных писателей, жившая интересами и ценностями «новой» поэзии, русского и западноевропейского символизма, она особенно сблизилась с Вячеславом Ивановым, с которым «поддерживала многолетнюю, страстную и, в последний период ее жизни, очень мучительную для нее дружбу».[589]
Александра Николаевна Чеботаревская родилась 12 апреля 1869 г. в Новом Осколе (город в Курской губернии). Отец, Николай Николаевич Чеботаревский, был в Курске адвокатом, с 1880 г. в Москве; мать, Анастасия Николаевна (урожденная Берлизева, выросла в помещичьей семье в Курской губернии),[590] когда Александре, еще не исполнилось 9 лет, заболела психическим расстройством, быстро развивавшимся и приведшим к смерти в 29-летнем возрасте (материнская наследственность, безусловно, сказалась в предрасположенности к душевным недугам и у Александры, и у Анастасии Чеботаревской). Александра осталась старшей в семье из 7 детей, обосновавшейся в Москве. Младшая сестра Александры, О. Н. Черносвитова, сообщает в биографической справке о ней: «Дети вскоре получили мачеху, семья все росла, жизнь становилась все труднее и в моральном, и в материальном отношении, т<ак> к<ак> заработки отца упали в новом городе, где его никто не знал как адвоката. Вся тяжесть и сложность этой жизни падала на хрупкие плечи десятилетнего ребенка Сани уже в силу того, что она являлась старшей в семье, к тому же девочка была не по летам серьезная и вдумчивая; неурядицы, нужда, болезни детей – все это как бы ловилось ее горячим сердцем: всех она любила без конца и края, по мере сил облегчала и скрашивала существование. Такой эта девочка и осталась на всю жизнь: из узких рамок своей незадачливой семьи она перенесла эту любовь на все, что ее окружало: людей, природу, родину, искусство, науки и больше всего на литературу. Это хорошо знают все, ее встречавшие на жизненных путях. Ал<ександра> Ник<олаевна> получила среднее образование в московской, тогда лучшей по составу научных сил, гимназии С. А. Арсеньевой, но вся ее дальнейшая жизнь, рядом с неустанной творческой работой, была накоплением знаний. Еще в гимназические годы она прекрасно изучила иностр<анные> языки, немецкий, фр<анцузский> и англ<ийский>, а в зрелые годы еще итальянский и начала изучать испанский: читала всегда иностр<анную> литературу в подлинниках. Серьезно занималась историей живописи и сама была прекрасной рисовальщицей. В Москве, наряду с работой, слушала лекции по истории и литературе, а впоследствии во время проживания в Париже вся уходила в научную работу, посещая публичную библиотеку, Сорбонну, Collège de France, Высшую школу общественных наук, как французскую, так и русскую, открытую группой опальных профессоров во главе с M. М. Ковалевским ‹…›».[591]
Еще в последних классах гимназии, по свидетельству О. Н. Черносвитовой, Александра Чеботаревская начала литературную деятельность: ее первые переводческие опыты печатались в «Русских Ведомостях», затем в серии «Научно-популярная библиотека “Русской Мысли”» (вып. VII) была издана в ее переводе монография о крупнейшем французском историке-медиевисте – «Фюстель-де-Куланж» проф. П. Гиро (М., 1898). Позднее переводы, выполненные Чеботаревской (подписанные полным именем или инициалами), регулярно появлялись в журнале «Русская Мысль», среди них – «Комическая история. Роман из театрального мира» Анатоля Франса (1908. № 4–6; новейший перевод – под заглавием «Театральная история») и его новеллы (1907. № 4), «сказочки» Франсиса Жамма (1918. № 1/2) и отрывки из дневника Катюля Мендеса «Семьдесят три дня Коммуны» (1918. № 1/2, 3/6), романы «Дингли» братьев Жерома и Жана Таро (1907. № 6) и «Изаиль» Геннинга Бергера (1907. № 10–12), цикл рассказов Генриха Манна «Злые» (1908. № 8), статья Гуго фон Гофмансталя «Жизнь в произведениях Гюго» (1902. № 5) и т. д. Отдельными изданиями в переводах Чеботаревской увидели свет «Проповедник» Арне Гарборга (М., б. г.), «Исповедь простого человека (Воспоминания фермера)» Эмиля Гильомена (СПб., 1906), «Монна Ванна» Мориса Метерлинка (СПб., 1903; в соавторстве с Анастасией Чеботаревской), «Лики дьявола» Ж. – А. Барбе д’Оревильи (СПб., 1908), «Повести, сказки, легенды» Мультатули (СПб., 1907; с большой вступительной статьей) и его же «Рассказы» (СПб., 1919), «Ночи революции» Ретифа де ла Бретона (M.; Л., 1924),[592] ряд других книг; некоторые выполненные ею переводы (сказки братьев Гримм, «Михаэль Кольхаас» Генриха фон Клейста, «Ган Исландец» и «Труженики моря» Виктора Гюго, «Крестьянин» Вильгельма фон Поленца, «Искусство и его деятели в период Великой французской революции (1789–1795)» М. Дриберюса и др.) остались неопубликованными (частично сохранились в архиве Чеботаревской).
Менее интенсивно, но достаточно регулярно Чеботаревская выступала в периодике со своими статьями и рецензиями. В частности, в «Русской Мысли», где с конца 1890-х гг. началось ее постоянное сотрудничество, были напечатаны ее статьи «Бёклин и его искусство» (1903. № 5), «Художник-друг (Посмертная выставка произведений М. В. Якунчиковой)» (1905. № 4), «Жизнь Мопассана» (1908. № 11). Статьи и рецензии Чеботаревской о новинках литературы, о театре, живописи появлялись в библиографическом отделе «Русских Ведомостей», а также в газете «Речь». Литературные занятия постоянно совмещались у нее с другими видами культурно-просветительской деятельности. О. Н. Черносвитова свидетельствует: «В молодые годы ее увлекала педагогич<еская> работа, она учила детей, молодежь, рабочих (воскр<есные> курсы) ‹…›. Для заработка много работала в редакциях (в Москве “Русск<ие> Вед<омости>”, “Русск<ая> Мысль”, в Петрограде – “Былое”, “Отечество”, “Речь” и друг.). Служила несколько лет в московской комиссии по организации домашнего чтения – культурное начинание для помощи самообразованию гл<авным> обр<азом> в провинции московских профессоров и доцентов (около 200 членов) под председательством профессора Пав<ла> Гавр<иловича> Виноградова. Как всегда, и здесь эта работа для заработка отвечала в то же время идейному складу Александры Николаевны; только тогда работа была для нее приемлема».[593]
Ко времени знакомства и дружеского сближения с Вячеславом Ивановым Александра Чеботаревская была уже вполне зрелым человеком: в 1903 г. ей исполнилось 34 года. Тем не менее, оказавшись в начале этого года в аудитории Русской высшей школы общественных наук в Париже, организованной М. М. Ковалевским, на курсе лекций Иванова о дионисийстве, она охотно вошла в роль благодарной ученицы. Почва для освоения и приятия многих заветных ивановских идей во многом уже была подготовлена; вполне в унисон с теоретическими построениями и чаяниями Иванова о всенародном, соборном искусстве, идущем на смену индивидуалистическому творчеству, которые будут развиты им в 1904 г. в программных статьях «Поэт и чернь» и «Копье Афины», звучат постулаты, сформулированные Чеботаревской в статье «Бёклин и его искусство»: «Отчуждение между художником и народом в наше время составляет одно из самых больных мест искусства. Но Бёклин не был в числе таких художников. Он принадлежал к тем огромным величинам, которые понятны самому простому уму и дают современной Европе надежду на то, что в будущем удастся, быть может, завоевать вновь утраченное единство, взаимное понимание между художником и народом, их взаимодействие, утерянное человечеством почти с средних веков».[594]
Рассказ Чеботаревской о начале знакомства с Ивановым записал М. С. Альтман 5 октября 1921 г.: «Едва мы, группа москвичей, узнали, что в Париж приедет В. И. и будет читать лекции по греческой религии (“Эллинская религия страдающего бога”), мы записались на эти курсы и с нетерпением стали ожидать приезда В. И., которого никто из нас не знал, но которым все заинтересовались. Мы знали только, что В. И. живет в Швейцарии, где ведет очень уединенный и замкнутый образ жизни. Приехал В. И., и курсы начались. Раз я сижу в Национальной библиотеке и занимаюсь. Проходит В. И. со своими книгами. Так как нам было обратно по дороге ехать омнибусом совместно, я уславливаюсь с В. И. (я уже была с ним знакома, но один раз только до этого имела с ним несущественный разговор), что после занятий позову его. Окончив занятия, я подошла к его столику, он мне подает исписанную бумажку (она до сих пор хранится у меня) с обращением “Кассандре”. Это был сонет, впоследствии помещенный под этим именем в “Прозрачности”.[595] Посвящение я просила снять, ибо стихотворение было очень ответственно. Так, там было написано: “Ты, новая, затеплишь Александра…” Каждый мог меня спросить: “Да что ж Вы такое сделали, оправдали ли Вы пророчество?” Помню, когда я прочла впервые этот сонет, я ничего не поняла, но обращение “Кассандре” меня поразило. Дело в том, что у меня два брата классика, и, бывало, еще с детства, желая меня дразнить, <они> становились передо мной, чертили круг и вопили: “Tragoedia, tragoedia – греческий козел!” – и называли меня Кассандрой. ‹…› Поэтому я была необычайно поражена, когда В. И., меня почти совершенно не знающий, вдруг называет меня Кассандрой».[596]
Обыгрывание Ивановым в сонете «Кассандре» («Пусть говорят: “Святыня – не от Жизни»…”) имен Кассандра – Александра отсылает к ономастическим уподоблениям, зафиксированным еще в эпоху античности: в ряде мест Пелопоннеса указывали могилу и храм троянской пророчицы Кассандры, отождествляемой с местным божеством Александрой (зафиксировано в «Описании Эллады» Павсания); в поэме Ликофрона (IV–III вв. до н. э.) «Александра» безумная дочь Приама, Кассандра, носит имя Александры. Это обстоятельство отмечено Ивановым в эпиграфах, предпосланных тексту стихотворения в автографах: «Александра – другое имя Кассандры», «Sich des Halben zu entwöhnen… Goethe» («Отвыкать от половинчатости… Гете»). Автограф стихотворения, переданный Ивановым Чеботаревской (под заглавием «А. Н. Ч – ой»), сохранился в его архиве; на обороте листа – ответная записка Чеботаревской: «Вы меня страшно растрогали. Не знаю, верно ли я поняла, кое-что хотелось бы переспросить. В Ваших предположениях для меня чересчур много лестного. Это – совпадение, или Вы знаете, что в семье братья и сестры зовут меня не Ал<ександрой>, а Кассандрой?.. Стихи чудные. А. Ч.».[597] Еще один автограф стихотворения, с заглавием-посвящением «А. Н. Чеботаревской» – видимо, переданный Чеботаревской Ивановым после возвращения ею первого автографа с ответом – вклеен в альбом, содержащий и другие посвященные ей стихотворения.[598] С легкой руки Иванова Чеботаревская стала Кассандрой не только для ближайших родственников, но и в более широком кругу лиц.
Автограф другого обращенного к ней стихотворения Иванова, «Осенью», вошедшего в «Прозрачность» с посвящением «Ал. Н. Чеботаревской», также наклеен в ее альбоме.[599] Датированное 16/3 октября 1903 г. (в печатном тексте датировка отсутствует), это стихотворение отражает следующий этап их дружеского сближения – пребывание Чеботаревской в ивановском доме в Шатлене (Швейцария), а заключительные его строки («Ты повилики закинула тонкие // В чуткие сны тростника») воспроизводят один из эпизодов их совместной жизни, о котором Чеботаревская поведала Альтману: «Я раз гуляла и нарвала массу цветов повилики. Их набрался такой огромный ворох, что я не знала, куда с ними деться, и бросила их в речку, они поплыли, и так как по берегам росли высокие тростники, то они оцепились вокруг них, и получилась очень красивая картина повилик в тростниках. В. И. увидел, как я бросила цветы, и завопил, по своему обыкновению. Но потом, увидев, как повилики застряли в тростниках, остановился, задумчиво любуясь ими. Это было под вечер. А на второе утро В. И. повел нас в беседку ‹…› и прочел мне и Лидии Дмитриевне написанное им стихотворение».[600] Картина, запечатленная в нем, стала для Иванова настолько неотторжимой от образа Чеботаревской, что третье посвященное ей стихотворение, впервые опубликованное в 1906 г. и вошедшее в раздел «Северное солнце» книги Иванова «Cor Ardens», было озаглавлено «Повилики» и представляло собой развитие того же образного строя: «Повилики белые в тростниках высоких», «А зарей задетые тростники живые // Грезят недопетые сны вечеровые».[601] Впрочем, рождение этого стихотворения впрямую было стимулировано, по ее признанию, самой Чеботаревской, хранившей память о прежних поэтических «повиликах»: «…раз, гуляя по берегу Хопра (приток Дона), я увидела, как в прибрежные тростники вплелись повилики, и так высоко, что почти достигали тростниковых верхушек. Я взяла повилики, высушила их и несколько из них вложила в письмо мое к В. И. В. И. прислал мне ответ и в нем две строфы “Повилик”»; Иванов дополнил этот рассказ собственной трактовкой стихотворения и отраженной в нем символики своих отношений с Чеботаревской: «Повилики – символ верности, тростники – символ поэта. Повилики в тростниках – это Ваша связанность с моей судьбой, Ваша верность мне».[602]
Стихотворные послания, адресованные Чеботаревской, дополняются обращенными к ней же надписями Иванова на своих публикациях в периодике и на книгах – отражающими то же чувство прочной связанности их судеб.[603] Но наиболее полное документальное воплощение взаимоотношения Иванова и Чеботаревской нашли в их переписке: в московском архиве Иванова хранится около 100 писем Чеботаревской к нему, в фонде Чеботаревской в Пушкинском Доме – 23 письма Иванова. Такая диспропорция объясняется, с одной стороны, тем, что переписка отложилась в архивах Иванова и Чеботаревской не целиком – ее звенья разорваны: часто письма представляют собой ответы на послания, которые утрачены (при этом отсутствуют не только многие письма Иванова, но и значительное число писем Чеботаревской: их общий корпус должен был существенно превышать число сохранившихся писем). С другой стороны, характер эпистолярного поведения корреспондентов был различным: письма Иванова чаще всего – это либо более или менее развернутые приветствия по тому или иному поводу или без конкретного повода, либо выражения благодарности за выполнение тех или иных поручений, либо реестры просьб делового и бытового содержания. Многие же письма Чеботаревской – это своего рода «агентурные сведения», доставляемые Иванову (из Москвы в Петербург или из Петербурга за границу): подробные отчеты о событиях литературной и окололитературной жизни; в этом отношении они представляют собой ценный документальный источник не только для изучения биографии Иванова, но и как значимые свидетельства о том, что происходило в кругу русских символистов.[604] Такие письма Чеботаревской не предполагали развернутых ответов, поэтому естественно, что писем Иванова в корпусе переписки значительно меньше, чем писем Чеботаревской. Эти обстоятельства, а также и то, что Иванов и Чеботаревская подолгу жили вблизи друг от друга, т. е. не нуждались в эпистолярном контакте, обусловили отрывочный характер переписки, которая менее всего напоминает письменный диалог. К основному корпусу переписки Иванова и Чеботаревской примыкает переписка Чеботаревской практически со всеми членами ивановской семьи – с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, Верой Шварсалон, Лидией Ивановой и малолетним Димитрием Ивановым, М. М. Замятниной. Эти документы также дают дополнительные штрихи к истории взаимоотношений Иванова и Чеботаревской.
Уже самые первые письма Чеботаревской к Иванову исполнены безграничного пиетета перед адресатом. Она признается, отправляя ему оттиск своей статьи «Бёклин и его искусство», напечатанной в «Русской Мысли» (26 июня н. ст. 1903 г.): «…посылаю ее Вам, потому что иначе не могу выразить Вам всего моего глубокого к Вам уважения, моего искреннего преклонения перед Вашим талантом, моей в него веры… Это будет памятью о человеке, которому Вы, сами того не подозревая, так много сделали, которому Ваши лекции, Ваши стихи были так необходимы именно в эти минуты, когда он много думал и много мучился над вопросами искусства и жизни и отношений между ними. Когда-нибудь (!) наверное (!) я напишу что-нибудь такое, что доставит Вам хоть самое-самое маленькое удовольствие, – ради этой цели я буду ждать».[605] Она обращается к Иванову за поддержкой и консультациями в своих литературных опытах, советуется с ним – как назвать статью о Гюставе Моро, «как назвать очерк о Бальм<онте> – “Б<альмонт> и его лирика”?»[606] Многим обогащенная в ходе общения с Ивановым, Чеботаревская, со своей стороны, сыграла в его жизни весьма заметную роль; эта роль выражалась и в постоянной деловой помощи (так, уже в первый год их знакомства, находясь в Шатлене, Чеботаревская, по ее собственному признанию, вместе с Ивановым трудилась над подготовкой к печати его книги стихов «Прозрачность»: «…она была мне и продиктована, и мною переписана, и вообще эта книга обязана и мне своим возникновением»[607]), и в расширении круга ивановских знакомых и друзей: например, в содействии сближению Иванова с М. О. Гершензоном, с которым она была дружна еще до встречи с Ивановым (Гершензон помогал ей в получении литературных и переводческих заказов).[608]
В 1905–1906 гг., после переезда Иванова в Петербург и начала многолюдных собраний в его квартире на знаменитой «башне», происходит некоторое отдаление между ним и Чеботаревской (сказавшееся и в оскудении переписки), явно ее уязвлявшее: «Приятно бывает иногда хоть из газет узнать, что “друзья” живы и здоровы, что они живут на старом месте, что у них собираются по средам и т. и т. д. …», – писала она Иванову из Москвы 8 января 1906 г.[609] Чеботаревская бывала наездами на ивановской «башне»,[610] но определенно не оказывалась там в центре внимания. Контакты ее с Ивановым и его семьей заметно активизировались после безвременной смерти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, последовавшей 17 октября 1907 г. в Загорье Могилевской губернии.[611]
1 октября 1908 г. Е. К. Герцык отметила в записной книжке: «Вокруг Вяч<еслава> его женщины».[612] Подразумевалась в первую очередь оккультистка А. Р. Минцлова, оказывавшая тогда на Иванова, после смерти жены, в течение довольно длительного времени исключительно сильное духовное влияние,[613] но, безусловно, обозначенная совокупность ивановских «женщин» включала в себя не на последнем месте и Александру Чеботаревскую. Сохранилось 15 ее писем к Иванову за 1909 г. – значительно больше, чем за какой-либо из предшествовавших годов их знакомства; и личное их общение в том же году чрезвычайно интенсивно.[614] Примечательное сообщение содержится в недатированном письме (предположительно февраль 1909 г.) С. И. Дымшиц-Толстой, жены А. Н. Толстого, к М. А. Волошину: «Алехан просит тебе передать слух, что Вячеслав Иван<ов> женится на Александре Чеботаревской».[615] Слух этот, видимо, не был совершенно беспочвенным, он указывал на какой-то сдвиг, на какое-то новое содержание во взаимоотношениях Иванова и Кассандры, тайное или достаточно явное, которое определилось после смерти Зиновьевой-Аннибал. В сознании Чеботаревской, во всяком случае, на рубеже 1900 – 1910-х гг. – до поры, когда еще не стал очевидной реальностью союз Иванова с Верой Шварсалон, – эти новые мотивы и психологические подтексты выдвинулись на первый план, представляя собой сплетение противоречивых переживаний и устремлений.
Одно из ее писем к Иванову этой поры, от 9 января 1909 г., начинается обращением, контрастирующим с обращениями в письмах предшествующих и последующих: «Милый, дорогой, любимый».[616] Другое письмо Чеботаревской к Иванову, недатированное, черновое и неотправленное, вбирает в себя сложную гамму чувств, вызванных воспоминанием о давнем разговоре, относящемся к 1906 г., между ним и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в ее присутствии:
Л<идия> не б<ыла> больна еще, это б<ыло> вскоре после ее возвращ<ения> из-за границы. Но в этот день с утра она б<ыла> горько-тревожна.‹…› мы пили чай за мал<еньким> столом. Вы курили и ходили по комнате. Вдруг: «Вяч<еслав>, Вяч<еслав>, я думаю: когда я умру, на ком ты женишься?» И через неск<олько> незнач<ительных> фраз: «Женись на К<ассандре>, она честная и не сд<елает> тебя несчастным. Слышишь?» Вы что-то мычите в ответ. Я не выдержала. Мне показ<алось> (м<ожет> б<ыть>, с интелл<игентской> точки зрения), что меня обидели, что на меня посм<отрели>, как на вещь. Мне б<ыло> очень больно. Я, опустив глаза в стакан, сказала: «Я бы предпочла, чтобы такие вещи говорились не в моем присутствии». Тогда она сказала: «Глупая, глупая, глупая». Потом спешно встала, обошла вокруг стола и охватила мою шею голой рукой из-под красного рукава, твердя: «Глупая, глупая. Ведь я всегда страшно рада, покойна, счастлива, когда вы около него. Вот выдумала. Обиделась» – и еще к<акие>-то незначительные слова в этом роде. Тогда я поняла, что я действительно глупая, но эти слова я запомнила. Мне надо было иметь как<ую>-нибудь опору, когда Вы отталкивали меня и смеялись, особ<енно> над м<оей> честностью. Я про себя тогда как заговор повторяла: «Ж<енись> на К<ассандре>, она честная» – и это меня успокаивало. Тогда я считала, что я около вас не лишняя. Так было до сих пор. ‹…›
А все-таки было бы хорошо, если бы Вы ж<енились>. Надо понимать это очень серьезно. Л<идия> не думала иначе. Она только хотела, чтобы это не было источником несчастья. Счастья, она знала, что без нее никто тоже не даст.
Моя песня уже спета. Как бы вы теперь ни отнеслись ко мне, какой бы вдруг неожид<анный> переворот себе ни представить, – на пути важное препятствие – израсход<овано> чересчур много сил. Молодости, необход<имой> для этого, даже вы мне даже при всех невозможных условиях мне не вернете. Она ушла. ‹…›
Вот видите, все это говорить вам побуждает меня все та же глупая моя и неудобная честность.
Вот какие дела.
Вы грезите, а мы живем.[617]
Скрытые упреки в невнимании и душевном эгоизме, звучащие в подтексте этого письма, выступают наружу в другом письме Чеботаревской к Иванову, также недатированном и неотправленном черновике, в котором запечатлена та же внутренняя борьба, сказывается то же сочетание неизбывного тяготения к Иванову и оскорбленности его холодностью и безучастностью:
Сегодня я вспоминала мое последнее преб<ывание> у Вас, и оно показалось мне сплошь каким-то чудов<ищным> недоразумением. Как чиста я в своей вечной любовной и дружеской преданности Вам и в<ашей> семье и как черны и грязны были подозрения, кот<орые> мне пришлось выслушать, не знаю за что, благодаря чему или кому. Только с высоты моего бескорыстного отн<ошения>, в кот<ором> совершенно нет ничего личного, и моего вечного страдания за Вас могу я смотреть на эти несправедливые речи и даже кары, кот<орые> постигли меня и на кот<орые> я не могла ни отвечать, ни возражать, благодаря моей разбитости. Не ведаете Вы, что творите. Бог с Вами и да хранит он Вас. Я слишком устала бороться с постоянными подозрениями, которые на 8-м году нашего знакомства в боль<шей> силе, чем были в первые времена. Чем больше я буду бескорыстна и добра, тем, разумеется, Вы больше будете подозревать меня в каких-нибудь черных или грязных замыслах, ибо вся жизнь моя – чудачество и своевольное осуществление какой-то чужой, не моей воли. Поэтому многим непонятная.[618]
Все эти переживания, безусловно, скрывали под собой глубокое чувство, утаенное, неразделенное и доставлявшее немало страданий; чувство, дополнительно усугубленное и отягощенное особенностями индивидуального психического строя Чеботаревской, часто принимавшего обостренные и даже болезненные формы. Иногда оно прорывалось наружу – как в одной из ее исповедальных записей, относящейся, по всей вероятности, к тому же времени:
Тот, кого я люблю, далек, и его письма не оживляют меня. Я вижу его окруженным множеством других артистов, художников, женщин… Тупая боль и безнадежность давят душу. Сегодня я думала о нем непрестанно, и думала дурно. Вспоминала все его главные недостатки, его ошибки, промахи, его самовлюбленность художника, его презрение к чужой душе, его бесчувственность. Счастье или несчастье было встретить такого человека. Разумеется, несчастье. Вечная тревога, вечное опасение за каждый миг. Холодный, жестокий, влюбленный в себя, расчетливый, брр… брр. Как могла я, горячая, страстная, самозабывающаяся, как могла я отдать ему свою жизнь, ничего за нее не получая. Я вспомнила все свои муки и заплакала. Как оградиться от него? Навсегда! Уйти совсем, совсем, не думать, не знать, не видеться. Забыть, забыть! Довольно он пил мою кровь. Одни разлуки, одни слезы, одни опасенья… У других жизнь складывается иначе. Порвать, порвать. Гордо отойти, ни слова не сказав. Терпение истощилось. Всему конец. Я заплакала еще сильнее безудержно, безнадежно, когда представила себе, что мне останется, когда я лишусь его.
Милый! без конца, без краю, без меры моя любовь к тебе! Вечная, неизбывная, огромная как море. Радость! я пройду всю землю и припаду к твоим ногам. Звук голоса твоего для меня – счастье мира…[619]
Остроту этих душевных волнений, видимо, приглушила кардинальная перемена в жизни Иванова в 1912 г., окончательно убедившая Чеботаревскую в невостребованности ее чувства, – его отъезд за границу с падчерицей, Верой Константиновной Шварсалон, рождение их сына и последовавший брачный союз. В этой ситуации, долгое время утаивавшейся даже от близких Иванову людей, но тем не менее обросшей кривотолками и даже скандальными конфликтами, Чеботаревская встала на защиту моральной репутации Иванова; в письмах к нему она в подробностях излагала обстоятельства, едва не приведшие к дуэли между М. А. Кузминым и братом Веры С. К. Шварсалоном, вступившимся за честь своей сестры.[620] Когда положение дел окончательно разъяснилось и для самой Чеботаревской, она красноречиво и недвусмысленно высказалась в письме к Вере, отправленном из Петербурга в Рим 5 декабря 1912 г.: «…только 2-го ноября, после многих бесплодных попыток, я узнала то, что мне так нужно и так дорого было знать. Узнала от одной доброй женской души, отнесшейся ко мне по-сестрински и по-человечески ответившей на мои немногочисленные вопросы. Узнала все светлое, все радостное, чего я так жаждала и что было для меня все еще под спудом. Верушка, какую радость внесло в мою жизнь рождение тобою сына! Каждый день с тех пор мысленно благословляю его, и в нем – тебя и Вячеслава, и люблю его, и вас всех люблю по-новому ‹…›».[621] В изменившихся обстоятельствах связь Чеботаревской с семьей Иванова даже упрочилась: лето 1913 г. она провела в Силламягах вместе с Лидией, старшей дочерью Иванова; тесная дружба продолжилась, когда Ивановы возвратились в Россию и обосновались в Москве.
Свое понимание творчества Вячеслава Иванова и преклонение перед ним Чеботаревская пыталась передать в форме аналитической статьи-лекции. Статья, однако, написана не была, сохранились лишь самые предварительные и хаотические черновые наброски (6 рукописных листов), представляющие собой некий ворох из отдельных наблюдений, размышлений и фиксаций тем, требующих развернутой интерпретации. Из этих набросков, относящихся к началу 1910-х гг., приведем лишь несколько – те, в которых более или менее внятно проступает авторская мысль:
Кормчие Звезды. Сам<ым> ярким блеском горит у В. И. свет Бога. В И. пост<оянно> предст<авляет> истинную тайну дионисианства ‹…› В царство <?> недр – тайн спустился Ницше, туда же снизошел В. И. Ницше для него только пример, а не образец. Он пон<ял> Д<иониса> ‹…› не как голос миров<ой> воли, а как сплетение между смертью и ж<изнью>. 2-я кормчая звезда – это Гераклит. Идея изначального огня, всепоглощающего и рождающего, и эта идея сплелась с идеей Д<иониса>. Обе эти идеи оплодотворили душу нашего «пламенника», и он созд<ал> св<ои> лучшие вещи.
Как кончил Ницше, так приблизительно кончил и Тантал. Это сам<ое> близкое по мысли воплощение немец<кого> философа.
Вот 3 кормчие звезды, но этих кормчих звезд гораздо больше. Тут вы найдете и Гете, и Новалиса, и [Бод<лера>] «ботаника зла»… Хочется упомянуть еще 1 звезду, это народность. Верный сын края долготерпения нашел эту черту, мало выдвинутую цветущим эллинством. ‹…› Конечно, Д<ионис> – огонь, но тут Дионису подает руку древ<няя> русс<кая> мифология (Заря-заряница); эта славянск<ая> нота нашла отзвук в первом ученике В. И. Сергее Городецком, и дионисиазм свил себе прочное гнездо в нашей поэзии. Символ – это сверхполнота представления. Символ<ическая> речь прилив<ает> к вам волнами. Отливая, она оставл<яет> осадок, и этот осадок – символ.
Этот дионисийский экстаз, в кот<ором> живет наш поэт, отразился и на его языке. Предмет изумления для его поклонников и предм<ет> нападок для его врагов. Что сделалось с язык<ом> в руках этого кудесника. Мы словно присутств<уем> при юности это<го> языка. ‹…› Если бы бы<ло> принято для совр<еменных> поэтов сост<авлять> словари, то вряд ли кто-либо из поэтов оказ<ался> бы богаче нашего. И при этом вечное алкание. И поэт берет снова свой молот и кует, кует, пока не выкует, что ему нужно. Националь<но?> строгое единство, строгая цельность его языка. <Нет> тех галлицизмов, кот<орыми> пестрят произв<едения> н<ыне> покойн<ого> И. Ф. Анненского, остр<ых?> облич<ающих> его фр<анцузскую> натуру. Конечно, не вс<егда> хорошо. Не нрав<ятся> мне молнийный, рыжекосмый (для нимф, наяд), но неуд<ачных> слов мало ‹…› В общ<ем> можно преклониться перед этою творческой силой наш<его> поэта. Но откуда же словотворческая сила нашего поэта? Только греч<еский> яз<ык> достиг<ает> словотворч<еской> силы. Корень в дионисийстве, дифирамбе греч<еском> ‹…› Из поэт<ов> недифирамбистов только Эсхил сравнялся с ним. В. И. перенес на русск<ий> язык ту свободу, кот<орую> он видел у греч<еского> дион<исийского> Возрождения. Так новатор во всех областях д<олжен> б<ыть> новатором и в обл<асти> стихосложения. Но в этом у него только нормальное богатство. Я не подсчит<ывала>, но думаю, что Бальмонт превзошел его.
Счастл<ивое> сочет<ание> филолога и поэта. ‹…› Все указ<анные> свойства намечают его как буд<ущего> перевод<чика> Эсхила, и он уклоняться не может. Кто может, тот должен.[622]
Непосредственному творческому содружеству Чеботаревской и Иванова суждено было осуществиться на стезе художественного перевода. С годами для Чеботаревской переводческая деятельность стала основным литературным занятием, дававшим ей материальный достаток и определенное профессиональное удовлетворение. Самым масштабным ее трудом в этой области стал перевод романов и новелл Ги де Мопассана: в Полном собрании сочинений французского писателя, начатом в 1909 г. петербургским издательством «Пантеон» и завершенном в 1912 г. издательством «Шиповник»; из 30 томов, составивших это издание, eю полностью переведены 14 (тома 3, 6–8, 10, 16, 20, 21, 24, 25, 27–30);[623] выполненные Чеботаревской переводы Мопассана неоднократно переиздавались и в позднейшее время.[624] Первой совместной переводческой инициативой Чеботаревской и Иванова стал мистический «сведенборгианский» роман Оноре де Бальзака «Серафита» («Séraphita», 1835), ранее на русском языке не появлявшийся;[625] книга планировалась для выхода в свет в серии «Орфей» московского символистского издательства «Мусагет». В объявлении о готовящихся изданиях, помещенном в конце книги Андрея Белого «Символизм», значилось: «Б а л ь з а к. Серафита. Пер. Ал. Чеботаревской. Вступительная статья Вячеслава Иванова. (Выйдет в августе 1910 г.)»;[626] указанный срок соответствовал предварительным договоренностям,[627] однако работа над переводом не была завершена – возможно, отчасти и потому, что руководителю «Мусагета» Э. К. Метнеру роман Бальзака не показался интересным и в силу этого продвижение перевода со стороны издательства не было стимулировано.[628] В архиве Чеботаревской перевод «Серафиты» представлен лишь начальными страницами чернового текста.[629]
До благополучного завершения, однако, было доведено другое совместное переводческое начинание Иванова и Чеботаревской – «Госпожа Бовари» («Mаdame Bovary», 1857) Гюстава Флобера. Идея перевода на русский язык произведений великого французского мастера овладевала Ивановым и ранее,[630] поэтому он охотно откликнулся на предложение 3. И. Гржебина, руководителя издательства «Шиповник», взявшегося за подготовку Полного собрания сочинений Флобера в новых переводах, с комментариями и приложениями.[631] Предполагалось, что Чеботаревская переведет роман, а Иванов осуществит сквозную редактуру представленного ею текста. Чеботаревская завершила свою работу в конце 1910 г.[632] и передала перевод Иванову, который, со своей стороны, сумел спутать все предварительно намечавшиеся издательские планы, трудясь сообразно со своими привычными навыками, о которых позже напишет: «…у меня, старца, другой темп: что у Вас месяц, у меня год».[633] Его дочь вспоминает в связи с работой над «Госпожой Бовари»: «Когда дело шло о редакции перевода, Вячеслав обыкновенно спокойно, не желая думать о сроках, назначенных издателем, брал сначала текст оригинала, с любовью в него вчитывался, затем брал поданный ему перевод и начинал не торопясь его перечитывать, переделывать, перерабатывать во всех тонкостях, так что от первоначального текста не оставалось камня на камне. Это обычно вызывало бурные реакции переводчика и нередко кончалось серьезной ссорой. Вячеслав не обращал на это внимания: ему прежде всего важно было спасти художественное произведение».[634] Чеботаревская, в ходе совместной работы над текстом энергично возражавшая Иванову, в конце концов признала правомерность его редакторских решений: «…я перечла перевод “Г-жи Бовари”. Сколько счастливых находок в Вашей редакции, какая меткость и четкость, какое истинно Флоберовское изящество придано всей вещи! Откуда такой реализм в речах крестьянина Руо и других, откуда столько красоты и вместе точности… С благоговением закрыла эту чудную книгу» (письмо от 12 июля 1912 г.).[635] У нас нет возможности сравнить первоначальный вариант перевода, выполненный Чеботаревской (он, видимо, не сохранился), с окончательной его версией, возникшей в результате редактуры Иванова, однако, вчитываясь в опубликованный текст, нельзя не заметить в нем специфически ивановских «следов» – характерных для него стилевого рисунка, фразеологии, словоупотребления, синтаксических построений (возможно, впрочем, что какие-то кажущиеся нам «ивановскими» особенности возникли не в результате его редакторской правки, а присутствовали изначально в тексте Чеботаревской, которая могла испытывать в ходе переводческой работы силовое воздействие ярко индивидуальной стилевой системы Иванова). В нескольких почти наугад выбранных фрагментах текста перевода «ивановские», как нам представляется, приметы выделены курсивом:
Воспоминание о виконте неотвязчиво волновало ее при чтении. Она сближала его с лицами вымысла. Но круг, которого он был центром, мало-помалу, расширялся, и его сияющий нимб, отделяясь от его лица, распространялся все дальше и озарял другие мечты (ч. 1, гл. IX).[636]
Ее плоть, облегченная, казалось, утратила свой вес, начиналась другая жизнь ‹…› Окропили святою водою простыни ее постели; священник вынул из дарохранительницы белую облатку Агнца; изнемогая от небесной радости, протянула она губы, чтобы принять тело Спасителя, ей преподанное. Полог ее алькова мягкими волнами надувается, как облако, а лучи от двух свечей, горевших на комоде, мнились ей венцами слепительной славы (ч. 2, гл. XIV).[637]
Она медленно повернула голову и, видимо, обрадовалась, увидя фиолетовую эпитрахиль, – переживая, быть может, среди осенившей ее глубокой внутренней тишины утраченную сладость своих первых мистических восторгов ‹…› она вытянула шею, как жаждущий, которому дают пить, и прильнула губами к телу Богочеловека, изо всех своих слабеющих сил напечатлела на нем самый страстный поцелуй любви, какой когда-либо дарила в жизни. Потом священник ‹…› помазал очи, ненасытно искавшие земных прелестей; потом ноздри, жадные до благоухающих дуновений и любострастных запахов ‹…› и наконец ступни ног, некогда столь быстрых и проворных, чтобы бежать на зов желания ‹…› (ч. 3, гл. VIII).[638]
После выхода в свет перевода «Госпожи Бовари» новых совместных работ Чеботаревской и Иванова не затевалось. С годами их взаимоотношения все более и более развивались преимущественно в сфере быта, ставшего предметом особых хлопот и волнений пореволюционной разрухи, а после двух смертей, осиротивших ивановскую семью, – М.М. Замятниной, домоправительницы (7 апреля 1919 г.), и Веры, жены Иванова и матери его сына (8 августа 1920 г.), – Чеботаревской пришлось взять на себя значительную часть забот по хозяйству. На протяжении трех с половиной лет (1920–1924), проведенных Ивановым, в должности университетского профессора классической филологии, вместе с детьми в Баку, на попечении Чеботаревской оставалась его московская квартира в Большом Афанасьевском переулке – имущество, библиотека, рукописи (часть ивановских книг она, живя тогда в Петрограде, передала на сохранение другим писателям).[639] Когда ранней осенью 1921 г. дочь Иванова Лидия заболела брюшным тифом, Чеботаревская приехала в Баку на помощь семье, там же ей пришлось обихаживать и его самого, заболевшего желтухой.[640] «Александра Николаевна, которая была нашею отрадой и помощью целый год, увы, покидает нас», – сообщал Иванов Ф. Сологубу в письме из Баку от 31 августа 1922 г.[641] Планировавшийся повторный приезд Чеботаревской в Баку не состоялся, взаимоотношения поддерживались перепиской – уже не только с Вячеславом и Лидией, но и с десятилетним Димитрием,[642] – вплоть до возвращения Иванова в Москву летом 1924 г.
Отъезд в заграничную командировку, о которой Иванов безуспешно хлопотал еще в 1920 г.,[643] на этот раз удалось осуществить: 28 августа 1924 г. Иванов с семьей выехал из Москвы в Италию. Чеботаревская проводила их на вокзале. На протяжении ряда лет Иванов продолжал держаться как лояльный по отношению к советским властям командированный, но уже 4 мая 1925 г. вполне недвусмысленно признался в письме к Э. К. Метнеру: «В Россию же решил не возвращаться».[644]
Распрощавшись – как оказалось, навсегда – с Кассандрой в августе 1924 г., Иванов оставил в ее распоряжении значительную часть своего имущества, а также библиотеку и почти весь свой рукописный архив[645] (ныне эти материалы рассредоточены по различным фондам в архивохранилищах Москвы и Петербурга). После их расставания Чеботаревской суждено было прожить всего полгода.
10 марта 1925 г. поэтесса М. М. Шкапская оповестила Волошина: «…две недели тому назад утопилась в Москве-реке сестра Анастасии Николаевны – Александра Николаевна Чеботаревская, ее спасли, но она умерла через 3 часа от слабости сердца».[646] Произошло это трагическое событие 22 февраля 1925 г., в день похорон ее близкого друга М. О. Гершензона. О. А. Шор (О. Дешарт) писала позднее о смерти Чеботаревской: «…всегда нервно беспокойная, она страдала припадками мучительной тоски ‹…› Часто стала она забегать к М. О. Гершензону; в его светлом духовном мире она искала утешение. Неожиданно Гершензон умер ‹…› В большом зале Гос. Академии Художественных Наук, 22 февраля состоялось отпевание ‹…›. Вдруг к месту, близ гроба, откуда произносились речи, ринулась Чеботаревская; указывая простертой рукой на умершего, она закричала: “Вот он! Он открывает нам единственно возможный путь освобождения от всего этого ужаса! За ним! За ним!” И она стремглав, дико убежала. Бросились ее догонять друзья; среди них Ю. Н. Верховский, Н. К. Гудзий. В течение нескольких часов они за нею гонялись по улицам, подворотням, лестницам. Наконец, хитростью безумия ей удалось от них скрыться. В тот же день вечером нашли ее мертвое тело в Москве-реке.[647] Потрясенные друзья и родственники Чеботаревской хотели подготовить и выпустить в свет книгу ее памяти, но ничего из этого намерения не получилось.[648]
«Образ гибели ее, бросившейся с моста, долго преследовал меня, как ужасное, раздирающее душу видение, – писал Иванов 27 июля 1925 г. Ольге Шор. – ‹…› незадолго она написала из Петербурга письмо, почти деловое ‹…›, но столь безумное внутренне, что между строк его я прочел с ужасом близость какого-то трагического конца.[649] ‹…› В этом смысле ее самоубийство и не самоубийство даже. Роковая предназначенность к нему сказывалась ‹…› и в судьбе ее матери, и в судьбе ее сестры».[650]
Разумеется, гибель Александры Чеботаревской заключала в себе психиатрическую, наследственную составляющую – повторяла обстоятельства самоубийства в 1921 г. Анастасии Чеботаревской, бросившейся в воду с дамбы петроградского Тучкова моста. Однако у любой болезни, и у психической в частности, могут быть разные внешние условия протекания – способствующие преодолению недуга или, наоборот, этот недуг обостряющие. Условия, которые предлагала общественная ситуация в России в 1925 г., для людей того круга и того типа мышления и чувствования, к которому принадлежала Чеботаревская, безусловно, являли собой именно второй случай. И в этом отношении скромное литературное имя Александры Чеботаревской оказывается по праву принадлежащим к тому бесконечному мартирологу загубленных деятелей русской культуры, отсчет которому был задан в октябре 1917 г.
Французская выставка под знаком «Аполлона»
Петербургский журнал «Аполлон» – одно из самых ярких воплощений отечественной модернистской культуры – был начат изданием осенью 1909 г. под редакцией Сергея Маковского, «русского европейца», как с полным основанием определяет его современный исследователь.[651] Маковский и его сподвижники по изданию «Аполлона» стремились знакомить читателей с наиболее яркими проявлениями культуры Запада, привлекали к участию в журнале иностранных корреспондентов, информировали о новейших событиях в западноевропейской литературе, живописи, музыке, театре. Естественно, что в центре внимания «Аполлона» оказывались Франция и Париж – признанная столица мировой культурной жизни. Был выпущен даже специальный «французский» номер журнала (1910. № 6), заполненный почти целиком материалами, присланными из Франции, – статьями Рене Гиля, Поля Адана, Луи Лалуа и др., репродукциями с картин французских мастеров, «Рассказами о маркизе д’Амеркёр» Анри де Ренье в переводе М. Волошина и т. д. Одним из свидетельств преклонения «аполлоновцев» перед французской культурой стала выставка «Сто лет французской живописи», устроенная в 1912 г. в Петербурге по инициативе Маковского и соредактора «Аполлона» (с января 1911 по октябрь 1912 г. – т. е. весь период организации выставки) барона Н. Н. Врангеля.
Оба соредактора к тому времени имели уже немалый опыт в деле осуществления разнообразных масштабных культурных начинаний. Поэт и художественный критик Сергей Константинович Маковский (1877–1962),[652] сын знаменитого живописца К. Е. Маковского, ранее был главным инициатором петербургского издательства «Содружество» (1905), в 1907 г. – одним из основателей и членов редакционного комитета журнала «Старые годы», вся проблематика которого была посвящена анализу, описанию и защите художественных и архитектурных памятников прошлого; в январе 1909 г. он подготовил «Салон» – художественную выставку, экспонировавшуюся в Меншиковском дворце в Петербурге, в 1910 г. по поручению петербургской Академии художеств организовал русский отдел на Международной выставке в Брюсселе, а также устроил выставку «Мира Искусства» в Париже. Барон Николай Николаевич Врангель (1880–1915) – историк искусства и художественный критик, в 1902 г. – организатор выставки русской портретной живописи за 150 лет (1700–1850), развернутой в залах Академии наук, в 1905 г. – один из создателей грандиозной Историко-художественной выставки русских портретов, инициированной С. П. Дягилевым, с 1906 г. – сотрудник Императорского Эрмитажа, с 1907 г. – постоянный сотрудник и член редакционного комитета журнала «Старые годы», в 1909 г. – один из создателей и секретарь Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины; автор множества статей и книг, которые предполагалось собрать в посмертном пятитомном собрании сочинений в 1916 г., но в дни войны его осуществить не удалось, а в последовавших условиях революции и при советской власти вопрос об издании трудов младшего брата одного из лидеров белого движения, естественно, не поднимался.[653]
Наряду с редакцией «Аполлона» инициативу по организации выставки французского искусства взял на себя только что учрежденный (в октябре 1911 г.) «Французский институт в Петербурге» (Institut Français de St. – Pétersbourg) в лице его директора профессора Луи Рео (Réau), реализации замысла содействовал также французский посол в Петербурге Жорж Луи (Louis). Знаменательным был тот факт, что выставка, демонстрировавшая достижения французской живописи за последние сто лет, открылась в 1912 г. «…Главный интерес нашей выставки – юбилей Отечественной войны, – отмечал художник и архитектор Г. К. Лукомский, заведовавший всеми работами по устройству выставки в Петербурге. – Сто лет назад Французы шли к нам с оружием в руках, – теперь мы сами приглашаем художников дружественной державы».[654] Тем самым военно-политический Франко-русский союз, оформленный в 1891 г., был закреплен и в сфере художественной жизни.
Непосредственная работа по подготовке выставки началась весной 1911 г., когда Н. Н. Врангель и Л. Рео предприняли с этой целью совместную поездку во Францию, где заключили целый ряд предварительных соглашений. 21 мая 1911 г. Врангель писал Маковскому из Парижа: «Réau надеется даже, что нам дадут некоторые картины из Люксенбурга!![655] Решено, как мы уславливались, взять 300 картин (за 100 лет). Réau надеется, что нам также дадут картины не только частные лица, но даже некоторые провинциальные музеи, и в последнем случае я, устроив все в Париже, поеду в Lyon, Dijon, Nantes и проч. Так как картин будет немного, то мне хотелось бы выбрать наиболее яркие и характерные образцы каждого мастера. Modern’ов хочу взять не очень много (50–60), чтобы не пугать “декадентством”». Последнее обстоятельство акцентируется еще в одном, недатированном письме Врангеля к Маковскому из Парижа: «Здесь по совету Réau в разговоре с официальными лицами мы больше всего настаиваем на характере ретроспективном, ибо иначе можно напугать разными Матисами и проч<ими> пугалами».[656] Тем не менее Врангель упоминает о желательности участия С. И. Щукина и И. А. Морозова с их собраниями новейшего французского искусства. «Что думаешь ты относительно Щукина и Морозова, – спрашивает он Маковского в письме от 26 июля 1911 г., – их участие было бы, я думаю, очень желательно. Ведь если бы они дали хоть несколько картин, мы бы сразу убили двух зайцев: получили бы дивные вещи и не просили бы здесь разных “декадентов”, которые так пугаются официальных мест. Хорошо было бы, если бы ты со свойственным тебе хитроумием попробовал бы написать Щукину разные ласковые слова».[657] Впрочем, еще раньше, 12 июня 1911 г., Маковский писал Врангелю в той же связи: «…на картины Морозова и Щукина пока нет никаких оснований рассчитывать, и я даже уверен, что ни тот, ни другой не дадут ничего на нашу выставку: они, положительно, фанатики своих коллекций ‹…›».[658] Так и случилось: упомянутые московские коллекционеры принадлежавших им работ на выставку не представили.
В целом же Маковский оценил усилия своего товарища по «Аполлону» исключительно высоко. «…Приветствую тебя с успехом в делах нашей выставки, – писал он Врангелю 27 мая. – Вижу, что дело становится грандиозным. ‹…› В средствах, я уверен, стеснения не будет. Поэтому я бы скорее увеличил количество холстов. Насчет неизобилия крайних “модернистов”, конечно, вполне с тобою согласен. Их будет и так достаточно на страницах “Аполлона”. ‹…› Без меня ничего не ухудшится в Париже; вижу, что ты взялся за дело со свойственной тебе энергией “за двоих”».[659] Дополнительную официальную весомость готовившейся выставке дало согласие на покровительство ей великого князя Николая Михайловича (на соответствующих бланках почтовой бумаги значилось: «Состоящая под покровительством Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича выставка французской живописи за сто лет (1812–1912), устраиваемая журналом “Аполлон” и “Institut Français à St. – Pétersbourg” в пользу Общества защиты и охранения в России памятников искусства и старины»), и это не было чисто церемониальным актом; как оповестил Врангель Маковского, великий князь «обещал нам участие самых серьезных коллекционеров». В том же письме от 26 июня 1911 г., сообщая о своем возвращении из поездки по провинциальным музеям Франции, Врангель добавлял: «…осенью, в октябре мне придется вернуться опять для осмотра еще некоторых собраний и окончательного выбора».[660] Возвратился в Петербург Врангель 25 июля.[661]
Вновь Врангель выехал из Петербурга во Францию 15/28 октября 1911 г.[662] На этот раз к нему присоединился Маковский, прибывший в Париж 22 октября / 4 ноября и сразу активно включившийся в переговоры и хлопоты, связанные с организацией выставки.[663] К хлопотам был подключен и живший тогда в Париже М. Волошин.[664] Первым вернулся в Петербург Врангель – к началу декабря (ст. ст.). О завершающих работах перед отправкой экспонатов в Россию его информировал Маковский в письме от 4/17 декабря 1911 г.: «…в субботу 23-го самое позднее отправляются вагоны. ‹…› Всех картин около 400. Около 150 рисунков и 200 гравюр. ‹…› Приеду в будущий понедельник 12-го дек<абря> по-русски».[665] Тем временем Врангель занимался подбором картин из российских частных собраний. 7 декабря 1911 г. он писал из Петербурга Эттингеру: «…покончив с Парижем, откуда к нам уже выехали 400 картин и 200 рисунков, я принимаюсь за охоту по французским картинам, находящимся в России. Хотя немного, но кое-что, быть может, найду. На днях, просматривая каталог картин Брокара в Москве, мне попался ряд французских имен, весьма для меня интересных. ‹…› Если у него есть картины, достойные выставки, я попрошу Вел. Князя Николая Михайловича написать Брокару письмо с просьбой прислать эти картины на нашу выставку».[666] Работы из коллекции А. А. Брокара на выставке не были представлены, однако для нее дали принадлежавшие им картины французских мастеров 26 русских собирателей (их имена перечислены в «Аполлоне»[667]).
Оповещения о готовящейся выставке стали появляться в печати еще до возвращения ее организаторов из Франции. В петербургской газете «Речь» (в рубрике «Художественные вести») сообщалось, что работы по устройству выставки «быстро продвигаются вперед» и что «находящиеся в Париже организаторы выставки С. К. Маковский и бар. Н. Н. Врангель заканчивают выбор и приемку картин»;[668] две недели спустя там же появилась информация о возвращении барона Врангеля в Петербург и отправке экспонатов выставки (застрахованных на 10 миллионов рублей) 10 декабря из Парижа в Петербург; при этом подчеркивалось: «…устраиваемая выставка французской живописи за 100 лет является первой вне пределов Франции. По содержанию подобный отдел был на всемирной выставке в Париже. Наполеоновская эпоха будет представлена очень полно. Большой интерес представят картины Курбе (17 произведений). ‹…› В большом количестве появятся произведения французских импрессионистов (Манэ и др.)».[669]
В пору подготовки выставки еще был очень силен резонанс, вызванный похищением из Лувра (21 августа 1911 г.) «Джоконды» Леонардо да Винчи (картину удалось найти лишь спустя два года), и в этой связи с особенной остротой вставал вопрос о безопасности картин и мерах по ее обеспечению, принимаемых различными ответственными инстанциями. Заведующий устройством экспозиции Г. К. Лукомский заявлял: «Несмотря на печальный случай с пропажей “Джиоконды”, устроительному комитету нашей выставки удалось осуществить замысел по представлению в наступающем юбилейном 1912 году полного отчета французского искусства за сто лет. Труды комитета облегчились благодаря высокому покровительству, а также участию в парижском комитете таких лиц, как министр иностранных дел де Сельв, российский посол в Париже <А. П.> Извольский, советники посольства барон <М. Ф.> Шиллинг и князь В. Н. Аргутинский-Долгоруков, выдающихся профессоров Байе, Мишель, художников Роден, Бланш, хранителя Версальского музея де Ноллак, художественных критиков Арсен, Тиссоль, редакторов художественных журналов и различных меценатов».[670] В другом интервью Лукомский обращал внимание на то, что устроителями выставки предусмотрена демонстрация картин французских мастеров, хранящихся в русских коллекциях: «…на выставке появятся не только картины, находящиеся во Франции, в Париже. Мы живо интересуемся тем французским искусством, которое расцвело на русской почве. Имеется очень много картин, написанных французскими художниками, жившими у нас в России в первой половине ХIХ столетия. Эти произведения и до сих пор сохраняются у частных лиц, в старинных барских усадьбах».[671] Коснулся Лукомский и проводимых им совместно с французским архитектором М. Робеном работ по отделке помещений дворца графини Сумароковой-Эльстон (в 1912 г. – дворца князя Ф. Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон) на Литейном проспекте, который был предоставлен для экспозиции: внутреннее убранство залов выдерживалось в том стиле, который наиболее соответствовал данной эпохе живописи.
Первоначально было задумано, что в дни выставки будут проведены сопутствующие ей другие культурные мероприятия. В октябре 1911 г. секретарь «Аполлона» Е. А. Зноско-Боровский писал Волошину, что в рамках выставки предполагается дать «несколько спектаклей», в том числе один «закрытый, интимный», который «будет посвящен французской пьесе XIX в.», и просил выбрать такую пьесу.[672] В печати было объявлено, что «при выставке предполагались спектакли французской музыки», с последующей констатацией: «Предположение это останется невыполненным. Выяснилось, что французские исполнители, которые должны были приехать в Петербург, не могут оставить Париж. Ввиду того, что устройство выставки связано с крупными расходами, пришлось отказаться и от мысли об открытии ее в Москве».[673] Из всех замыслов, призванных аккомпанировать основной идее выставки французской живописи, в итоге оказался реализованным лишь один – лекции, прочитанные в помещении выставки Леоном Бенедитом (Bénédite; 1859–1925), хранителем Люксембургского национального музея, 17 января («Французское искусство в эпоху романтизма») и 18 января 1912 г. («Реализм и импрессионизм»), с демонстрацией световых картин.[674]
Хотя и не все задуманное устроителями удалось осуществить, выставка «Сто лет французской живописи (1812–1912)» поражала своим размахом. Она «была составлена, главным образом, из картин парижских коллекционеров и общественных музеев Франции. Музеи Люксембургский, Версальский, Hôtel des Invalides и музей Гренобля также предоставили несколько ценных произведений. ‹…› Равным образом были взяты картины из Императорских Дворцов: Зимнего, Большого Царскосельского, Гатчинского, Елагина и Петергофского. Наконец, предоставил трех интересных Коро музей в Пензе. В отдел, посвященный “Французам, работавшим в России”, поступила целая серия любопытных картин А. Ладюрнера из полковых собраний: Л. – гв. Конного, Л. – гв. Егерского, Л. – гв. Павловского и Л. – гв. Семеновского полков».[675] На выставке экспонировались произведения более 250 мастеров, причем во множестве работ были представлены крупнейшие французские живописцы XIX столетия – Ж. – Л. Давид (11 работ), Ж. – О. – Д. Энгр (14), Э. Делакруа (21), О. Домье (12), К. Коро (22), Т. Руссо (16), Ж. – Ф. Милле (10), Г. Курбе (26), Э. Мане (10), О. Ренуар (24), К. Моне (9), П. Сезанн (17), П. Гоген (21). Был подготовлен и выпущен в свет двумя изданиями каталог выставки (составитель и переводчик французского текста – В. А. Чудовский).[676]
В предисловии к нему Врангель и Маковский обозначили общие контуры той сверхзадачи, которой они руководствовались при отборе произведений, призванных дать общую панораму развития французского искусства за истекший век: «Устраивая ее, мы имели в виду, главным образом, ознакомить русскую публику с образцами, вдохновлявшими лучших европейских мастеров и являющимися как бы первоисточниками всей живописи XIX столетия. Поэтому наше внимание было направлено не на официальных академических или же салонных живописцев, имеющих зачастую незаслуженную известность в России, но – на художников-вожаков, на художников, которые в свое время открывали новые пути и, вместе с тем, умели беречь старые прекрасные традиции французской школы. От Пуссена до Сезанна около трех столетий французское искусство было преемственно. Одна из задач выставки – показать эту преемственность и связь современных течений со славным прошлым французской живописи, с заветами ее великих учителей: Давида, Энгра, Делакруа, Жерико, Коро, Домье, Курбе, Милле, Мане, Дега, Ренуара, Моне, Сезанна, Гогена. Этим мастерам уделили мы особое внимание. Наряду с ними мы представили отдельными работами других художников, наиболее ярко выразивших различные течения, чередовавшиеся в минувшем веке (классиков, романтиков, барбизонцев, реалистов, импрессионистов и, наконец, современных мастеров)».[677] Ставя своей целью подведение итогов французской живописи за XIX столетие, Врангель и Маковский сочли необходимым подчеркнуть, что намеренно в данном случае отказались от демонстрации мастеров, чье творчество принадлежит всецело XX веку.
Выставка открылась для широкой публики 17 января 1912 г. (продолжалась до 18 марта), но за день до этого, 15 января в 2 часа дня, состоялся официальный церемониал открытия с участием августейшего покровителя выставки великого князя Николая Михайловича, председателя Совета министров В. Н. Коковцова, министра иностранных дел гофмейстера С. Д. Сазонова и других сиятельных особ.[678] В газетном репортаже живописуется явно экстраординарное событие:
«Старинный особняк маркизы де Шаво графини де Серр проснулся от долголетней спячки.
Огромные окна, равные по величине 2 этажам любого дома, ярко освещены.
У широкого подъезда, с старинным величественным порталом, длинная вереница автомобилей и карет.
Выездные лакеи едва успевают высаживать элегантную публику вчерашнего “вернисажа”» – и т. д.[679]
Газетные обозреватели были фактически единодушны в высокой оценке выставки, однако подходили к осмыслению ее, исходя из собственных представлений о том, что следует считать подлинно ценным и значимым во французской живописи миновавшего века. Так, автор цитированного выше репортажа отметил значимое отсутствие в экспозиции тех салонных мастеров, которых устроители сознательно обошли вниманием, – «таких выдающихся французских художников», как Каролюс-Дюран, Бугро, Ролль и др., и выразил недоумение перед тем фактом, что «организатором этого мероприятия является редакция журнала “Аполлон”, известного своим отрицанием всей старой школы». Это недоумение разрешил на свой лад Н. Н. Брешко-Брешковский, не скрывавший своего неприятия новейших течений в искусстве: выразив удовлетворение тем, что «уродств настоящего» на выставке, «слава Богу, немного», писатель расценил самый факт устроения ее силами «аполлоновцев» как «показатель полного банкротства отжившего и ставшего банальной пошлостью модернизма»: «И вот теперь, та самая бойкая молодежь, что еще недавно так рьяно насаждала модернизм, вдруг спохватилась и, как утопающий за соломинку, цепляется за старое, то старое, которому ведом секрет неувядаемой юности».[680] Критические реплики по адресу «недостойных» модернистов, оказавшихся способными совершить достойную культурную акцию, впрочем, были единичными. В большей мере передавал общий тон художник и художественный критик Г. А. Магула, поделившийся своим восторгом от того, что «французская живопись с ее удивительными мастерами, влиявшими на развитие европейского искусства, не только публике, но и большинству наших художников известными только по именам и репродукциям, представлена на выставке с достаточной полнотой»: «Изучать таких прославленных и значительных мастеров в подлинниках, да еще у себя дома, для многих все равно, что открыть Америку».[681]
Художник и видный искусствовед А. А. Ростиславов также не сдерживал восторженных эмоций от увиденного: «…одно из крупнейших событий нашей художественной жизни, прекрасный художественный праздник. Недаром так празднично и блестяще было открытие выставки, когда самая избранная публика переполняла изящно декорированные помещения, освещенные прекрасными старинными люстрами, украшенные прекрасными старинными предметами и мебелью. ‹…› Такой картины не давала еще ни одна иностранная выставка ни у нас, ни, вероятно, и за границей. Только при особенном уменье, особенной настойчивости и, надо думать, удаче, обусловленной, конечно, и иностранной любезностью, можно было получить из французских музеев и частных собраний, из русских коллекций целый ряд выдающихся произведений таких художников, которые теперь ценятся чуть ли не на вес золота». Ростиславов нашел неправильным решение устроителей не включать в экспозицию Ван Гога (Врангель и Маковский в предисловии к каталогу специально оговаривали, что ими исключены некоторые работавшие во Франции мастера – Стивенс, Ван Гог, Пикассо, – не принадлежавшие, как они полагали, по характеру живописи к французской школе), но в целом одобрил «выбор большинства произведений и художников»: «Выставка производит впечатление насыщенности, здесь отсутствует балласт многих не по заслугам прославленных эклектиков и эпигонов. Перед нами постепенно проходят в лице знаменитых создателей направлений и течений классики, романтики, реалисты, барбизонцы и импрессионисты со всеми их разветвлениями и, наконец, родоначальники новейшей живописи последних дней Сезан и Гоген. Здесь, благодаря ярким и сжатым сопоставлениям, можно не только ознакомиться с подлинной историей французской живописи минувшего столетия, а и наглядно убедиться, насколько утонченно прекрасно все художество счастливой страны, насколько действительно в нем корни современного мирового художества».[682]
С общей восторженной тональностью отчасти диссонировали суждения аналитика и глубокого знатока предмета – Александра Бенуа. Он отметил, что выставка, при всей ее грандиозности, не дает исчерпывающего представления об основных вехах истории французского искусства за последнее столетие: «Ни одного главного произведения французской пореволюционной живописи, начиная с “Коронации” Давида, кончая лучшими картинами Гогэна и Сезанна, здесь нет. И даже нельзя сказать, чтобы те “вехи” были представлены таким образом, чтобы значение их было вполне ясным ‹…› отсутствуют типичные художники июльской монархии и второй империи: Морен, Лепуатвен, Геннер, Гебер, Кабанел, Жером; отсутствует весь академизм». При этом, выступая от лица «посвященных», освоивших все богатства французских живописных собраний, Бенуа отдавал должное усилиям устроителей выставки и подчеркивал ее исключительное значение для расширения эстетических горизонтов русской публики: «…мало-мальски посвященным сколько здесь радости, сколько наслаждения, сколько важнейших откровений! ‹…› я понял, как недостаточен тот срок, в какие-то два месяца, который она будет стоять в Петербурге. Так бы хотелось задержать многое для Петербурга на вечные времена. ‹…› Никакие самые универсальные академии, никакие рефераты и книги не могли бы заменить того чудесного действия, которое можно было бы ожидать от постоянного представления на общее любование произведений Делакруа, Курбе, Мане и Сезанна». Оставаясь яркой манифестацией французского искусства, выставка в то же время и с другой стороны – форма исповедания русского европеизма: «Для нас, русских, эта сводка имеет тем большее значение, что мы и дальше всего стоим от центра культуры нашего времени – Парижа, и больше других к нему тяготеем, больше других чувствуем свою духовную близость к нему, свое назначение стать в известный момент преемниками той культуры». Из важнейшего культурного события, каким она, безусловно, стала, выставка, по убеждению Бенуа, должна была бы превратиться в «памятник», поучительный пример того, насколько значима «сила традиции во французском искусстве, ее строго последовательная эволюция – и ее постоянное, упорное, бесконечно серьезное искание чисто живописной, чисто красочной сущности».[683]
Аналогичным образом акцент на преемственности французского искусства, подчеркнутой Врангелем и Маковским в предисловии к каталогу, сделал в развернутой обзорной статье о выставке театральный и художественный критик Андрей Левинсон. Вехи истории французской живописи, наглядно воспринимаемые благодаря представленной экспозиции, убеждают, по мысли обозревателя, в том, что «гений французского искусства, это – гений подбора. Оно “берет свое добро там, где его находит”, и делает его действительно своим. Из емкости его традиции проистекает его неисчерпаемая жизнеспособность».[684] Левинсон прослеживает рафаэлевские мотивы, отразившиеся в живописи Энгра, который, в свою очередь, воздействовал на Шассерио, Гюстава Моро и Пюви де Шаванна; видит в «эмансипированном пейзаже» барбизонцев школу, пройденную у Рейсдаля, Бонингтона и Констебла, а в культе женственности, исповедуемом Ренуаром, «величайшим лириком импрессионизма», отголоски живописи эпохи рококо – Буше и Фрагонара, и т. д. Отмечая, как и Бенуа, бросающееся в глаза отсутствие многих важнейших для истории французского искусства работ (например, выставка не смогла продемонстрировать ни одного из «капитальных произведений» Делакруа, «где сказалась бы его творческая мощь; она ограничилась рядом маленьких картин и эскизов»[685]), критик тем не менее убежден в том, что общая эволюция французской живописи XIX века в экспозиции представлена вполне репрезентативно.
Репродукциями с 59 картин, демонстрировавшихся на выставке, а также четырьмя фотоснимками интерьеров выставки украшен 5-й номер «Аполлона» за 1912 г. В нем, кроме того, помещены редакционное информационное сообщение «Выставка “Сто лет французской живописи”. 1812–1912» и обзорная статья князя А. К. Шервашидзе. Не претендуя на создание комментированного путеводителя по выставке, Шервашидзе предложил читателю путеводитель несколько иного рода – по истории французской живописи XIX века с краткими характеристиками творческих индивидуальностей наиболее ярких ее представителей и выявлением основных тенденций, управлявших процессом художественной эволюции и определявших смену школ и стилевых течений. «Настоящая художественная преемственность», о чем красноречиво свидетельствует французское искусство в его наиболее значимых и совершенных образцах, осуществляется, по убеждению Шервашидзе, на путях исканий, борьбы, преодоления «школьности» ради свободы самовыражения: «И Энгр, и Делакруа, и много других – не дети одной великой “школы”, – каждый из них работал для себя, непонимаемый другими ‹…› Неследование “школьным” заветам, несоединенность однородных и направленных в одну видимую явно цель усилий, но дух разногласия и борьбы личной и, казалось бы, не имеющей опоры в предшествующем, – дал нам замечательнейшие произведения высокого искусства, необычайные по силе замысла и воплощения ‹…›».[686] Обилие и яркость экспонатов французской выставки, явившей лишь малую часть грандиозного целого, побудили со всей остротой, по мысли Шервашидзе, понять, что «все же мы не имеем возможности знать, отчетливо и ясно, все то удивительное в своем разнообразии и богатстве личного, индивидуального творчества искусство, которое только что, на Выставке, на короткий срок нам дано было видеть… И забыть».[687]
А. Н. Бенуа был, безусловно, прав, осмысляя «аполлоновскую» выставку французской живописи в одном ряду с такими примечательными событиями русской художественной жизни, как устроенная С. П. Дягилевым в 1899 г. Первая международная выставка журнала «Мир Искусства» или организованная под его руководством в 1905 г. Историко-художественная выставка русских портретов в Таврическом дворце. За образцовое устройство выставки французское правительство наградило Маковского и Врангеля орденами Почетного легиона.[688] Экспозиция «Сто лет французской живописи», выполнив свою конкретную культурно-просветительскую задачу, осталась в истории русской общественной жизни начала XX века как один из примечательных знаков, свидетельствовавших о подлинно европейском статусе той страны, которую представляли Сергей Маковский и барон Врангель, о полноценном и полноправном ее вхождении в сферу общекультурных ценностей западного мира. Два года спустя, с началом мировой войны, художественные предприятия подобного рода станут неосуществимыми, а еще позже – даже невообразимыми: на десятилетия вперед.
О «шотландском» мотиве в поэзии Георгия Иванова
В статье «Русские цитатные поэты: заметки о поэзии П. А. Вяземского и Георгия Иванова» В. Ф. Марков на множестве примеров продемонстрировал, насколько значимую роль играют в поэтическом творчестве Георгия Иванова цитаты и реминисценции. Автор, однако, выразил убежденность в том, что цитатность стала важнейшим качеством поэзии Иванова в конце его творческого пути («в ранних книгах Иванов нецитатен»), и даже датировал «начало ивановской цитатности» 1937 г., усмотрев первую наглядную манифестацию ее не в поэтическом, а в прозаическом тексте – в «Распаде атома».[689] Между тем «переимчивый» характер ивановского стихотворчества, сказавшийся уже в самых ранних его поэтических опытах и позволяющий говорить об их авторе как о «резонаторе голосов своих наставников»,[690] провоцирует на поиск «чужого» и в произведениях, предшествовавших «Распаду атома». Множество цитат, аллюзий, реминисценций и параллелей, обнаруженных различными исследователями, суммировано А. Ю. Арьевым и дополнено его собственными изысканиями в фундаментальном комментарии, сопровождающем осуществленное им наиболее полное на сегодняшний день издание поэтического наследия Георгия Иванова.[691] Являя собой впечатляющий итог, это издание открывает и новые перспективы – в том числе и в плане выявления еще не вскрытых цитатных пластов.
Свою панораму «цитатных» цитат из Георгия Иванова В. Ф. Марков завершает стихотворением «Полутона рябины и малины…» (1955), приводя его как «пример и сложнейшей цитатности, и глубоких внутренних связей в творчестве поэта».[692] Отмеченные «внутренние связи» обозначены прежде всего «шотландским» мотивом в начальных строках:
Полутона рябины и малины, В Шотландии рассыпанные втуне, В меланхоличном имени Алины, В голубоватом золоте латуни. (301)Непосредственным образом эти стихи отсылают к раннему стихотворению Георгия Иванова «Я вспоминаю влажные долины // Шотландии…», впервые опубликованному в его книге «Лампада» (1922), – к его заключительным строкам (с той же рифмовкой: малины: Алины): «Цвета луны и вянущей малины // И поцелуй мечтательной Алины!» (196); «шотландские» ассоциации, однако, вводят в тот же образный ряд еще несколько стихотворений Иванова, указываемых Марковым:
Твоей любви, поэт, твоей тоски… На кладбище, в Шотландии туманной («Где отцветают розы, где горит…») (240); Теперь я знаю – все воображенье, Моя Шотландия, моя тоска! (227); Шотландия, туманный берег твой ‹…› Храни, Господь, Шотландию мою! (первая и последняя строки стихотворения) (165); Это уже не романтизм. Какая Там Шотландия! («Грустно, друг. Все слаще, все нежнее…») (258).Образ Шотландии в поэтическом сознании Георгия Иванова порожден интимными переживаниями детской поры (в письме к В. Ф. Маркову от 11 июня 1957 г. поэт признается: «И Ватто и Шотландия у меня из отцовского (вернее, прадедовского) дома ‹…› весь вестибюль в том же имении, где я родился и прошли все летние месяцы моего детства и юности, был увешан английскими гравюрами ‹…›, где и шотландских пейзажей и “охотников в красных фраках” было множество ‹…›»[693]), но насыщен и множеством литературных аллюзий и подтекстов. Среди них прежде всего художественный мир романов Вальтера Скотта, любимых Ивановым с детских лет: своим однокашникам когда-то он объявил, что не «Иванов» он на самом деле, а «Ивангоев» (от «Ивангое» – «Ivanhoe», как в XIX веке принято было воспроизводить по-русски название романа В. Скотта «Айвенго» и имя его главного героя),[694] – а также западноевропейская и русская романтическая баллада: образец стилизации этого жанра у Иванова озаглавлен «Шотландская баллада» (1916), причем положенный в сюжетную основу фольклорный мотив обручения с мертвым женихом, щедро обыгранный литературой романтической эпохи (прежде всего «Ленора» Г. А. Бюргера и ее переложения у Жуковского), дополнительно окрашивается вальтерскоттовскими ассоциациями: Беверлей, убитый жених, напоминает о Веверлее, герое одноименного первого романа («Waverley») из «шотландского» цикла В. Скотта (в ныне утвердившемся русском написании – «Уэверли»).
«Шотландский» мотив у Георгия Иванова вбирает в себя и более актуальные литературные параллели. Тоска и моя тоска, дополнительно интимизирующие воспоминания поэта о стране, в которой он никогда не был, вызывают ассоциации с «Моей Тоской», стихотворением, завершающим посмертный сборник Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец» (1910). Среди «элементов сотворчества», выявляемых при параллельном рассмотрении поэтических текстов Иванова и Мандельштама,[695] – оссианический мотив: поэмы Оссиана, легендарного барда кельтов, воссозданные шотландцем Джеймсом Макферсоном, опять же в их многообразной рецепции русской поэзией преромантической и романтической эпохи;[696] стихотворение Мандельштама (1914):
Я не слыхал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина; Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна? И перекличка ворона и арфы Мне чудится в зловещей тишине; И ветром развеваемые шарфы Дружинников мелькают при луне![697] –отзывается у Георгия Иванова сочетанием тех же образов:
То бледное светило Оссиана Сопровождает нас в пустом краю («Мы зябнем от осеннего тумана…») (229); Я слушал музыку, не понимая, Как ветер слушают или волну, И видел желтоватую луну, Что медлила, свой рог приподымая. И вспомнил сумеречную страну, Где кличет ворон – арфе отвечая ‹…› («Я слушал музыку, не понимая…», 1920) (228).Сонет Иванова «Я вспоминаю влажные долины…», непосредственно соотносящийся с образчиком гиперцитатности, стихотворением «Полутона рябины и малины…», включает в круг своих подтекстов, наряду со словесным, живописный цитатный пласт: представляя собой, по наблюдению его интерпретатора, «непосредственное воспоминание лирического героя о шотландской природе, ‹…› скорее всего оно является экфрастическим описанием живописного полотна в духе Томаса Гейнсборо, чье имя упоминается в последней строфе».[698] Ностальгическая ретроспекция на «шотландскую» тему по ходу своего развертывания подводит к английскому портретисту и пейзажисту XVIII века, с Шотландией, однако, непосредственно не связанному (жившему в юго-восточной Англии – в Сэдберри и Ипсвиче, а также в Лондоне):
Я вспоминаю влажные долины Шотландии, зеленые холмы, Луну и все, что вспоминаем мы, Услышав имя нежное Алины. Осенний парк. Средь зыбкой полутьмы Шуршат края широкой пелерины, Мелькает образ девушки старинной, Прелестный и пленяющий умы. Широкая соломенная шляпа, Две розы, шаль, расшитая пестро, И Гектора протянутая лапа. О, легкие созданья Генсборо, Цвета луны и вянущей малины И поцелуй мечтательной Алины! (196)Лирическая героиня этого стихотворения пришла из «золотого века» русской поэзии – из романтической баллады Жуковского «Алина и Альсим» (1814; перевод из французского писателя XVIII века Франсуа Огюстена Паради де Монкрифа) и из стихотворения Пушкина (1819), в котором пасторальный мотив благодаря образу волынки («Когда к ручью волынкою печальной // В полдневный жар он стадо созывал») приобретает шотландскую окраску; первая строфа сонета Иванова таит в себе «воспоминание» о начальных строках пушкинского стихотворения:
Там у леска, за ближнею долиной, Где весело теченье светлых струй, Младой Эдвин прощался там с Алиной; Я слышал их последний поцелуй. Взошла луна – Алина там сидела, и т. д.Та же «шотландская» Алина, но уже в сочетании с упомянутым в приведенном сонете английским живописцем, возникает в еще одном опыте экфрастической поэзии – вышедшем из-под пера старшего современника Георгия Иванова, умершего в ранней юности Юрия Сидорова (1887–1909) – поэта, начинавшего свою деятельность в кругу московских символистов, – в стихотворении «Сентиментальный сон»:
Ах, не было ль в этом обмана, Тумана влюбленного сна? Ужели всё греза одна? Я видел – проходите вы Под сенью весенней листвы По парку зеленому рано. Вот вижу – любимица злая, Свой выгнув упругий хребет, За вами ступает вослед, Надменно ступает борзая. Цветет, разливает куртина Фиалок лиловый огонь… Ах! Узкая ваша ладонь Ведь тоже цветок, о Алина! Орешник склонился к вам гибкий… Я вам говорил про любовь, Но тонкая дрогнула бровь Насмешкою нежной улыбки. Зачем так уходите скоро? Прости, милый сон мой, прости!.. Ах! снова могу вас найти Я лишь на картине Гэнсборо!..[699]Помимо условно-поэтической Алины в сочетании с Томасом Гейнсборо, стихотворения Георгия Иванова и Юрия Сидорова роднят и другие сходные экфрастические детали: парковый ландшафт, цветы (Две розы – Фиалок лиловый огонь), собаки (Гектора протянутая лапа – Надменно ступает борзая), общий пассеистический колорит сна – грезы – воспоминания. При этом Алина – героиня не только приведенного выше, но и целого ряда стихотворений Сидорова, ретроспективно окрашенный образ его музы. «Этот идеал своей любви, любви чисто-человеческой, свободной от мистицизма, античной, пушкинской любви Юрий Сидоров украсил отныне неизгладимым со страниц нашей лирики гармоническим именем Алины», – писал в очерке о покойном друге Сергей Соловьев.[700] Образ, восходящий к тем же источникам в русской поэзии, что и у Георгия Иванова, Сидоров сопровождает дополнительными обертонами, восходящими то к романтической балладе («Кто в темной зелени аллей // Зовет меня, стеня, рыдает: “О, рыцарь мой, спеши скорей, // Колдун Алину похищает”»), то к стилизациям под галантную поэзию рококо («Какая странная отрада // В исходе лета, ясным днем // Среди зеленых кленов сада // Сидеть с Алиною вдвоем!»), то к классической идиллии; примечательно при этом, что идиллический возлюбленный Алины носит имя Жорж («В притворном, плутовском испуге // Грозишь мне: “Слушай, Жорж, не тронь”»),[701] с которым Юрий (Георгий) Сидоров, безусловно, соотносил себя и на которое отзывался также Георгий Иванов, именовавшийся «Жоржем» и «Жоржиком» в петербургской литературной среде 1910-х гг.
Георгий Иванов неплохо знал поэтическое творчество не только великих, но и малых своих современников (в его стихах установлены, например, реминисценции из такого безвестного поэта, как Виктор Поляков[702]). Сборник стихотворений Юрия Сидорова едва ли мог оказаться вне его поля зрения: книгу выпустило в свет престижное московское модернистское издательство «Альциона», имена Андрея Белого, Бориса Садовского и Сергея Соловьева, вынесенные на обложку, побуждали к знакомству с писаниями патронируемого ими автора; сборник Сидорова заметил и отрецензировал в «Аполлоне» (1910. № 10) Николай Гумилев, указавший на незрелость и подражательность стихотворных опусов покойного поэта, но в то же время и на «свои темы», обозначившиеся «основные колонны задуманного поэтического здания», среди которых – «Англия Вальтер Скотта».[703] Суждения синдика «Цеха поэтов» Георгий Иванов, рядовой участник этого объединения, не оставлял без внимания.
Еще один «шотландский» подтекст, который в данном случае мог улавливаться Георгием Ивановым в соотнесении с Юрием Сидоровым, связывался с отмеченным в отзыве Гумилева Вальтером Скоттом; последний был одним из самых любимых умершим поэтом классиков, к В. Скотту с ранних лет жизни, как уже отмечалось, был неравнодушен и Иванов (собственно в стихах, помещенных в посмертном сборнике, вальтерскоттовская тема не проявлена, но об интересе юноши-поэта к великому шотландцу написал Сергей Соловьев в очерке «Юрий Сидоров»[704]). Имена героев вальтерскоттовского «Уэверли», Карла Эдуарда Стюарта и Фёргюса Мак-Ивора, объединяются с именем Алины, музы Сидорова, и с образом Шотландии в сонете Сергея Соловьева «Памяти Юрия Сидорова», который также едва ли обошел вниманием Георгий Иванов:
Я вижу гор Шотландских властелина, Я слышу лай веселых песьих свор. Под месяцем теней полна долина, Летит Стюарт и грозный Мак-Айвор. В тумане вереск. Мрачен разговор Столетних елей. Плачет мандолина, И шепчет ветр над урною: Алина!.. О, темных парк жестокий приговор![705]Один из немногих исследователей, обративших внимание на малоизвестного Юрия Сидорова, М. Л. Гаспаров отметил в предисловии к составленной им подборке из четырех стихотворений этого поэта: «Его “Муза” напоминает раннего Ходасевича, а “Олеография” – даже Г. Иванова».[706] Действительно, второе упомянутое стихотворение Сидорова во многом предвосхищает того Георгия Иванова, который воплотился в 1910-е гг. Но весьма вероятно, что и сам автор «Вереска» и «Лампады» оглядывался на своего предшественника: принадлежащий к числу самых «цитатных» русских поэтов, он всегда готов был воспринимать и заново воссоздавать «чужих певцов блуждающие сны» – по формуле Мандельштама из цитированного выше стихотворения на «шотландскую» тему.
«Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: Символистский роман-коллаж
Опубликованная отдельным изданием в Париже в 1927 г., книга А. М. Ремизова «Взвихренная Русь» принадлежит к числу центральных, наиболее ярких и значимых произведений в многообразном творческом наследии мастера. Сам Ремизов хорошо осознавал, что именно в этой книге ему суждено было высказаться о себе и о пережитом его родиной в полный голос. Свидетельствует об этом, в частности, его позднейшая надпись (4 августа 1947 г.) на экземпляре «Взвихренной Руси», подаренном Вадиму Андрееву и его жене Ольге Викторовне:
«Эту книгу я писал, как отходную – исповедь мою перед Россией. Передо мною была легенда о России – образ старой Руси и живая жизнь Советской России.
Со старым я попрощался, величая, а с новым – я жил, живу и буду жить.
И еще в этой книге революция…»[707]
В немногочисленных отзывах на «Взвихренную Русь», появившихся в русской эмигрантской печати, примечательно удивительное единодушие: критики буквально вторят друг другу в своих – чрезвычайно высоких – оценках и характеристиках. «Взвихренная Русь», по убеждению князя Д. П. Святополк-Мирского, «займет одно из первых мест в литературе наших дней, и в творчестве самого Ремизова. Его запись о Великой Русской Революции полна значительности и внутренней, непосредственно воспринятой правды. Законный потомок Достоевского и гоголевской “Шинели”, Ремизов с особой остротой переживает боль и страдание, и его рассказ о Революции прежде всего хождение по мукам простых русских людей, застигнутых Революцией ‹…› отношение его к ней двойное, “амбивалентное”, отношение ненависти и любви, притягивания и отталкивания, и притягивания тем сильнейшего, чем сильнее соответное ему отталкивание».[708] Во «Взвихренной Руси», по словам другого рецензента, К. В. Мочульского, «лирически – с мукой страстной и великой любовью – ведется повесть о глухой ночи России. Годы войны и революции, о которых столько писали политики, журналисты, писатели-бытовики, – проходят перед Ремизовым в немеркнущем свете; тьма кромешная озарена им, оправдана и искуплена. Рассказать правдиво, ничего не скрывая и ничего не прикрашивая, о зверином, “волчьем” времени – о ненависти, отчаяньи и крови, рассказать так, чтобы читающий – не умом, а сердцем, всем своим телом – пережил странную тяготу и томление и не отрекся от духа, – задача труднейшая. Как ввести в повесть мертвенный, грузный быт этих лет: показать людей, заживо гниющих в холодных гробах-углах в медленно разлагающемся городе – Петербурге? И содрогаясь от ужаса и отвращения, – продолжать верить в человека? ‹…› Ремизов не умеет парить в успокоительных абстракциях, не умеет смотреть и не видеть. Ему дано острое и пристальное зрение: это его и мука и отрада».[709] В сходной по экспрессии тональности и с аналогичной общей оценкой «Взвихренной Руси» выступил Михаил Осоргин: «… книга совершенно исключительная, опять странная, опять трудная, смущающая, испытующая, но пронизанная высокой человечностью, освященная тем светом откровения, который дается мученичеством, вернее – сомученичеством в страшнейшем из застенков – в застенке людского быта. Книга эта рождена в революции и останется ее памятником. Это – запись кошмара, многими пережитого, но немногими оправданного. Она останется непонятной для тех, кто не пережил в России страшных 18–20 годов революции и кто не видел их снизу, из глубин человеческой мясорубки, из-под пресса, а не со стороны или с высот командующих».[710] Предельно лаконичную, но вполне однозначную и вескую оценку «Взвихренной Руси» позднее дала Нина Берберова: «бессмертная книга».[711]
Обтекаемое и самое общее определение «книга», не случайно чаще всего употребляемое применительно к «Взвихренной Руси», скрывает растерянность читателя в попытках более конкретного и точного определения жанра этого произведения. Подобные попытки приводят к полной разноголосице: литературно-историческая хроника, автобиографическая повесть, воспоминания, роман-хроника, мемуары-хроника и т. д.; отдельная статья была посвящена обоснованию тезиса о том, что «Взвихренная Русь» являет собой образчик жанра новой эпопеи, эпопеи XX века – века «повышенного индивидуализма», творящей эпический мир исключительно на основе индивидуального жизненного опыта автора.[712]
Сам Ремизов первоначально опубликовал значительную часть текстов, вошедших впоследствии во «Взвихренную Русь», с жанровым обозначением «временник». Такое авторское определение, указывавшее на хроникальную природу повествования, одновременно отсылало к произведению, которое во многом служило для Ремизова, составлявшего своего рода субъективную летопись новой русской «смуты», прообразом и историческим аналогом, – к «Временнику» дьяка Ивана Тимофеева, писавшемуся в 1616–1619 гг.[713] Изложение истории России в эпоху «смутного времени», между царствованиями Ивана Грозного и Михаила Романова, сочеталось в этом произведении с личными наблюдениями и мемуарными свидетельствами автора; исторические катаклизмы представали в интерпретации частного человека, и такой подход обнаруживал с ракурсом, избранным Ремизовым во «Взвихренной Руси», очевидные соответствия. Еще в повести «Пятая язва» (1912) Ремизов указал на «Временник» Ивана Тимофеева как одно из пророческих произведений прошлого, на века определившее параметры, которым неизменно продолжают соответствовать Россия и русский народ: «Обиды, насильство, разорение, теснота, недостаток, грабление, продажа, убийство, непорядок и беззаконие – вот русская земля»;[714] реалии, запечатленные во «Взвихренной Руси», демонстрируют полный набор всех перечисленных признаков. Тем не менее определение «временник» корректно лишь в отношении части текстов – правда, весьма значительной, – составивших общий корпус ремизовской книги. В целом же «Взвихренная Русь» являет собой причудливую и многосоставную повествовательную композицию, не имеющую себе подобий в традиционной системе жанровых координат; по словам К. Мочульского, Ремизов в этой книге «не считается с привычными определениями жанров: ‹…› краткие заметки перемежаются с рассказами; большие повести вставлены между двумя снами – лирические монологи чередуются с сухими записями дневника».[715]
Анализируя композиционное строение «Взвихренной Руси», Елена Синани выявила в книге два ряда, относительно которых отдельные фрагменты текста организуются в некое повествовательное единство, – линейное повествование, соблюдающее строгую хронологическую последовательность, как бы горизонтальную ось (собственно ремизовский «временник»), и второй композиционный ряд, образующий, в сочетании с первым, своего рода вертикальную ось повествования, которая вводит в зону авторской субъективности, метафизического преображения действительности, отражает ремизовские рефлексии по поводу событий, фиксируемых на горизонтальной оси.[716] Композиционная основа повествования определена «временником». Существенно в этом отношении, что первоистоком будущего произведения стал дневник, который вел Ремизов в революционные годы, – текст (в том виде, в каком он сложился), к печати не предназначавшийся; позднейшее (10 октября 1948 г.) пояснение к нему, сделанное Ремизовым, гласит: «откуда пошла “Взвих<ренная> Русь” мой дневник 1917 г. с 1 марта и до августа 1921»[717] (примечательна здесь словесная формула, вызывающая ассоциацию «Взвихренной Руси» с древнейшим памятником русского летописания – «Повестью временных лет», «откуду есть пошла Руская земля»). Ремизов вел дневник в рукописных тетрадях, получивших в пору работы над «Взвихренной Русью» заглавия и хронологические обозначения: «II. Орь. 27.II. – 1.VI. 1917», «IV. Ростань. 10.VIII. – 25.X. 1917» и т. д.; те же или аналогичные им заглавия и обозначения зафиксированы в хронологически выстроенном повествовании «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова», напечатанном в берлинском журнале-альманахе «Эпопея» в 1922 г. (№ 1–3); позднее весь этот текст без существенных изменений – но с изъятием точных датировок отдельных частей – вошел во «Взвихренную Русь».
По всей вероятности, Ремизов снял точные хронологические указания на последней стадии подготовки книги к печати, тогда же дав новые заглавия отдельным разделам; в рукописи «Взвихренной Руси» (хранящейся в Амхерстском Центре Русской Культуры, США) имеется автограф Ремизова (с техническими указаниями для типографского набора), содержащий заглавия разделов: «1. Весенняя рынь 23–27 II 1917» (окончательное заглавие – «Весна-красна»), «2. Орь 27. II – 1 VI 1917» («Медовый месяц»). «3. Мятенье 1 VI – 10 VII 1917» («В деревне»), «4. Ростань 1 VII – 25 X 1917» («Москва»), «5. Ветье 26. 10. – 31. 12. 1917» («Октябрь»), «7. Современные легенды. 1917», «8. Голодная песня. 1918», «9. Завиток. 6. 1. – 6. 7. 1918» («Знамя борьбы»), «11. Лесовое. 14. 7 – 22. 8. 1918», «14. Заяц на пеньке. 3. 3. – 12. 12. 1919», «15. Окнища (1919–1920)», «16. Загородительные вехи. 1. 4. – 3. 5. 1920», «20. Перед шапошным разбором. 1. 7. 1920 – 13. 3. 1921». Все эти точные временные привязки, дополнительно подчеркивающие летописное начало в структуре книги, в печатный текст «Взвихренной Руси» не попали; в ходе авторской редактуры были сняты и другие конкретные признаки, обнажающие дневниковую природу повествования (например, в рукописи раздела «Перед шапошным разбором» первая фраза: «С 1-го июня мы на новой квартире», в тексте книги: «С начала лета мы на новой квартире»; там же в рукописи: «14. 3. Кронштадтское восстание. 15. 3. Речь Ленина – зарождение нэпа», в тексте книги приведенные датировки отсутствуют). Устранены локальные хронологические обозначения, однако в последовательности повествовательных фрагментов, составляющих композицию книги, линейный хронологический ряд неуклонно сохраняется.
Историческая хроника во «Взвихренной Руси» сочетается с текстовыми фрагментами, резко контрастными по жанру, – лирическими и философскими поэмами в прозе, рассказами с развернутым самостоятельным сюжетом и повествовательными миниатюрами, игровыми псевдодокументами, вроде «конституции» и «манифеста» Обезвелволпала, и т. д. Эти тексты чередуются с фрагментами «временника», а иногда оказываются внутри хронологических разделов повествования (например, раздел «временника» «Весна-красна» завершается лирической поэмой «Красный звон», а между VIII и IX фрагментами «временника» «Москва» вкраплено – правда, без обозначения заглавия – знаменитое ремизовское «Слово о погибели русской земли»). Создание впечатления внешнего хаоса, стилевой, тематической, жанровой чересполосицы, безусловно, было осознанной и глубоко продуманной творческой задачей Ремизова – его художественным образом той социально-исторической субстанции, которая стала предметом повествования. Это хорошо поняли уже первые читатели «Взвихренной Руси»; в частности, Михаил Осоргин писал: «Рассказать книгу Ремизова невозможно. Тому, кто ее только перелистает, она покажется набором мелких рассказиков, сценок, чудачеств, отступлений, случайных записей, неправдоподобных снов, пестрящих подлинными именами. Время от времени тон бытовой повести или нарочитого гаерства переходит в неожиданную, высокую, как бы даже преувеличенную лирику и вновь завершается какой-то заметкой, годной для газетного отдела курьезов и анекдотов. Нужно привыкнуть к письму Ремизова, чтобы прежде, чем дойдешь до последней умиротворяющей страницы, где-то на полустроке, внезапно – но с полной ясностью – понять, что вся эта суета манеры, вся эта неслитая смесь быта и бытия, бодрствования и сна, крови и анекдота, великого горя и мизерных радостей, – все это и есть олицетворение взвихренной России, той самой, которую мы воочию видели и горю которой приобщились».[718]
Повествовательно-композиционная техника, используемая Ремизовым во «Взвихренной Руси», вполне удовлетворяет индивидуальному жанровому понятию «сверхповести», изобретенному Велимиром Хлебниковым и обоснованному во введении к его «сверхповести» «Зангези» (1922): «Сверхповесть ‹…› складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. ‹…› Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы ‹…› Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть».[719] Если же хлебниковскому неологизму предпочесть термин «роман», как наиболее традиционное и широко употребительное жанровое обозначение для повествовательных художественных произведений большого объема, то «Взвихренная Русь» будет вполне удовлетворять определению роман-монтаж[720] или даже более радикальному – учитывая сугубую разножанровость и разнородность по стилевой фактуре составляющих его фрагментов: роман-коллаж. В ряду многообразных экспериментов с монтажными приемами, осуществлявшихся в системе модернистской культуры начала XX века,[721] «Взвихренная Русь» занимает весьма значимое место, во многом предопределив новации, традиционно связываемые с другими произведениями и другими литературными именами; в частности, вводя в ткань своего повествования подлинные (или имитирующие подлинность) документы – газетные вырезки, лозунги, правительственные декреты, письма простых людей и т. д., – Ремизов предвосхитил не только аналогичные композиционные приемы, использовавшиеся в русской прозе 1920-х гг. (особенно наглядно и ярко – в «хроникально» организованном романе Анатолия Мариенгофа «Циники», 1928), но и вызвавшую в свое время мировой резонанс калейдоскопическую стилистику Джона Дос Пассоса (монтировавшего в единое повествование нарративную сюжетную прозу, лирические дневниковые фрагменты, газетную и кинематографическую хронику), которая впервые была применена им в романе «42-я параллель» («The 42nd parallel», 1930).
Коллажные приемы можно проследить во «Взвихренной Руси» на самых различных уровнях – при рассмотрении общей композиции произведения; при рассмотрении отдельного фрагмента, включающего собственно художественную прозу и документальные (или псевдодокументальные) вкрапления; при рассмотрении соответствий между художественным текстом и внетекстовой реальностью. В последнем отношении особенно примечательно, что подчеркнуто субъективный ремизовский «временник» представляет собой монтаж двух типов повествования – описывающего подлинную реальность, преломленную авторским сознанием, и воспроизводящего реальность заведомо мнимую, фантомную: художественно обработанные записи снов. При этом постоянно происходит то, что Т. В. Цивьян определяет как «переплеск сна в явь»:[722] в записанных снах фигурируют реальные лица и сновидчески преображенные подлинные обстоятельства, предстающие иногда в заведомо игровом, провокационном ключе (и в этом отношении можно понять В. Ф. Ходасевича, заявившего Ремизову: «Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне!»[723]); реальность же уподобляется сновидению с его алогизмом, разорванными связями и фантастическими сочетаниями. Размышляя по поводу ремизовских «снов», опубликованных за несколько лет до революции, Д. В. Философов писал: «Во сне ты – да и никто – не ответствен, а просыпаясь, инстинктивно веришь, что входишь в мир разумной воли, или столь же разумной необходимости. Но бывают времена, что эта естественная вера колеблется, а иной, сверхъестественной, нет. Реальный мир превращается в бессмыслицу, а за реальностью ничего нет, пустота».[724] Именно такие времена стали предметом изображения в ремизовской революционной хронике.
Коллажная природа построения «Взвихренной Руси» наглядно проясняется, если проследить основные вехи творческой истории этого произведения. Все входящие в него автономные фрагменты (в библиографии Ремизова, составленной Еленой Синани, выделено 80 таких фрагментов[725]) были опубликованы (некоторые – неоднократно) до выхода книги отдельным изданием в 1927 г., при этом авторские указания на их принадлежность к корпусу «Взвихренной Руси» появились лишь в 1925 г. – при публикации фрагментов в берлинской газете «Дни» и рижском журнале «Перезвоны». Как самостоятельные произведения печатались в периодике разделы ремизовского «временника», публиковались автономно или в составе иных циклов другие составляющие «Взвихренной Руси»: открывающий книгу рассказ «Бабушка», опубликованный в журнале «Заветы» еще в 1913 г. (№ 3), входил в книгу Ремизова «Весеннее порошье» (Пг., 1915), «Асыка» (под заглавием «Обезьяны») впервые появился еще в сборнике ремизовских «Рассказов» (СПб., 1910), многие фрагменты будущей «Взвихренной Руси» ранее входили в другие его авторские циклы («Шумы города», вышедшие отдельным изданием в Ревеле в 1921 г.) и книги («Ахру», 1922; «Кукха», 1923), поэма «О судьбе огненной» была напечатана в 1918 г. отдельной книжкой. Разомкнутость, импровизационная подвижность композиционной структуры, организующей повествовательное пространство «Взвихренной Руси», сказывается и в том, что некоторые фрагменты, которые входили в предварительные циклы, опубликованные в периодике, в окончательный состав книги не попали; могли бы быть представлены в ее составе и некоторые другие произведения Ремизова, отразившие его ви´дение революционных событий – например, очерки и фельетоны, напечатанные в 1917 г. в «Простой газете»,[726] или оставшаяся в рукописи «Вонючая торжествующая обезьяна…», непосредственно примыкающая к «обезьяньему» циклу во «Взвихренной Руси».[727] Существенно при этом, что, формируя окончательный состав и композицию «Взвихренной Руси», Ремизов стремится к воплощению более «оптимистической», провиденциальной историософской концепции, чем та, которая могла сложиться в читательском сознании при знакомстве с разрозненными фрагментами будущего целого: не случайно он завершает книгу лирико-патетической поэмой в прозе «Неугасимые огни», исполненной веры в грядущее возрождение родины; также не случайно, включая в книгу несколько видоизмененный текст «Слова о погибели русской земли», автор снимает это заглавие и даже не выделяет «Слово…» в самостоятельную рубрику, а помещает его внутри раздела «Москва», «скрывает» между хроникальными фрагментами.
Создавая итоговую композицию «Взвихренной Руси», Ремизов наиболее кардинальным образом следовал тем творческим принципам, которые складывались у него на протяжении четверти века литературной деятельности, тому методу, который сам он определил предельно кратко: «Я беру себя – свое, и раскалываю на 33 кусочка и эти куски соединяю».[728] Многосоставность, мозаичность, композиционная дробность присущи уже самым первым его опытам сюжетной прозы (со всей очевидностью они прослеживаются в его первом романе «Пруд») и достаточно отчетливо проступают даже в произведениях, по своей внутренней организации наиболее близких к традиционным нарративным структурам. Критики, воспринимавшие эти традиционные структуры как беллетристический канон, расценивали отмеченные особенности прозы Ремизова весьма негативно; так, А. А. Измайлов писал о его «Крестовых сестрах»: «…с работой Ремизова случается то, что бывает с мозаичной картиной, когда ее смотришь слишком близко. Каждая клеточка, каждый спай берут внимание. Какой-то таинственный дух, который должен слить, спаять, обобщить эти красные, синие, черные клетки в одно творческое создание, куда-то отлетел. Целого нет. Так нет целого у Ремизова. Точно видишь черновик его повести, где на каждой странице подклейки, над каждой строкой – вставки».[729] Для Ремизова, однако, все эти «подклейки», «вставки» и прочие приметы коллажного повествования – наиболее адекватная форма творческой самореализации; в предпочтении «мозаичного» изложения линейно-дискурсивному на свой лад сказывается исконная принадлежность писателя к символистской культуре и символистским философско-эстетическим приоритетам. Представление о мире как средоточии символических соответствий, ставшее краеугольным конструктивным принципом символистской эстетики, на материале ремизовского творчества откликается, в частности, отмеченными композиционными приемами, тем методом соположения разнородных эстетических феноменов, который позволяет выявить между этими феноменами «тонкие властительные связи» (Валерий Брюсов, «Сонет к форме», 1895) и который наиболее наглядно раскрывается во «Взвихренной Руси».
Аналоги этому методу можно обнаружить в творчестве других русских символистов, высоко ценимых Ремизовым, – прежде всего у Андрея Белого, давшего в прозаических «симфониях», появившихся в начале 1900-х гг., свою версию монтажной композиции, многими особенностями предвосхитившую позднейшие опыты Ремизова, а также у Александра Блока с его поэмой «Двенадцать», по характеру изображения революционной стихии-смуты чрезвычайно близкой «Взвихренной Руси».[730] В передаче Вадима Андреева зафиксированы слова Андрея Белого (опубликовавшего несколько частей ремизовского «временника» в своем журнале «Эпопея»): «Если в поэзии лучшим произведением русской революции является “Двенадцать” Блока, то в прозе – само собой разумеется и за явностью и договаривать стыдно, – это “Взвихренная Русь” Ремизова».[731] Поэма «Двенадцать» может рассматриваться как прообраз ремизовской книги и на уровне композиционных приемов: это – «не связное, последовательное повествование», а «ряд ‹…› отдельных эпизодов, соединенных по принципу монтажа»,[732] каждый из эпизодов выстроен в своем, контрастном по отношению к соседним, жанрово-стилевом регистре, авторский текст включает «документальные» вкрапления – подлинные лозунги и воззвания, и т. д.
«Соответствия» ремизовским повествовательным приемам выявляются и в иных литературных эпохах. В отличие от многих других выразителей символистской культуры, Ремизов хорошо знал и чрезвычайно высоко ценил русскую «разночинную», шестидесятническую прозу: по его словам, «конец шестидесятых и начало семидесятых – словесный взлет ни с чем не сравнимый».[733] Именно в эту пору, в произведениях Салтыкова-Щедрина, Лескова, Глеба Успенского и целого ряда их современников, наиболее яркое развитие получила эстетика прозаического цикла – очеркового, новеллистического, публицистического; появляются романы-циклы, романы-хроники; циклы компоновались из отдельных, относительно самостоятельных и самодостаточных повествовательных единиц, которые иногда могли включаться в различные, параллельно возникавшие композиционные модификации; аналогичную картину мы наблюдаем в творческой истории «Взвихренной Руси».
Однако монтажные принципы, манифестированные этим произведением, имели еще один явный прообраз, наиболее, вероятно, для Ремизова внутренне близкий и значимый, – древнерусскую книжность. Готовый вместе с Розановым отвергать изобретение Гутенберга, «обездушивающее» и нивелирующее всех писателей,[734] влюбленный в рукописную книгу, получающий отдохновение в изощренных каллиграфических опытах,[735] Ремизов воскрешал в себе средневекового книжника, писца – переписывал старинные грамоты, переписывал (иногда без всякой прагматической надобности) собственные произведения, стилизуя в графической фактуре различные типы древнерусских почерков, а в оформлении – «изукрашенность» древнерусских рукописных книг (среди сохранившихся рукописей «Взвихренной Руси» отдельные фрагменты переписаны набело подобным образом по нескольку раз). Пристально ознакомившийся со многими памятниками древнерусской литературы, хорошо ориентировавшийся в древнерусской палеографии,[736] Ремизов имел вполне исчерпывающее представление о том, что письменность этой эпохи представлена по преимуществу в виде кодексов – сборников. Согласно общей характеристике В. О. Ключевского, «сборник – характерное явление древнерусской письменности. В каждом рукописном собрании, уцелевшем от древней Руси, значительная часть рукописей, если не большинство, – непременно сборники. ‹…› Огромное количество оригинальных древнерусских произведений носит характер более или менее краткой статьи. Эти статьи были слишком малы, чтобы каждая из них могла составить отдельную рукопись, и удобство читателя заставляло соединять их в сборники в том или другом порядке или подборе ‹…›. Форма сборника, господствовавшая в древнерусской письменности, проникала иногда в самый состав даже цельных литературных произведений. Памятники, первоначально цельные по своему содержанию и литературной композиции, иногда теряли под руками позднейших редакторов свой первоначальный вид, разбиваясь на отдельные статьи или осложняясь новыми прибавочными статьями, и, таким образом, принимали характер сборника».[737]
Без особенных натяжек работу Ремизова по формированию окончательной композиции «Взвихренной Руси» можно соотнести с работой древнерусского писца, в результате которой рождался рукописный свод. Ремизов сознательно выстраивал роман-конволют: термин, используемый в библиотечной технике для обозначения соединенных под одним переплетом небольших самостоятельных изданий, соотносимых друг с другом по определенным формальным и содержательным параметрам, метафорически достаточно емко охватывает содержательное и формальное целое «Взвихренной Руси». Необходимо, однако, учитывать, что в сознании автора эта книга – именно целое, а не механическая совокупность. Смысловой центр «Взвихренной Руси», аккумулирующий в себе все ее разноречивые составляющие, образует поэма «О судьбе огненной», представляющая собой вольное переложение философских фрагментов Гераклита. Непосредственно от Гераклита могли передаться Ремизову и те универсальные формулы, в согласии с которыми организована «Взвихренная Русь»: «связи: целое и не целое, соединяющееся и разнообразящееся, мелодичное и немелодичное и из всего – единое и из единого – всё».[738]
Вслед Тименчику Несколько заметок на полях прочитанного
Крупнейший специалист по Ахматовой и акмеизму, Роман Тименчик не менее впечатляюще заявил о себе в жанре филологической миниатюры, «заметок на полях именных указателей», всевозможных varia и marginalia. «Сколько сил он в малый плод кладет», не всегда может уразуметь досужий читатель, а между тем многие его лапидарные и внешне непритязательные экзерсисы содержат больше значимой информации, интересных наблюдений и раритетных находок, чем иные пухлые тома, заполненные многократно пережеванной материальной субстанцией и разбавленные водой. Нижеследующее – лишь несколько опытов подражания (поневоле не способных возвыситься до своих прообразов) компетентнейшему и артистичнейшему из крохоборов, подвизающихся ныне на поприще истории российской словесности.
1. «Не о Конте, папаша, о канте!..»
Один из диалогов отца и сына Аблеуховых в романе Андрея Белого «Петербург» (гл. 3, главка «Конт-Конт-Конт!») затрагивает философскую проблематику. Аполлон Аполлонович, услышав название «“Theorie der Erfahrung” Когена», спрашивает: «что же это за книга, Коленька?» – и получает ответ:
«– Коген, крупнейший представитель европейского кантианства.
– Позволь – контианства?
– Кантианства, папаша…
– Кан-ти-ан-ства?
– Вот именно…
– Да ведь Канта же опроверг Конт? Ты о Конте ведь?
– Не о Конте, папаша, о Канте!..
– Но Кант не научен…
– Это Конт не научен…
……….
– Не знаю, не знаю, дружок: в наши времена полагали не так…»
Недоумение Аполлона Аполлоновича возрастает: «‹…› темно-синего цвета глаза уставились вопросительно:
– Конт… Да: Кант…
Он подумал и вскинул очи на сына:
– Итак, что же это за книга, Коленька?»[739]
Наглядным образом позитивистское мировоззрение «отцов» (Огюст Конт – законодатель и знамя позитивизма) сталкивается здесь с философией «детей» – идейными исканиями Николая Аполлоновича, травестийного alter ego самого Белого, на протяжении многих лет тянувшегося к Канту, завороженного им и время от времени отшатывавшегося от него. Н. Пустыгина, отмечая цитирование в «Петербурге» «комплекса кантианских идей», особо указывает и на «каламбурное присоединение к фамилии Канта фамилии Конта»: «… из разговора сенатора и Аблеухова-младшего явствует, что они не понимают друг друга: для Аполлона Аполлоновича “кантианство” – это “контианство” (и напротив – “контианство” есть “кантианство” для Николая Аполлоновича). В контексте же романа в целом это означает непонимание “неокантианцами” начала XX в. позитивистов XIX в. (Недаром Аполлон Аполлонович когда-то читал “Логику” Милля, а Николай Аполлонович читает “Логику” Зигварта и “Die Theorie der Erfahrung” Когена.) В то же время противопоставление этих двух философских течений, широко распространившихся в России, “снимается” в “Петербурге” каламбурным “кантианство – контианство”».[740]
Близкие по звучанию и написанию (в русской транслитерации) фамилии двух философов, имеющих между собой мало общего во всех иных отношениях, действительно напрашивались на каламбурное обыгрывание, вполне органично вписывавшееся в образный строй «Петербурга». Игровая коллизия могла возникнуть в сознании автора спонтанно, но также могла быть стимулирована «подсказками» – уже отмеченными ранее прецедентами превращения Канта в Конта или наоборот. Один из таких прецедентов зафиксирован в комментарии к «Петербургу»: «На использование в романе путаницы имен двух философов (Кант – Конт) Белого могла натолкнуть досадная опечатка в его книге “Символизм” <М., 1910>: на с. 13 вместо “Конт и Спенсер” напечатано: “Кант и Спенсер”. Белый отметил эту оплошность в списке опечаток, приложенном к книге».[741] Другой сходный случай также, скорее всего, оказался в свое время в поле зрения автора «Петербурга».
В 1909 г. в газете «Голос Москвы» – органе октябристов, в котором двумя годами ранее Белый отказался сотрудничать из-за его политической ориентации,[742] – был опубликован (под псевдонимом «Гранитов») фельетон, написанный по поводу выхода в свет его книги стихотворений «Урна»; автором отзыва был журналист Никандр Васильевич Туркин (1863–1919), имевший некоторое отношение к изящной словесности – «писавший в молодости лирические стихи, а в расцвете лет перешедший на прозу»: «Стихи его быстро забылись, а прозу нельзя было забыть только потому, что никто ее не читал».[743] Сконцентрировав внимание на Белом, непризнанный поэт и прозаик руководствовался целью разоблачить автора «признанного» – хотя бы и не в самых широких читательских кругах – как величину мнимую, не имеющую мало-мальски литературного значения. «Урна», по убеждению Туркина, демонстрирует «полное отсутствие у автора поэтического дарования»: «бессилие поэтического творчества», «нелепые образы», «наивная сочиненность»; приговор рецензента однозначен: «Андрей Белый не рожден поэтом и никогда им не будет». Разоблачая новоявленного «голого короля», Туркин указует и на тех обманщиков, которые потрудились над созданием воображаемого пышного костюма; ими, по его мнению, были инициаторы собраний Московского Литературно-Художественного Кружка (в деятельности которого, включавшей регулярные «бои символистов с газетчиками»,[744] Белый принимал интенсивное участие). Благодаря их попустительству стала подавать голос амбициозная молодежь, способная лишь пускать «литературную пыль в глаза собирающейся на вторники публике»: «Андрей Белый среди этой молодежи был наиболее начитанным человеком. В глазах публики литературного кружка он выглядел не только глубоким знатоком западной литературы, но и знатоком всех течений философской мысли. ‹…› Среди русских студентов и разных литературных подростков он по праву занял видное место и стал интересною фигурой. Но это его и губит, если уже не сгубило. ‹…› Он много учит других и мало учится сам. Он не успел еще сам разобраться в знаниях, приобретенных и нахватанных. У него закружилась голова среди чада кружкового успеха и притупилась чуткость. Бесспорно даровитый, знающий и имеющий хороший литературный вкус человек не чувствует, например, бессилия и безвкусия своего поэтического творчества».[745]
Таким образом, своей славой Андрей Белый обязан, по мнению критика, невзыскательным, неразборчивым и малообразованным людям, подвизающимся на поверхности литературной жизни. В качестве примера, свидетельствующего о том культурном уровне, на котором находятся эти лица, он приводит следующий эпизод:
«Помню я, как на моих глазах, в редакции одной из самых бойких московских газет фактический редактор правил статью, в которой упоминались несколько раз имена Конта и Канта. Редактор морщился и злился.
– Черт знает, как пишут, то через “о”, то через “а”. Уж надо как-нибудь одинаково.
Я вмешался.
– Но ведь здесь же два разных имени…
– Разве?! Вы наверно знаете? Да, да! Разумеется два лица. Вспомнил.
И он продекламировал четверостишие из юмористического журнала, в котором когда-то сотрудничал:
Бокля, Милля, Конта, Канта В сто раз легче прочитать И дойти до их субстанта, Чем тебя, мой друг, понять.– Только какой же из них Кант, а какой Конт? Возьмите, голубчик, посмотрите, какого надо через “о” оставить, а какого через “а”».[746]
Андрей Белый был памятлив на некоторые негативные оценки своего творчества, появлявшиеся в печати. Не раз упоминал он «бранную рецензию» Тэффи на его книгу «Пепел», в которой был поименован «старым слюняем»;[747] запало в его сознание и насмешливое определение, данное Анатолием Бурнакиным «Золоту в лазури», – «сусало в синьке».[748] Весьма вероятно, что и фельетон Гранитова-Туркина отложился в «творческой лаборатории» писателя – всплыв опосредованным образом при сочинении «философского» разговора двух главных героев «Петербурга».
2. Роберт Майер, Иванов-Разумник и профессор Коробкин
Кульминационный эпизод романа Андрея Белого «Москва» (1926) – сцена истязаний профессора Коробкина, которым подвергает ученого шпион и аферист Мандро ради овладения сделанным им научным открытием (с последующим использованием его в военных целях). Мандро привязывает Коробкина к стулу и, пытаясь добиться признания, где тот спрятал свое открытие, выжигает ему глаз; профессор тайну не выдает и теряет рассудок.
Вдова писателя К. Н. Бугаева высказала достаточно уверенное предположение о том, что, сочиняя эту сцену, Белый находился под впечатлением от биографического очерка Евг. Замятина «Роберт Майер»: «Отрывки из этой брошюры Б. Н. с огромным волнением мне прочитывал вслух, может быть еще в Берлине, восклицая: “Такова судьба гения!”»[749] Юлиус Роберт Майер (1814–1878), немецкий естествоиспытатель и врач, первым сформулировавший основы термодинамики и закон сохранения энергии, был личностью, издавна интересовавшей Белого: он фигурирует, в частности, в комментариях к «Символизму»,[750] – но стимулировать этот интерес должна была именно книжка Замятина, в которой было рассказано о том, как преследовали непризнанного ученого и даже продержали некоторое время в камере для сумасшедших. Последний факт не мог не произвести на Андрея Белого – многократно ранее развивавшего в своем творчестве тему «провидца-безумца» – особенно сильного впечатления; он готов был проецировать его на собственную судьбу и даже вспоминал о Майере, сетуя на то, что на протяжении долгого времени ему не удается опубликовать свои стиховедческие исследования (в письме к Е. Ф. Никитиной, руководительнице издательства «Никитинские субботники», от 18 апреля 1928 г.): «Роберта Майера за открытие принципа энергии едва не упекли в сумасшедший дом; меня допекает судьба тем, что 12 лет никто не желает печатать о ритмическом жесте в то время, когда из рога изобилия книга за книгой сыплется номенклатурная стиховедческая дребедень. За что? За то, что я сформулировал принципы ритма?»[751]
Роберт Майер – по определению Замятина, «романтик науки, Дон-Кихот физики»[752] – стараниями жены и тестя был помещен в лечебницу для сумасшедших. «Обычная судьба пророка в своем отечестве, обычная судьба романтика – быть побежденным грубой, практичной и трезвой жизнью», – заключает Замятин и далее подробно повествует о мытарствах, которые претерпел ученый от своего врачевателя, доктора фон Целлера: «В припадке отчаяния Майер стал колотить сапогом в дверь. Для фон-Целлера этого было довольно, чтобы решить: пациент из камеры номер такой-то – буйный сумасшедший. Надеть на номера такого-то сумасшедшую рубаху и привязать его к “смирительному стулу”. И номера такого-то скрутили и привязали. Неизвестно, сколько времени держали Майера в сумасшедшей рубашке на этом самом “смирительном стуле”. Вероятно, долго, потому что сам он впоследствии рассказывал Дюрингу, что после этой процедуры у него жестоко болела спина и во многих местах на теле были ссадины и раны от веревок. Так просвещенный психиатр лечил одного из величайших ученых 19-го века от его “заблуждений” и мании величия. Лечение это продолжалось целый год. Целый год Майер высидел в одиночной камере сумасшедшего дома».[753]
Испытания, перенесенные Майером, сходным образом повторяются в сцене пыток в «Москве»: «Вот – связаны руки и ноги; привязаны к креслу ‹…›»; «Связанный, с кресла свисал – одноглазый, безгласый, безмозглый ‹…›».[754] «Безгласый» – потому что Мандро, истязая Коробкина, забил ему рот кляпом; Роберту Майеру, судя по очерку Замятина, такого измывательства претерпеть не довелось. «Огромною грязною тряпкой заклепан был рот», – пишет об истязуемом профессоре Белый; и далее: «И казалось, что он перманентно давился заглотанной тряпкою, – грязной и пыльной».[755]
Отмеченная деталь – безотносительно к тому, обдуманно ли она была использована Белым или попала в текст романа безотчетно, – имеет столь же определенный сторонний источник, как и замятинское описание мученичества Роберта Майера по отношению к рассматриваемому эпизоду романа. Это – письма Иванова-Разумника, ближайшего друга, сподвижника и постоянного корреспондента Белого в пореволюционные годы, непосредственно предшествовавшие началу работы над «Москвой». В одном из писем к Белому, от 7 декабря 1923 г., бывший лидер «скифской» литературной группы подводил неутешительные итоги революционных перемен, расколовших страну на «Россию № 1», торжествующую в настоящем, «Россию № 2», ушедшую в прошлое и в эмиграцию, и «Россию № 3», которой предназначено воплотиться в будущем: «Quasi-коммунистическое мещанство может торжествовать в настоящем, но ему закрыто будущее. Но от этого не легче нам, которым открыто будущее и закрыто настоящее, нам, России будущего, “России № 3”. ‹…› Мы отрезаны от жизни настоящего. Деятельность нам закрыта. Книги наши конфискуются. Рот забит тряпкой. И все это – естественно и законно. Люди настоящего не могут всеми мерами не бороться на оба фронта – и № 2, и № 3. Они должны преследовать не только прошлое, уже обреченное на гибель, но и будущее, победа которого неотвратима, – и все затем, чтобы продлить свое настоящее».[756] Год спустя, 29 ноября 1924 г., Иванов-Разумник в письме к Белому вновь упоминает про рот, забитый тряпкой, а также, созвучно с Замятиным, и про связанные руки, – говоря о свершившемся торжестве «левиафанной государственности» и о порожденных ею «несчастных коммунистических бой-скоутах, насвистываемых с марксистской дудочки комсомольцах»: «А наша участь – с цензурным кляпом во рту и со связанными за спиной руками – доживать эти годы, сорок лет странствования по духовной пустыне».[757]
Профессор Коробкин, «связанный, брошенный в кресло», заявляет своему мучителю перед тем, как его «рот забит тряпкой»: «Я перед вами: в веревках; но я – на свободе: не вы; я – в периоде жизни, к которому люди придут, может быть, через тысячу лет; я оттуда связал вас: лишил вас открытия; вы возомнили, что властны над мыслью моею; тупое орудие зла, вы с отчаяньем бьетесь о тело мое, как о дверь выводящую: в дверь не войдете!»[758] Профессор вещает от лица «России № 3», и словами его, обращенными к фантомному злодею, бесчинствующему в предреволюционной Москве, Андрей Белый – хотя и «с цензурным кляпом во рту» – заявляет о своей внутренней силе и правоте тем, кто представляет «Россию № 1», Россию торжествующего настоящего.
3. «Я не помню, Годива…»
Заключительная строфа стихотворения О. Мандельштама «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931):
Не потому ль, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю еще про себя под сурдинку: Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива… –традиционно соотносится с балладой Альфреда Теннисона «Годива». В комментарии Н. И. Харджиева сообщается: «По английскому преданию, леди Годива избавила народ от тяжелой подати, согласившись исполнить жестокое требование своего мужа, графа Ковентри: она выехала из замка в город на лошади, нагая, прикрытая только прядями своих волос. Легенда о леди Годиве – сюжет одноименного популярного в дореволюционной России стих. английского поэта А. Теннисона».[759] Те же сведения повторяются и уточняются комментаторами позднейших изданий Мандельштама: «Годива – воспетая А. Теннисоном жена графа Ковентри, освободившая народ от тяжелой подати, согласившись взамен, по требованию мужа, выехать из замка в город на лошади прикрытой лишь прядями своих волос, т. е. нагой; однако она ехала по пустому городу – ни один житель даже не открыл ставни».[760] В начале XX века баллада Теннисона получила широкую известность на русском языке благодаря переводу И. А. Бунина, впервые опубликованному в 1906 г. в 14-м сборнике товарищества «Знание», а в 1915 г. перепечатанному в томе 1 Полного собрания сочинений писателя.[761] Апелляция Мандельштама к Теннисону в данном случае не вызывает сомнений, однако в цитированных строках обозначено и то, чего нет в стихотворной «Годиве», лишь в сюжетных подробностях перелагающей «одну из древних местных былей». Мандельштам говорит о «детской картинке», его ассоциации пробуждают визуальную память.
За два года до создания этого стихотворения, в январе 1929 г., вышел в свет роман А. С. Грина «Джесси и Моргиана». В главе III героиня осматривает кабинет своего покойного отца:
«Джесси ‹…› зашла ‹…› в кабинет Тренгана ‹…› и обратила внимание на картину “Леди Годива”.
По безлюдной улице ехала на коне, шагом, измученная, нагая женщина, – прекрасная, со слезами в глазах, стараясь скрыть наготу плащом длинных волос. Слуга, который вел ее коня за узду, шел, опустив голову. Хотя наглухо были закрыты ставни окон, существовал один человек, видевший леди Годиву, – сам зритель картины; и это показалось Джесси обманом. “Как же так, – сказала она, – из сострадания и деликатности жители того города заперли ставни и не выходили на улицу, пока несчастная, наказанная леди мучилась от холода и стыда; и жителей тех верно было не более двух или трех тысяч, – а сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! И я в том числе. О, те жители были деликатнее нас! Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу: нарисуй внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании – потому что слышат медленный стук копыт – столпились жильцы; они молчат, насупясь; один из них говорит рукой: ‘Ни слова об этом! Тс-с!’ Но в щель ставни проник бледный луч света: это и есть Годива!”
Так рассуждая, Джесси вышла из кабинета ‹…›».[762]
В этом фрагменте описываются две картины – реальная, увиденная героиней романа и наглядно, подобно «детской картинке», иллюстрирующая сюжетную канву легенды и баллады Теннисона, и воображаемая, в которой леди Годива предстает лишь намеком, отблеском (ср.: «Я не помню, Годива…»). Документальных подтверждений того, что Мандельштам читал Грина, кажется, не имеется, но нет и достаточных оснований для того, чтобы решительно отрицать возможность такого знакомства. Любопытно в этом отношении, что стихотворение «С миром державным я был лишь ребячески связан…», актуализирующее оппозицию «юга» («Я убежал к нереидам на Черное море») и «севера», Петербурга («Он от ‹…› морозов наглее»), обнаруживает тематическую аналогию в эпизоде из «Джесси и Моргианы», непосредственно следующем за размышлениями о картине «Леди Годива»: Джесси, уроженка юга («Я никогда не видела снега»), беседует со служанками, приехавшими с севера («…у нас зима: семь месяцев, мороз здоровый ‹…›»). «Под знамя юга или в замерзшие болота севера?» – спрашивает Джесси, обитательница вымышленной «Гринландии», не ведавшая о существовании воздвигнутого на болотах Петербурга.
4. «Очки» в романе Набокова «Король, дама, валет»
В сюжете и композиции романа Владимира Набокова «Король, дама, валет» (1928) прослежены многочисленные параллели с повествовательными структурами Стендаля и Бальзака, «Пиковой дамы» Пушкина, с «Дамским счастьем» и «Терезой Ракен» Золя, с толстовской «Анной Карениной» и флоберовской «Госпожой Бовари», с недавно к тому времени появившимися «Завистью» (1927) Юрия Олеши и «Американской трагедией» (1925) Теодора Драйзера, даже с «симфониями» Андрея Белого; в отдельных фрагментах набоковского текста выявлены реминисценции из гоголевских «Мертвых душ» и гофмановского «Песочного человека», из стихотворений Фета и Блока и т. д.[763] Правомерным представляется добавить к этому открытому перечню, беззащитному перед новыми приношениями от «проницательных читателей», еще один источник из арсенала мировой повествовательной классики. Это – рассказ Эдгара По «Очки» («The Spectacles», 1844), юмористический гротеск, обыгрывающий тему несоответствия между видимостью и сущностью.
Герой рассказа, 22-летний молодой человек, крайне близорукий, но очками не пользующийся, влюбляется с первого взгляда в незнакомую даму, кажущуюся ему прекраснейшей из всех женщин; предприняв энергичные усилия, он знакомится с нею и побуждает ее выйти за него замуж. После завершения брачной церемонии избранница заставляет своего новообретенного супруга надеть очки, и ему открывается совершенно неожиданная картина: «… ошеломление это было безгранично и могу даже сказать – ужасно. Во имя всего отвратительного, что это? Как поверить своим глазам – как? Неужели – неужели это румяна? А это – а это – неужели же это морщины на лице Эжени Лаланд? О Юпитер и все боги и богини, великие и малые! – что – что – что сталось с ее губами?»; «– Негодяйка! – произнес я, задыхаясь. – Мерзкая старая ведьма!»[764] Выясняется, что молодожен влюбился в 82-летнюю старуху, которая к тому же оказалась его прапрабабушкой; одновременно выясняется, что бракосочетание было инсценировкой, а все эпизоды общения героя с его престарелой возлюбленной, предшествовавшие надеванию очков и обретению адекватного зрения, были ею же инициированы или скорректированы: тем самым персонаж, мнивший себя активным субъектом действия, предстает марионеткой, объектом шуточной мистификации, в которой участвовали несколько лиц.
Близорукость Франца, одного из трех главных героев романа Набокова, «валета», заявлена с самого начала действия, в главе I, когда он оказывается случайным дорожным попутчиком Марты («дамы») и ее мужа Драйера («короля»), и неоднократно акцентируется: «молодой человек в очках» (формулировка повторяется с интервалом в несколько строк);[765] «в стеклах очков» (с. 136); «позавидовала юнцу в очках» (с. 138); «стекла очков» (с. 139–140); «тщательно вытерев стекла очков» (с. 141). В начале главы II Франц случайно разбивает очки; последующие сцены, в том числе знакомство с родственником-благодетелем и его женой, которые оказываются спутниками по вагонному купе (ср. обретение прапрабабушки героем «Очков»), проходят для него как в тумане: «без очков он все равно что слепой» (с. 144). Явившись к незнакомому родственнику, Франц не сразу узнает свою попутчицу по вагону – поскольку без очков «он был беспомощно близорук», она же оказывается в сходном положении, поскольку не сразу смогла вспомнить, «где это она уже видела его», однако «внезапно воспоминание, как фокусник, надело на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняло» (с. 147). Отсутствие очков позволяет герою воспринять иной образ героини: «Марта в бесплотном сиянии его близорукости нисколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато мадоннообразное в ее облике, примеченное им вчера в полудремоте и снова утраченное, – теперь проявилось вполне, как будто и было ее сущностью, ее душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, – нравится ли ему эта туманная дама: близорукость целомудренна» (с. 147–148).
В главе III Франц покупает новые очки: «Туман рассеялся. Свободные краски мира вошли снова в свои отчетливые берега» (с. 159), – но первоначальные впечатления от общения с «дамой», скорректированные близорукостью, стимулируют развитие их последующих отношений. В первой любовной сцене между ними очки снова вступают со своей темой: «Она, вероятно, сняла ему очки, так как теперь он чувствовал эти небывалые пальцы на своих веках, на бровях»; «… каким-то образом его очки оказались у Марты на коленях, и он по привычке их нацепил» (с. 193). И по ходу последующего действия очки Франца неоднократно фигурируют в разных семантических коннотациях.
Как и в рассказе Э. По, влечение «валета» к «даме» стимулируется его близорукостью, но Набоков ведет со своими персонажами игру гораздо более изощренную и многозначную. Драйер, «король» в этой карточной раскладке, человек «наблюдательный, остроглазый», способен видеть не предмет, а лишь «приглянувшийся ему образ этого предмета, основанный на первом остром наблюдении» (с. 199), поэтому он не замечает того, что´ этому незыблемо установившемуся образу не соответствует, – любовной связи между Мартой и Францем, разворачивающейся у него на глазах. Близорукость оказывается одной из метафор, организующих всю художественную систему романа; несовпадение между подлинной реальностью и представлениями персонажей о ней, между очевидностью и достоверностью[766] воплощается в комбинациях взаимоотношений трех героев, уподобляемых карточным фигурам. При этом набоковский «валет» в своем тяготении к «даме» претерпевает метаморфозу, аналогичную той, которую испытал близорукий простофиля в «Очках» Э. По: влюбленный в «мадоннообразную» красавицу, он постепенно начинает различать ее «ужасное лицо», «со старческой дряблостью складок у дрожащих губ» (с. 261), осознавать ее «стареющей женщиной», «похожей на большую белую жабу» (с. 294), и горестно воображать так и не свершившееся – «долгое житье-бытье с нарумяненной, пучеглазой старухой» (с. 302).
Поэт Иван Бездомный и его литературное окружение
Для опытного газетчика, сатирика и фельетониста, каковым был Михаил Булгаков, использование прославленных и почитаемых имен ради достижения комического или пародийного эффекта и пробуждения у читателя многообразных сторонних ассоциаций – один из активно эксплуатируемых приемов сочинительского ремесла. Три персонажа «Мастера и Маргариты» выступают под фамилиями трех великих композиторов – Берлиоза, Стравинского и Римского-Корсакова (редуцированного до Римского, в согласии с бытовой разговорной традицией того времени[767]), и в каждом случае эти уподобления побуждают к выявлению своих смысловых подтекстов. Во многом ведущий свою литературную генеалогию от Гоголя во всем творчестве, и в своем итоговом романе в частности, Булгаков, разумеется, помнил о комической паре из «Невского проспекта» – «не том Шиллере, который написал “Вильгельма Теля”» и «не писателе Гофмане», а о жестяных дел мастере Шиллере и сапожнике Гофмане, и развил на свой лад продемонстрированный Гоголем прием, который обнаруживает непосредственные аналогии в главе 28-й романа: в «Доме Грибоедова» Коровьев и кот Бегемот выдают себя за литераторов Панаева и Скабичевского.[768]
В отличие от Берлиоза или Бегемота-Скабичевского («не того Берлиоза» и «не того Скабичевского»), поэт Иван Бездомный вполне равен самому себе: Иван Николаевич Понырев воплотился в художественном – или, точнее, антихудожественном – слове под одним из тех «мизерабельных» псевдонимов, на которые была чрезвычайно щедра советская литературная действительность 1920-х гг. Семантическая модель псевдонимообразования была задана живым и непререкаемым классиком, М. Горьким, подкреплена и кодифицирована Демьяном Бедным – хотя и не называвшимся в это десятилетие «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи», но, безусловно, считавшимся таковым в правящих инстанциях. Благодаря этим двум литературным столпам некие негативные атрибуты или обозначенное словом отсутствие позитивных атрибутов стали ходовой формой литературной самоидентификации для тех тружеников писательского цеха, которые, осознав, что они «стали всем», стремились подчеркнуть, что ранее они «были никем»: Михаил Голодный, Иван Приблудный, Александр Безыменский, Павел Беспощадный… Булгаковский Иван Бездомный – безусловно, из той же галереи.[769]
Образ взывал к отысканию для него реальных прообразов. При этом был совершенно оставлен без внимания прямой аналог булгаковскому герою – харьковский поэт Борис Бездомный (1902–1942; псевдоним Бориса Львовича Карелина), автор сборников «В дороге» (1925), «О людях и вещах» (1928), «Землетрясение» (1930) и др.,[770] – и, видимо, по праву: едва ли Булгаков имел об этом авторе какое-то представление. Зато неоднократно в ряду возможных прототипов Ивана Бездомного назывался Демьян Бедный,[771] и эту параллель можно принять лишь с существенными оговорками. Действительно, подобно «евангелисту Демьяну», Бездомный сочиняет безбожные во всех смыслах вирши, но явно не соответствует ему по своему литературному статусу – ученически внимает литературно-идеологическому наставнику Берлиозу; обосновавшийся же в Кремле Ефим Лакеевич Придворов (как поименован автор «Нового завета без изъяна евангелиста Демьяна» в стихотворном памфлете журналиста Н. Н. Горбачева) подобострастно внимал лишь властной верхушке в большевистском руководстве и был, как правительственный оракул, недосягаем для критических порицаний со стороны собратьев по перу. Более убедительна прототипическая ассоциация с «комсомольско-пролетарским» поэтом Александром Безыменским – в частности, и потому, что автор «Белой гвардии» не мог оставить без внимания тот факт, что один из отрицательных героев комедии Безыменского «Выстрел» (1929) – белогвардейский полковник Алексей Турбин.[772] «Материал для построения» Ивана Бездомного М. Чудакова видит еще в одном заметном поэте 1920-х гг., из московского есенинского круга, – Иване Приблудном (псевдоним Якова Петровича Овчаренко).[773] Нельзя обойти вниманием и рабкора со станции Пенза-2 Ивана Бездомного, опубликовавшего в 1923 г. в газете «Гудок» за этой подписью несколько корреспонденций (одна из них подписана несколько иначе: Иван Безродный) – как раз в пору сотрудничества в ней Булгакова; попытки приписать Булгакову их авторство были справедливо опровергнуты, хотя и отмечалось, что упомянутые опусы, «вероятно, проходили через его руки, так как он был в это время (начало 1923 г.) обработчиком писем».[774]
М. Чудакова, говоря о происхождении рассматриваемого образа, упоминает, наряду «со многими характерными литературными псевдонимами тех лет», также «Бездомного, Безродного» с отсылкой: «Новый мир, 1927, № 2, стр. 94»,[775] – однако ограничивается этой глухой библиографической справкой. Между тем обращение к указанному источнику побуждает, на наш взгляд, к некоторым любопытным наблюдениям, существенным как для определения генетических связей Ивана Бездомного, так и для выявления дополнительных подтекстов в смысловой структуре булгаковского романа.
Отсылка к «Новому миру» подразумевает публикацию повести Николая Никандрова «Знакомые и незнакомые», в том же 1927 г. переизданной как 1-я часть романа «Путь к женщине», который был выпущен в свет отдельным изданием в Московском товариществе писателей (вторым изданием роман был опубликован тем же издательством в 1929 г. как 5-й том собрания сочинений Никандрова). Действие, разворачивающееся в «Знакомых и незнакомых» в писательском клубе, включает эпизод, в котором трое молодых людей заводят беседу с незнакомой девицей:
Первый к девушке:
– Ваше имя?
Девушка не сразу:
– Анюта Светлая.
– Это ваш литературный псевдоним, да? Вы поэтесса?
– Да. А ваши имена?
– Я Иван Бездомный.
– А я Иван Бездольный.
– А я Иван Безродный.
– Слыхала. А вы беллетристы?
Иван Бездольный:
– Да. Только беллетристы.[776]
Булгаков использовал из этих трех псевдонимов для своего «поэта-самородка» два: Иван Бездомный – в последней редакции текста, Иванушка Безродный – в черновом варианте 1929–1931 гг. (примечательно, однако, что в главе «Дело было в Грибоедове» этой редакции текста фигурируют оба варианта: поэт именуется то Безродным, то Бездомным, – а в главе «Консультант с копытом» той же редакции он назван Иваном Петровичем Тешкиным, «заслужившим громадную славу под псевдонимом Беспризорный»[777]). Под именем Антоши Безродного тот же «поэт-самородок» выступает в самой ранней редакции романа (1928–1929),[778] и в данном случае напрашивается еще одна связь – с бесчисленными Антонами из романа Никандрова (безусловно, обязанными своим происхождением классической повести Григоровича «Антон Горемыка»): в писательском строю там дефилируют Антон Нелюдимый, Антон Тихий, Антон Смелый, Антон Печальный, Антон Кислый, Антон Сладкий и Антон Кислосладкий, Антон Нешамавший и Антон Неевший. Все эти гротескные маски выстраиваются в галерею, репрезентирующую современный литературный мир, каким он видится писателю, начинавшему в дореволюционную эпоху и всецело с этой эпохой связанному. Аналогичным образом у Булгакова выплясывают «виднейшие представители поэтического подраздела Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк» (гл. 5, «Было дело в Грибоедове»).[779]
Роман Никандрова был воспринят советской литературной критикой единодушно негативно; по своему пафосу отзывы о нем вполне соотносимы с теми, которых тогда удостаивались со стороны тех же ценителей произведения Булгакова.[780] Такая оценка определилась уже после журнальной публикации первой части. Обозреватель главного «рапповского» органа клеймил: «Возмущение вызывает повесть Н. Никандрова “Знакомые и незнакомые” ‹…›, по существу являющаяся пасквилем на современную литературную жизнь. Этому писателю, по-видимому, вообще не чужды болезненные мотивы, представляющие действительность в подчеркнуто-черных тонах»; разоблачая «некультурность наших писательских кругов», Никандров, по убеждению критика, дает «явно ложное истолкование бытовых фактов» и выдвигает «огульные обвинения».[781] Сходную оценку дал А. Лежнев: «попытка сатирически-окрашенного изображения московского писательского быта» у Никандрова не состоялась: «Все это мелко, поверхностно, случайно ‹…›».[782] В отзывах на отдельное издание романа критическая отповедь сочеталась с угрожающими призывами: «…пора бы приостановить поток беллетристики пошлой, бездарной, беспринципной, вредной и унижающей достоинство советской литературы»;[783] «Весь этот роман, действие которого будто бы разворачивается в СССР, является клеветой на советских писателей, быт которых якобы изображает Никандров. “Московское товарищество писателей” выпуском этой книги скомпрометировало себя как нельзя больше» (Геннадий Фиш);[784] «…ну, а что должны предпринять Антоны Сладкие, Антоны Нешамавшие, Анюты Босые, Иваны Буревые и прочие комические типы советских писателей и поэтов, которых заставил романист барахтаться в вонючей тине своего воображения? Они должны делать последнее предостережение неплохому ‹…› бытовику Никандрову ‹…› примерно в такой форме: “Товарищ автор! Если вы хотите быть дельным писателем, не занимайтесь размножением типов глупых людей и антисоциальных сумасшедших идей. Не увеличивайте количество пасквилей на советских литераторов, им место не на страницах, издаваемых “Московским товариществом писателей”, а в “Руле” и других эмигрантских изданиях”» (Виктор Красильников).[785]
Одна из рецензий на «Путь к женщине», появившаяся в журнале «На литературном посту», в которой роман Никандрова расценивался как «совершенно неубедительный памфлет на литературные нравы, явно и произвольно искажающий быт, дающий его в неумелом гротеске»,[786] почти наверняка оказалась в поле зрения Булгакова: на соседней странице того же журнала был помещен отзыв о повести С. Заяицкого – одного из близких Булгакову писателей – «Баклажаны»; рецензент, Ж. Эльсберг, начинал свои рассуждения с апелляции к Булгакову: «Характеризуя творчество М. Булгакова, нам приходилось указывать на то, что сведение подлинно значительных моментов жизни к фарсу и, наоборот, возведение фарса в сан значительности – такова доминирующая черта этого писателя, выполняющего заказ современной обывательщины. По стопам М. Булгакова рабски следует С. Заяицкий ‹…›».[787] Булгаков мог отметить и очевидную симметрию в оценках своего творчества и романа «Путь к женщине», который также был зачислен по ведомству «обывательщины»: «Книга Никандрова ‹…› – только лишний привесок к тому грузу обывательской пошлости, которого, к сожалению, немало сейчас в нашей литературе».[788] Но, разумеется, роман Никандрова способен был привлечь внимание Булгакова и безотносительно к печатной брани, которую он вызвал. Его автор входил в число литераторов, объединявшихся вокруг Н. С. Ангарского-Клестова и редактировавшихся им сборников «Недра»; в «Недрах» печатались и Никандров, и Булгаков, для которого сборники Ангарского стали в середине 1920-х гг. основным литературным пристанищем (там, в частности, он безуспешно пытался опубликовать в 1929 г. «Манию фурибунда» – фрагмент из ранней редакции «Мастера и Маргариты»[789]). Был Булгаков и лично знаком с Никандровым, хотя, видимо, встречался с ним лишь от случая к случаю.[790] Принадлежность к одной писательской корпорации, во многом оппозиционной по отношению к литературной среде, выпестованной большевистским режимом и обслуживавшей этот режим, могла только стимулировать интерес Булгакова к роману, который эту чуждую и ненавистную ему среду сатирически разоблачал и высмеивал.
Сходство в изображении писательского клуба («ресторан не ресторан, пивная не пивная»[791]) и его завсегдатаев в романе «Путь к женщине» и «дома Грибоедова» в «Мастере и Маргарите» – налицо; оно подкрепляется и некоторыми выразительными деталями. «Левый» поэт Рюхин, убедительно соотносимый исследователями Булгакова с Маяковским, имеет свой прообраз и в романе Никандрова – в лице дебоширящего пьяного поэта Солнцева (в ранней редакции «Мастера и Маргариты» пьянство Рюхина акцентируется сильнее, чем в позднейшем тексте[792]); своим псевдонимом Солнцев напоминает о знаменитом стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», но публичным поведением уподобляется скорее Есенину (возгласы присутствующих при его эскападах: «Опять нализался!», «Одного дня не может вытерпеть!», «Какой большой поэт на наших глазах погибает!»[793]). У Никандрова в зале литературных собраний висят два плаката – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Галоши снимать обязательно!»; второй требует неукоснительного исполнения, что становится причиной инцидента: поэт Антон Тихий является в галошах на босу ногу («вскидывает в сторону председателя одну ногу, босую, обмотанную тряпками, в галоше»[794]), вступает в длительные препирательства с собравшимися, отказывается следовать правилу и по постановлению президиума удаляется из зала. Этой комической сцене у Булгакова соответствует скандальное появление Ивана Бездомного в Массолите босиком и в нелепом виде и облачении (гл. 5, «Было дело в Грибоедове»). Особенно же любопытная параллель возникает в связи с основной сюжетной коллизией романа «Путь к женщине», представляющей собой ядовитую пародию на социалистическую коллективистскую утопию, активно насаждавшуюся в 1920-е гг. в массовом социальном сознании и психологии.
Писатель Никита Шибалин, главный герой романа Никандрова, пропагандирует среди собратьев-литераторов идею «всеобщего знакомства»: призывает, пренебрегая установленными поведенческими нормами, свободно вступать в общение с «незнакомыми» людьми. В этом ему видится благотворное разрешение всех жизненных проблем: «Какое уж тут “всемирное братство народов”, когда на этом распродурацком свете даже обыкновенного “знакомства” между двумя людьми самочинно осуществить нельзя, не рискуя попасть в милицию!.. ‹…› Тысячи лет, вплоть до сегодняшнего вечера, разъединял одну семью человечества, дробил ее на замкнутые личности этот бесовский институт “знакомых” и “незнакомых”! ‹…› Мужчины и женщины! Женщины и мужчины! ‹…› ко всем вам обращаюсь я со своим пламенным братским словом: с сего числа и сего часа да не будет среди вас “знакомых” и “незнакомых” и да будете вы все “знакомы” друг с другом, каждый со всеми и все с каждым!»[795] Сподвижники по литературе подхватывают призыв и с энтузиазмом поют хором: «Все люди братья, на всей планете нет незнакомых, нет чужих».[796] Во второй части романа Шибалин пытается претворить свои предначертания в жизнь. Как излагает один из рецензентов, «он подсаживается на бульваре к незнакомым женщинам и просит их высказаться по вопросу о “знакомых” и “незнакомых”. От него убегают, как от сумасшедшего, его гонят; одна энергичная дама подзывает милиционера, и писателя тащат в милицию».[797] Раздосадованный своими неудачами Шибалин сетует: «В Москве больше двух миллионов жителей, а обмолвиться живым словом, поговорить по-человечески не с кем!.. Раз-го-ва-ри-вать с “не-зна-ко-мы-ми” вос-пре-ща-ет-ся – ха-ха-ха!..»[798]
«Ваш “великий писатель” избрал московские бульвары ареной своей ученой “деятельности”, – замечает о Шибалине редактор Желтинский. – ‹…› Проверяет на практике, на хорошеньких женщинах свою новую “мировую” идею».[799] У Булгакова в сходном амплуа выступает Воланд – в первом эпизоде романа, с первыми словами, обращенными к беседующим между собой Берлиозу и Ивану Бездомному: «Извините меня, пожалуйста, ‹…› что я, не будучи знаком, позволяю себе… но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что…»[800] Уже в самой ранней редакции романа изложение велось от лица повествователя, функционально близкого хроникеру в «Бесах» Достоевского;[801] определенно в уста этого сказового alter ego Булгаков влагает предостерегающую фразу, ставшую названием первой главы «Мастера и Маргариты», которое в рассматриваемом контексте может восприниматься и как ироническая реплика по поводу теории и практики «всеобщего знакомства»: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Это название первой главы определилось впервые в третьей редакции романа (1932–1934) – взамен зачеркнутого: «Первые жертвы» – и сохранялось во всех последующих авторских переработках (вариант в пятой, незаконченной редакции 1928–1937 гг.: «Не разговаривайте с неизвестными!»).[802]
Не стоит, вероятно, поддаваться соблазну и сополагать заключительные слова второй части «Пути к женщине»: «…крупные, кораллово-красные буквы: “Берегись трамвая!”»[803] – с предсмертными впечатлениями Берлиоза: «…в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись “Берегись трамвая!”» (гл. 3, «Седьмое доказательство»);[804] встречавшаяся на каждом шагу деталь московского быта отлагалась в писательском сознании поверх литературных ассоциаций. Однако совокупность отмеченных выше параллелей дает основание, как нам представляется, ввести роман Н. Никандрова в круг тех произведений современной Булгакову русской литературы, которые нашли прямое или косвенное отражение в образной структуре «Мастера и Маргариты» – наряду с «Венедиктовым» А. Чаянова, «Фанданго» А. Грина, «Звездой Соломона» А. Куприна и т. д.
Андрей Белый и «Кольцо возврата» в «Защите Лужина»
Исследователи творчества Владимира Набокова неоднократно обращали внимание на слова писателя в письме к Эдмунду Уилсону от 4 января 1949 г.: «“Упадок” русской литературы в период 1905–1917 годов есть советская выдумка. В это время Блок, Белый, Бунин и другие пишут свои лучшие вещи. Я рожден этой эпохой, я вырос в этой атмосфере».[805] В признаниях «авторского» героя «Дара», в воображаемом диалоге с Кончеевым прослеживается та же духовная родословная; Годунов-Чердынцев вспоминает о своих юношеских годах: «Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на “Б”, – пять чувств новой русской поэзии»[806] (помимо Блока, Белого и Бунина здесь подразумевались также Бальмонт и Брюсов). Ранние стихотворения Набокова отмечены преобладающим влиянием символистской поэтики, то же воздействие сказывается и в первых пробах пера на прозаическом поприще: рассказ «Слово» (1923), например, повествующий о рае и ангелах, всецело эксплуатирует специфически символистскую образность («…босой и нищий, на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных»; «Я видел: очи их – ликующие бездны, в их очах – замиранье полета. Шли они плавной поступью, осыпаемые цветами», и т. д.[807]). В зрелом творчестве Набокова эта ученическая зависимость полностью преодолена, однако генетические связи с выразителями «пяти чувств русской поэзии» сохранились в латентной форме; автор их безусловно осознавал и от случая к случаю умышленно выводил на поверхность: цитат, аллюзий и реминисценций из «пятерых, начинающихся на “Б”», обнаружено у Набокова уже немало. В том числе и из произведений Андрея Белого.
Высоким ценностным статусом в строго ограниченном и весьма избирательном кругу личных вкусовых предпочтений Набокова Андрей Белый обладал в нескольких своих творческих ипостасях, помимо собственно поэтической. Как автор исследования «Мастерство Гоголя», на которое Набоков, воздавая должное «гению въедливости»[808] своего предшественника, во многом опирался при работе над книгой «Николай Гоголь» (1944). Как исследователь стиха, предложивший в книге «Символизм» метод описания ритмических форм: Набоков, познакомившийся со стиховедческими работами Белого в 1918 г. в Крыму, был совершенно покорен ими, провел по системе Белого серию собственных анализов многих сотен стихотворных строк и много лет спустя называл стиховедческий труд Белого лучшим в мире.[809] Наконец, как создатель романа «Петербург», одного из четырех лучших, на вкус Набокова, прозаических произведений мировой литературы новейшего времени: «…мои величайшие прозаические шедевры двадцатого века таковы (и именно в этом порядке): “Улисс” Джойса, “Превращение” Кафки, “Петербург” Белого и первая половина сказки Пруста “В поисках утраченного времени”» (интервью 1965 г.).[810] При этом, высказав столь определенную оценку вершинного произведения Белого, Набоков не предложил более или менее развернутой его интерпретации – подобной тем, каких удостоились многие любимые им книги в его лекциях о русской и зарубежной литературе; нет среди написанного Набоковым и достаточно пространных и глубоко продуманных суждений о творчестве Белого в целом.[811]
Первым на значимую роль Андрея Белого для формирования литературной индивидуальности Набокова указал Глеб Струве в статье «Творчество Сирина» (1930), представлявшей собой опыт подведения предварительных итогов после появления и решительного успеха «Защиты Лужина». «Сирина упрекали в подражании Прусту, немецким экспрессионистам, Бунину, – писал Струве. – ‹…› Что касается немецких экспрессионистов, то, насколько я знаю, Сирин просто с ними не знаком. Но вообще при желании можно этот перечень расширить и прибавить к нему Гофмана, Гоголя, Пушкина, Толстого, Чехова, и даже – horribile dictu! для автора – Андрея Белого ‹…›».[812] Автор статьи был близко знаком с Набоковым-Сириным, был посвящен в круг его читательских предпочтений и даже намекал на это, с уверенностью выводя немецких экспрессионистов за пределы данного круга, поэтому правомерно предположить, что имя Белого попало в приведенный перечень не только благодаря его, Струве, собственным наблюдениям и сопоставлениям. Вновь ту же мысль Струве высказал в своем обобщающем труде «Русская литература в изгнании» (1956), и с еще большей отчетливостью: «…странным образом почти никто не отметил (исключением был автор этой книги), сколь многим был Сирин обязан Андрею Белому (это особенно относится к “Приглашению на казнь”, где, правда, это влияние идет в плане пародийном ‹…›)».[813] Вслед за Струве, но гораздо настойчивее ту же линию преемственности проводила Нина Берберова в статье «Набоков и его “Лолита”» (1959); Набоков, по ее убеждению, связан с Андреем Белым «глубочайшими и сложнейшими нитями»: «Что касается “Петербурга” Белого, то этот роман послужил неким катализатором для всего творчества Набокова, и это особая большая литературно-исследовательская тема ‹…›. Можно только констатировать тот факт, что налицо имеется цепь: Гоголь – Достоевский – Белый – Набоков»; «“Петербург”, отраженный в “Приглашении на казнь”, в некоторых рассказах Набокова и, наконец, в “Лолите”, – это то, что крепко связывает Набокова с великой русской литературой прошлого».[814]
Ни Струве, ни Берберова не подкрепили свои решительные утверждения конкретными текстовыми наблюдениями и сопоставлениями. Однако их указания, а также высказывания самого Набокова не могли не стимулировать интереса к теме у позднейших исследователей. Первым специальную статью о Белом и Набокове опубликовал Д. Бартон Джонсон.[815] В ней устанавливались в основном параллели самого общего характера: определенное сходство в параметрах творческой биографии, соответствия в эстетических установках – неприятие утилитарно-социального подхода к искусству, интерес к формальному поиску, стремление к изощренной звуковой организации текста, а также особо волнующая обоих авторов тема двоемирия – вполне закономерная для Белого, убежденного и правоверного символиста, и более неожиданная для Набокова, во многом чуждого символистскому канону.[816] Сопоставительный анализ Набокова и Белого предложил и Владимир Александров:[817] в центре его внимания – точки соприкосновения в эстетических воззрениях Белого и Набокова, а также отдельные отголоски «Петербурга» и «Котика Летаева» в «Даре» и в «Подлинной жизни Себастьяна Найта». Круг наблюдений значительно расширен в статье О. В. Сконечной «Черно-белый калейдоскоп. Андрей Белый в отражениях В. В. Набокова»;[818] в ней шла речь уже не только о параллелях между произведениями двух авторов, но и о преломлении у Набокова индивидуального образа Белого, каким он вырисовывается в мемуарных очерках о нем Ходасевича и Цветаевой; привлекаемый материал призван обосновать гипотезу о «тайном присутствии» Белого в образе Чернышевского, каким он предстает в «Даре».
Как в исследовательских интерпретациях, так и в комментариях к набоковским текстам, выявляющих конкретные аллюзии, реминисценции и скрытые цитаты из Андрея Белого, последний фигурирует чаще всего как автор «Петербурга». Это совершенно закономерно: «Петербург» – центральное произведение Белого, именно его выделяет и сам Набоков в творческом наследии писателя. Однако нет никаких сомнений в том, что Набоков читал и другие произведения автора «Петербурга», о чем имеются и его личные свидетельства, и выявленные в его текстах параллели из «Котика Летаева», «Москвы», «Пепла» и прочих книг Белого. В круг детского и отроческого чтения Набокова русские символисты еще не входили; как подчеркивает А. А. Долинин, «он начал читать своих старших современников намного позже – сначала в Крыму (вероятно, под влиянием Максимилиана Волошина, с которым его познакомил отец), но главным образом за границей, в Англии и в Берлине, где у него, наконец, возникли связи с литературной средой».[819] В Берлине в 1922–1923 гг. находился Андрей Белый, за два года пребывания в Германии он сумел выпустить в свет рекордное количество своих книг – всего около двадцати, в том числе впервые появившиеся отдельными изданиями, а также переиздания. Среди переизданий – 3-я «симфония» «Возврат», выпущенная в свет берлинским издательством «Огоньки» в 1922 г.; единственное ее отличие от первого издания (М.: Гриф, 1905) заключалось в том, что жанровое обозначение «III симфония» было заменено подзаголовком «Повесть». Предположение о том, что Набоков, начинавший в ту пору приобщаться к литературному миру «русского Берлина» и с усиленным интересом поглощавший произведения современных писателей, в том числе и книги, изданные в Берлине, мог прочесть тогда и «повесть» «Возврат», представляется вполне обоснованным.
«Симфонии» Андрея Белого до сих пор оставались вне поля зрения авторов набокововедческих штудий.[820] Однако именно в них отчетливее и нагляднее, чем в других произведениях Белого, прослеживается тема «потусторонности», одна из основных тем набоковского творчества, в сочетании с другими тематическими комплексами сводящаяся «к центральной для Набокова метатеме “двоемирия”»: «Пересечение границы между двумя мирами – физическим или метафизическим, пространственным и временным, буквальным и метафорическим – всегда было одной из главных тем Набокова».[821] В 3-й «симфонии» Белого «Возврат» манифестации обозначенной метатемы подчинена вся художественная структура, выявляющая ее со схематической наглядностью и обнаженностью: мир вечных сущностей и мир фиктивного земного существования разведены по противоположным полюсам и в то же время являют два плана мирового единства, символически связанные между собою. В первой, «сновидческой» части «Возврата» изображаются вневременной мир райского бытия и блаженствующий в нем ребенок, обреченный воплотиться в мире времени и страданий. Во второй части ребенок предстает пробуждающимся ото сна магистрантом Хандриковым – и ведется рассказ о его безрадостном, томительном земном существовании, в образах и картинах которого герой различает отголоски первозданного «сновидческого» бытия; с ужасом окружающей жизни Хандриков не может совладать, и его препровождают в санаторию для душевнобольных. В третьей части Хандриков, находящийся под опекой у психиатра, ощущает все более внятные зовы из запредельного и воссоединяется с ним – кончает с собой, погружается в воды озера и возвращается к самому себе: ребенок вновь обретает утраченное блаженство.
Художественное целое «Возврата» формируется в соответствии с теми дуалистическими категориями, которые выявляются в творчестве Набокова и с особенной отчетливостью в «Защите Лужина» (1930), где оппозиции материи и духа воспроизводятся в нескольких планах: «жизнь шахмат – повседневная жизнь, безумие – норма, реальность – ирреальность, пробуждение – сон».[822] В композиции этого романа Набокова явственно вычленяются три части (Брайан Бойд даже определяет их хронологические границы): «В первой (1910–1912) мальчик ‹…› находит для себя спасение в шахматном даре»;[823] во второй (лето 1928 г.) Лужин готовится к шахматному турниру и, после откладывания партии с великим шахматистом Турати, переживает приступ душевной болезни; в третьей части Лужин выздоравливает, но оказывается не в силах, вопреки стараниям врача и жены, преодолеть в себе тяготение к шахматам и совершает самоубийство. Композиционные и тематические аналогии с «Возвратом» дополняются сходством главных – а по сути единственных в своем роде – героев Белого и Набокова: подобно тому как все второстепенные персонажи «симфонии» предстают фантомами галлюцинирующего сознания Хандрикова, и в «Защите Лужина», как отмечал еще Глеб Струве («Творчество Сирина»), имеется «собственно, всего одно действующее лицо – сам Лужин, вокруг которого, как вокруг оси, вращаются все другие, в сущности – вплоть до жены Лужина – лишь эпизодические лица».[824] Оба героя имеют нелепый и непрезентабельный облик, оба неспособны к обиходным контактам с людьми и ощущают себя неприкаянными в окружающем мире:
Был Хандриков росту малого и сложения тонкого. Имел востренький носик и белобрысенькую бородку.
Когда он задумывался, то его губы отвисали, а в глазах вспыхивали синие искорки. Он становился похожим на ребенка, обросшего бородой. ‹…›
Хандриков больше молчал. Иногда его прорывало. Тогда он брызгал слюной и выкрикивал дикость за дикостью своим кричащим тенорком, прижимая худую руку к надорванной груди.
С ним происходило. На него налетало. Тогда он убегал от мира. Улетучивался.
Между ним и миром возникали недоразумения. Возникали провалы.[825]
В тщательно обрисованном внешнем облике взрослого Лужина Набоков акцентирует и многообразно варьирует непривлекательные черты, в описаниях его поведенческой психологии фиксирует детали, свидетельствующие об отчужденности от жизни и страхе перед нею, о сомнамбулическом характере его контактов с действительностью: «…что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие…»[826] Подобно Хандрикову, Лужин ощущает себя изгоем в окружающем его мире, предстающем для него враждебным скопищем призраков и теней. Первые эпизоды романа, в которых совершается решительный перелом в жизни героя – прощание с миром усадебного детства и поступление в гимназию, воспринимаются им как своего рода изгнание из рая в «нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир» (С. 313), дарующий лишь тяготы и страдания (ср. в 1-й части «Возврата» напутственные слова старика-демиурга ребенку, отпускаемому в мир земного бытия: «Венчаю тебя страданием…»[827]). Изгнание из юдоли первозданной гармонии сопровождается своеобразной инициацией – обретением фамилии: «Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным» (С. 309). Выброшенный в сферу гимназического нормативного этикета, герой так и останется на протяжении всего романного действия только Лужиным (Набоков в Предисловии к английскому переводу романа расшифрует скрытый здесь смысл: «…имя рифмуется со словом “illusion”, если произнести его достаточно невнятно, углубив [u] до [оо]»[828]), чтобы, освободившись в финале от земных наваждений, явиться в новой для читателя и своей исконной личностной ипостаси – как Александр Иванович.[829]
Условно-символическому вневременному миру в «симфонии» Белого, довлеющему над сознанием Хандрикова и пробуждающему в нем метафизические томления, в романе Набокова соответствуют две сферы, в которых стремится укрыться его герой и обрести полноту и гармонию бытия. Одна из них – мир утраченного дошкольного детства, воплощенный в образах и пейзажах деревенской усадьбы (здесь, как и ранее в «Машеньке», а впоследствии в «Даре» и других своих книгах, Набоков реконструирует обстановку собственного детства, в воспоминании пронизанного «чувством полной гармонии и защищенности, воплощением которого было лето в Выре – алтарь его ностальгии»[830]). Другая сфера – открываемый идеальный мир шахматной игры, в котором Лужин спасается от реальности, погружаясь в «подлинную жизнь, шахматную жизнь» (С. 386), не подвластную враждебным императивам времени и пространства; этот завораживающий мир одновременно возвышает Лужина, дает ему возможность осуществить самого себя, и разрушает его личность: «…шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония ‹…›» (С. 389). В детстве герой проходит несколько этапов на пути своего поглощения «шахматными безднами»; решающий из них – встреча со стариком, который «играл божественно» (С. 334) и первым распознал в Лужине незаурядные способности. Старик содействует вхождению юного Лужина в мир шахматного инобытия – подобно тому как в «симфонии» Белого божественный старик опекает ребенка и благословляет на грядущие испытания.[831]
Тема двоемирия в «Возврате» и в «Защите Лужина» актуализирует проблему времени и вечности, безначального и бесконечного инобытия и возобновляющихся циклических повторений, «вечного возвращения». Для Андрея Белого мифологема «вечного возвращения», постулированная Ницше (семикратно повторяемый рефрен в 3-й части «Так говорил Заратустра»: «О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец – к кольцу возвращения!»[832]), с юношеских лет стала одним из важнейших начал творческого самосознания, многократно и в самых различных формах преломившись в его стихах и прозе. В 3-й «симфонии» раскрытию этой мифологемы служит вся образная структура и логика повествования. «Вечное возвращение» оповещает о себе и действиями «таинственного старика» («Он кружил вокруг диванов, чертя невидимые круги. Кружился, кружился, и возвращался на круги свои»), и природными явлениями («Ветер устраивал на берегу пылевые круги. Кружился, кружился – возвращался на круги свои»), и наблюдаемыми соответствиями в мире явлений («Пролетавшие вороны каркнули ему в лицо о вечном возвращении. В ювелирном магазине продавали золотые кольца»), и расходящимися кругами от лодки, с которой бросается в воду Хандриков, и бесконечными повторениями одних и тех же лексем, фраз, синтаксических конструкций, вплоть до игровых каламбурных аналогий: «Весело чирикали воробьи. В книжном магазине продавали рассказы Чирикова».[833] Сам Хандриков переживает своего рода метафизическую боль от осознания своей вовлеченности в круговорот неизбывных повторений, наблюдая в парикмахерской за своим отражением во множестве зеркал:
«Хандриков думал: “Уже не раз я сидел вот так, созерцая многочисленные отражения свои. И в скором времени опять их увижу.
Может быть, где-то в иных вселенных отражаюсь я, и там живет Хандриков, подобный мне.
Каждая вселенная заключает в себе Хандрикова… А во времени уже не раз повторялся этот Хандриков”».[834]
Мотив кружения, повторения звучит и в «Защите Лужина»,[835] хотя не так наглядно и назойливо, как в «Возврате». В заключительной части набоковского романа роль повторов возрастает, они принимают в сознании героя все более угрожающий характер: «…намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы»; «Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства ‹…›, но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно»; «И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру ‹…›» (С. 437–438). Услышанный в момент наступления душевной болезни голос «Домой, домой» Лужин воспринимает как призыв возвратиться из «шахматных зарослей» (С. 390) в мир своего детства; позже, охваченный страхом перед бытием, разворачивающимся в игру бесконечных повторений, он открывает для себя спасительный выход – бегство из темницы времени. Как и для героя «Возврата», время – враг Лужина; для обоих самоубийство – попытка преодолеть время, возвратиться к вневременному состоянию, перейти в иное измерение бытия: «перейти за черту», «стать за границей» – навязчивые мысли Хандрикова.[836]
Тема перехода из одной реальности в другую – одна из сквозных тем в творчестве Набокова[837] – заявлена и в основных сюжетных узлах «Защиты Лужина», в том числе в корреспондирующих друг с другом начале и конце романного действия: в детстве, пытаясь спастись от пугающей гимназической неизвестности, герой сбегает обратно в усадьбу и залезает в дом через окно; в финале – «возвратная» картина: Лужин через окно выбрасывается на улицу. «Пограничным» знаком у Набокова здесь оказывается окно, в «Возврате» аналогичный по своей функции образ – изумрудно-рубиновая гладь воды: в 1-й части, оставленный стариком, ребенок сидит на берегу, и «морская поверхность казалась пересыпающейся бездной изумрудов вперемежку с багряными рубинами»; ту же гамму цветов воспринимает Хандриков в момент самоубийства: «Мгновение: изумрудно-золотая вода, журча, хлынула в зачерпнувшую лодку и отливала тающими рубинами. Всплеснул руками и ринулся в бездну изумрудного золота. Отражение бросилось на Хандрикова, защищая границу от его вторжений, и он попал в его объятия».[838] Идея глубины, соотносимой с метафизическими безднами, которая обозначается в финальных эпизодах «Защиты Лужина» и в сцене самоубийства героя («Из глубины выбежала горничная», «В глубине, у окна, стоял невысокий комод», «глубоко-глубоко внизу что-то нежно зазвенело и рассыпалось» – С. 463, 464),[839] оказывается одним из образных лейтмотивов 3-й части «Возврата»; глубина доносит до Хандрикова притягательные потусторонние зовы: «Мягкий бархат глубины, крутясь, целовал и ласкал его»; «Хандриков возопил: “Глубина моя, милая… Твою тихую ласку узнаю”. И глубина в ответ: “Твоя я, твоя. Твоя навсегда”»; «Тихо кралась глубина. Стояла надо всем. Все любовалось и томилось глубоким»; «И чем больше всматривался в глубину, тем прекрасней казались опрокинутые, дальние страны».[840] Побуждает Хандрикова погрузиться в воду стремление «опрокинуться», пересечь границу, отделяющую фиктивный мир земных отражений от мира вечных сущностей: «И Хандриков думал: “Вот я опрокинусь и буду там, за границей ‹…›”»; «Туманная нежность глубины обуяла его сердце, и он сказал себе: “Пора опрокинуться”».[841] Аналогичным образом Лужин подчиняется идее «выпадения» из невыносимого для него состояния: «Единственный выход, – сказал он. – Нужно выпасть из игры» (С. 463). Мотив зеркальности также обыгран в финалах обоих произведений. Плавающий в лодке по озеру Хандриков «всматривался в отражение. Ему казалось, что он висит в пространствах, окруженный небесами», «Опрокинутое отражение сопровождало его»;[842] Лужин ощущает «квадратную ночь с зеркальным отливом», снимает с комода зеркало и в последний миг жизни видит, как «собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты» (С. 464, 465): вечность, в которую он возвращается, предстает для него идеальным шахматным пространством.
Указывая в приведенной выше цитате на вероятный след Андрея Белого в творчестве Набокова, Глеб Струве предостерегающе замечал: «Но говорить по этому поводу о подражании и заимствовании просто праздно. Сирин никому не подражает. Он у многих писателей учился (что неплохо), у многих сумел взять многое хорошее, но это взятое у других претворил и переработал в своей очень резко выраженной и очень своеобразной писательской индивидуальности».[843] Эти слова избавляют нас от необходимости формулировать что-то подобное от собственного имени. Применительно к прослеженным параллелям они были бы безусловно справедливы и в том случае, если бы отыскались достоверные документальные свидетельства о чтении Набоковым в Берлине «повести» «Возврат» – или 3-й «симфонии» в ее первом издании.
Владимир набоков в поисках утраченного времени: «Забытый поэт»
Написанный по-английски в 1944 г., рассказ Владимира Набокова «Забытый поэт» («A Forgotten Poet») оставался еще всецело погруженным в русскую проблематику. Его основная сюжетная линия с достаточной полнотой прослежена в кратком и четком изложении Брайана Бойда: «Рассказ – размышление о капризах литературной славы и ее зависимости от внелитературных факторов, противоречивая история о русском поэте, будто бы утонувшем в 1849 году двадцатичетырехлетним юношей. В 1899 году, семидесятичетырехлетним стариком, он является на торжественное заседание, посвященное пятидесятой годовщине собственной смерти, и требует себе деньги, собранные ему на памятник, – если, конечно, это все-таки он. После смерти Перов – талантливый поэт, судя по цитируемым в рассказе стихам, – стал кумиром либеральной интеллигенции, представители которой и устраивают вечер памяти. Когда организаторы прогоняют некстати подвернувшегося живого старика, некультурные реакционеры вступаются за Перова – только чтобы насолить своим оппонентам, а сердобольные либералы в это время корчатся и от жалости к столь бессердечно изгнанному Перову, и от отвращения к его новой “смиренческой” философии».[844]
В равно ироническом свете представляет Набоков создателей «либерального» образа давно умершего молодого Перова, возводящих ему памятник и прославляющих его в «Обществе поощрения русской словесности» (здесь – прямая аналогия с влиятельным Обществом любителей российской словесности при Московском университете, участвовавшим в организации и торжествах по поводу открытия памятников Пушкину в 1880 г. и Гоголю в 1909 г.), и сборище охранителей, в обстановке «напыщенного хулиганства и реакционного самодовольства» пропагандирующих «воскресшего» Перова-старика с его верноподданническими речами про «державу и трон царя-батюшки».[845] (Представительствует за это сообщество единомышленников «скандально известная “Санкт-Петербургская Летопись” – сенсационно-реакционный Листок, издаваемый братьями Херстовыми» (С. 183), за которым угадывается популярная в городских низах газета «Петербургский Листок», скрытая за обманывающим заглавием, отсылающим к вполне респектабельным «Санкт-Петербургским Ведомостям»; указанием же на «братьев Херстовых» Набоков метил совсем в другую сторону – в американского газетного магната Уильяма Рэндолфа Херста.[846]) Обе репутации решительно не согласуются с тем образом юного поэта романтического склада, который вырисовывается из сведений о нем, приводимых непосредственно «от автора», и из стихотворных цитат.[847] Набоков подмечает, описывая курьезные ситуации, последовавшие за «пришествием» Перова, что в ходе разгоревшегося скандала «образованная Россия» более всего боялась «крушения идеала»: «ведь наш российский радикал готов сокрушить что угодно, но только не какую-нибудь пустяковую побрякушку, которую радикализм лелеет невесть по каким причинам» (С. 185).
Последний пассаж переводит псевдодокументальную историю о никогда не существовавшем русском поэте в автобиографическую плоскость и затрагивает, возможно, главный исходный импульс к развертыванию этого сюжета. В 1937 г., как широко известно, Набоков стал жертвой верности последовательных российских радикалов идеалам своей юности: редактор парижских «Современных Записок», где был начат печатанием роман «Дар», эсер В. В. Руднев решительно отказался поместить в журнале четвертую главу романа, которая содержала «Жизнеописание Чернышевского», построенное отнюдь не в житийном ключе. Набоков был глубоко задет этим «отказом – из цензурных соображений»,[848] тем более и потому, что «Современные Записки» ранее старались не проявлять идеологическую тенденциозность: журнал, основанный представителями радикально-демократической интеллигенции, почитавшей Чернышевского как одного из своих вождей и мучеников борьбы с самодержавием, обычно выказывал самую широкую толерантность и безусловную верность принципам свободы печати и творческого самовыражения. Безусловно справедливы слова о том, что, сочиняя «Забытого поэта», Набоков «припомнил панику русских эмигрантов, когда в романе “Дар” он изобразил Чернышевского растяпой, а не святым, каким его сделала прогрессивная мысль».[849] Но в этом, пожалуй, обнаруживается лишь верхний слой тех подтекстов, которые заложены в основу рассказа. «Внешний» пласт повествования в данном случае, как и во многих других произведениях Набокова, может предполагать наличие «внутреннего» текста, который позволяет выявить в повествовании дополнительные, потаенные смысловые перспективы.[850]
Если ограничиваться «внешним» сюжетным планом, то следует констатировать, что заглавие рассказа не вполне адекватно его содержанию – скорее этому содержанию противоречит, поскольку в центре внимания оказывается объект коллективного преклонения, облитый лучами мишурной славы. «Забытым поэтом» этот фантом – безотносительно к тому, «подлинный» ли Перов явил себя обществу пятьдесят лет спустя или самозванец, – никак не является (если, конечно, не воспринимать заглавие в сугубо ироническом смысле). «Забытый поэт» – это не кумир, рождающийся благодаря искажающей оптике запрограммированного восприятия, а то лицо, достоверные сведения о котором суммированы в первой главке рассказа. Это – поэт, о котором известно, что он утонул в 24-летнем возрасте, купаясь в реке: «Его платье и полуобгрызенное яблоко нашли под березой, тела же отыскать не сумели» (С. 176).
В истории русской поэзии обнаруживается одно-единственное прямое соответствие этой судьбе – гибель Ивана Коневского (1877–1901), утонувшего в том же возрасте (не дожив трех месяцев до 24 лет) в реке Гауя близ станции Зегевольд в Лифляндии. Обстоятельства гибели также сходны с реальными событиями, описанными отцом поэта в анонимном биографическом очерке: «…свидетелей его смерти не было. Тело Коневского было найдено через несколько дней и предано земле местным лютеранским пастором. Только после усиленных розысков отцу удалось узнать о судьбе единственного сына… Немецкая аккуратность местных властей сберегла все оставшееся от неизвестного покойника: одежду, вещи, бумаги. По этим признакам узнали безымянное тело и восстановили события последнего дня».[851]
Разумеется, выстраивая определенные аллюзии и аналогии, Набоков заботится о том, чтобы они не слагались в систему прямолинейных соответствий; он не воспроизводит под псевдонимами имевшие место в действительности комбинации и их участников, но использует эти образы и коллизии в сочетании с другими, опровергающими заданное направление ассоциативных догадок. Тем не менее автор адресует читателю целый набор сигналов, указывающих на правомерность параллели между «забытым поэтом» и Коневским, – камуфлируемых, опять же, разнообразными корректирующими сообщениями, не позволяющими рассматривать очертания образа Перова как последовательно прототипические. Так, в биографии Перова – студента Петербургского университета, как и Коневской, – существенную роль играет «отец, отличавшийся простотою душевных движений» (С. 176), – точь-в-точь как в жизни Коневского, воспитывавшегося под направляющим воздействием своего отца, генерала И. И. Ореуса, человека консервативного и в политических, и в эстетических взглядах, который не способен был понять и принять «странных стихов» (по определению Брюсова) своего сына. Брюсов в очерке о Коневском акцентировал внутренний разрыв между отцом и сыном,[852] который в рассказе Набокова отображается в проявлении внешнем: «Осенью 1849 года он навестил отца, намереваясь просить денег на поездку в Испанию. Отец ‹…› дал ему лишь пощечину» (С. 176). Заграничная поездка – еще один сигнал, откликающийся в биографии Коневского: поэт совершил летом 1897 и 1898 гг. два продолжительных заграничных путешествия, чрезвычайно обогативших его в творческом плане. Еще один сигнал – не обязательный для «внешнего» сюжета у Набокова, но существенный в плане прослеживаемых подтекстов, – упоминание о Риге, точнее – о сестре Перова, «вышедшей замуж за рижского купца» (С. 176; «his sister, who married a merchant from Riga»); последний маршрут Коневского имел исходным пунктом Ригу, поэт случайно остановился «на станции Зегевольд, под Ригой».[853] Наконец, береза, под которой была найдена одежда Перова, – один из атрибутов могилы в Зегевольде: «Коневской похоронен на маленьком зегевольдском кладбище ‹…› к могиле поэта склоняют ветви клен, вяз и береза».[854] «Как хорошо тебе в лесу далеком, // Где ветер и березы, вяз и клен!» – писал Брюсов в стихотворении «Памяти И. Коневского» (1901).[855]
«Перова называли русским Рембо, – начинает свой рассказ о “забытом поэте” Набоков, – и хоть французский юноша превосходил его одаренностью, уподобление не было вовсе несправедливо» (С. 175). То же уподобление мы обнаруживаем применительно к Коневскому в книжке Е. В. Аничкова о русской поэзии модернистской эпохи, вышедшей в свет в Берлине в 1923 г. и имевшей все шансы оказаться в кругу чтения Набокова: «Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции».[856] Многие из характеристик поэтической индивидуальности Перова как «русского Рембо» без каких-либо натяжек применимы к творчеству Коневского. Попытки Перова «сочетать неподдельный лирический спазм с метафизическим объяснением мира» (С. 175) – в этом главный пафос поэзии Коневского, в которой Брюсов видел прежде всего дневник наблюдений и размышлений, направленных к выявлению стройного миросозерцания. «Этот странный юноша», Перов «шерстил русский словарь и сворачивал привычным эпитетам шеи, заставляя поэзию вопить и захлебываться, а не чирикать», поднимал «восхитительный вихрь невразумительного красноречия» (С. 175), подобно тому как Коневской вызывал у современников непонимание, неприятие и кривотолки более всего в аспекте поэтической стилистики, благодаря «тяжелой речи», архаическим оборотам, тому, что Д. П. Святополк-Мирский назвал его «прекрасной корявостью»[857] и что Аничков в указанной книге определял как «необычную прозодию и странное словоупотребление, к которому читающей публике надо еще привыкнуть»: «Образы родятся небывалые, трудные; они сначала более удивляют, чем нравятся».[858] Те же черты сходства – и в плане личностном, в психологии поведения: «образ угрюмого, неуравновешенного, “неуклюжего и пылкого” юноши» Перова (С. 176) – прямая аналогия с Коневским, которому были свойственны замкнутость, болезненная застенчивость и «чрезмерная нервность», отмеченная его отцом в кратком биографическом очерке[859] и подтвержденная множеством других свидетельств.
Круг подтекстов, связанных в «Забытом поэте» с Коневским и способствовавших его актуализации в сознании автора, вбирает в себя и целый ряд иных ассоциаций, уже в большей или меньшей мере непосредственно автобиографических и ведущих нас к Набокову как воспитаннику Тенишевского училища в 1911–1916 гг. Обозревая сохранившиеся архивные документы, относящиеся к этой поре, и отмечая, что в своих мемуарных книгах Набоков уделил Тенишевскому училищу не много места, О. Сконечная полагает, что, «подобно андерсеновскому зеркалу, Тенишевка рассыпалась в мире Набокова на тысячу осколков. Их можно находить без конца».[860] Какие-то из этих осколков отложились, как нам представляется, и в подтексте «Забытого поэта». Сокровенная память о Коневском, в частности, могла актуализироваться благодаря старшему тенишевцу, окончившему училище в 1907 г. Осипу Мандельштаму, который побывал на месте упокоения Коневского летом 1906 г. и позднее рассказал об этом в «Шуме времени» (1925): «В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа, стояла ясная осень ‹…›. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде ‹…› я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков ‹…›».[861]
У Мандельштама и у Набокова был, как известно, в Тенишевском училище общий учитель – преподаватель русского языка и литературы Владимир Васильевич Гиппиус (в «Шуме времени»: «умнейший В. В. Г.», «формовщик душ»[862]), поэт и критик, в прошлом – один из первых русских «декадентов», друг Коневского и Александра Добролюбова (в «Шуме времени»: «товарищ Коневского и Добролюбова – воинственных молодых монахов раннего символизма»[863]). Н. Я. Мандельштам свидетельствует, что «Коневского и Добролюбова, сейчас почти забытых поэтов раннего символизма», Мандельштам «узнал еще в школе благодаря В. В. Гиппиусу».[864] Оказавший исключительно сильное воздействие на формирование личности Мандельштама, Гиппиус для Набокова не был безусловным авторитетом: неизменно аполитичному ученику был чужд общественный темперамент учителя, но как «тайный автор замечательных стихов» («Другие берега», гл. IX, 3)[865] Гиппиус вызывал в нем интерес и уважение. Для гимназиста Набокова, как и для Мандельштама, Гиппиус являл собою зримую связующую нить с первыми пролагателями путей, по которым двигалась и развивалась современная литература. В книге Аничкова «Новая русская поэзия» среди студентов-филологов, которые «грезили о новых формах поэзии и художества»,[866] наряду с Коневским характеризуется Александр Добролюбов, чьим сподвижником в пору первых литературных опытов был Вл. Гиппиус; он же – автор мемуарно-аналитического очерка «Александр Добролюбов», опубликованного в первой обобщающей истории новейшей русской литературы и скорее всего известного Набокову[867] (равно как и упоминавшийся выше очерк Брюсова о Коневском, помещенный в том же издании). Совокупность этих сопоставлений подталкивает к выводу о том, что Иван Коневской, Александр Добролюбов, Владимир Гиппиус входили в сознании Набокова в единое семантическое поле, ассоциировались с истоками «новой» русской поэзии. Приводимые в рассказе Набокова фрагменты стихов «русского Рембо» также дают основания для соотнесения этих строк с бодлерианской традицией, подхваченной Рембо и интенсивно осваивавшейся в русской поэзии рубежа XIX–XX веков:
…then my heart goes out in its tattered cloak to visit the poor, the blind, the foolish, the round backs slaving for the round bellies, all those whose eyes dulled by care or lust do not see the holes in the snow, the blue horse, the miraculous puddle.[868]В переводе:
… и тогда моя душа в разодранном плаще идет навещать бедняков, слепых, юродивых, горбатых, гнущих спину на толстопузых, – всех тех, чьи глаза, помутненные заботами иль похотью, не видят ни дыр в снегу, ни синего коня, ни чудесной лужи.[869]Если Рембо в рассказе Набокова, локально ассоциирующийся с Коневским, в более широком плане опознается как интегрирующий образ модернистской поэзии,[870] то правомерно предположить, что в приводимых автором аттестациях «забытого поэта» могут быть обнаружены аналогичные опознаваемые знаки – однако с поправкой на то, что годы жизни героя, по ряду отмеченных признаков соотносящегося с эпохой fin de siècle, обозначены второй четвертью XIX века. Нередко используемый Набоковым прием подмены, игрового замещения или контаминации образов и значений, видимо, употреблен и здесь. О Перове, как сообщает Набоков, идет речь в одном из писем Некрасова, который «рисует нам образ ‹…› “неуклюжего и пылкого” юноши с “детским взором и плечьми возчика мебели”» (С. 176; «“clumsy and fierce” young man with “the eyes of a child and the shoulders of a furniture mover”»). Псевдоцитата в данном случае указует на подлинную цитату, но не из Некрасова, а из Брюсова, – на его стихотворный манифест «Юному поэту» (1896) со строками «Юноша бледный со взором горящим», «Юноша бледный со взором смущенным!». Принесшая Перову «вялую» славу «неистовая статья радикального критика Добролюбова (1859), восхваляющая революционные околичности самых слабых его стихов» (С. 176), с одной стороны, относится к тому семантическому пласту, который использован в развитии «внешней» линии повествования и отражает неприятие автором утилитаристской эстетики; с другой же стороны, в аспекте прослеживаемых, но удаленных с поверхности «внешнего» сюжета связей, здесь угадывается «не тот Добролюбов» (как в гоголевском «Невском проспекте»: «не тот Шиллер, который написал “Вильгельма Телля”»), а тот, который упоминался выше. Чернышевский или Писарев для роли истолкователей творчества Перова не подходили, здесь потребовался омонимичный Добролюбов (Александр Добролюбов, правда, не писал критических разборов, зато его «Собранию стихов» (М.: Скорпион, 1900) предпосланы два аналитических предисловия – Коневского и Брюсова).[871]
Отнеся гибель / исчезновение Перова на пятьдесят лет назад, Набоков не только спрятал в подтекст аллюзии, которые, по всей видимости, умышленно вплел во «внешнюю» канву повествования, но и, посредством соположения «внешней» и «внутренней» хронологической атрибуции, обозначил в сюжете еще один смысловой уровень, уже впрямую выводящий на автора, творца всех явных и скрытых приемов и манипулятора ими. В статье «О Сирине» (1937) В. Ходасевич отмечал, что «его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу ‹…›. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами».[872] В «Забытом поэте» мы видим работу этого творческого механизма в миниатюре – на небольшом пространстве короткого рассказа. В заключительной его части возникает еще одна временная перспектива – взгляд из настоящего времени, т. е. из 1944 г., которым датирован рассказ.
Год 1899-й, к которому отнесено действие, тем самым оказывается посередине хронологического отрезка: в ретроспективе – отсчет от года предполагаемой гибели поэта, в перспективе – год написания рассказа о нем. Год «воскрешения» и чествования Перова – это год рождения Набокова. Имение отца Перова расположено «под Лугой» (С. 176) – т. е. вблизи от родных гнезд Набоковых – Рукавишниковых (Выра – Рождествено – Батово). Сообщается, что поэт «утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет назад» (С. 178): на берегах этой реки, протекающей через указанные имения, Набоков провел детские и юношеские годы. Эти автобиографические знаки недвусмысленно указывают еще на одного «забытого поэта», который не является действующим лицом рассказа и лишь просвечивает на его поверхности сквозь многослойные пласты ассоциаций с другими «забытыми поэтами». Поэта, который за два года до создания рассказа о Перове в исповедальном стихотворении «Слава» (1942) размышлял, по существу, на ту же тему – о собственной обреченности на забвение:
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость, в захолустии русском, при лампе, в пальто, среди гильз папиросных, каких-то опилок и других озаренных неясностей, кто на столе развернет образец твоей прозы, зачитается ею под шум дождевой, набегающий шум заоконной березы, поднимающей книгу на уровень свой? Нет, никто никогда на просторе великом ни одной не помянет страницы твоей: ныне дикий пребудет в неведенье диком, друг степей для тебя не забудет степей. В длинном стихотворении «Слава» писателя, так сказать, занимает проблема, гнетет мысль о контакте с сознаньем читателя. К сожаленью, и это навек пропадет.[873]Глядя на былое из 1944 г., автор «Забытого поэта» сообщает о том, что последовало за мгновением эфемерной и сомнительной славы вокруг имени Перова, вспыхнувшей в 1899 г.: «…в следующие двадцать или того около лет Россия Перова совершенно забыла. Молодые советские граждане знают о его сочинениях не больше, чем о моих» (С. 187). Перов и его создатель, таким образом, в конце концов соединились, обрели общую участь. Поэт Перов, наделенный фамилией знаменитого художника, творившего в ту же эпоху, что и помянутые в связи с ним Некрасов и Николай Добролюбов, приблизился к своей подлинной сути. Она – в семантике исходного для фамилии слова: перо – орудие письма и перо – по Вл. Далю, «птичья одежа». Перо птицы Сирин.
«Судьбы скрещенья» Теснота коммуникативного ряда в «Докторе Живаго»
«В очередном разговоре о “Докторе Живаго”, – записывает Л. К. Чуковская, – ‹…› я сказала мельком, что Пастернак сильно подчеркивает всякие случайные совпадения: то время совпадет, то место, придавая, видимо, этим совпадениям особый смысл».[874] По наблюдению Ф. А. Степуна, «Доктор Живаго» «отличается от классического русского романа некоторой как бы недостаточной связанностью всех действующих лиц друг с другом. Есть что-то случайное в их встречах и взаимоотношениях. Некоторые исчезают с глаз читателя, как бы уходят в глубину волнующейся вокруг них жизни. Но вдруг они снова выплывают для какой-то провиденциальной встречи».[875] Эту особенность сюжетосложения в романе нередко воспринимали как его существенный недостаток. Так, В. Каверин отмечал: «…в романе есть много неловких и даже наивных страниц ‹…› Много странностей и натяжек – герои подчас появляются на сцене, когда это нужно автору, независимо от внутренней логики сюжета. Так, в конце романа точно с неба падает Лара – конечно, только потому, что невозможно представить себе ее отсутствие на похоронах Живаго».[876] Другие, наоборот, находили в этом приеме художественную силу и подлинность. Например, А. С. Эфрон, ознакомившись с первыми главами будущего романа, писала Пастернаку 28 ноября 1948 г.: «Как послушны тебе, как никогда не нарочиты все совпадения и переклички, в которых ты силен, как сама жизнь».[877]
Действительно, банальное, сплошь и рядом повторяемое житейское восклицание о том, как, мол, тесен мир, вполне применимо к характеристике взаимоотношений действующих лиц романа Пастернака. Непредсказуемые случайности, роковые совпадения, маловероятные применительно к обычной житейской логике пересечения героев и обстоятельств, – отличительная особенность повествования. Вся архитектоника романа зиждется на сюжетных узлах, образуемых случайными встречами и совпадениями; случайное обретает в нем статус высшей и торжествующей закономерности, в то время как закономерное, определившееся естественным ходом вещей оказывается лишь своего рода соединительной тканью, необходимой для обнаружения «роковых» коллизий.
Главная сюжетная линия романа – линия Юрия Живаго и Лары – от первых юношеских встреч до появления Лары над гробом Живаго – вся представляет собой цепь непредсказуемых совпадений. Их отмечает жена Живаго Антонина Александровна, упоминающая о «сопровождении таких знамений и стечений обстоятельств» (V, 2),[878] отмечает и сам Живаго, цитируя Шекспира: «Мы в книге рока на одной строке» (XIII, 13). Но эта особенность проведена через всю повествовательную ткань романа с безудержной щедростью: едва ли не все эпизодические персонажи раздвигают рамки того эпизода, в котором они оказываются на авансцене действия, и появляются в другом, далеко отстоящем от первого и непосредственно не связанном с ним эпизоде, либо, даже непосредственно не участвуя в действии, каким-то образом обусловливают или истолковывают, комментируют его ход. Если в начале романа мимоходом появляется мастер Худолеев, лупцующий своего подмастерья Юсупку, то в ходе дальнейшего действия, на фронте мировой войны, тот же Худолеев непременно – и конечно же случайно – оказывается под начальством взрослого Юсупки, прапорщика Галиуллина. Если Лара, стреляя в Комаровского, случайно легко ранит лицеиста Коку Корнакова, то и эта случайная жертва не может оказаться в романе совершенно случайной: Лара припоминает товарища прокурора московской судебной палаты Корнакова (оставленного за кулисами действия), обвинявшего группу железнодорожников, в составе которой был осужден Антипов, отец ее будущего мужа. Подобные связи выстраиваются автором даже на самом микроскопическом уровне: когда в романе описывается комиссар фронта от Временного правительства Гинц, «чуть ли не сын сенатора» (V, 5), вероятно, только очень внимательный читатель припомнит, что некий Гинц уже появлялся по ходу действия – на вечере камерной музыки в доме братьев Громеко в 1906 г. (II, 20).
Наблюдая эти особенности, приходится, видимо, констатировать все же не «недостаточную связанность» действия, отмеченную Ф. Степуном, а скорее некий особый механизм соотношений между персонажами и сюжетными коллизиями, действующий на всем пространстве романа. Ведь при всем обилии «роковых» обстоятельств в «Докторе Живаго» чрезвычайно много внимания уделяется прослеживанию естественных, житейски обусловленных, необходимых связей между персонажами. Это и понятно: «роковое», неожиданное и поразительное может сказываться только в урегулированном, подчиняющемся определенному внутреннему строю, строго очерченном, а не в хаотическом и непредсказуемом мире. В роман, сотканный из случайностей, Пастернак остерегается вводить заведомо случайных людей; даже между эпизодическими персонажами педантично указываются связи, которые порой остаются никак не проявленными в ходе развертывания сюжета. Так, мимоходом появляется псаломщик Пров Афанасьевич Соколов, заведомо «проходная», фоновая фигура, который оказывается троюродным дядюшкой Оли Деминой, гимназической подруги Лары; Оля Демина, в свою очередь, – внучка Тиверзиной, матери мятежного железнодорожника, осужденного вместе с Антиповым, отцом Павла Антипова. Связи между Соколовым, Олей и Тиверзиной регистрируются – и только; они требуются автору, в частности, для того, чтобы подчеркнуть закономерный, жестко обусловленный характер сближения Лары и Павла Антипова, в котором не могло быть ничего непредсказуемого, в том числе и случайного знакомства, – в противовес «роковому», «беззаконному» ее союзу с Живаго. Фон действия проработан в романе столь же тщательно, сколь и события на его авансцене. Повсеместно торжествует неукоснительный детерминизм: все обстоятельства и ситуации, с большей или меньшей подробностью обрисованные, включаются в причинно-следственные связи, которые обнаруживаются на всем пространстве сюжета, а иногда и движут сюжетом. Кажущиеся на первый взгляд случайными, «лишними», тормозящими основное действие персонажи и ситуации обычно оказываются необходимой составляющей в общей сюжетной связи, в которую вплетены главные герои. В многофигурной композиции, в густонаселенном мире романа практически нет персонажей, посторонних основному течению действия, так или иначе – своим малым участием в нем – его не корректирующих, не проясняющих, не влияющих на его ход.
Один из характернейших в этом отношении примеров – 7-я часть романа («В дороге»), в которой описывается долгий путь по железной дороге из Москвы в Юрятин Юрия Живаго с семьей, причем вводятся новые персонажи – несколько железнодорожных попутчиков, – которые поначалу воспринимаются как фигуры, отвлекающие в сторону от основного сюжета и лишь придающие описываемому необходимую социально-историческую конкретность и стереоскопичность. Между тем большинство попутчиков переселяется из поезда на широкие просторы последующего действия: юноша Вася Брыкин, надолго исчезая из поля зрения читателя, вновь встречается на пути Юрия Андреевича; бывший трудовик-кооператор Костоед-Амурский, перейдя на коммунистические позиции, появляется в кругу красных партизан; Пелагея Тягунова вторично сталкивается с доктором во время его партизанского пленения, тогда же выясняется, что она является родной сестрой лавочницы Ольги Галузиной, введенной в сюжет ранее и независимо от нее; с сыном Галузиной Терентием встречаются при различных обстоятельствах Живаго и Антипов-Стрельников, а в кругу «родни деревенской» (X, 4) той же Галузиной оказывается Памфил Палых – по ходу сюжета он и Галузина никак не соприкасаются, но с Памфилом Палых, одним из партизан, общается Юрий Андреевич. Главный герой романа фатально не может выйти за пределы строго обусловленных связей: в имении Варыкино он живет, пользуясь попечением бывшего управляющего, Микулицына; сын Микулицына Ливерий Лесных, предводитель партизанского отряда, захватывает Живаго в плен; когда Юрий Андреевич, бежав из отряда, возвращается в Юрятин и заходит в мастерскую постричься, то его парикмахершей оказывается Глафира Тунцева, свояченица Микулицына и тетка Ливерия; сестра Глафиры Сима – юрятинская подруга Лары. В этих ситуациях связи между персонажами раскрываются как бы по цепочке, но Пастернак использует и другой, «кустовой» принцип – в частности, описывая юность Лары, «девочки из другого круга»: почти одновременно вводится в действие (или лишь номинально обозначается) большая группа персонажей – Антиповы, Тиверзины, Галиуллины, Оля Демина и др., – затем ветви этого «куста» разрастаются в разные стороны, причудливо переплетаются в последующих сюжетных модификациях. Однако и этот «другой круг» не может включиться в действие как полностью суверенная, обособленная совокупность новых для читателя лиц: старуха Тиверзина уже была введена в роман, а Лара, как сразу отмечается, – одноклассница Нади Кологривовой, которая также уже участвовала в действии.
В таких и подобных им соотношениях оказываются переплетены между собой едва ли не все персонажи романа. Далеко не всегда эти связи необходимы для развития действия и извлечения желаемых фабульных эффектов: тот попутно упоминаемый факт, что Памфил Палых – родственник лавочницы Галузиной, в сюжете романа никак определенно не сказывается (по ходу действия они разведены по разным эпизодам, родство констатируется «от автора», Юрий Живаго так и не узнает, что Памфил – родственник его дорожной попутчицы). Пастернаку важно подчеркнуть тесную взаимосвязь всех персонажей и обстоятельств, и не важно, что некоторые из соединительных линий оказываются избыточными, не задействованными в событийной интриге. Вся система персонажей в романе являет собою нечто вроде комбинации фигур на шахматной доске: достоинство фигур разное, комбинаторные возможности их различны, но все они, активно или пассивно, участвуют в общем действии, необходимы для развертывания «игровых» коллизий. Этот принцип всеобщей взаимосвязи настолько непреложен, что позволяет автору использовать эффект обманутого ожидания. Когда доктора захватывают в плен партизаны, он спрашивает у их предводителя: «Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных?» – и получает ответ: «Нет, я его начальник связи Каменнодворский» (IX, 16). И наоборот, неожиданное в этой системе сюжетостроения обретает статус закономерного и единственно возможного. Когда Лара и Юрий Андреевич, оказавшиеся в Варыкине в заброшенном доме, обнаруживают там следы чьего-то пребывания («жилец таинственный. Как из Жюль Верна» – XIV, 6), читателю, уже освоившемуся с правилами, по которым строится роман, ясно, что этот неведомый посетитель не может оказаться незнакомцем, совсем посторонним лицом; даже если бы он еще и не появлялся на предыдущих страницах, то неизбежно оказался бы связанным с предшествовавшим действием или с уже знакомыми персонажами. Так, разумеется, и оказывается: «таинственный жилец», новоявленный капитан Немо, случайно обосновавшийся именно в разгромленном Варыкине, наследственном имении жены Живаго, – муж Лары Антипов-Стрельников.
Многие подобные «судьбы скрещенья», возникая в романе, не всегда сразу опознаются в своем подлинном смысле и во всей полноте внутрисюжетных связей. Те обстоятельства и факты, которые поначалу предстают как значимые в сфере какого-то одного индивидуального жизненного опыта, как выясняется по ходу сюжета, играли не менее важную роль в судьбе другого участника общего действия. При этом все происходит на глазах у читателя, который все видит, но не все связывает и понимает; события сначала описываются, а потом разгадываются – автор возвращает читателя к знакомым ему ситуациям, которые оказываются многомерными, провиденциальными.
Примером такой многомерной «тайны», поданной в свернутом виде, может послужить один из первых эпизодов романа: живущие в загородном имении Веденяпин, дядя Юрия Живаго, и его друг Воскобойников случайно замечают, что поезд на железной дороге остановился в неожиданном месте. Затем действие переносится в вагон остановившегося поезда, из которого на ходу выбросился человек и погиб; к телу самоубийцы подходят его спутник, адвокат, и старуха Тиверзина; все это наблюдает едущий в том же вагоне одиннадцатилетний гимназист Миша Гордон. Смысл и сюжетные связи этого эпизода выясняются и прорисовываются много позже: самоубийца – отец Юрия Живаго, а сопровождавший его человек, косвенно способствовавший его гибели, – Комаровский, один из основных героев романа; Миша Гордон – в будущем друг Юрия, от которого последний и узнает обстоятельства самоубийства отца; Тиверзина – мать революционера, который, появляясь в романе лишь эпизодически, значимо отсутствует почти на всем его протяжении, но при этом постоянно ощущается как подспудно действующая сила. Столь же узловой характер для всего сюжета имеет эпизод разговора Лары и Павла Антипова рождественским вечером при свете свечи в комнате дома по Камергерскому переулку. Юрий Живаго в это время едет по Камергерскому и случайно – опять же непременно случайно! – обращает внимание на горящую свечу в темном окне: «“Свеча горела на столе. Свеча горела…” – шептал Юра про себя начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения» (III, 10). «Продолжение» приходит к Живаго не только в виде открывшегося поэтического дара, не только как будущая близость с Ларой, но и как завершение его земной судьбы: та самая комната в Камергерском – опять же в силу случайного совпадения – становится последним местом жительства Юрия Андреевича, в ней выставлен гроб с его телом, у которого – по столь же невообразимой случайности – предстает давно утраченная им Лара, решившая, приехав из Сибири в Москву, по старой памяти заглянуть в знакомый дом и оказавшаяся у смертного одра своего возлюбленного. В данном случае «судьбы скрещенья» в полной мере их провиденциальности не постигаются Ларой, но дополнительно акцентируются автором: «И она стала напрягать память, чтобы восстановить свой разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла. Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание? Что с этого, увиденного снаружи пламени, – “Свеча горела на столе, свеча горела”, – пошло в его жизни его предназначение?» (XV, 14).
В столь же жестко детерминированный сюжетный ряд выстраиваются события, связанные с второстепенными персонажами романа. Один из самых характерных примеров – убийство в Мелюзееве на глазах у доктора юного комиссара фронта Гинца: один из солдат «выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого» (V, 10). Расправа представлена автором как «анонимный» акт (случай, редкий в романе Пастернака, где сюжетные действия, как правило, педантично привязываются к конкретно и точно обозначенным персонажам), который много позже и очень далеко от Мелюзеева «персонализируется»: в отряде Ливерия Живаго знакомится с партизаном Памфилом Палых, совершившим множество чудовищных преступлений (списываемых по кодексу «классовой сознательности»), но испытывающим болезненные наваждения, приводящие к душевному заболеванию («бегунчики» являются[879]); как выясняется, именно он застрелил Гинца и не может избавиться от угрызений совести: «За что я парнишку погубил? ‹…› Со смеху застрелил, сдуру. Ни за что» (XI, 9). Линия Памфила – ярчайший образец того, как механизм сюжетосложения способствует выявлению идейной концепции «Доктора Живаго». И для всего действия романа, для самых различных групп его персонажей характерны столь же жесткие, регламентированные связи, зиждущиеся на сцеплении неслучайных случайностей; как отличительные признаки пастернаковского повествования, в котором изъятие того или иного героя или события повлекло бы за собой изменение всей выстроенной системы отношений, могут быть выделены единство и теснота коммуникативного ряда – по допустимой, думается, аналогии с терминами Тынянова, указывавшего в числе объективных признаков стихового ритма единство стихового ряда и «те тесные связи, в которые стиховое единство приводит объединенные в нем слова», причем «оба признака находятся в тесной связи друг с другом: понятие тесноты уже предполагает наличие понятия единства; но и единство находится в зависимости от тесноты рядов речевого материала».[880]
Много и справедливо говорилось уже о преемственности «Доктора Живаго» по отношению к русскому классическому роману XIX века. Эта преемственность самоочевидна в целом ряде аспектов, но отнюдь не в наблюдаемых приемах сюжетостроения. Столь прихотливых, изобретательно выстроенных, но заведомо искусственных сюжетных поворотов, движимых случайными совпадениями, узнаваниями, неожиданными событийными сцеплениями, традиционный русский роман тщательно избегает. Толстой, Тургенев, Гончаров, выстраивая свои романные сюжеты, стремились передавать жизнь «в формах самой жизни» и фатальных случайностей не принимали, в повествовательном ряду русских реалистов их могло быть не больше, чем в самой обиходной жизни, и всякий «перебор» по этой части не допускался, каких бы соблазнительных сюжетных эффектов он ни сулил. Не знает русский реалистический роман классической поры и той коммуникативной «тесноты», которая характеризует взаимосвязи персонажей в «Докторе Живаго». Известно, как высоко ценил Пастернак Льва Толстого, сколь многим был ему обязан при работе над «Доктором Живаго» («…то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основою моего существования, всей манеры моей жить и видеть», – писал он Н. С. Родионову 27 марта 1950 г.[881]), однако в сюжетах романов Толстого нет ничего подобного тем закономерностям, которые движут событиями у Пастернака. Столь значимые в художественной ткани «Войны и мира» персонажи, как, например, капитан Тушин или Платон Каратаев, действуют внутри эпизода или серии эпизодов, сцены с ними можно было бы изъять из романа без всякого ущерба для прагматического развертывания основных сюжетных линий, прослеживающих историю семей Ростовых, Болконских и Безуховых. Принципиальная разомкнутость сюжетных конструкций – исходный принцип в работе Толстого над его повествовательными темами: примечательно, что он решил сделать князя Андрея (поначалу нужного только для битвы при Аустерлице) сыном старика Болконского лишь потому, что «неловко описывать ничем не связанное с романом лицо».[882] Между тем для Пастернака главнейшая и первейшая художественная задача – выявление многоразличной связанности самых разнообразных персонажей в системе единого романного действия. И ориентиром для него в решении фабульных «технологических» задач служат не столько русские романы, тяготеющие к изображению житейской подлинности во всей ее пестроте, свободе и непредсказуемости, сколько более ранние – а порой и совсем архаичные – повествовательные модели, замыкающие текучий и неуправляемый жизненный материал в жесткий каркас интриги и пропускающие его через реторту заведомо литературных условностей. Апробированные «беллетристические» эффекты – то, чем Пастернак в ходе работы над «Доктором Живаго» ни в малой мере не собирался пренебрегать; характеризуя в письме к О. М. Фрейденберг от 1 октября 1948 г. рождающееся произведение, он отмечал: «…это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше».[883]
В дневнике, который ведет Юрий Андреевич, живя с семьей в Варыкине, перечисляются литературные произведения, которые они читают и перечитывают, и называется в их числе «Повесть о двух городах» Диккенса (IX, 2). Хотя, по убеждению Г. Честертона, «по благородству и красоте стиля это произведение занимает чуть ли не первое место среди других творений Диккенса»,[884] «Повесть о двух городах» не принадлежит – во всяком случае, в русской читательской среде – к числу наиболее известных произведений великого английского писателя, и уже в силу этого обстоятельства упоминанию романа в одном ряду с «Войной и миром», «Евгением Онегиным» и «Красным и черным» Стендаля следует, очевидно, придавать определенный смысл.[885] Главное основание для этого упоминания – сходство тематики и ее трактовки, позволяющее осмыслять «Повесть о двух городах» как своего рода прообраз «Доктора Живаго». В центре сюжета романа Диккенса – события Великой французской революции; автор видит в них прежде всего разгул диких разрушительных инстинктов, всеобщее озверение и умопомешательство. Революционному террору, который Диккенс воспринимает как «страшный душевный недуг, порожденный невообразимыми страданиями, чудовищным притеснением и жестокостью»,[886] противостоят в романе идеи христианского гуманизма, милосердия и пафос личной жертвенности. «Идея свободной личности и идея жизни как жертвы» (I, 5), проповедуемые на первых страницах «Доктора Живаго» Веденяпиным, находят свое конкретное воплощение в главной сюжетной коллизии «Повести о двух городах»: герой романа, Сидни Картон, жертвует собой ради любимой женщины и ее ребенка – добровольно подменяет ее мужа (аристократа, без всякой вины приговоренного к смерти) и идет вместо него на гильотину. Жертвенный акт Картона, его внутренний облик и поведение перед казнью получают у Диккенса мистериальную окраску, осмысляются как «подражание Христу» (значимая подробность: Картон в последние минуты поддерживает душевные силы у влекомой вместе с ним на гильотину невинно осужденной молодой девушки), и этот патетический и катарсический финал «Повести о двух городах» невольно соотносится со стихотворным финалом романа Пастернака – стихами о Магдалине, «Дурными днями» («И темными силами храма // Он отдан подонкам на суд») и «Гефсиманским садом» («Я в добровольных муках в гроб сойду»).
Думается, однако, что «Повесть о двух городах» упомянута в «Докторе Живаго» не только по причине наблюдаемых аналогий в плане содержания и близости идейной концепции. Этот роман, как и другие романы Диккенса, мог восприниматься Пастернаком как один из образцов в искусстве выстраивания сюжетной архитектоники, как пример жесткой, четко запрограммированной и внутренне сбалансированной повествовательной структуры, как феномен подлинного, высшей художественной пробы «беллетризма». Стремление уйти в прозе от свободной, раскованной, «стихийной» композиции, свойственной в равной мере как сюжетным моделям традиционного реалистического типа, так и постреалистическим, модернистским повествовательным исканиям, Пастернак вынашивал на протяжении ряда лет. Еще 25 декабря 1934 г. он признавался в письме к родителям: «… я спешно переделываю себя в прозаика Диккенсовского толка»,[887] – а более десяти лет спустя, начиная работу над «Доктором Живаго», писал О. М. Фрейденберг (13 октября 1946 г.), что сюжет будущего «большого романа в прозе» будет «тяжелый, печальный и подробно разработанный» – «как, в идеале, у Диккенса или Достоевского».[888] (Достоевский здесь упомянут определенно не в противопоставление, а в дополнение к Диккенсу: в кругу русских классиков именно он более других был обязан творческому опыту английского романиста.)
В композиционном плане «Доктор Живаго» также обнаруживает ряд зримых параллелей с «Повестью о двух городах». В обоих романах событиям революционного времени, обрисованным наиболее подробно и играющим основную роль в повествовании, предшествует большая предыстория, охватывающая примерно пятнадцатилетний предреволюционный период. Действие в «дореволюционных» главах и у Пастернака, и у Диккенса развивается как бы рывками: оно представляет собой совокупность детально выстроенных эпизодов, отделенных один от другого значительными временными интервалами (в «Повести о двух городах» начало событий относится к 1775 г., затем действие возобновляется пять лет спустя, затем – четыре месяца спустя и т. д.), причем взаимосвязь между эпизодами, смысл «перемены декораций» и появления новых лиц не всегда ясны читателю. Последняя особенность, характерная для повествовательной техники «романа тайн», – параллельное ведение одновременно нескольких сюжетных линий, связи между которыми раскрываются не сразу, – особенность, с исключительным разнообразием и мастерством обыгрываемая в романах Диккенса, также нашла свое отражение в «Докторе Живаго».
«В настоящее время мы, очевидно, накануне оживления романа тайн. Возрос интерес к сложным и запутанным конструкциям», – писал Виктор Шкловский в своей книге «О теории прозы» (1925) по ходу анализа механизма сюжетостроения в «романе тайн» на примере произведений Диккенса. Отмечая как характерный диккенсовский прием сочетание нескольких одновременных действий и проводя конкретные наблюдения на примере романов «Крошка Доррит» и «Наш общий друг», он добавляет: «Гораздо меньше пересекаются сюжетные линии в “Двух городах” того же автора. Мы в этом романе воспринимаем переход от одной сюжетной линии к другой, очевидно не связанной с ней, как какую-то загадку. Отожествление действующих лиц различных линий отодвинуто от начала романа в его глубину».[889] Весьма вероятно, что этот анализ не был в свое время оставлен Пастернаком без внимания. Но даже если ему и не приходилось «теоретически» осмыслять приемы диккенсовского сюжетосложения, описываемые Шкловским, безусловно, что ориентация на поэтику английского классического романа не оставалась для автора «Доктора Живаго» неосознанной. В этой тщательно сконструированной системе изъятие того или иного персонажа или эпизода зачастую влекло бы за собой разрушение всей системы внутритекстовых связей и закономерностей,[890] а побочные, «частные» действия вливаются в общее русло основной романной интриги и строго функциональны, они переплетаются, дополняют друг друга и ведут основное действие к развязке. Показательно, однако, что те особенности сюжетосложения, которые для Филдинга, Вальтера Скотта или Диккенса представляли собой органичную модель романной поэтики, для Пастернака – осознанный архаизирующий прием, который неоднократно намеренно подчеркивается на страницах «Доктора Живаго», в том числе признаниями и наблюдениями самих героев. «Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились?» – восклицает автор, описывая первую встречу Юрия Андреевича и Стрельникова (VII, 29), не помышляющих, насколько уже тесно переплетены их судьбы. «Просто предопределение какое-то!» – в очередной раз восклицает Лара (XIII, 12), открывая новые фатальные связи, соединяющие ее с Живаго.
Пастернак не только охотно усваивает опыт своего любимого Диккенса, но и щедро использует в романе самые общие типовые элементы, присущие остросюжетным повествованиям. Долгие годы вынашивавшееся желание «написать роман, настоящий, с сюжетом»[891] заставляет писателя брать на вооружение литературные условности, старые, апробированные, но неизменно действенные приемы, генеалогия которых восходит к античному роману и от него тянется в глубь веков. Один из непременных сюжетных атрибутов античного романа – похищение главных героев разбойниками (пиратами); Юрий Живаго, в согласии с этой схемой, также пленен «лесным воинством». В авантюрном романе обычно бывает необходим «инфернальный» герой-злодей, виновник основных бед, преследующих героев, – в «Докторе Живаго» сходную роль играет адвокат Комаровский, совратитель Лары и косвенный виновник самоубийства отца Юрия Живаго, «злой гений» (XIII, 12) главных героев, порознь связанный с их судьбами и способствующий в конце концов их расставанию. Разумеется, это фигура неоднозначная, ничего общего не имеющая с примитивными злодеями из расхожих мелодраматических повествований, но тем не менее функции, которыми наделен Комаровский в сюжетной конструкции романа, позволяют без колебания возвести его именно к этому типу.
К типовым элементам «романа тайн» относится и мнимая смерть с последующим «воскресением» (зачастую и преображением) героев. В той же «Повести о двух городах» изображаются похороны фискала Клая в Лондоне, позднее обнаруживается, что он жив и действует в Париже; «воскресают» у Диккенса и главные герои – Уолтер Гэй («Торговый дом Домби и Сын»), Джон Гармон («Наш общий друг»). У Пастернака пропавший без вести (а по мнению очевидцев, погибший) на фронте мировой войны Павел Антипов, муж Лары, «воскресает» и преображается в деятеля революции Стрельникова; идентификация Антипова и Стрельникова не сразу доводится до читателя: сначала Стрельников, в соответствии с жанровыми традициями введения в действие «преображенного» героя, предстает как новое лицо в повествовании, и лишь постепенно, намеками, проясняется его истинная сущность. Пастернак дублирует этот сюжетный прием и на уровне второстепенных персонажей: партизана Терентия Галузина расстреливают вместе с другими людьми за участие в заговоре; затем оказывается, что Галузину удалось выжить, он вновь встречается на пути Юрия Живаго.
На редкость богатую литературную родословную имеет сюжет о потерянных и найденных детях, в центре которого – раскрытие тайны их рождения. Восходящий к античному роману, он щедро эксплуатировался на протяжении ряда веков, был успешно унаследован классическим английским романом («История Тома Джонса, найденыша» Филдинга, «Гай Мэннеринг» В. Скотта, «Приключения Оливера Твиста» Диккенса и т. д.) и уже в первой половине XIX века воспринимался как заведомо условный и полностью отработанный беллетристический ход. В романе «Мюнхгаузен» (1838) Карл Иммерман, описывая подкидыша – белокурую Лизбет, – не жалеет иронии, сообщая, насколько обделен его подкидыш по сравнению с теми подкидышами, которых обычно подбрасывают на страницы романов: «…под ребенка была постлана вата. Но ни амулетов, ни драгоценностей, ни крестов, ни запечатанных бумаг, которые бы указывали на происхождение младенца и без которых ни один уважающий себя найденыш вообще не может показаться в романе, там не оказалось. Никакой родинки под левой грудью, никакого выжженного или вытатуированного знака на правой руке, с которого впоследствии во время сна спустилась бы сорочка, так, чтоб кто-нибудь, случайно увидев, мог бы спросить: кто и когда? – нет! ничего, решительно ничего, так что становится страшно за развязку».[892] Однако Пастернака заведомая «литературность» этого сюжетного приема не смущает; под конец повествования он вводит мотив тайны Лары, до времени скрываемой от читателя («Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем ‹…›. Он узнал от нее что-то важное» – XV, 17) и увенчивающей все романное действие: в эпилоге Гордон, Дудоров и Евграф Живаго случайно встречают бельевщицу Татьяну, в которой опознают дочь Юрия Андреевича и Лары, волею обстоятельств потерянную в раннем детстве и выросшую в глубокой глуши в крестьянской среде (обычный удел литературных найденышей – социальная обделенность, пребывание в условиях, не соответствующих их родовому происхождению). У Пастернака, правда, родинки и амулеты в ход не вступают, но аналогичную им роль исполняет косноязычный рассказ о себе Татьяны, в котором в сильно искаженном виде находят отражение лица и события, известные читателю. В данном случае через избитый беллетристический ход автор выводит к обобщениям уже отнюдь не локального характера – к осознанию осуществившегося гибельного разрыва в естественной жизненной преемственности, утраты необходимых родовых связей и, как следствие, человеческого оскудения.
Сводный брат Юрия Андреевича Евграф, выступающий на первый план только в заключительных главах романа, – с точки зрения использования традиционных фабульных схем также фигура весьма любопытная. Если Юрий Живаго может ассоциироваться с Гамлетом (к чему подталкивает его первое стихотворение из заключающего роман цикла – «Гамлет»), то Евграф Живаго по отношению к нему – Фортинбрас: именно ему уготовано сохранить память о брате, сберечь его произведения, обеспечить будущее его дочери.[893] Однако и при жизни Юрия Евграф проявляет себя по отношению к нему исключительно как благодетель. Из всех персонажей романа это наиболее условная фигура, выполняющая одну-единственную функцию, – таинственный герой («загадка его могущества оставалась неразъясненною» – XV, 9), появляющийся всегда неожиданно, ненароком и всегда в тот момент, когда в его помощи бедствующий герой чрезвычайно нуждается, – подобно тому как возникает по ходу действия Вечный Жид в одноименном романе Эжена Сю, но там и не скрывается соучастие сверхъестественных сил. Элемент «сверхъестественности» в Евграфе дополнительно акцентируется Пастернаком. «Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения, – размышляет о брате Юрий Андреевич. – Может быть, состав каждой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?» (IX, 9). Это – еще один пример того, как персонажи романа Пастернака рассуждают о принципах, в согласии с которыми этот роман организован, и в данном случае Юрий Андреевич почти договорил до конца: по всем признакам, «почти символическое лицо» Евграф Живаго представляет собой модификацию фольклорного образа «волшебного помощника», успешно продолжившего свое бытие и в «авторской» литературе (вспомним хотя бы капитана Немо в «Таинственном острове» Жюля Верна: едва ли случайно этот герой мимоходом упоминается в «Докторе Живаго» – XIV, 6). Весьма знаменательно, что в ходе работы над романом Пастернак усиленно занимался фольклором, читал сборники сказок, изучал вышедшую в 1946 г. книгу В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (в которой целый раздел посвящен образу волшебного помощника и его сказочным функциям); сам он осознавал (и признавался в этом 9 ноября 1954 г. в письме к Т. М. Некрасовой), что помещает в своем романе «совокупность совершающегося» далеко «от общепринятого плана», «почти на границе сказки».[894] В следовании сказочному архетипу Пастернак по-своему был верен избранным ориентирам: ведь и поэтика романов Диккенса, которая оказывалась для него столь близка, во многом была родственна поэтике волшебной сказки, сказочное начало входило у английского писателя органическим элементом в жизнеподобные обстоятельства.[895]
При этом Пастернак не имитирует и не стилизует чужую повествовательную манеру; используя готовые композиционные и фабульные приемы, он их зачастую переосмысливает, выводит за рамки того функционального круга отношений, внутри которого они обычно используются как движущая, динамизирующая сила. Важнейший для романов «с интригой» принцип замкнутости, завершенности повествования, взаимной согласованности всех сюжетных звеньев осуществляется у Пастернака не всегда последовательно; он позволяет себе «терять» персонажей, в том числе даже весьма заметных участников действия: неясной остается судьба Веденяпина, Галиуллина, брата Лары Родиона и т. д. «Забывая» об одних персонажах, Пастернак зачастую вводит в действие других, не всегда руководствуясь при этом задачами сюжетной необходимости и целесообразности. Некоторые фабульные детали, ходы, мотивировки в романе могут быть восприняты как архитектурные излишества с точки зрения сюжетостроительной прагматики.
Тот же Диккенс никогда не допустит в своем романе «лишнего» – «лишних» героев, совпадений, особо акцентированных деталей, которые не играли бы определенную роль в движении сюжета, в его обострении, в развязке выстроенного конфликта. Если в «Повести о двух городах» на какое-то время внимание автора сосредоточивается на фискале Барседе, никак не связанном с главными действующими лицами, читатель может быть уверен, что это неспроста, и не будет обманут: Барсед окажется братом мисс Просс, экономки главной героини, через него Картону удается осуществить свой замысел – проникнуть в тюрьму и подменить собою приговоренного к смертной казни. У Пастернака же всевозможных пересечений судеб, запрограммированных случайностей оказывается больше, чем это необходимо для сцепления сюжетных звеньев. Если, по законам жанра, на сцене появляются ружья, то они должны стрелять; в романе Пастернака эти ружья исправно стреляют, но нередко холостыми патронами. Например, возвращающийся пешком в Москву Юрий Андреевич случайно сталкивается с Васей Брыкиным, когда-то железнодорожным попутчиком, и берет его с собой; тот некоторое время помогает доктору в работе, а затем исчезает из его поля зрения. Никаких принципиально новых сюжетных поворотов эта повторная встреча не порождает. Или еще пример: старуха Тиверзина, на глазах у которой гибнет отец Живаго, – совпадение, также оставленное без сюжетных последствий. У Диккенса в романе подобная фигура фона никогда бы не возникла ненароком и не пропала втуне, а появилась бы вновь в необходимый момент – при узнавании сыном об обстоятельствах самоубийства отца. И подобных случаев в романе довольно много. Однако ошибочным было бы предположение, что в этом сказывается недостаток беллетристического мастерства у автора «Доктора Живаго», нехватка дирижерских навыков при исполнении слишком сложной партитуры. Герои в романе сталкиваются зачастую не потому, что это очень нужно автору для сведения одних сюжетных концов с другими, а потому, что автор видит и понимает: воссоздаваемый им мир настолько тесен, что его герои не могут не столкнуться.
Совпадения и пересечения судеб имеют в романе не только внешний, собственно сюжетный, но и своего рода метасюжетный смысл; вся их осуществленная совокупность остается недоступной коллективному восприятию героев, ее постигает лишь автор-демиург, а вслед за ним читатель. Один из самых выразительных в этом отношении моментов – скоропостижная смерть Юрия Андреевича на московской улице. Едучи перед этим в трамвае,[896] он случайно обратил внимание на проходящую мимо старушку, которая, уже когда он был мертв, обогнала остановившийся трамвай и, «ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его» (XV, 12). Как сообщает автор, эта старушка – мадемуазель Флери, так же мимоходом промелькнувшая в первой половине романа; Живаго и Лара, работавшая в госпитале сестрой милосердия, много лет назад встречались с нею в прифронтовом городе Мелюзееве, причем старушка как бы предопределила их дальнейшее сближение: «Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться» (V, 4). Герой Пастернака наблюдает нечто случайное, мимолетное; автор раскрывает в этом случайном необходимое, показывает, как сквозь пелену преходящих явлений «дышат почва и судьба». О том же говорят и предсмертные мысли Юрия Андреевича – мадемуазель Флери, идущая по улице в направлении движения трамвая, провоцирует их рождение и одновременно оказывается их зримым подтверждением: «Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает» (XV, 12). Принципы сюжетосложения в романе всецело подчинены реализации этой идеи. Мир «Доктора Живаго» – это мир необходимых и четко регистрируемых, обозримых связей; потенциальная эпическая безбрежность оборачивается в нем разнообразными сочетаниями большого и многосоставного, но строго ограниченного реестра действующих лиц.
Совместность пребывания нескольких героев романа на одной «сценической площадке» зачастую ими самими не осознается, но имеет свой провиденциальный смысл. Это отмечает Пастернак и в эпизоде смерти доктора, это особо подчеркивает и ранее – в одной из сцен на фронте мировой войны, специальным разъяснением обнажая излюбленный прием: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер – его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго – свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи» (IV, 10). Таких совмещений у Пастернака больше, чем в любом авантюрном романе с острой и разветвленной интригой. В то же время они часто не вызывают ожидаемых сюжетных эффектов («все были вместе и не узнали друг друга»), не стимулируют сюжета, не меняют характера описываемых ситуаций, дополнительной занимательности повествованию, в общем, тоже не прибавляют. Функция их по большей части иная. Те механизмы сюжетосложения, которые у Диккенса и сходных с ним по творческому методу авторов служили главным образом для движения интриги и обострения сюжетных коллизий, у Пастернака лишь отчасти сохраняют интригообразующую функцию; это – их побочное, хотя тоже необходимое задание, важнейшей же оказывается мировоззренческая нагрузка: коммуникативный ряд в романе способствует зримому воплощению идеи единства жизни в ее внутренних взаимосвязях и взаимообусловленности, в ее одновременной непредсказуемости и закономерности, реализует задачу творческой гармонизации кажущегося хаотическим потока явлений.
Это переживание осуществляющейся гармонии, высвечивающей незримым светом все бесконечно разнообразные формы жизни и столь же бесконечно разнообразные и предустановленные сочетания человеческих судеб, Пастернак дает почувствовать и осмыслить героям своего романа. Уже в самом его начале гимназист Миша Гордон несет в себе «ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь» (I, 7). Юрий Живаго говорит о том, что «все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» (III, 3). Лара над гробом Живаго вновь испытывает роднившее и объединявшее ее с покойным «наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной» (XV, 15). Все случайности в романе находятся в одном смысловом ряду с этими переживаниями – всякий раз они дают возможность удивиться «общей лепке мира». Строй, лад, провиденциальный смысл, пронизывающий всю многообразную ткань бытия, – в романе не просто незыблемые данности, замкнутые на самих себе; это – и ответ Пастернака на те хаотические, разрушительные, деструктивные начала, которые он видит в описываемых им социальных конвульсиях, в самонадеянных попытках «переделать» жизнь. Слепой случай, властвующий на всем протяжении романного сюжета, в этом аспекте не может быть осмыслен иначе, как действенное самовыражение некой высшей силы, сказывающейся с неуклонной закономерностью,[897] преобразующей видимый хаос и организующей широкое и разомкнутое эпическое пространство в строго детерминированную, замкнутую систему. Случай у Пастернака направляется промыслом, он утверждает канон устойчивых ценностей органической жизненной эпохи, когда в человеческом общежитии еще не были нарушены естественные и благотворные нормы существования. В сюжетных «скрещеньях» романа – художественные доказательства тех идейных теорем, которые решает для себя Пастернак, конкретные проявления вселенского ритма, согласованности и потаенной телеологичности всего сущего, лишь в малой степени доступной житейскому осмыслению. Сам Пастернак, указывая в письме к Стивену Спендеру от 22 августа 1959 г. на зависимость своего произведения от «великих романов прошлого столетия», руководствовавшихся «доктриной причинности, убеждением, что объективная реальность определяется и управляется железной цепью причин и следствий, что все явления нравственного и материального мира подчинены закону возмездия и последствий», подчеркивал: «…отсюда откровенность произвольных “совпадений” (этим я хотел показать свободу бытия и правдоподобность, которая соприкасается и граничит с невероятным)».[898]
Принципы сюжетостроения в «Докторе Живаго» непосредственно исходили из мировоззренческих постулатов автора, но они же могут найти свое истолкование и в собственно эстетическом ряду. Еще в 1931 г. в стихотворении «Волны» Пастернак внятно заявил о своем предпочтении определенному типу художественного языка:
В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту.«Родство со всем, что есть» (никак не чуждо это переживание «Доктору Живаго») и «неслыханная простота» отныне для Пастернака взаимообусловлены; установка на «неслыханную простоту» – генерализирующая идея всего позднего творчества писателя – была для него отправной точкой и в ходе работы над романом. В 40-е гг. он стремится писать так, чтобы «…всем было понятно», в полемическом, видимо, задоре заявляет, что «нарочно пишет почти как Чарская», его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а «доходчивость», он хочет, чтобы его роман читался «взахлеб» любым человеком.[899] «Почти как Чарская» – это, конечно, ассоциация с историей юности Лары (с ее «падением», покушением на Комаровского, замужеством); Пастернак, безусловно, мог бы назвать как образец желаемой доходчивости писателей с более незыблемой репутацией. Само собою разумеется, что «доходчивость» и «неслыханная простота» – не безотносительная простота сама по себе и уж вовсе не примитивность, а та эстетическая реальность, которая воспринимается как нечто первичное, непреложное, легко и спонтанно усваиваемое. Такую простоту заключает в себе пушкинский четырехстопник, который, по мысли Пастернака, вписанной в дневник Юрия Живаго, «явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования» (IX, 6). Тот кодекс простоты, который в области стихотворчества воплощен для Пастернака в поэзии Пушкина, в области прозаического искусства вполне у него мог ассоциироваться с классическим «беллетризмом» – эксплуатирующим традиционные, легко постигаемые читательским сознанием сюжетные схемы и приемы повествования, имеющим дело с типологизированными по определенному набору признаков персонажами, всегда приносящим обиходную достоверность в жертву фабульным эффектам.
В последние годы жизни Пастернак приступил к работе над большой пьесой «Слепая красавица», которая мыслилась как сочетание жанров социально-психологической драмы и исторической хроники 30 – 60-х гг. XIX века. В январе 1960 г., пересказывая сюжет задуманного произведения Ольге Карлайл, он подчеркивал: «Как видите, все это мелодраматично, но я считаю, что театр должен быть эмоциональным, красочным. ‹…› Должна снова возникнуть тяга к мелодраме – к Виктору Гюго, к Шиллеру…‹…› Я бы с удовольствием написал мелодраму во вкусе середины XIX века…».[900] В зафиксированных фрагментах пьесы эти установки проявлены вполне наглядно: один из героев исчезает и появляется затем в преображенном виде, под другим именем, происходит подмена детей (дворянский ребенок воспитывается под видом крепостного), в действии участвует величайший мастер сюжетной интриги, путешествующий по России Александр Дюма собственной персоной, и т. д.[901] Не вполне понятно, какой окончательный вид мог приобрести драматургический замысел, но достаточно ясно, что Пастернак предполагал и здесь воспользоваться сюжетными клише «старого» театра, сходными с теми, к которым он прибегал в «Докторе Живаго». Будущая пьеса осмыслялась автором в сопоставлении с завершенным романом и вслед за ним изначально была ориентирована на «демократического» читателя: предполагалось ее написать «с меньшей примесью философии и религиозного символизма, чем Д<октор> Ж<иваго>», «но опять о вещах для всех на свете».[902] Поэзия Пушкина, классическая мелодрама, проза Диккенса, народная сказка – все это для Пастернака примеры органического и самого подлинного творчества «для всех на свете», в основе которого лежала «неслыханная простота», его путеводный ориентир в работе над романом.
Разыскания
К истории журнала «Новый путь»: Официальные документы
Двухлетняя история издания петербургского религиозно-философского и литературно-публицистического журнала «Новый Путь» (1903–1904) освещена в специально посвященных ей работах общего характера,[903] а также в ряде публикаций, среди которых особенно значимы подборки писем В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус к официальному редактору журнала П. П. Перцову.[904] До сих пор, однако, не были введены в исследовательский оборот с достаточной полнотой документальные материалы по истории «Нового Пути», сосредоточенные в архивных фондах государственных учреждений; лишь в статье Д. Е. Максимова “Новый Путь”», построенной на многочисленных рукописных источниках, а также учитывающей устные свидетельства П. П. Перцова и ряда других участников литературного процесса начала XX века, процитированы два документа Петербургского Цензурного Комитета, касающиеся этого журнала.[905]
Делопроизводственные бумаги, имеющие отношение к изданию «Нового Пути», сосредоточены в двух фондах Российского государственного исторического архива – I отделения Главного Управления по делам печати (на 58 листах)[906] и Санкт-Петербургского Цензурного Комитета (на 59 листах).[907] Как известно, идея издания журнала определилась вскоре после разрешения учредить в Петербурге Религиозно-философские собрания, основной задачей которых было публичное совместное обсуждение религиозно-философских проблем и вопросов представителями интеллигенции и духовенства. 1-е собрание состоялось 29 ноября 1901 г., прошение же Перцова в Главное Управление по делам печати об издании в Петербурге повременного издания «Новый Путь» датировано 21 января 1902 г. В прошении была приведена программа будущего журнала из 12 пунктов, включавших «Статьи по вопросам религиозно-философским и этическим» и «Отчеты о деятельности обществ: научных, философских, художественных и др.»;[908] последний раздел в данном случае предполагал публикацию в «Новом Пути» стенографических отчетов Религиозно-философских собраний, которые печатались в журнале в конце каждого номера самостоятельной рубрикой («Записки Религиозно-философских собраний») с отдельной сквозной пагинацией.
Последующим непременным условием для выдачи разрешения на издание был сбор сведений о заявителе и о степени его политической благонадежности. Директором Департамента полиции был представлен в Главное Управление по делам печати следующий документ (28 февраля 1902 г., с грифом «Секретно»):
«Вследствие отношения от 24 минувшего января за № 695, Департамент Полиции имеет честь уведомить Главное Управление по делам печати, что в виду полученных в 1894 г. указаний на проживавшего в то время в Казани дворянина Петра Петрова Перцова, как на ревностного распространителя недозволенных сочинений графа Л. Толстого, рассылаемых по различным городам для перепечатки книжной торговлей “Посредник”, и на намерение Перцова прибыть в С. – Петербург, – на деятельность его было обращено внимание С. – Петербургского Градоначальника.
Ныне, по сообщению Генерал-Лейтенанта Клейгельса, Перцов, проживая в Петербурге, занимается литературным трудом, обладает довольно солидными материальными средствами, вращается преимущественно между писателями, и неблагоприятных в политическом отношении сведений о нем не имеется».[909]
Живейший интерес заявителя к «недозволенным сочинениям» Толстого и к личности неугодного властям графа (выразившийся, в частности, в посещении Ясной Поляны в том же 1894 г., который упоминается в донесении[910]) был отмечен и в «справке по отделению по охранению порядка и общественной безопасности в С. – Петербурге» от 7 июня 1902 г., также представленной в Главное Управление по делам печати:
Перцев <так!> Петр Петров 33 л., потомственный дворянин Казанской губернии, сын отставного Действительного Статского Советника, окончил Казанский Университет, определенной должности не имеет, занимается литературой, обладает довольно солидными материальными средствами, знакомство ведет исключительно с писателями, из которых известны: Мережковский и сотрудник Нового Времени Розанов; часто приезжает в С. – Петербург, останавливается в гостинице Пале-Рояль (№ 20 по Пушкинской улице), последний раз приехал 25 апреля сего года, прожил до 22 мая и выбыл в Москву; из родных в С. – Петербурге имеет двоюродного брата, ученого лесовода Владимира Владимирова Перцева, другие родственники живут в Казани; в поведении его ничего предосудительного не замечалось и сведений о сношениях его с неблагонадежными лицами в Охранном Отделении не имеется.
Перцев упоминается в отношениях Департамента Полиции от 9 октября 1894 года за № 7112–1966, как усердный пропагандист учения графа Льва Толстого и распространитель запрещенных его сочинений, как то: «Тулон», «Царствие Божие» и т. п. и от 31-го января сего года за № 1433, в котором Департамент просит собрать негласные сведения о Перцеве на предмет разрешения ему издавать в столице журнал «Новый Путь».
По агентурным сведениям, названный Перцев принадлежит к категории писателей-декадентов и по своему мировоззрению – анархист.
Ротмистр Саханов.[911]
Для получения разрешения на издание в данном случае одного прошения по инстанции было недостаточно, требовались дополнительные энергичные усилия для того, чтобы выпуск в свет журнала, в котором предметом свободной дискуссии становились темы, остававшиеся до того времени исключительной прерогативой ортодоксального богословия и церкви, оказался возможным. Были предприняты некоторые шаги и задействованы личные связи, которые, естественно, в официальной документации отражения не нашли (в частности, Мережковский воспользовался своим знакомством с влиятельным в «высших» сферах кн. В. П. Мещерским, который ходатайствовал о разрешении «Нового Пути» перед министром внутренних дел Д. С. Сипягиным, а затем, после убийства Сипягина, перед его преемником В. К. Плеве[912]). 3 июля 1902 г. П. П. Перцову было выдано официальное свидетельство как издателю журнала «Новый Путь»,[913] 5 июля Главное Управление по делам печати направило извещение С. – Петербургскому Цензурному Комитету о разрешении издавать ежемесячный иллюстрированный журнал «Новый Путь» по прилагаемой программе.[914]
Как издание, уделявшее значительное внимание религиозной и церковной проблематике, «Новый Путь» подлежал двойному контролю – предварительной цензуре светской и духовной. В ведении второй находились публикуемые в 1903 г. в каждом номере «Записки Религиозно-философских собраний» (духовный цензор – митрополит Антонин); кроме того, на рассмотрение Духовного Цензурного Комитета представлялись различные материалы религиозного содержания, принятые к печати.[915] В письмах к Перцову З. Н. Гиппиус, в ведении которой оказалась практически вся редакционная работа, неоднократно жаловалась на препоны и ограничения, налагаемые духовной цензурой. В остро конфликтной истории взаимоотношений редакции с духовным ведомством самым сокрушительным ударом по журналу стало запрещение Религиозно-философских собраний (5 апреля 1903 г.) – прямое следствие кампании против «Нового Пути» в охранительной и ортодоксальной церковной печати. Над журналом тогда непосредственно нависла угроза запрета. 6 апреля Гиппиус писала Перцову: «Если ‹…› потеряем журнал, – вряд ли стоит сидеть в России и ждать погоды. Железный занавес упадет опять между нами и общественно-церковной жизнью».[916] В этих обстоятельствах «Новый Путь» уцелел, но «Записки Религиозно-философских собраний», помещавшиеся в нем вплоть до декабрьского номера за 1903 г., допечатать не удалось; публикация была прекращена на основании следующего распоряжения С. – Петербургского Духовного Цензурного Комитета от 27 декабря 1903 г.:
В С. – Петербургский Цензурный Комитет.
С. – Петербургский Духовный Цензурный Комитет имеет честь уведомить Цензурный Комитет, что секретным Указом Св. Синода, от 18 декабря 1903 года за № 21-м, впредь не дозволяется к напечатанию в журнале «Новый Путь» «Записок религиозно-философских собраний в С. – Петербурге» и не разрешается выпуск их в свет отдельными оттисками. Доводя об этом до сведения Цензурного Комитета, С. – Петербургский Духовный Цензурный Комитет вместе с сим считает своим долгом просить Комитет о том, чтобы им не разрешались к печатанию отдельные оттиски «Записок религиозно-философских собраний в С. – Петербурге», возможность какового печатания усматривается в подстрочном примечании редакции журнала «Новый Путь» на стр. 505 книжки журнала за месяц январь 1904 г.
Старший член Комитета Архимандрит Филарет.
Секретарь Комитета Иван Троицкий.[917]
Светским цензором «Нового Пути» был назначен статский советник Евгений Семенович Савенков – по определению Перцова, «благонамеренный старец», «старомодный и угрюмо подозрительный “черносотенец”».[918] В деле С. – Петербургского Цензурного Комитета по изданию «Нового Пути» сохранились его пространные доклады о материалах, представленных в журнал, а также подробный обзор истории журнала и его идейных установок (от 27 ноября 1904 г.).[919] По представлению Савенкова 31 января 1904 г. из Цензурного Комитета был направлен следующий документ, касающийся публикации в «Новом Пути» романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей», начатого печатанием с январского номера за 1904 г.:
В Главное Управление по делам печати.
Просматривающий ежемесячный подцензурный журнал «Новый Путь» Статский Советник Савенков доложил С. – Петербургскому Цензурному Комитету, что в книге 3-й печатаемого в названном журнале произведения Д. Мережковского под заглавием «Петр и Алексей» приводятся дневники фрейлины Арнгейм и Царевича Алексея. В обоих дневниках имеются места, неудобные с цензурной точки зрения, главным образом непочтительные отзывы о Петре Великом и Екатерине I. Места эти отмечены цензурующим в препровождаемых при сем корректурных оттисках.
Хотя приводимые г. Мережковским исторические документы имеют весьма ценное значение для характеристики изображаемого в них времени, – тем не менее Комитет не признает возможным дозволить их целиком, тем более, что журнал «Новый Путь», по программе своей, не является специально историческим.
В виду сего С. – Петербургский Цензурный Комитет, принимая во внимание, что разрешение вышеназванных исторических документов без исключений превышает его компетенцию, считает долгом представить об изложенном на благоусмотрение Главного Управления по делам печати.
Председательствующий
Член Совета Главного Управления по делам печати А. Катенин.
За секретаря Гр. Головин.[920]
Речь в этом донесении идет о третьей книге романа Мережковского, содержащей «Дневник фрейлины Арнгейм» и инкорпорированный в него «Дневник царевича Алексея». Судя по приведенному тексту, цензор воспринял как подлинные исторические документы вымышленные автором романа дневники (в которых, впрочем, как и обычно в художественной практике Мережковского, «широко представлены исторически документированные материалы, свободно перемешанные с вымышленными»[921]). Объяснение в этой связи дал сам автор (на его письме наложена резолюция: «К делу. Прошу разрешение цензором. 4/II»):
В Главное Управление по делам печати.
Мною представлена в Цензуру корректура III главы моего исторического романа «Петр и Алексей», задержанной Цензурою. В виду сомнений, которые могут возбудить отдельные места и выражения, касающиеся преобразовательной деятельности Петра Великого, считаю необходимым указать на следующее.
Этот роман есть заключительная часть трилогии, первые две части которой уже появились несколько лет тому назад, как в подцензурных журналах, так и отдельными изданиями: I ч. «Смерть богов»; II ч. «Воскресшие боги».
В III ч. трилогии «Петр и Алексей», которая в настоящее время печатается в журнале «Новый Путь», главная цель моя показать культурное величие Петра и оправдать его в деле его с царевичем Алексеем, за которое возводились на Великого Преобразователя столь тяжкие и тем не менее неосновательные и легкомысленные обвинения. Но в видах исторического реализма и объективности я должен был для отражения обвинений этих дать им наибольшую остроту и силу, что и сделано мною в представляемой III кн. «Дневник царевича Алексея». Это как бы темные пятна на солнце славы Петра Великого.
Д. Мережковский.[922]В результате Цензурному Комитету было направлено 5 февраля 1904 г. постановление о том, что препятствий к напечатанию 3-й главы «Петра и Алексея» не встречается – «но под условием исключения из этой главы мест, перечеркнутых красным карандашом в препровождаемых при сем корректурных листах».[923] Указанные корректурные листы с цензорскими изъятиями, видимо, не сохранились, но эти изъятия поддаются восстановлению путем сличения текста, опубликованного в «Новом Пути» (1904. № 3. С. 1 – 18), с текстом отдельного издания романа. Были исключены 4 фрагмента из «Дневника царевича Алексея»: весьма пространный (полстраницы) от слов «У нас людей не берегут. Тирански собирают с бедного подданства слезные и кровавые подати» до слов «Русские люди в последнюю скудость пришли. И никто не доводит правды до царя. Пропащее наше государство»; абзац «о земском соборе и о народосоветии», заканчивающийся словами: «… без многосоветия и вольного голоса быть царю невозможно»; фрагмент о «подпитках» («С Благовещенским протопресвитером ~ к лицу Феодосия, архимандрита невского»); наконец, короткий абзац: «Так-то, под наилучшим полицейским распорядком, учат ругать Самого Христа, Царя Небесного, – в образе нищих, бьют батожьем и ссылают на каторгу».[924] Собственно «непочтительных отзывов» о Петре Великом и Екатерине I эти фрагменты не содержат, но негативные суждения о российской государственности и православных иерархах в них налицо. Роман Мережковского, впрочем, пострадал от цензорского вмешательства сравнительно незначительно, в отличие от пяти сказок Ф. Сологуба («Палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка», «Три плевка», «Колодки и петли», «Телята и волк», «Нетопленные печи»), которые, доведенные до набора, были запрещены к публикации в «Новом Пути» «вследствие своей явно вредной тенденции» (доклад и. д. цензора от 9 декабря 1904 г.).[925]
Как в ходе выявления компрометирующих фактов биографии будущего редактора-издателя «Нового Пути», так и при просмотре материалов, принятых для публикации в журнале, особого внимания удостоился Л. Н. Толстой: видимо, выход в свет любых корреспонденций, подписанных его именем, требовал дополнительного контроля со стороны надзорных инстанций и соответствующих согласований. 15 ноября 1902 г. Цензурный Комитет направил в Главное Управление по делам печати подборку «Письма гр. Л. Н. Толстого к М. А. Н.» (духовному писателю-публицисту Михаилу Александровичу Новоселову), подготовленную к публикации в № 1 «Нового Пути»; 18 ноября 1902 г. датировано заключение члена Совета С. – Петербургского Цензурного Комитета Н. И. Пантелеева относительно этих семи писем Толстого: «чего-либо особенно предосудительного в цензурном отношении в письмах найти нельзя»; 23 ноября Перцову направлена – явно в связи с прохождением того же материала – записка с просьбой пожаловать в Главное Управление по делам печати сегодня «от 3 ½ до 4 ½ ч. пополудни для необходимых объяснений»; и, наконец, 28 ноября была вынесена резолюция: препятствий к печатанию «Писем Толстого к М. А. Н.» не встречается.[926]
Достаточно курьезный характер (впрочем, при надлежащем усердии чреватый серьезными последствиями) имел еще один эпизод из истории «Нового Пути», в котором всплыло имя консервативного публициста И. И. Колышко, сыгравшего (согласно позднейшему признанию Перцова в письме к Д. Е. Максимову от 12 января 1929 г.) «решающую роль в разрешении “Нов<ого> П<ути>”, благодаря своему влиянию на кн. Мещерского (а хлопотал ради Мережковских)».[927] В февральском номере «Нового Пути» за 1903 г. в рубрике «Политическая хроника» была напечатана пространная корреспонденция «Наши задачи в Сибири», подписанная криптонимом И. С. (по старой орфографии: I. C.) и раскрывающая перспективы колонизации и государственного освоения сибирских пространств.[928] В запросе Министерства финансов в Главное Управление по делам печати (21 февраля 1903 г.), сообщалось, что эта корреспонденция представляла собой «почти дословное заимствование из доклада министра финансов по поездке его на Дальний Восток», и следовала просьба выяснить, кем представлена в редакцию статья и кто ее автор.[929] Перцов направил по инстанции следующее письмо:
В Главное Управление по делам печати
Редактора журнала «Новый Путь»,
дворянина Петра Петровича Перцова
Объяснение
На запрос Главного Управления от 22-го февраля сего года за № 1902 честь имею объяснить следующее: Статья «Наши задачи в Сибири» была под этим заглавием, но без подписи, передана мне ближайшим сотрудником журнала Д. С. Мережковским, сообщившим, что она получена им от литератора Иосифа Иосифовича Колышко. При этом г. Мережковским было передано мне нежелание г. Колышко, чтобы статья была подписана его именем. Не имея, тем не менее, никаких данных сомневаться в принадлежности статьи г. Колышко, еще ранее того обещавшего журналу свое сотрудничество, я подписал статью инициалами И. С., заимствованными из его имени и постоянного литературного псевдонима («Серенький» в «Гражданине»).
После появления в печати всеподданнейшего доклада г. Министра Финансов о поездке его на Дальний Восток, убедившись к крайнему моему изумлению в тождестве части этого доклада с упомянутой статьей, я обратился к г. Колышко за разъяснениями, В письме на мое имя г. Колышко объяснил мне, что статья была передана им г. Мережковскому не как личная его работа, а лишь как «материал для редакционной статьи», причем, по его словам, им было «ясно и категорично» оговорено, что в материале этом его «авторству не принадлежит ни единой строки». На указанное же использование этого материала им было, по его утверждению, получено надлежащее разрешение.
Редактор журнала «Новый Путь»
П. Перцов.С. – Петербург, 24-го февраля 1903 г.[930]Занимая официальный пост редактора-издателя «Нового Пути», Перцов, постоянно живший в Казани и бывавший в Петербурге лишь наездами – правда, довольно продолжительными, – не мог всецело посвятить себя журналу, да и не выказывал к тому большого стремления; основные заботы по формированию номеров журнала были распределены между Мережковским и Гиппиус. О своем предполагаемом полном устранении от редакторских дел Перцов писал В. Я. Брюсову уже летом 1903 г.[931] Возникла кандидатура нового редактора – Д. В. Философова, критика и публициста, ставшего к тому времени ближайшим другом и единомышленником четы Мережковских. Последовало официальное обращение:
В Главное управление по делам печати
Редактора-издателя ежемесячного журнала «Новый Путь»,
дворянина Петра Петровича Перцова
Прошение:
Вследствие домашних обстоятельств, вынуждающих меня часто и на продолжительные сроки отлучаться из г. Петербурга и вызываемых тем неудобств в ведении хозяйственных и литературных дел журнала, имею честь покорнейше просить Главное Управление по делам печати об утверждении со-редактором и со-издателем ежемесячного журнала «Новый Путь» коллежского асессора Дмитрия Владимировича Философова, относительно издательского соучастия которого в журнале между им и мною состоялось частное соглашение.
Редактор-издатель ежемесячного журнала «Новый Путь»,дворянин Петр Петрович Перцов.С. – Петербург. Мая 1-го дня, 1904 г.
Имею честь заявить Главному Управлению, что я с своей стороны согласен принять на себя обязанности по соиздательству и со-редактированию журнала «Новый Путь». При сем прилагаю копию с формулярного списка о моей службе и удостоверение Императорской Публичной Библиотеки за № 1136.
Коллежский асессор Дмитрий Владимирович Философов.Мая 1 дня 1904 г. Жительство имею по Баскову пер. д. № 21.[932]20 мая последовало решение об удовлетворении ходатайства Перцова, Философов был утвержден в звании соиздателя и соредактора 22 мая.[933] После этого Перцов предпринял следующий шаг:
В Главное Управление по делам печати
со-редактора и со-издателя ежемесячного журнала «Новый Путь»,
дворянина Петра Петровича Перцова
Заявление:
Имею честь заявить Главному Управлению по делам печати, что в виду домашних обстоятельств, вынуждающих меня к отъезду из С. – Петербурга, я слагаю с себя звание со-редактора ежемесячного журнала «Новый Путь», сохраняя за собой со-издательство оного журнала.
Дворянин Петр Петрович ПерцовГ. С. – Петербург. Саперный пер., д. 10. 8 июня 1904.[934]В июньском номере «Нового Пути» были указаны как редакторы-издатели Перцов и Философов, в июльском и августовском – редактор Философов, издатели Философов и Перцов, в последующих книжках журнала подпись Перцова уже не фигурировала.
Одним из значимых начинаний, предпринятых Философовым на посту руководителя «Нового Пути», была попытка изменить условия его издания – избавить от предварительной цензуры. 20 октября 1904 г. он направил в Главное Управление по делам печати прошение, в котором говорилось:
«С 1903 года в Петербурге выходит в свет с предварительной цензурой ежемесячный литературный журнал “Новый Путь”, имеющий главной целью борьбу с материализмом и атеизмом в его современных формах догматического позитивизма. В течение двух лет журнал заявил себя в этом отношении с достаточною определенностью.
Ныне я беру на себя смелость ходатайствовать перед Главным Управлением о разрешении мне издавать означенный журнал без предварительной цензуры.
Ходатайство свое я возбуждаю главным образом ввиду технических затруднений, сопряженных с предварительною цензурой, вызывающих замедление и неаккуратность в выходе книжек журнала, что в свою очередь вызывает постоянные жалобы подписчиков и наносит тем издателям невознаградимый материальный ущерб.
Коллежский асессор Дм. Философов».[935]
Прошению был дан ход, вследствие чего 17 ноября 1904 г. С. – Петербургский Цензурный Комитет направил в Главное Управление развернутый доклад, в котором представил соображения Е. С. Савенкова. Цензор «Нового Пути» указывал, что подконтрольный ему журнал недостаточно проявил себя в выполнении своих задач, что его деятельность вызывала неодобрительную реакцию в среде духовенства, обращал внимание на перемены, произошедшие в последнее время в редакционных установках («Внимание, обращенное до того на дела церковные, обращается теперь на дела государственно-общественные»), и предлагал тем не менее уважить ходатайство, принимая во внимание самый веский аргумент: «Подцензурная пресса абсолютно безответственна по закону ‹…› Бесцензурная ответственна и в административном, и в судебном порядке».[936]
Вердикт, вынесенный цензурным ведомством, дал основание Философову направить 3 декабря 1904 г. министру внутренних дел прошение об освобождении журнала от предварительной цензуры.[937] 11 января 1905 г. последовала резолюция: «В виду того, что, по донесению С. – Петербургского Цензурного Комитета, направление журнала “Новый Путь” не может считаться удовлетворяющим требованиям Цензурного Устава, Главное Управление по делам печати полагало бы отклонить настоящее ходатайство г. Философова».[938] А 10 июня 1905 г. Философову из Канцелярии Главного Управления по делам печати последовал ответ: ходатайство об издании журнала «Новый Путь» без предварительной цензуры не удовлетворить.[939] Бюрократическая циркуляция в очередной раз обнажила свою абсурдную суть: издание «Нового Пути» было прекращено полугодом ранее, чем высочайшее ведомство сформулировало свое решение; последний номер журнала помечен декабрем 1904 г., а с января 1905 г. вместо него стал выходить ежемесячник «Вопросы Жизни» – во многом преемственный «Новому Пути», но и существенным образом от него отличающийся.[940]
Голос с «башни»: «Венок из фиговых листьев» Максимилиана Волошина
Имя Вячеслава Иванова Максимилиан Волошин услышал впервые в 1902 г. в Париже от А. В. Гольштейн, которая и познакомила его со стихами этого тогда еще почти никому не известного поэта;[941] от нее же Волошин узнал и о чтении Ивановым в Париже курса лекций о Дионисе. Их личное знакомство состоялось 13/26 июля 1904 г., когда Волошин посетил Иванова в его швейцарском жилище: «… провел с ним почти целые сутки без перерыва».[942] За первой встречей последовали вторая (27 июля / 9 августа), третья (28 июля / 10 августа), четвертая (30 июля / 12 августа) и пятая (31 июля / 13 августа); впечатления, которые вынес из них Волошин, были поистине ошеломляющими. Краткое содержание бесед с Ивановым он зафиксировал в своих дневниковых записях «История моей души»;[943] некоторые из этих высказываний Иванова будут впоследствии неоднократно пересказываться или цитироваться в произведениях Волошина.
Своей близкой феодосийской приятельнице А. М. Петровой Волошин писал тогда из Женевы: «Интереснее всего для меня Вячеслав Иванов, с которым лично я не был знаком до сих пор, хотя знал его как поэта значительно раньше Московского кружка и первый указал Брюсову на его “Кормчие Звезды”. Человек это в высшей степени начитанный и тонкий». Касаясь далее книги Иванова «Эллинская религия страдающего бога», печатавшейся тогда в петербургском журнале «Новый Путь», Волошин заключал: «Я раньше был знаком с его Дионисово-Христианскими идеями ‹…› но мне только теперь в этих статьях открылась вся глубина и широта его мысли. Это целое откровение, и при том обставленное таким тяжеловесным боевым аппаратом филологии текстов, что от него никак не отделаешься одним словом “декадентство” ‹…› В разговоре он далеко не так страшен, как в своих писаниях. Очень прост, изящен и легок».[944] Пересказывая далее в том же письме содержание разговоров с Ивановым, Волошин приводит, в частности, такие слова своего собеседника: «Я считаю основой жизни пол – Sexe. Это живой осязательный нерв, связывающий нас с вечной тайной. Мост между тайной и нами. Искусство – это развитие пола – переведение этой силы в другую область. Сила пола, не нашедшая свое<го> физического исхода, становится искусством, религией, философией. Дилемма: или создание человека, или создание произведения искусства».[945] Своего рода попыткой разрешения намеченной дилеммы – попыткой создания не человека и не произведения искусства, а особой жизнетворческой среды, в которой интеллектуальное и культуросозидательное действо подпитывалось, управлялось и корректировалось эротическими токами, оказались позднее формы самовыражения коллективного микромира, сконцентрировавшегося на ивановской «башне». Волошин поначалу оказался одним из самых энтузиастических участников этого процесса.
Два года спустя после швейцарских встреч общение Волошина с Вячеславом Ивановым возобновилось в Петербурге. Объявившись там 20 сентября 1906 г., Волошин в тот же день побывал на «башне», где познакомился с М. Кузминым, С. Городецким, Б. Леманом и другими постоянными посетителями ивановской квартиры; рассказав об этом визите в письме к жене, Маргарите Волошиной (урожд. Сабашниковой), он признался, что встреча с Ивановым и новые знакомства произвели на него «самое сильное впечатление» («О! моя голова разрывается от впечатлений и чувств…»), и выразил решительное пожелание: «Надо жить в Петербурге».[946] 22 сентября Волошин – вновь у Иванова: говорили «обо всем самом важном, об индивидуализме, об оккультизме, о Дионисе, об Иуде, о пророчественности, о молодой поэзии»; «Я тебе не могу сказать, как меня поразила и потрясла вся художественная атмосфера ‹…› это как ключ живой воды», – признается Волошин жене, призывая ее приехать в Петербург.[947] В тот же день Волошин спустился двумя этажами ниже, в художественную школу Е. Н. Званцевой, располагавшуюся на пятом этаже дома на углу Таврической и Тверской улиц, и договорился с хозяйкой о найме у нее комнат для проживания (первоначально договаривались о трех, выделено было две). Маргарита Волошина, бывшая в те дни в Москве, выразила готовность обосноваться в Петербурге, и около 10 октября супруги поселились в комнатах у Званцевой.
Осенне-зимний сезон 1906–1907 гг. в Петербурге оказался для Волошина одним из самых ярких и значимых периодов его биографии. В течение нескольких месяцев он интенсивно участвует в литературной жизни, постоянно общается с петербургскими писателями, художниками, общественными деятелями, причем в большинстве случаев эти контакты завязываются и развиваются в квартире Вячеслава Иванова. Поначалу Волошин с женой изо дня в день бывают на «башне», а в середине января 1907 г. они переселяются из комнат Званцевой непосредственно в квартиру Ивановых. Дружеское сближение с Ивановым и его женой, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, отчасти приглушило у Волошина ту беспримесную восторженность, которую он выказывал под воздействием первых встреч и бесед, приоткрыло какие-то неожиданные, потаенные стороны личности автора «Кормчих Звезд», но ни на толику не умалило ее притягательности. «С Вяч<еславом> Ив<ановичем> у нас большая дружба ‹…› и беседы с ним дают мне страшно много, – писал Волошин 31 декабря 1906 г. А. В. Гольштейн. – ‹…› Я вижу и чувствую, что в нем, в самой глубине его натуры, есть много жуткого и страшного, иногда чувствуешь, что это его жжет изнутри, но эта борьба и присутствие в нем чего-то непонятного только привлекает меня к нему и заставляет его больше ценить и уважать. У него особая сила оплодотворять мозг друго<го>, будить, понуждать к работе, и я многим обязан ему в том творческом подъеме, который у меня теперь».[948]
Осознававшийся Волошиным творческий подъем, в значительной мере стимулированный общением с Ивановым и его окружением, нашел тогда свое зримое воплощение в двух сферах его деятельности – как поэта и как литературного критика. В конце 1906 г. Волошин сформировал свой первый сборник стихотворений для издательства «Оры» (тогда же организованного Ивановым и опубликовавшего ряд книг авторов из ближайшего «башенного» круга); эта небольшая книжка, объявленная под заглавием «Ad Rosam» и позже переименованная в «Звезду-полынь», должна была выйти в свет в феврале 1907 г., однако издание не состоялось (главным образом по причине последовавшего вскоре осложнения отношений Иванова и Волошина и нежелания последнего выступать под маркой «Ор»).[949] В конце 1906 г. Волошин приступил также к работе над серией статей для петербургской газеты «Русь» под авторской рубрикой «Лики творчества»; первая статья этого цикла была опубликована 9 декабря 1906 г. В последующих статьях цикла предметом рассмотрения главным образом были либо книги, выпущенные издательством «Оры» («Эрос» Вяч. Иванова), либо произведения писателей, с которыми Волошин регулярно встречался у Иванова: «Ярь» С. Городецкого, «Нечаянная Радость» А. Блока, «Александрийские песни» М. Кузмина, «Посолонь» А. Ремизова. В цитированном выше письме к А. В. Гольштейн Волошин сообщал: «“Лики Творчества” имеют успех и очень читаются в Петербурге, что весьма подняло мое положение в “Руси” – меня очень часто и охотно печатают».[950]
«Башенный» быт, взаимоотношения завсегдатаев ивановской квартиры, темы, бывшие предметом дискуссий на многолюдных собраниях по средам, обследованы достаточно детально в ряде статей и публикаций,[951] поэтому в данном случае нет необходимости в их новой развернутой характеристике. Необходимо, однако, отметить, что «башенные» встречи и собеседования, получив известность в широких общественных кругах, далеко не всегда встречали сочувственную и доброжелательную реакцию. При этом слухи и кривотолки, раздуваемые и поощряемые в основном благодаря незнанию действительного положения дел, рождались преимущественно под воздействием игровой экспериментальной эротической атмосферы, окутывавшей ивановскую «башню из слоновой кости», представляли собой своего рода «профанную» реакцию на нее. В частности, «башенные» собрания зимы 1906–1907 гг. проходили на фоне инициированного широкой печатью литературного скандала, прямым образом касавшегося ближайших и постоянных участников этих собраний – М. А. Кузмина и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.
Ноябрьский номер журнала «Весы» за 1906 г. был полностью отведен роману Кузмина «Крылья». В январе 1907 г. издательством «Оры» была выпущена в свет повесть Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода». Обе книги вызвали общественное негодование, поскольку в них затрагивалась тема однополой любви; касания «запретной» проблематики, не бывшей ранее предметом непосредственного литературного отображения, были расценены критикой как внесение в художественное творчество «порнографического элемента». «Тридцать три урода» появились в продаже 16 января 1907 г., 23 января на книгу был наложен арест, который все же вскоре, в феврале, был снят; «Крылья» официально не преследовались, однако вызвали в читательской среде и в печати гораздо более бурную реакцию отторжения, чем «Тридцать три урода», само имя Кузмина усилиями газетчиков и фельетонистов превратилось в литературный жупел.[952]
Неподготовленному современному читателю, вероятно, трудно понять, почему вызвало такой резонанс произведение, лишенное каких-либо скабрезных или хотя бы пикантных эпизодов и деталей, крайне лаконичное и предельно сдержанное в описании любовных взаимоотношений – в особенности на фоне русской художественной прозы начала XX века, обрисовывавшей эротические ситуации зачастую с достаточно натуралистическими подробностями. Однако в случае с Кузминым «порнографией» считалось не столько смакование недозволенных к словесному изображению реалий, сколько тема гомосексуальных отношений как таковая. Ее литература тогда не знала, сама проблема считалась нелитературной, не могущей быть в центре эстетического освоения. Характерно, что предметом состоявшегося в Англии десятью годами ранее судебного процесса над Оскаром Уайльдом были исключительно взаимоотношения писателя с лордом Альфредом Дугласом, но отнюдь не его произведения, в которых инкриминировавшиеся обвинения дополнительного подкрепления найти не могли; «жизнь» и «творчество» в данном случае были четко отделены друг от друга. Совсем наоборот обстояло дело в ивановском окружении. Вызвавшие бурю негодования произведения ближайших участников «башенного» «симпосиона» вполне вписывались в экспериментальную «жизнетворческую» программу, затрагивавшую область Эроса, в круг метафизических идей и этико-психологических изысканий, разрабатывавшихся тогда Ивановым. «Всегда было желание у В. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозион, всегда призывал он Эрос, – подчеркивает Н. А. Бердяев в мемуарно-аналитическом очерке «Ивановские среды». – Вспоминаю беседу об Эросе, одну из центральных тем “сред”. Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди, как сам хозяин Вячеслав Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный проф. Ф. Ф. Зелинский и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов».[953] Идеи Иванова оказывали стимулирующее воздействие на многих участников «башенных» бдений, и прежде всего на Волошина.
С собственным толкованием и развитием построений, воспринятых от Вячеслава Иванова, Волошин выступил на «башне» в ночь с 14 на 15 февраля 1907 г.; Л. Д. Зиновьева-Аннибал сообщила об этом собрании в письме к М. М. Замятниной от 17 февраля: «Новая Среда – гигант. Человек 70. ‹…› Реферат Волошина открыл диспут: “Новые пути Эроса”. Вячеслав сымпровизировал речь поразительной цельности, меткости, глубины и правды ‹…› перейдя к области Эроса, говорил дивно о том, что, в сущности, вся человеческая и мировая деятельность сводится к Эросу, что нет больше ни этики, ни эстетики – обе сводятся к эротике, и всякое дерзновение, рожденное Эросом, – свято. Постыден лишь Гедонизм».[954] Волошин выступил с публичной лекцией на ту же тему – «Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову “Пиру”)», – которую прочитал 27 февраля 1907 г. в Московском Литературно-Художественном кружке, вызвав сильный скандальный эффект.[955] В беловой рукописи «Путей Эроса» имеется фрагмент, не вошедший в окончательный машинописный текст, в котором содержится интерпретация «Крыльев» Кузмина – в плане изображения «в нашем обществе тех же путей Эроса, о которых говорят Платоновы юноши».[956]
Исходя из тех же построений, которые были развиты в диалоге Платона и на свой лад интерпретировались Ивановым, Волошин счел необходимым высказаться в печати в связи со скандалом, разразившимся вокруг Кузмина и Зиновьевой-Аннибал. Поводом к этому выступлению послужил фельетон А. В. Амфитеатрова «Цветы невинности», опубликованный 24 января 1907 г. в той самой «Руси», в которой регулярно печатались волошинские «Лики творчества». В нем Амфитеатров затрагивал в памфлетно-ироническом ключе многочисленные злободневные темы, в том числе и «порнографическую» – применительно опять же к «Крыльям». Фельетон включал пародийное рекламное объявление «Тайны Алькова, Еженочное партийное издание»;
«Ежемесячные литературные приложения;
– ! В первый раз в России! –
Маркиз де Сад. Жюстина, или Горе от добродетели!..
– ! Только пользуясь свободой благодетельной гласности! –
Брантом. Жизнеописание куртизанок!
– ! До сих пор конфисковалось! –
Луве. Приключения кавалера Фоблаза!
– ! Сто лет под запрещением! –
Стихотворения Баркова!!!
– ! По специальному разрешению! – » и т. д.
В перечне значилось также;
«Кузьмин <так!>. Крылья. Роман, плагиатируемый из “Весов” для протеста против статьи уложения. С предисловием Валерия Брюсова. Рисунки художников журнала “Весы”»; следом за «Крыльями» предлагался «замечательный выбор неблагопристойных фотографий, как с натуры, так и из воображения», а также «адрес-календарь известнейших кокоток обоего пола». Объявление о тираже в заключительной части этого перечня: «Журнал расходится в 666,666 экземплярах!!!» – непосредственно отсылало к только что опубликованному стихотворению Вяч. Иванова «Veneris figurae» («Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда…»; позднейшее заглавие – «Узлы змеи») с его строками: «На два пола – знак раскола – кто умножит, сможет счесть: // Шестьдесят и шесть объятий и шестьсот приятий есть».[957]
Заканчивался фельетон Амфитеатрова весьма разудалым пассажем о том, что «физиологические и анатомические» открытия в русской изящной литературе редки, крупных – «было сделано едва ли не всего два»;
«Первое – некогда – Авксентием Поприщиным (он же цыганский король Фердинанд VIII):[958]
– А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом – шишка?
Второе – в наши дни – г. Кузьмин (он же александрийский обыватель и, быть может, выборщик 2000 лет тому назад):
– А знаете ли, что на той части, которою человек садится на стул, имеются крылья?..
Помилуй Бог!.. И вдруг г. Кузьмин улетит?!..»[959]
Волошин был хорошо знаком с Амфитеатровым: он встречался с ним в Париже в 1905–1906 гг., относился к нему с симпатией, печатался в его журнале «Красное Знамя»;[960] сам Амфитеатров впоследствии в мемуарном очерке о Волошине «Чудодей» отмечал, что знал его «хорошо, близко, дружески в его парижские молодые дни».[961] Тем ие менее Волошин счел необходимым критически высказаться по поводу «Цветов невинности». Амфитеатров к тому же развязывал ему руки, поскольку сам иронически откомментировал в своем фельетоне восторженную статью Волошина об «Александрийских песнях» Кузмина[962] («… я сошлюсь на моего поэтического друга Максимилиана Волошина; он еще недавно свидетельствовал печатно, что знал некоего господина Кузьмина за две тысячи лет тому назад в Александрии»; «… прочитайте роман “Крылья” г. Кузьмина (того самого, который жил две тысячи лет тому назад в Александрии, не то на Малом Клеопатрином проспекте, не то на Больших Птоломеевых песках)»). Фельетон Амфитеатрова, однако, служил лишь отправной точкой для собственных умозаключений Волошина, развитых в статье «Венок из фиговых листьев»; заглавие ее восходит к неточной цитате из Анатоля Франса («Суждения господина Жерома Куаньяра», гл. XVII), которая предпослана статье в виде эпиграфа: «Прикрывая статуи фиговыми листьями, вы достигаете только того, что у молодых людей при взгляде на фиговое дерево будут являться неприличные мысли».
Свидетельства о работе Волошина над статьей и о ее дальнейшей судьбе зафиксированы в дневнике Кузмина. 28 января 1907 г. он записал: «Зашел к Ивановым ‹…› Волошин пишет ответную статью в “Русь”»[963] («ответную» – на «Цветы невинности» Амфитеатрова). По всей вероятности, статья Волошина сразу же по ее представлении в «Русь» была отвергнута редакцией, о чем можно судить по дневниковой записи Кузмина от 4 февраля 1907 г.: «Статья Волошина, кажется, пойдет в “Понедельнике”».[964] К той же теме Кузмин возвращается в записи от 22 февраля, отмечая, что у Ивановых «был Пильский, говорил, что фельетон Волошина потом не взяли в “Понедельник”, что об этом же хочет писать он, Пильский».[965]
Озадачивает в этих сообщениях то обстоятельство, что в феврале 1907 г. в Петербурге газета под указанным заглавием не выходила; “Понедельник” издавался полугодом ранее, в августе 1906 г.; еще одна еженедельная петербургская газета, выходившая по понедельникам, «Свободные Мысли» (в которой, кстати, ближайшим сотрудником был П. М. Пильский), могла бы в данном случае подразумеваться, но она была начата изданием лишь с 21 мая 1907 г. Как бы то ни было, но статья Волошина «Венок из фиговых листьев» осталась неопубликованной. Слишком, видимо, оказался силен в глазах газетных редакторов диктат того общественного мнения, против которого в данном случае последовательно выступал автор «Венка из фиговых листьев».
В архиве Волошина сохранились четыре варианта текста этой статьи: первоначальная черновая рукопись (карандашом),[966] беловой автограф с правкой (чернилами; на первом листе текста на полях помета рукой Волошина: «М. Волошин. 25 Таврическая») – видимо, оригинал для газетного набора;[967] газетные гранки с рукописными вставками;[968] газетные гранки с набранным текстом рукописных вставок – окончательный авторский текст (столбцы гранок наклеены на три бумажных листа).[969]
В своей статье Волошин касается не только «Крыльев», но и повести Зиновьевой-Аннибал, которая не была известна Амфитеатрову ко времени написания им «Цветов невинности» (фельетон датирован: «1907. I. 13–18. Paris»). Свою задачу Волошин видел не только в том, чтобы опровергнуть Амфитеатрова, но и в том, чтобы высказаться в защиту запрещенной книги:
«Неделю тому назад по распоряжению цензурного комитета была конфискована за безнравственность повесть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал “Тридцать три урода”, выпущенная отдельной книжкой издательством “Оры”.
Несколько месяцев тому назад я присутствовал при чтении этой повести».
Изложив далее основную сюжетную коллизию повести («Это трагедия двух женщин. Гениальная трагическая актриса Вера, дух страстный и богоборческий, приняла к себе и обожествила девушку, от лица которой ведется рассказ»; заказ портрета девушки тридцати трем художникам и т. д.), Волошин затронул также содержание бесед, которые велись на «башне» 24 октября 1906 г. по поводу «Тридцати трех уродов»:[970]
«Когда рассказ был прочитан, между присутствовавшими завязался горячий спор и один из гостей – профессор литературы и критик[971] – сказал автору повести:
– Я должен сделать вам жестокий упрек. Это прекрасная вещь. Яркая, сильная, написанная великолепным языком. Но все-таки в вас чувствуется дама из общества, которая не смеет преступить известной черты. Вы не можете освободиться от своего светского воспитания. Ведь совершенно ясно, что Вера любит чувственно.
Так покажите же, что это лезбийская любовь, что они действительно лезбийки. Простите меня, но я должен вам сказать смело и прямо, что вы лезбийства не знаете и не понимаете…
Тут он был прерван металлическим женским голоском из публики: “Не вам судить!” Профессор смутился и замолчал. Затем прения перешли на тридцать трех художников и на эту сторону повести».
Собственные аргументы Волошин выстраивает, начиная с констатации парадоксальной непоследовательности, которую проявляют цензурные и надзорные инстанции в затрагиваемом вопросе:
«Недавно я получал из Парижа свою библиотеку.
Несколько книг было задержано в цензуре для более подробного просмотра. В числе задержанных были творения святой Терезы.
Я подумал:
“Вероятно, ее страстные, полные чувственных образов обращения к Христу смутили русскую цензуру”.
Но среди книг, возвращенных мне без колебаний, было французское издание индусского кодекса любви “Кама-Сутра” – плохое издание прекрасной книги, сделанное не с научными, а с порнографическими целями.
Проходя по Невскому, я слышал, как петербургские камло выкрикали:
– Новая книга! Очень интересно!.. “Между ног!.. Тайны Невского проспекта”.
В газетах я читал объявления:
“Интересно для мужчин! 25 шт. карточек красавиц в купальных костюмах и без оных, очень интересные, высылаются по получении 1 р. 75 к. почт. марками. Адрес: Нарва, Рыцарская улица. Г-ну Михайловскому”. ‹…›
Метод цензуры совершенно ясен.
Поучительные фотографии, книжка “Между ног”, всякие медицинские книги с изложением любопытных случаев, словом, – все, что касается фактической и деловой стороны вопроса, – цензурно.
Всякие же моральные, философские, психологические и художественные произведения, затрагивающие вопросы половой жизни человека, – нецензурны.
Это ясно. И как всякая идея, строго обоснованная и логично проведенная в жизнь, – приемлемо.
Но совершенно неприемлем список порнографических изданий, сделанный А. В. Амфитеатровым в его фельетоне “Цветы невинности” (“Русь”), где рядом со стихотворениями Баркова поставлены “Приключения кавалера Фоблаза” Луве-де-Кувре и “Жизнеописание куртизанок” Брантома.
Увлекательный юношеский роман председателя Национального Конвента, отразившего с такой полнотой нравы XVIII века, и беспристрастные хроники воспитанника блестящей Маргариты Наваррской составляют драгоценные памятники по истории общества XVI и XVIII веков, и нет ни одной серьезной исторической библиотеки, где бы эти книги не стояли на почетном месте. И в порнографический список Амфитеатрова с такими же правами могли войти Лукиан и Бокаччио, и сонеты Шекспира, и Раблэ, и сама Маргарита Валуа, и все “Oeuvres galants” французских и итальянских рассказчиков, словом – сплошь вся бытовая литература, которую читало европейское общество до XIX столетия.
В конце своего списка порнографической литературы Амфитеатров ставит только что вышедший роман Кузмина “Крылья”. Фельетон Амфитеатрова – призыв к цензуре нравов (не правительственной разумеется, а к общественной).
Я читал роман “Крылья” и люблю эту книгу, как юношеское произведение поэта, который обещает сделаться очень крупным стилистом. Вопрос, затронутый этим романом, так возмутившим моральное чувство А. В. Амфитеатрова, это любовь во имя Афродиты Небесной, о которой так обстоятельно говорит Платон в первой части “Пира” ‹…›».
Приведя далее цитаты из диалога Платона (более подробно интерпретированные в лекции «Пути Эроса»), Волошин продолжает:
«Содержание “Крыльев” – это история мальчика, который чувствует смутное, но непреодолимое влечение к этой эллинской любви, долго борется с ним и наконец отдается ему. Во всем романе разлита кристаллическая ясность, нет ни одной двусмысленности и никаких описаний альковных тайн. Он так же целомудрен и строг, как “Пир” Платона, который, кажется, еще никогда не рассматривался как произведение порнографической литературы.
Статья Амфитеатрова заканчивается утверждением, что Кузмин открыл крылья на той части, которой человек садится на стул. Этого Кузмин совершенно не говорил. Но мысль эта имеет свой исторический смысл, так как на многих египетских изображениях крылья изображались вырастающими именно оттуда – от нижних позвонков – и изображали символически-творческие силы пола».
В заключительной части статьи Волошин указывает на актуальность художественной интерпретации проблем, связанных с половой психологией, в которой на свой лад отобразилась «смута» современного человеческого сознания:
«В ХIХ веке вопрос о поле был перенесен в самую глубь души. Пол потребовал от человека какого-то сознательного отчета. Точно сам пол начал становиться сознательным. В обществе явилась небывалая до тех пор стыдливость и скрытность (признаки острой внутренней боли), прерываемая публичными исповедями и показаниями, тоже до небывалой глубины раскрывавшими душу.
И особенно характерно то, что именно эти публичные покаяния вызывали в обществе такие взрывы негодования, каких никогда не вызывала обычная грубая порнография.
В области пола должно быть введено свободное художественное исследование. Только оно может нащупать и наметить потерянные нами пути в области любви. Необходимо появление серьезных моралистов-исследователей, моралистов не в скучном, а в настоящем значении этого слова».
Опираясь на высказывания Реми де Гурмона, апеллировавшего в осмыслении проблем пола, как и Волошин в «Путях Эроса», к опыту античности, греческих Афин, которые «благодаря их гетерам и свободной любви одарили современный мир его настоящим сознанием», автор «Венка из фиговых листьев» заключает:
«… не будем бросать обвинения в порнографии свободным моралистам за то, что они открыто говорят о важных и страшных для всех нас тайнах человеческой души.
Такие смелые и художественные произведения, как “Крылья” и “Тридцать три урода”, заслуживают только нашей благодарности за тонкость их анализа и за сдержанную целомудренность их стиля».
Статья «Венок из фиговых листьев» осталась одним из наиболее примечательных литературных свидетельств о тех умонастроениях Волошина, которые довлели над его сознанием в период сравнительно непродолжительного пребывания на ивановской «башне» и пленения царившей там «жизнетворческой» атмосферой. Уже очень скоро в этих настроениях наступит драматический перелом – после того как в орбиту «башенного» эротического мифотворчества и порожденных им «экспериментальных» психологических коллизий будет вовлечена его жена Маргарита и на непродолжительное время возникнет тройственный любовный союз (Маргарита – Вячеслав Иванов – Лидия Зиновьева-Аннибал), по отношению к которому Волошин окажется сторонним лицом. Впрочем, это уже особая история, отчасти уже описанная, хотя и в самых общих чертах,[972] и ждущая своего подробного воссоздания и всестороннего осмысления.
Вячеслав Иванов и Максимилиан Волошин в 1907 году (эпистолярные иллюстрации)
«Я полонен» – так назвал Андрей Белый главку в мемуарной книге «Начало века» (1933), в которой он рассказывал о начале своего духовного сближения с Д. С. Мережковским и 3. Н. Гиппиус. Если бы М. Волошин взялся за работу над аналогичной книгой воспоминаний, то мог бы воспользоваться той же формулировкой при описании своих первых встреч с Вяч. Ивановым – в Швейцарии летом 1904 г. и два года спустя в Петербурге, осенью 1906 г.[973] Сообщая в письме из Петербурга от 22 сентября 1906 г. к своей молодой жене Маргарите (они обвенчались за несколько месяцев до того, 12 апреля) о желании обосноваться в Петербурге на постоянное жительство и выдвигая ряд практических соображений (широкие возможности литературной работы), Волошин добавлял: «Духовно же: здесь В. Иванов. ‹…› Я живу в небывалом подъеме и восторге».[974] Очарованность Ивановым побудила Волошина искать пристанища как можно ближе к нему, и в этом отношении ситуация разрешилась самым удачным образом: около 10 октября супруги обосновались в помещении художественной школы Е. Н. Званцевой, располагавшейся на пятом этаже того самого дома на углу Таврической и Тверской улиц, который был увенчан «башней» – ивановской квартирой, ставшей тогда едва ли не самым притягательным центром петербургской культурной жизни, а три месяца спустя, около 13 января 1907 г., переехали в квартиру Иванова.[975] Самозабвенное погружение обоих в «башенную» атмосферу явилось, однако, лишь увертюрой к тому «жизнетворческому» действу в нескольких актах, которое развернулось затем в стенах ивановской квартиры и продолжилось за ее пределами.
Второй «башенный» сезон 1906–1907 гг. оказался не таким активным и многолюдным, каким был предшествовавший ему (собраниям препятствовала длительная болезнь хозяйки дома Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, продолжавшаяся с конца ноября 1906 до января 1907 г.), состоялось лишь несколько публичных «сред»,[976] но личные отношения двух супружеских пар, сначала живших по соседству, а потом и в общих стенах, стали в эту пору предельно близкими. И, разумеется, совместный быт оказывался самым благоприятным условием для манифестации высших ценностей, важнейших для представителей символистского мировидения, – ценностей творческих, эстетических и, что важнее всего, теургических и жизнестроительных. М. Сабашникова-Волошина вспоминает о первой встрече с Ивановым и Зиновьевой-Аннибал: «…я почувствовала только исключительно интенсивную, для меня еще загадочную жизнь их обоих. Из своего сообщества они вынесли что-то новое, своей жизнью хотели явить людям нечто новое – со страстью постигнутую идею».[977]
Основное содержание этой «идеи» в «башенный» период – по словам О. Дешарт, «странное, парадоксальное, безумное», но знаменовавшее тягу к воплощению «хорового», вселенского начала, – включало стремление Иванова и его жены «в свое двуединство “вплавить” третье существо» – «образовать духовно-душевно-телесный “слиток” из трех живых людей».[978] В течение 1906 г. роль «третьего» суждено было исполнять Сергею Городецкому, дебютировавшему книгой стихов «Ярь» (которая получила признание в окружении Иванова еще до опубликования), однако чаемого тройственного союза с молодым поэтом не получилось; Городецкий сумел в конце концов уклониться от исполнения не привлекавшей его роли.[979] После появления на «башне» четы Волошиных представились возможности для оформления другой «хоровой» композиции. И хотя Волошин вдохновлялся во многом жизнестроительной утопией Иванова и темами интеллектуальных дискуссий на «башне» (что нашло отражение в его лекции «Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову “Пиру”)», оглашенной на «башне» 24 февраля, а затем прочитанной в Москве 27 февраля 1907 г. в Литературно-художественном кружке[980]), к тому повороту, который обозначился в его судьбе зимой 1906–1907 гг., он оказался психологически и эмоционально не подготовленным.
4 февраля 1907 г. Зиновьева-Аннибал писала М. М. Замятниной: «С Маргаритой Сабашниковой у нас у обоих особенно близкие, любовно-влюбленные отношения. Странный дух нашей башни. Стены расширяются и виден свет в небе. Хотя рост болезнен. Вячеслав переживает очень высокий духовный период. И теперь безусловно прекрасен. Жизнь наша вся идет на большой высоте и в глубоком ритме».[981] В этих признаниях еще содержится оговорка о «болезненности» роста, но из другого исповедального письма Зиновьевой-Аннибал, адресованного А. Р. Минцловой, ясно, что формирующееся новое «трио» воспринимается описывающим его автором как некий эзотерический любовный союз, сулящий «откровения пути»: «…жизнь подрезала корни у моего Дерева Жизни в том месте, где из них вверх тянулся ствол любви Двоих. И насадила другие корни. Это впервые осуществилось только теперь, в январе этого года, когда Вячеслав и Маргарита полюбили друг друга большою настоящею любовью. И я полюбила Маргариту большою и настоящею любовью, потому что из большой, последней ее глубины проник в меня ее истинный свет. Более истинного и более настоящего в духе брака тройственного я не могу себе представить, потому что последний наш свет и последняя наша воля – тождественны и едины».[982] В то же время на фоне этих экзальтированных переживаний, призванных отразить новые формы одухотворенной любви, нарождался конфликт во взаимоотношениях четырех участников интимного союза – тем более напряженный потому, что одному из них в перспективе создания «брака тройственного» не находилось места.
В своей мемуарной книге (в плане отражения намеченных коллизий минимально откровенной) М. Волошина-Сабашникова свидетельствует: «Однажды вечером Вячеслав сказал мне: “Я сегодня спросил Макса, как он относится к близости, растущей между тобой и мной, и он ответил, что это его глубоко радует”. Этот ответ был мне понятен, я ведь знала, как Макс любил и чтил Вячеслава; он сказал чистую правду, он действительно так чувствовал. Но постепенно я стала замечать, что сам Вячеслав не терпит моей близости с Максом. Он все резче критиковал его сочинения, его мысли. ‹…› Нередко, возражая мне, Вячеслав утверждал, что Макс и я – люди разной духовной породы, разных “вероисповеданий”, по его выражению, и что брак между “иноверцами” недействителен. В глубине души у меня самой было это чувство, Вячеслав только облекал его в слова».[983]
Отношения между Волошиным и Сабашниковой, завязавшиеся еще в 1903 г., при всей их духовной насыщенности и напряженности, были всегда отмечены чертами драматического надлома, временами перераставшими в отчужденность, которая не была преодолена с заключением брака, оставшегося, по сути, браком фиктивным.[984] Неудивительно, что этот хрупкий союз не выдержал испытания «башенным» мистериально-эротическим экспериментом – тем более и потому, что под покровами мифологизированной «тройственности», которую патетически превозносила Зиновьева-Аннибал, выступали контуры вполне узнаваемых и однозначных переживаний: влюбленности Иванова в Маргариту и ее встречной увлеченности им. В конце февраля – начале марта 1907 г., когда Волошин в течение недели находился в Москве, Иванов объяснился ей в своих чувствах. Создававшийся тогда же цикл сонетов Иванова «Золотые Завесы» – поэтическое воплощение этих чувств: «И схвачен в вир, и бурей унесен, // Как Пáоло, с твоим, моя Франческа, // Я свил свой вихрь…»[985]
Универсальная символистская мифопоэтика, перемещенная в сферу индивидуального «жизнетворчества», вознаградила Волошина в этих обстоятельствах переживанием «человеческой, слишком человеческой» драмы. Переживание ее становилось тем более мучительным, что совместная «башенная» жизнь продолжалась, все параметры, определяющие нерушимость внутренних духовных связей, неукоснительно соблюдались, как соблюдались и взаимная откровенность и доверительность; близость в плане литературной деятельности также сохранялась: еще с конца 1906 г. в ивановском издательстве «Оры» готовилась к печати первая книга стихотворений Волошина «Ad Rosam», которая позднее, в марте 1907 г., получила заглавие «Звезда-Полынь» (книга в свет так и не вышла: Волошин сначала откладывал ее печатание, а потом и вовсе отказался от публикации[986]). Картина происходившего отчасти восстанавливается благодаря подробным дневниковым записям Волошина, которые он вел с 2 по 11 марта. Аморя (домашнее имя Маргариты), Вячеслав, Лидия не только описаны в них во всех каждодневных коллизиях, но и представлены прямой речью: Волошин фиксирует их признания, диалоги. Судя по этим записям, конструируемая эротическая утопия воплотилась в антиутопию: вместо искомой возвышающей гармонии и благих откровений «любви дерзающей» – контрастные перепады чувств и настроений, нервная взвинченность, надрывная экзальтация. Достаточно обратиться хотя бы к записи от 8 марта. В ней описывается вчерашний вечер: «Вячеслав пришел. Опять у меня был порыв любви к нему. Мы держались с ним за руки. Я чувствовал, что отдаю ему Аморю радостно и совсем. Я целовал его голову и его руки. Но он тоже целовал мою руку. И мне на мгновение сделалось страшно больно, точно он не хотел принять моего поцелуя. Но всё это прошло, и мне было радостно и спокойно». И далее – события текущего дня: «Лидия горячо упрекала Вячеслава в насильственности. Он сказал между прочим: “Я испытывал душу Маргариты”. Я вдруг этого не вынес и сказал: “Я не могу допустить испытаний над человеческой душой”. Но оказалось, что я это не сказал, а закричал, сжавши кулаки. Тогда Вячесл<ав> сказал: “Я имею право, потому что взял его”. Я выскочил из комнаты. Потом вернулся. Но уже не мог говорить. Весь день был проведен в сильнейшем волнении. Я долго, долго говорил Аморе о том, что всё разрушилось. Когда она взошла в комнату откуда-то, я стал целовать ее руки и опустился, чтобы поцеловать ее ноги. С ней вдруг сделалась истерика. Она захохотала и упала на кресло».[987] И так далее.
Ситуация требовала разрешения или хотя бы снятия психологического напряжения, а этого невозможно было достичь в сложившихся обстоятельствах совместной жизни. 13 марта М. Кузмин записал в дневнике: «У Ивановых всё разлетается. Сабашникова в санаторию, Волошины в Крым, Диотима <Л. Д. Зиновьева-Аннибал. – А. Л.> в Юрьев ‹…›».[988] 16 марта Маргарита отбыла в Свято-Троицкую санаторию в Царском Селе, а 19 марта Волошин вместе с матерью (жившей в Петербурге с ноября 1906 г.) выехал в Москву и на следующий день в Крым – в Коктебель. Отношения четырех насельников «башни» перешли в эпистолярную фазу.
Корпус переписки Иванова, Зиновьевой-Аннибал, Сабашниковой и Волошина между собой, относящийся к 1907 г., весьма объемен и не может быть представлен здесь с исчерпывающей полнотой. Из имеющихся в архивных фондах шести двусторонних эпистолярных комплексов в данном случае избран один, не самый пространный: это письма Волошина к Иванову и одно письмо Иванова к Волошину. При необходимости используются также фрагменты других писем, входящих в указанную общую совокупность.
Характерная особенность писем Волошина к Иванову – их насыщенность стихотворными текстами. Отчасти это объясняется практической целью – желанием дополнить новым стихотворением готовившийся в издательстве «Оры» авторский сборник. Но вместе с тем стихотворения оказываются в ряде случаев необходимым элементом цельного эпистолярного высказывания, посредством которого Волошину открывалась возможность транслировать в различных регистрах содержание своего внутреннего «я». Стремясь избыть в себе пережитую драму, смиренно принимая и осмысляя ту картину, которая представала ему на развалинах умопостигаемого «жизнетворческого» строения, он пытается, претворяя новую реальность в стихи, создать новую гармонию. Показательно в этом отношении первое по времени письмо к Иванову – на открытке, по пути в Крым, отправленное из Курска 22 марта:[989]
Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель. По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре, По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль, И лежит земля страстная в черных ризах и орарях. Я коснусь ногою звонкой острых щебней безлесных гор, Причащусь я горькой соли задыхающейся волны, Завернусь я в бледный саван холодеющего песка. Обовью я чобром, мятой и полынью свою главу… Здравствуй ты в весне распятый, мой таинственный Коктебель![990]Вот еще одно стихотворение для «Звезды Полыни» – если ты найдешь его достойным, Вячеслав. Им можно начать отдел «Stella amara». Тогда «Полынь»[991] будет идти после него. Но предоставляю тебе полное право решить. Пишу в поезде где-то между Орлом и Курском. Может, ты найдешь нужным и в самом стихотв<орении> что-нибудь изменить? Привет Лидии. Поезд идет убийственно медленно, и я жду не дождусь Коктебеля. Я отправил тебе открытку из Москвы.[992] До свиданья. Я очень люблю тебя.
Максимилиан.Следующее письмо Волошина к Иванову, отправленное по приезде в Коктебель, также сопровождалось стихотворением – сонетом «Диана де Пуатье» («Над бледным мрамором склонились к водам низко…»); автограф его при письме отсутствует:[993]
Понедельник 26 марта.
Дорогой Вячеслав!
Три дня я в Коктебеле. Три дня не ослабевает и не утихает буря. На всем пространстве залива море пенится и клубится.
Ураган колотит в двери и вырывает их из рук. По утрам я сражаюсь с неприступными поленьями; пилю, колю, ношу и топлю ими свою комнату, но это повышает только температуру во мне, а не вне меня, и жизни интеллектуальной я могу предаваться у себя в комнате только закутавшись в шубы, пледы и одеяла.
Только одна гимнософистика[994] поддерживает меня и согревает в этой бесплодной борьбе со стихийными проявлениями мира.
Тем не менее я все-таки написал сонет о Диане де Пуатье. К «Звезде Полыни» он совершенно не подходит. Поэтому, прочтя его, передай пожалуйста Георгию Ивановичу для Невского Альманаха (я адрес его забыл).[995]
Кроме того я исправил стихотворение о Коктебеле, что я послал тебе на открытке с дороги. Теперь оно в окончательном виде, и я думаю, его можно включить в книгу.
Послал ли ты рукопись Ан<не> Руд<ольфовне>? Я здесь еще ни от кого, кроме нее, не имел известий.[996]
Холод и ветер мешают мне наслаждаться моим одиночеством и предаваться как следует работе.
Но когда наступит тепло, я буду вполне счастлив.
До свиданья. Жду вестей с башни и из Царского.[997]
Целую Лидию.
Максимилиан.Р. S. Не приходили ли посылки с книгами на мое имя? Переправлены ли они по моему адресу?
Ответных писем от Иванова не поступало, но это обстоятельство не смущало Волошина; он вновь обратился к своему корреспонденту, когда был завершен новый сонет:[998]
Здесь был священный лес. Божественный гонец Ногой крылатою касался сих прогалин… На месте городов ни камней, ни развалин. По склонам бронзовым ползут стада овец. Зубчатых гор трагический венец В пытливых сумерках таинственно печален. Чьей темною тоской мой вещий дух ужален? Кто знает путь богов – начало и конец? Размытых осыпей как прежде звонки щебни, И море древнее, вздымая тяжко гребни, Кипит по отмелям гудящих берегов… И ночи звездные в слезах проходят мимо, И лики темные отверженных богов Глядят и требуют… зовут неотвратимо.[999]–
Вот последнее мое стихотворение. Быть может, ты его тоже найдешь возможным включить в Звезду-Полынь, Вячеслав? Очень жду звука твоего голоса. Целую Лидию.
До свиданья.
Максимилиан.Коктебель. 3 апреля. 1907.Следующее письмо Волошина к Иванову – это обращенное к нему стихотворное послание, записанное и отправленное на открытке, еще один сонет. В нем коктебельский отшельник воздает хвалу главному детищу «башенного» литературного «симпосиона» – собранному Ивановым альманаху «Цветник Ор. Кошница первая» (он выйдет в свет в середине мая) и его участникам – Валерию Брюсову, Александру Блоку, Константину Бальмонту, Лидии Зиновьевой-Аннибал (поместившей там первое действие комедии «Певучий осел») и Маргарите Сабашниковой, автору стихотворного цикла «Лесная свирель».
Я здесь расту один, как пыльная Агава На голых берегах среди сожженных гор. Здесь моря вещего немолкнущий простор И одиночества змеиная отрава… А там – на севере крылами плещет Слава, Там древний бог взошел на жертвенный костер, Там в дар ему несут кошницы легких Ор, Там льды Валерия, там солнца Вячеслава, Там снежный хмель взрастил и розлил Александр, Там брызнул Константин струями саламандр, Там Лидиин «Осел» мечтою осиян И лаврами увит, там нежные хариты Сплетают верески свирельной Маргариты… О мудрый Вячеслав, χαιρή![1000] Максимилиан. Коктебель 15 апреля 1907.[1001]Три дня спустя – еще одно письмо на открытке: вновь с сонетом, но и с деловым предложением относительно «Звезды-Полыни»:[1002]
Коктебель 18 апреля 1907.
Дорогой Вячеслав! Аморя советует мне не выпускать теперь моей книги, и отложить ее на осень, т<ак> к<ак> и ты теперь очень занят, и уже поздно, да и я летом напишу еще многое, что сможет сделать ее гораздо более содержательной. Так что, если это возможно – отложи ее до осени.
Если это так, то тогда (если это только тебе улыбается) можно оттуда взять кое-что для «Цветника», напр<имер> Гност<ический> Гимн Деве Марии или четыре последних Руанских собора.[1003] Сонеты, что я пишу теперь, слагаются в определенную серию, которая только что начинает<ся>. Быть может, их лучше и не печатать еще (я говорю <о> «киммерийских» сонетах). Мне приходит в голову сделать серию – Одиссей в Киммерии.[1004] Но это я еще не знаю. Словом, я очень хочу отложить «Звезду Полынь» на осень, т<ак> к<ак> для окончательной редакции я чувствую, что необходимо мое присутствие. Вот еще сонет, написанный сегодня:
Туманный день раскрыл больное око, И бледный луч, расплесканный волной, Дробясь, скользит над мутной глубиной – То колос дня от пажитей востока! И чаша вод колышется широко, Обведена серебряной каймой… Темнеет мыс, зубчатою стеной Ступив на зыбь расплавленного тока. О этот час в затишьи бледных утр, Когда в горах струится перламутр, Журчат ручьи, безмолвствуют долины, Звенит трава и каждый робкий звук Поет струной… И солнце как паук Дрожит в сетях алмазной паутины.[1005]–
Привет Лидии. Как подвигается «Осел».[1006]
Напиши мне о «Цветнике» и о журнале.[1007]
Максимилиан.Следующее письмо Волошина к Иванову выслано из Москвы, куда он прибыл из Феодосии 28 или 29 апреля по настоятельному призыву Сабашниковой, которая приехала из Петербурга в Москву неделей ранее, 20 апреля. Написанное на открытке, отправленной 30 апреля и полученной в Петербурге на следующий день, оно вновь двусоставно, как и большинство ранее отосланных писем из Коктебеля: новые стихи в кратком деловом контексте:[1008]
Сатурн
На тверди видимой алмазно и лазурно Созвездий медленных мерцает бледный свет, Но в небе времени снопы иных планет Несутся кольцами и в безднах гибнут бурно. Пусть темной памяти источенная урна Их пепел огненный развеяла как бред – В седмичном круге дней горит их беглый след. О Пращур Лун и Солнц, вселенная Сатурна, Где ткало в дымных снах сознание-Паук Живые ткани тел, но тело было звук, Где лился музыкой непознанной для слуха Творящих числ и воль мерцающий поток, Где в горьком сердце Тьмы сгущался звездный сок, Что древним языком лепечет в венах глухо!..[1009]–
Дорогой Вячеслав, вот еще один сонет, который должен войти в «Звезду Полынь» к циклу «Луны», «Солнца», «Крови»…
Ради Бога, напиши мне хоть несколько строк на открытке о судьбе моей книги: отложена ли она на осень? Без окончательного просмотра ее мною ее невозможно выпускать, т<ак> к<ак>, судя по словам Амори, я заключаю, что, благодаря путанице в письмах, вновь присланные мною стихотворения могут быть напечатаны совсем не в том окончательном виде, который они получили.
Кроме того теперь у меня совершенно нет денег. И я не могу не видеть книги до ее выхода. На основании Амориных писем я считал ее окончательно отложенной на осень. Теперь же я совершенно запутался в ее словах. Пожалуйста, напиши хоть несколько слов. До свидания. Привет Лидии.
Максимилиан.Москва. Поварская, д<ом> Милорадович.[1010]После этого письма последовал, наконец, ответ от Иванова – на несколько посланий Волошина сразу:[1011]
3 мая.
Дорогой Макс, пожалуйста извини мое мертвое молчание… Устроить твою книгу в твое отсутствие и мне казалось всегда только рассечением Гордиева узла. К счастию, меня миновала ответственность Александра.[1012] Печатных дел мастера согласились хранить набор до осени; но выяснилось это только вчера, ранее же велись об этом инциденте дипломатические переговоры. Если этот результат утешителен, зато твое участие в «Цветнике Ор» не соответствует ни твоему, ни моему желанию. Давно уже отпечатаны первые листы книги, и что-либо переменить или дополнить в твоем отделе было невозможно, когда я получил твое письмо о «Цветнике». Я нимало не сожалею, что в «Цв<етник>» вошли твои превосходные «киммерийские» сонеты; но мне жаль, что я располагал в момент печатания только двумя из этого цикла («Закатным золотом…» и «Здесь был священный лес»). Было уже поздно, когда, благодаря новым сонетам, присланным тобою (которые очень люблю и высоко ценю, кроме вчерашнего Сатурна, весьма, на мой взгляд, сумбурного), и благодаря отсрочке книги, мне явились богатейшие возможности великолепного букета твоих стихов, почти embarras de richesse<s>…[1013] Впрочем, бесполезно долго обсуждать совершившийся факт. Я ни в чем не виноват перед тобой (вина в сроках и обстоятельствах) – кроме произвола, выразившегося в наименовании твоих двух сонетов «Киммерийскими Сумерками»[1014] (мне очень нравится это соединение и кажется соответственным и выразительным), и, быть может, отчасти произвольного выбора той редакции их из многочисленных твоих вариантов, которая представляется мне наиболее безупречною формально. За это прости дружески.
Ни о чем внутреннем и сердечном писать не в силах. Будем любить друг друга нашею лучшею верой друг в друга, не сводя балансов преждевременно. Ибо, как говорит Ангел в «Евдокии», хороший домохозяин считает прибыли по завершении предприятия.[1015] Итак, до свидания, любимый друг, приветствуй от меня Маргариту и дай ей прилагаемые новые сонеты из «Золотых Завес»,[1016] а также прими благодарность за твой очаровательный поэтический привет «Орам».
Вячеслав.Совместная жизнь Волошина и Сабашниковой в Москве и затем, в последней декаде мая, в Богдановщине (имение Сабашниковых в Смоленской губернии) изменения в тот характер их взаимоотношений, который определился к весне 1907 г., не внесла, равно как и временное расставание Маргариты с четой Ивановых не умалило напряженности внутри упорно лелеемого и творимого «трио». «Аморя здесь страшно мается и страдает, не получая писем от Ивановых, и все стремится назад в Петербург ‹…› Аморя все мечтает о квартире рядом с Ивановыми», – сообщал Волошин матери 3 мая.[1017] Зиновьева-Аннибал жертвенно была готова к любому разрешению ситуации. «…Люблю тебя глубоко и сознательно и совершенно сознательно желаю всего счастия, – писала она Маргарите 3 мая. – Моего счастия ты отнять не можешь. Твоя любовь с Вячеславом должна развиваться свободно, только по своим законам, и как мать твоя, которую я любовно почувствовала, я скажу: что все светлое и настоящее я приму с радостью и веселием. От вас же себе прошу только свободы».[1018] Упомянутая же Лидией мать Маргариты, Маргарита Алексеевна Сабашникова, узнав о происходящем, встала на пути намечавшихся «жизнетворческих» преобразований неодолимой преградой. «Когда ночная скиталица, – вспоминает о себе в третьем лице Маргарита, – явилась в добропорядочный родительский дом, она почувствовала себя по чести обязанной объяснить матери обстоятельства своей семейной жизни: она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ее любит, а Макс и Лидия согласны. Мама пришла в неописуемый ужас. Она заявила, что я уйду к Ивановым только через ее труп, и она была в таком состоянии, что можно было в это поверить».[1019] Разрыв супругов в это время был осознан как окончательный; Сабашникова даже полагала, что ее соединение с Ивановым окажется для Волошина благотворным. «Макс отрешен и отчужден, и отчуждение не пройдет, пока я буду с вами, – писала она Вячеславу и Лидии 2 мая. – Прежних отношений у нас с ним не может быть, и он найдет себя не в одиночестве, но только при мне и при вас».[1020] Впрочем, подводя итоги этому непродолжительному возобновлению совместной жизни, Сабашникова признавалась Иванову в недатированном письме: «С Максом этот месяц было ужасно. Я была дурная, я отравлена и нет оправдания».[1021]
О внутреннем состоянии Волошина в это время отчасти можно судить по его недатированному письму, ответному на приведенное письмо Иванова от 3 мая:[1022]
Дорогой Вячеслав,
эти дни были очень смутными днями, и много писем к тебе и к Лидии было разорвано. Только сегодня, сейчас кончилось это наваждение и могу снова с полной верой как брат говорить тебе. Я снова верю, что мы можем и найдем те формы, ту истину общей любви, которая позволит нам всем жить вместе, верю в то, что мы – я и ты – преодолеем любовью к Аморе те трепеты вражды, которые пробегают между нами невольно.
И верю в то, что я, обрученный ей, и связанный с ней таинством, и принявший за нее ответственность перед ее матерью и отцом, не предам ни ее, ни их, ни мою любовь к ней, ни ее любовь к тебе.
Вячеслав! верю тебе как брату безусловно и вполне и требую твоей веры к себе – иначе нельзя жить. Нельзя Аморю подвергать как младенца суду Соломонову.[1023] Но, когда мы снова будем вместе, помоги и ты мне не предать доверие тех, кто больше всех трепещет за нее.
Хочу простой жизни, деятельной жизни, хочу смирения перед законами и истинного познания их.
–
Спасибо за твое письмо, спасибо за судьбу моей книги.
Не менее значимые признания содержатся в письме Волошина к Зиновьевой-Аннибал,[1024] ответном на ее письмо к нему от 12 мая:
Дорогая Лидия,
из писем к Вячеславу[1025] ты видишь, какие тяжелые дни были у нас.
Сегодня только все разошлось. Я и тебе не мог отвечать на письмо это время.
Мне было эти дни так же смутно, как Аморе, от всевозможных нравственных конфликтов. Все казалось безвыходным и темным и не было веры в себя, мне казалось, что мы совсем заблудились в лабиринте психологии и морали.
Я в области психологии как дельфин на суше и с радостью присоединяюсь к твоему кличу: «Долой психологию!», душа моя затосковала в этом обществе астральных чудовищ и требует простоты, звериности и смирения.
Мне невольно приходится быть посредником между Аморей и ее матерью, любовь которой к Аморе я ценю все больше и больше.
Трудно все совмещать и хранить в душе – и вас далеких, и Аморину любовь к Вячеславу, переходящую в безвыходную смуту, и тревогу матери, которая мне доверяет ее и для которой таинство, связующее нас, воистину ненарушимо.
–
Против помещения «Луны» и «Как звезд<ный> путь» в «Белых Ночах» я, разумеется, ничего не имею.[1026]
На вопросы о Богдановщине отвечает <?> Аморя в письме к Вячеславу.
В конце мая Волошин возвратился в Коктебель и не покидал Крыма до середины ноября. Сабашникова до начала августа оставалась в Богдановщине, после чего последовала настоятельному призыву Зиновьевой-Аннибал – приехать в имение Загорье Могилевской губернии, место ее с Ивановым летнего пребывания (с 21 июня): «Ты можешь поручиться своим, что из этого выйдет одно лишь благо, ибо заодно можем поручиться мы: ни истерической атмосферы, ни сентиментальной тягучести не будет, а лишь серьезные, глубокие, человеческие отношения ‹…›».[1027] 8 августа Маргарита, после длительных колебаний, выехала из Москвы в Загорье. Судя по ее недатированному письму к Иванову, отправленному по дороге оттуда в Коктебель, непродолжительное время (всего два дня), проведенное ею в Загорье, стало кульминацией их взаимоотношений:
Мой милый, мой любимый. Как Ты чувствуешь себя? Целую Тебя нежно. Ты должен писать мне все. Я все должна знать о Тебе, и не будет больше никогда этих мертвых дней, когда я теряла Тебя и не знала, кто мы друг другу. Я уезжаю другой, чем приехала. ‹…› Мне кажется, что мы еще никогда не говорили. Еще никогда не было так, как теперь. Разве мы так были близки когда-нибудь? Что бы не <так!> было с моей жизнью потом, но эти два дня были, и я благодарю Бога. Они были наши. ‹…› Ты со мной и я с Тобой. Обнимаю Тебя крепко, мой Вячеслав. ‹…› Еще раз подыматься к Тебе по лестнице и войти с Тобой в Твою комнату, и быть с Тобой опять. Это должно быть опять.[1028]
15 августа 1907 г. Волошин писал Иванову:[1029]
Дорогой Вячеслав, вчера приехала в Коктебель Аморя радостная и счастливая после свиданья с тобой и принесла с собой твое веянье и твои отблески, и мое сердце тоже с радостью устремлено к тебе теперь и благословляет то, что ты еси.[1030]
Я жду тебя и Лидию в Коктебель. Мы должны прожить все вместе здесь на той земле, где подобает жить поэтам, где есть настоящее солнце, настоящая нагая земля и настоящее Одиссеево море.
Все, что было неясного и смутного между мною и тобой, я приписываю ни тебе и ни себе, а Петербургу.
Здесь я нашел свою древнюю ясность, и все, что есть между нами, мне кажется просто и радостно. Я знаю, что ты мне друг и брат, и то, что оба мы любим Аморю, нас радостно связало и сроднило и разъединить никогда не может.
Только в Петербурге с его ненастоящими людьми и ненастоящей жизнью я мог так запутаться раньше.
Я зову тебя не в гости, а в твой собственный дом, потому что он там, где Аморя, и потому что эти заливы принадлежат тебе по духу.
На это<й> земле я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь навсегда заклясть все темные призраки петербургской жизни.
Лидия, Вячеслав, вы должны приехать сюда и как можно скорее.
Материальные соображения ни в каком случае не должны останавливать вас.
Здесь вам ваша жизнь не будет стоить ничего и это ни для кого не будет ни стеснением, ни ущербом.
Мама, которая тоже вышла из петербургских наваждений, вас обоих очень любит, очень зовет и ждет с радостью.
Крепко целую тебя и Лидию.
Привет Марье Михайловне, Вере, Косте и маленькой Лидии.[1031]
Максимилиан.Еще один зов, обращенный к супругам Ивановым, последовал из Судака, куда Волошин и Сабашникова приехали на несколько дней к сестрам Аделаиде и Евгении Герцык, – телеграмма от 23 августа: «Заклинаем приехать Аделаида Евгения Маргарита Максимилиан».[1032] Многократно писала Иванову Маргарита, настаивая на том же самом. Однако вновь встретиться вчетвером им было не суждено. 17 октября 1907 г. Лидия Зиновьева-Аннибал скончалась в Загорье после скоротечной скарлатины. Для Вячеслава Иванова начался новый этап жизни – под знаком ее «бессмертного света». Для Маргариты Сабашниковой эта смерть обозначила межу, сделавшую продолжение прежних отношений с Ивановым невозможным. Волошин еще в ряде лет будет общаться с мэтром петербургского символизма, но эти отношения более никогда не достигнут той напряженности, того драматизма и того мифопоэтического накала, какими они были исполнены в затронутую непродолжительную пору.
Дружеские послания Вячеслава Иванова и Юрия Верховского
Одной из не самых заметных, но по-своему характерных особенностей поэтической культуры русского символизма стало возрождение жанра дружеских посланий – писем в стихотворной форме, обращенных к определенному адресату. Этот жанр, ведущий свою родословную в европейской поэзии с посланий Горация, активно развивавшийся в латинской поэзии Средневековья и Возрождения, а также в классицистскую эпоху, в России получил самое широкое распространение в период романтизма, но во второй половине XIX века практически исчез из стихового репертуара. Реанимация стихотворных посланий у символистов – явление глубоко закономерное, вытекающее из осознания – или по крайней мере ощущения – специфики своего литературного направления. Специфика эта заключалась, в частности, в расширении сферы эстетического, в распространении художественных критериев на те области бытия и жизненных контактов, которые традиционно оставались независимыми от эстетических соотнесений и оценок. Явно или латентно сказывавшаяся эстетическая, игровая составляющая в бытовом укладе, в психологии личных взаимоотношений, в идеологических манифестациях побуждала к поиску внешних форм, которые способны были воплотить эти особенности художественного самосознания и творческого поведения. Сочинение стихотворных посланий, в которых сочетались задачи коммуникационно-прагматические и эстетические, установки и нормы эпистолярного жанра – с критериями, которым необходимо должно соответствовать поэтическое произведение, представляло собой одну из таких наглядных форм.
Столь значимое для символистов – главным образом «второй волны» – стремление к «жизнетворчеству», к религиозно-теургическому и эстетическому преодолению и преображению косной действительности также могло находить воплощение в гибридном жанре стихотворного послания – занимавшего свое закономерное место в общем ряду писем одного корреспондента к другому, сочиненных не стихами, но зачастую щедро эксплуатировавших художественные приемы и образные ряды при выстраивании эпистолярного текста. В этом отношении, например, стихотворное послание А. Блока «Боре» («Милый брат, завечерело…»), отосланное Андрею Белому в середине января 1906 г.,[1033] существенно не выделяется своей тональностью и стилистикой из общего корпуса переписки поэтов той поры и является ее неотъемлемой частью. Когда же, в период кризиса их личных отношений, переписка на какое-то время прервалась, Белый, решивший возобновить ее, отправил Блоку 7 декабря (н. ст.) 1906 г. не обычное письмо, а стихотворное («Я помню – мне в дали холодной…»):[1034] поэтическая форма переводила эмоции автора, его стремление к взаимопониманию и дружескому общению в более высокий регистр.
Оставаясь составной частью эпистолярного диалога, стихотворные послания могли продолжать свое существование и вне его, переходить из частной в общественную сферу. Упомянутое стихотворное послание Блока было впервые опубликовано в 1907 г. в сборнике «Корабли» под заглавием «Брату» и входило затем в блоковские книги (в третьем сборнике стихов Блока «Земля в снегу» – под заглавием «О несказанном», уже переключавшим внимание с конкретного адресата на проблематику, связующую автора с адресатом). Стихотворное послание Андрея Белого к Э. К. Метнеру «Старинный друг, моя судьбина…», отправленное в январе 1909 г. с пометой «Вместо письма» и внесенное Метнером в общую нумерацию писем Белого к нему,[1035] было включено в том же году в книгу Белого «Урна». Стихотворные послания могли создаваться и как чисто жанровая художественная форма, не входя составным элементом в эпистолярный корпус, – в особенности в тех случаях, когда эти послания призваны были говорить о неких особенно важных вещах и понятиях. Таково в той же книге «Урна» послание «Сергею Соловьеву» («Соединил нас рок недаром…», январь 1909 г.), в котором Белый поведал об осознании им нерушимой внутренней связи с адресатом («Какою-то нездешней силой // Мы связаны, любимый брат») и общности духовных, церковно-мистических идеалов:
Мужайся: над душою снова – Передрассветный небосклон; Дивеева заветный сон И сосны грозные Сарова.[1036]Ответное послание Сергея Соловьева «Андрею Белому» являет собою еще одну грань, которой могли быть отмечены произведения этого жанра, – полемическую; аргументам и убеждениям Белого Соловьев противопоставляет контраргументы. Приведя процитированные заключительные строки послания Белого в качестве эпиграфа, Соловьев, в ту пору приверженец «античного» идеала, возражает:
Зачем зовешь к покинутым местам, Где человек постом и тленьем дышит? Не знаю я: быть может, правда там, Но правды той душа моя не слышит.И далее, говоря о свершившемся поругании «заветной святыни», заключает:
Вот отчего, мой дорогой поэт, Я не могу, былые сны развеяв, Найти в душе словам твоим ответ, Когда зовешь в таинственный Дивеев.[1037]Сочинение стихотворных посланий поэтами начала XX века выказывало и еще одну потребность – противопоставить данный тип взаимоотношений, включающий эстетическую составляющую, привычным и обиходным эпистолярным контактам между другими корреспондентами-«обывателями» как доступный немногим «избранным», как специфическую форму общения между поэтами. Отношения Бальмонта и Брюсова с самого начала приобрели несколько стилизованный, аффектированный характер поэтической дружбы, и закономерно, что многие письма Бальмонта к Брюсову сложены стихами[1038] – обращенными исключительно к своему адресату и никаких иных претензий не имеющими (Бальмонт ни одного из этих посланий не опубликовал). Примечательно, однако, что не только искушенный в стихотворчестве Бальмонт – признававшийся, что, в отличие от статей, отнимающих «обыкновенно много времени», стихи у него «возникают без усилий»,[1039] – но и поэт из Иваново-Вознесенска, гравер-текстильщик по основной профессии Авенир Ноздрин адресовал Брюсову (20 мая 1898 г.) письмо в стихах[1040] – выразительное свидетельство того, что отмеченное явление получило определенное распространение и вошло в систему знаков поэтической культуры своего времени.
Один из важнейших импульсов, побуждавших поэтов символистского круга создавать стихотворные послания, заключался в их стремлении всячески обозначать и подчеркивать преемственную связь с «золотым веком» русской поэзии, с пушкинской эпохой. Первый символистский альманах, выпущенный издательством «Скорпион» в 1900 г., назывался «Северные Цветы»: тем самым читателя уведомляли, что презренные «декаденты» мыслят себя продолжателями дела Дельвига, издававшего в 1820-е гг. одноименный альманах, в котором печатались лучшие мастера литературы того времени. Именно под пером Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Пушкина жанр дружеской стихотворной эпистолы достиг в России своего расцвета, особенно он культивировался «арзамасцами», постоянно направлявшими друг другу послания в стихах и прозе, которые зачастую публиковались или по крайней мере сочинялись с установкой не только на своего адресата, но и на стороннего читателя (подсчитано, что Пушкин только в период пребывания на юге России сочинил 23 стихотворных послания).[1041] Закономерно, что и представители «нового» искусства, исполненные «неоклассического» пафоса, не могли не отдать этому жанру посильную дань. При этом апелляция к исторически столь определенно маркированной жанровой форме позволяла обозначить и некую внутреннюю тематико-стилевую альтернативу в системе символистского стихотворчества; культ поэтической легкости, изящества, увлеченность подчеркнуто «малыми» заботами и мимолетными переживаниями, ироническая тональность, присущая многим стихотворным посланиям пушкинской эпохи, выступали как антитезис по отношению и к «декадентскому» «неистовству» и дисгармонии, и к профетическому символистскому «большому стилю», к высокой мифопоэтической риторике.
Поэт, историк литературы и переводчик Юрий Никандрович Верховский (1878–1956) в ряду поэтов «неоклассической», «неопушкинианской» ориентации принадлежал к числу самых заметных фигур. «“Старинное” (Поэзия Ю. Верховского)» – заглавие этой статьи Иванова-Разумника предельно точно: именно «старинное» заключало в себе для Верховского весь спектр поэтических вдохновений. «Это не “стилизация”, – подчеркивал Иванов-Разумник, осмысляя феномен поэтического творчества Верховского, – не условное принятие внешних форм художников слова старых времен: это – проникновение в душу их творчества, соединение из них в одно целое того, что свойственно душе поэта ‹…› в “старинном” он часто находит самого себя, душу своей поэзии, сущность ее ‹…›».[1042] Один из рецензентов первой книги Верховского «Разные стихотворения» в заметке под характерным заглавием «Поэт старого склада» отметил, что в стихах автора ощущается «белое веянье крыл пушкинской музы со всей окружавшей ее плеядой. Невольно вспоминается и Дельвиг, и Языков, и величаво-задумчивый Баратынский. Юрий Верховский и не скрывает, а подчеркивает эту связь».[1043] В отзыве о второй книге Верховского «Идиллии и элегии» другой рецензент, Вас. Гиппиус, относит ее автора к «поэтам-реставраторам и подражателям»: «Лучшие стихи Юрия Верховского напоминают то Батюшкова», то Жуковского, то Щербину, то Мея, то Ап. Майкова».[1044] В «реставраторской» природе творчества Верховского видели одновременно и достоинства, и ограниченность индивидуального дарования. «Свою душу поэт не сумел или не пожелал выразить. Он ученик, а не творец, но, быть может, именно в этом своеобразная прелесть его книги» (Н. Гумилев);[1045] «Наследуя язык “золотого века” нашей поэзии, г. Верховский не удержался от заимствования ее тем и образов. Поэтическая его личность слишком неоригинальна, почти каждое стихотворение приводит на память какое-нибудь, давно уже написанное» (В. Ходасевич).[1046] В этой «неоригинальности», пожалуй, и заключалась подлинная оригинальность поэзии Верховского, заговорившей как бы «оттаявшими звуками» стихов невозвратного прошлого, воскресшими естественно и непринужденно. Органическую причастность Верховского той эпохе, в которую ему не довелось жить, осознавали многие знавшие его люди. «Верховский, мягчайший святой идеалист, своего рода Алеша Карамазов», – отмечала Т. Г. Цявловская, добавляя о нем как о поэте: «По стихам его впечатление, что он как-то случайно откололся от плеяды Пушкина, ему бы с Дельвигом дружить».[1047]
Профессиональный филолог, ученик Александра Н. Веселовского,[1048] окончивший в 1902 г. романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, Верховский был не просто поклонником поэзии пушкинской эпохи, но и ее редким знатоком и углубленным исследователем. Он одним из первых взялся за изучение биографии и творчества Баратынского, подготовил и издал сборник «Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских» (Пг., 1916); он же выпустил в свет книгу «Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные» (Пб., 1922). Он составил объемистый сборник «Поэты пушкинской поры», в который включил стихотворения 54 поэтов, а также двух неизвестных авторов; антология содержала произведения не только именитых мастеров (Баратынский, Дельвиг, Языков, Д. Давыдов и др.), но и таких малоизвестных стихотворцев, как А. А. Башилов, А. И. Готовцова, А. А. Крылов или Вал. Шемиот. В большой вступительной статье «Поэты пушкинской поры», открывавшей антологию, Верховский отмечал, что «эпоха расцвета нашей классической поэзии может быть названа также эпохою дружбы поэтов», что «жажда товарищеского единения», вызвавшая к жизни многие дружеские кружки, салоны, официальные общества, в конечном счете обусловила и обеспечила высокий общий уровень поэтической культуры.[1049] В своих собственных житейских контактах Верховский также ценил и пестовал этот дар поэтической дружбы. Ровные, теплые, доброжелательные отношения связывали его со многими литераторами-современниками, но тональность высокой и прочной «дружбы поэтов» приобрели в первую очередь отношения с Вячеславом Ивановым.
Завязались они вскоре после того, как Иванов и Зиновьева-Аннибал обосновались в 1905 г. в Петербурге и, инициировав собрания по средам, превратили свою квартиру в неформальный центр столичной творческой и интеллектуальной элиты. «Часто на “средах” можно было видеть Юрия Никандровича Верховского, небольшого, скромного поэта, влюбленного в пушкинскую эпоху ‹…›, – вспоминает М. Л. Гофман. – При этом он обладал большим, привлекавшим к нему добродушием».[1050] Впрочем, среди посетителей ивановской «башни» Верховский не слишком выделялся и блистал; контакты его с хозяином дома носили скорее приватно-доверительный характер. Мы не можем отметить ни одного случая конфликтного омрачения этих отношений. Иванов ценил поэтический дар Верховского и споспешествовал изданию его книг. В ивановском издательстве «Оры» были опубликованы «Идиллии и элегии» Верховского, при содействии Иванова в московском издательстве «Скорпион» – «Разные стихотворения» («Едет в Москву Юрий Верховский – показать тебе свой составленный сборник, – писал Иванов Брюсову 9 января 1907 г. – При составлении его он пользовался моими советами. ‹…› Ясно вижу в этой будущей книге индивидуальность поэта, ибо он, конечно, поэт и имеет индивидуальность. ‹…› Притом, несомненно, истинный лирик. Много поисков, много и обретений; значительное разнообразие, – но настоящее мастерство еще далеко не везде, и почти везде какая-то вялость и (подчас приятная!) бледность, зато истинная, хоть и несколько флегматическая лирика»[1051]).
Дружба Иванова и Верховского нашла свое отражение в их поэтических книгах. В «Разных стихотворениях» Верховского Иванову посвящены цикл из трех стихотворений «Гимны», а также большой раздел «Сонеты» («Вячеславу Иванову – мастеру сонета»),[1052] в «Идиллиях и элегиях» – стихотворение «Дафнис».[1053] Иванов посвятил Верховскому сонеты «Новодевичий монастырь» («Мечты ли власть иль тайный строй сердечный…», 1915) и «Молчал я, брат мой, долго; и теперь…» (1914), опубликованный в «Аполлоне» (1914. № 10) под заглавием «Другу поэту», а также стихотворение «Помнишь ли, как небо было звездно?..» (1915).[1054] Поэты обменивались сонетами-акростихами: на сонет Верховского «В часы истомы творческого духа…» Иванов откликнулся сонетом «Consolatio ad sodalem» («Юродствовать пред суемудрым светом…»), вошедшим в раздел «Пристрастия» его книги «Cor ardens»,[1055] – а также сонетами с утаенными рифмами: в августе 1909 г. Верховский прислал Иванову сонет без обозначения рифмующихся слов («Сроднился дух мой с дружественной <Башней>…»), на который тот откликнулся ответным сонетом «Sonetto di risposta» («Осенены сторожевою Башней…»), также вошедшим в «Cor ardens»[1056]. Но наиболее непосредственное воплощение эта поэтическая дружба обрела именно в жанре стихотворных посланий – чрезвычайно любимом Верховским, который признавался в своем пристрастии к эпистолярным знакам внимания:
Вот из Парижа письмо, а вот – из Швальбаха. Други! С яркой палитрой один, с лирою звонкой другой! Рад я внимать повторенные сладостной дружбой обеты, В милой уездной глуши письмами вдвое счастлив; Рад – и еще возвышаюсь душой в чистоте угрызений: Скольким недальным друзьям, вечно с пером – не пишу![1057]Содержание и стилистика стихотворных посланий Верховского и Иванова вполне соответствовали тем критериям, которыми руководствовались поэты пушкинской поры в собственных опытах и которые точно очерчены современным исследователем: «Самое интимное, “домашнее” выражение жизни осуществлялось в ‹…› дружеских посланиях, с их культом независимости, изящного “безделья”, с их враждой ко всему официальному и казенному. ‹…› В посланиях поэтические условности, мифологические атрибуты и прочее своеобразно сочетаются с элементами конкретной, эмпирической обстановки ‹…› несмотря на бытовой и шуточный элемент, дружеские послания вовсе не попадали в разряд комических жанров. Лиризм, раздумье, грусть находили в них доступ. Дружескому посланию принципиально была присуща эмоциональная – тем самым и стилистическая – пестрота».[1058] Подобно поэтам арзамасского братства, Иванов и Верховский напечатали часть своих посланий друг к другу, несколько посланий Иванова к Верховскому ныне опубликованы по сохранившимся автографам, однако большинство стихотворных писем Верховского к Иванову (частично хранящихся вместе с его нестихотворными письмами к тому же адресату) осталось в рукописи.
В первом из этих посланий, которое Верховский направил Иванову 18 марта 1907 г. (Приложение, стих. 1), обозначена программная установка на возрождение жанра, некогда чрезвычайно популярного, и указаны образцы, которым автор пытается следовать, – Языков и «Тригорского певец», Пушкин. «Забытую игру» своей лиры Верховский насыщает грустными ламентациями в связи с пережитой болезнью – воспалением легких, приковавшим его к постели, – и призывает Иванова скрасить печальную участь больного ответным посланием. Последний не замедлил откликнуться в том же жанре – стихотворением «Выздоровление», включенным позднее – в сокращенной редакции – в раздел «Пристрастия» его книги «Cor ardens»:
Верховский! Знал ли я, что ты, Забытый всеми, тяжко болен, Когда заслышал с высоты Звон первый вешних колоколен? Но ты воскрес, – хвала богам! Долой пелен больничных узы! Пришли по тающим снегам Твой сон будить свирелью Музы. И я, – хоть им вослед иду Сказать, что все тебя люблю я, – Почтовой рифмой упрежду Живую рифму поцелуя.[1059]Здесь же, характеризуя поэтическое мастерство Верховского, Иванов апеллирует к сюжету средневековой легенды, обработанной в новелле Анатоля Франса «Жонглер Богоматери» из его сборника «Перламутровый ларец» (1892), – о принявшем монашество жонглере Барнабе, который свое почитание Богоматери выражал тайком в акробатических трюках перед алтарем и был вознагражден – статуя Богоматери сошла с амвона и отерла пот со лба жонглера:[1060]
Как оный набожный жонглер, Один с готической Мадонной, Ты скоморошил с давних пор Пред Аполлоновой иконой. Стиха аскет и акробат, Глотал ножи крутых созвучий И слету прыгал на канат Аллитерации тягучей.[1061]Развитие этой же темы – в сонете Верховского «Пусть ночь греха в душе моей бездонна…», сопровождающемся двумя эпиграфами – из цитированного стихотворения Иванова и из упомянутой новеллы Франса:
Как Барнабэ лишь – стройными делами, Свершенными молитвенно и тайно, Вас прославлял один необычайно, – Так мне моими темными хвалами Дозвольте воспевать, не именуя, Мадонна, Вас – и слушайте, молю я.[1062]Следующее в хронологическом ряду послание, датированное 5 августа 1908 г., принадлежит Верховскому; отправлено оно из Осташкова, где поэт проводил лето, в Судак, по адресу семейства Герцык, где в это время находился Иванов. Открывающееся эпиграфом из послания Жуковского к Вяземскому и В. Л. Пушкину, входящего в подборку его так называемых «долбинских стихотворений», послание Верховского обыгрывает образный строй указанного «первоисточника» и развивает его полушутливую манеру высказывания. Сообщая о своих планах дальнейших путешествий, Верховский вновь призывает Иванова к ответному стихотворному отчету о своей жизни. Такового, однако, нам не известно. Иванов мог и не откликнуться на предложение друга к очередному поэтическому состязанию – но весьма вероятно, что он отправил ответное послание, которое могло быть утрачено в составе значительной части архива Верховского, до нас не дошедшей или, возможно, рассеянной по частным собраниям.
В 1911–1915 гг. Верховский преподавал на Высших женских курсах в Тифлисе (занимал кафедру западных литератур), Вячеслав Иванов сначала оставался на своей петербургской квартире, затем, в 1912–1913 гг., жил за границей, после чего обосновался в Москве. Постоянная разлука друзей могла только стимулировать их эпистолярные контакты, которые, опять же, были продолжены как в обычных жанровых рамках, так и в форме стихотворных посланий. Первое тифлисское письмо в стихах к Иванову (12 октября 1911 г.) было отправлено Верховским вместе с автографом стихотворения «Когда печальное прости…» – первого написанного им в Тифлисе. В следующем же по времени обмене стихотворными посланиями инициатором выступил Иванов. Он отослал Верховскому стихотворение «Послание на Кавказ», позже вошедшее в раздел «Λέπτα» книги «Нежная тайна» (1912) с посвящением Верховскому. Подхватывая манеру Верховского (см. Приложение, стих. 2) рассуждать в посланиях о достоинствах тех или иных стиховых форм («Ты белый стих в обычай ввел отныне // Для дружеских посланий. В добрый час»), Иванов белым пятистопным ямбом пространно живописал достоинства белого стиха, а также подробно рассказал о происходившем «вчера на Башне».[1063] Заключало послание и непременный призыв ответить в том же роде («Пойми ж любви моей знаменованье // И отпиши скорей – про все, чем сердце // Волнуется ‹…›»). 5 апреля 1912 г. Верховский, выполняя эту просьбу, отослал Иванову из Тифлиса в Петербург ответное послание (Приложение, стих. 4), повествуя в нем о задуманном путешествии из Грузии «вдоль знойных берегов малоазийских» в Грецию, которое он мечтает совершить вместе со своим дорогим другом.
Приезд Иванова в Грузию тогда не состоялся, и замысел совместного путешествия остался неосуществленным (в плаванье по Средиземному морю Верховский отправился лишь в 1913 г. вместе с Г. В. Соболевским).[1064] Очередное послание Верховского к нему было адресовано в Рим (датировано 16 января 1913 г., написано в Петербурге, но отправлено из Тифлиса 10 февраля 1913 г.); в нем – отклик на получение новой книги стихов Иванова «Нежная тайна» (Приложение, стих. 5).
22 февраля / 7 марта 1913 г. Иванов написал в Риме, тем же элегическим дистихом, пространный ответ на этот краткий опус; текст, отправленный Верховскому, нам неизвестен, стихотворение опубликовано ныне по рукописной копии в Римском архиве Иванова:
Милый, довольно двух слов от тебя, чтоб опять содрогнулся
Окрест тончайший эфир жизнию дремлющих струн.
Дремлют… Давно не будила нечаянной песнию Муза
Лиры, которую ты – вижу – любить не отвык,
и т. д.[1065]К 1913–1914 гг. относятся еще несколько стихотворных посланий Иванова и Верховского, выдержанных в той же тональности дружеского поэтического диалога. Послания Верховского этого периода более, чем прежние, свободны от бытовых частностей и интимной тональности, что позволяло даже предать их печати (одно из посланий к Иванову опубликовано в журнале Ф. Сологуба «Дневники Писателей», другое – в «Русской Мысли»). В целом же вся поэтическая переписка Иванова и Верховского отмечена основными чертами, которые характеризуют жанр дружеского письма, сформировавшийся в пушкинскую эпоху и реконструируемый почти сто лет спустя нашими корреспондентами в лаборатории поэтического эпистолярного диалога; эти жанровые признаки, при всем различии индивидуальных обликов сочинителей посланий, предполагают, по точному наблюдению современного исследователя, такие качества, как «готовность к любви и дружбе, любовь к литературе, хороший вкус, способность к умственным и физическим радостям, искренность, самоирония, многообразие интересов, общежительность и чувство юмора».[1066] Весь спектр этих характеристик применим и по отношению к стихотворному эпистолярному диалогу двух поэтов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стихотворные послания Юрия Верховского Вячеславу Иванову
Тексты публикуются по автографам. Стихотворение 1 хранится в фонде Вяч. Иванова в ИРЛИ (Ф. 607. Ед. хр. 279), остальные стихотворения – в фонде Вяч. Иванова в РГБ (Ф. 109. Карт. 14. Ед. хр. 51 – стихотворения 2–5; Ф. 109. Карт. 42. Ед. хр. 23 – стихотворения 6–9).
См. также: Стихотворения Юрия Верховского из Римского архива Вячеслава Иванова / Публикация А. Б. Шишкина // Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура: Материалы международной научной конференции 9 – 11 сентября 2002 г. Томск; М., 2003. С. 220–225. Публикация включает цикл «Весенние элегии» (1920), послание «Вячеславу Иванову» («Друг мой, некогда мы упредили крылатою рифмой…», 1920) и посвященное Вяч. Иванову стихотворение «Невские русалки» («Когда-то юною и ласковой наядой…», 1922).
1
СПб. 18. III. 07. Порою дружеских посланий Я увлекаюсь так давно, – И, видно, нынче суждено Хоть одному из тех желаний, Какими сердце так полно, Когда молчать обречено Без наслаждений и страданий, – Осуществиться наконец. Быть может, новый мой венец Меня не только не прославит, А лишь покаяться заставит – Как знать? Царица иль раба, Всегда со смертными лукавит Их своенравная судьба, – Но все же рвением объята Моя душа – мое перо: Почтить стихом поэта-брата (Что так убийственно старо). Душа созвучьями богата, Что легче ветра, ярче злата, Нежней волны, острей булата, – А это ль – правда – не добро? И так пишу. Так он, Языков, Так он, Тригорского певец, Будил для дружественных кликов Ватагу дрогнувших сердец – И разгорался взор невольно Приветом радости застольной. Теперь не то. Уж нет забав На дне содвинутых стаканов. Ты, златорунный Вячеслав, Ты, Фебом взысканный Иванов, Скажи: мы видим ли в вине, Как деды, целый мир – на дне? Пусть – нет. Но почему ж порою Не возвратиться к старине? На старый лад я лиру строю, И вот – забытою игрою Она ласкает сердце мне. И вспоминается невольно Та благодатная пора, Когда привольно и раздольно Мои летели вечера, Когда я был здоров и весел Среди житейских тяжких дел – И бодро на тебя глядел; Теперь же грустный мой удел – Облокотясь на ручки кресел Сидеть – и чахнуть одному. Ты, верно, спросишь – почему? Да потому – на удивленье – Что, не спросясь, меня сгребло В охапку лёгких воспаленье – И дома крепко заперло Всем ожиданиям назло. Судьбу кляня, я две недели Валялся, кашляя, в постели, Хрипел, сопел, свистел, пыхтел – И все-таки остался цел. И вот уж страхи отлетели. Какие ж страхи-то? Не те ли, Что говорят о грозном «там» И так же радостны мечтам, Как завывание мятели? Нет, главный страх мой был не тот. Я думал: долго ли, Создатель, Один пробудет твой мечтатель? Проходит день, как целый год, За ним еще, еще – и вот К тебе Забвение – предатель, Никем не слышимо, вползет И руку ласково лизнет, И в очи глянет. Вот приятель Тебя забыл; за ним другой – Сомкнулась Лета над тобой. А вспомнят – скажут: «Верно, в Нарве, А то б давно пришел сюда». А вкруг меня витают larvae[1067] И глухо каркает беда; А я сижу себе на месте – Петух промокший на насесте. И сострадателен, и мил, Какой же одинокий гений Больного келью посетил? Красноречивейший Евгений Васильевич Аничков[1068] (тих, Он уместился в тесный стих!) – Отрада слуха, радость взора. Но видит Бог – не для укора О нем рассказываю я: Такого суетного вздора, Ей-ей, чужда душа моя. Быть может, только для меня Тянулось долго время это, Зияя, грозное, как Лета. Я думал вовсе не о том. Я полон тихого желанья (Смотри, для верности, о нем Начало этого посланья): Хотя в мечте с тобой вдвоем У тихой лампы очутиться, Поговорить о том, о сем, Душевным хладом и огнем, Мечтами, рифмами делиться. И потому, мой друг, прости, Что, повалившись на пути, Я так бессвязно разболтался И помешал тебе идти. Но если я не замешался Не вовремя, – тогда, как друг, Ты, верно, уж найдешь досуг Меня спасти от скуки адской, – Не очутившись на Посадской[1069] (Чему я был бы очень рад), А хоть черкнувши наугад Две-три строки о чем случится. Тогда рука твоя – как знать? – Быть может, тоже расшалится, Захочет рифмы набросать? Вот это будет благодать! Одно из дружеских желаний Захочешь ты осуществить – И век классических посланий, Во имя дружбы, обновить! Начни, певец! Мое начало Неверным звуком прозвучало: То – не посланье, то – письмо, Оно сложилось так само. А ты, как лес, многоязычен, – Начни же новую весну, Задень уснувшую струну – Ты будешь истинно классичен; Коль долго петь охоты нет – Блеснет отточенный сонет. (Сонета я не забываю, Его с тобой я вместе чту; Тебя недаром зазываю: Один-другой тебе прочту). Скорей же сделай оба дела: И лишний раз себя прославь (Кому же слава надоела?), И друга верного избавь От власти демонов и фурий: Болезни, бешенства пера, Тоски, мечты et cetera. Придет ли новая пора? Дождусь ли? «Многострунный» Юрий. Р. S. Вношу в post-scriptum пышный звон октавы Для Лидии Димитриевны я.[1070] (Четырехстопный ямб не даст мне славы[1071]). Но ей известна преданность моя. Теперь она здорова? А когда вы Обрадуете книгою меня? Я помню, как в последней корректуре Дивился я пленительному Журе.[1072] Р. Р. S. К четырехстопным звукам ямба Вернуться я спешу опять: Чуть-чуть не позабыл (сагаmbа!)[1073] На всякий случай я сказать, Что перебрался я хворать В квартиру брата.[1074] Вместе с братом Живу я в номере девятом; Дом тот же, но этаж – второй, – Конечно, ниже, чем шестой. Ю. В.[1075]2
ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ[1076] …К тому же Вяземский велит жить осторожно: Он у меня свои стихи безбожно На время выпросив, на вечность удержал; Прислать их обещал, Но все не присылает; Когда ж пришлет, Об этом знает тот, Кто будущее знает. Жуковский[1077] Хочу отныне жить похвально, осторожно. Надеждой льщу себя, что это мне возможно. К тому ж немолчно так рассудок мне велит – И я стремлюсь принять благопристойный вид И поучительный. Я помню стих прекрасный: Полезен обществу сатирик беспристрастный.[1078] Но быть сатириком хочу я лишь слегка, И мысль моя – ей-ей – гордыни далека. И так, мой милый друг, начав мое посланье, Я не боюсь родить в душе твоей желанье, Чтоб только поскорей задохся и затих Мой дидактический (Какой? Не помню) стих,[1079] Но грустно мне одно – что голос тиховейный Моей владычицы, богини чудодейной Ловлю лишь издали и, выйдя на балкон, В тумане не могу увидеть Геликон. А был недавно я в тени зеленых кущей Под обонянием природы всемогущей. Однако и теперь – хоть городской кокет – Стоит передо мной на столике букет И, чувства страстные вздымая и покоя, Струится медленно душистый дух левкоя. Смотри: тот – пурпурный, тот – бел как алебастр, А рядом – бледные головки грустных астр И скромной резеды потупленные взоры, И свежей зелени неясные узоры. «Доволен малым будь, хоть и букет твой мал! Кто ж виноват, что ты скучаешь и устал?» – Так внятно говорит мне голос Аониды, На давнем поприще таки видавшей виды. Быть может, в сентябре тебе я разверну Рассказ про милую мечты моей страну, Куда теперь стремлюсь «сверх силы и сверх меры»[1080] – Страну поэзии, и Волги, и холеры. Вслед Боратынскому хочу лететь в Казань.[1081] О сердце бедное, не бейся, перестань: Хочу надеяться, что буду жив в Казани, Хоть там, ведь, кажется, едят грибы с глазами.[1082] Затем, Бог милостив, увижу и Тамбов; А там – через Москву – под сень родных богов. Ведь только надобно мне позабыть халатность, Любить умеренность и верить в аккуратность.[1083] На первый случай я, приличие любя, Свой, хоть не белый, стих крахмалю для тебя. Но, прежде чем моей медлительной судьбою Я буду вновь сведен, почтенный друг, с тобою, – Уж ты меня приветь, уж ты меня потешь И в лености своей пробей для друга брешь С мизинец шириной, не более! С мизинец! – И сядь, и напиши, и мне пришли гостинец. Вот лист! А вот – перо! Чернила! Сядь же, сядь – И я до осени не буду поминать, Что у тебя в столе твое ко мне посланье. О, верю, что мое исполнишь ты желанье. Не все ж мой тусклый дождь – и серый, и косой; Ты оживишь меня твоих стихов росой, Пахнет на мой цветник блистательная живость: Недаром же пою сегодня справедливость. Ведь не один пустой надутый эгоизм Внушил моим стихам – как видишь – дидактизм; Не ради же него о шестистопном ямбе Я вспоминал теперь, гуляючи по дамбе:[1084] И я тебя хочу направить (не забудь!) На поучительный, похвальный, скромный путь. Достойно оцени благое ты хотенье И над посланием нелегкое кряхтенье. Сейчас договорю и больше – ни гу-гу! А после – мне ли быть перед тобой в долгу? И под твоим пером не всё ль к твоим услугам? Будь только другом мне – и я ль не буду другом? Речь олимпийская – божественный гексаметр, И «Тристий» сладостных разымчивый пентаметр, И гимна музыка, элегии иль оды, – Все то, чему века дивилися народы;Терцины важные, классический сонет, Октавы нежные, вертлявый триолет, И рондо милое, и прелесть – вилланелла – Все, что тебе пока еще не надоело – Сестина, и rondel, и lai, и virelai – Что только ни поет, ни нежит на земле – Вплоть до новейшего любого верлибризма – Подъятое волной безбрежного лиризма, Все это, все, все, все – лишь не захочешь, ах! – Не будет для тебя звучать в моих стихах. Юрий Верховский.Осташков, ночь на 5 VIII 08.NB. Николаевской ж. д. станция Осташков, квартира инженера Н. Н. Давиденкова. Все направленное по указанному адресу будет доставлено автору даже в случае его выезда из Осташкова.
3
ВЯЧЕСЛАВУ[1085] При посылке моего первого тифлисского стихотворения Я помню шумную разлуку, Мелькнувшую виденьем сна; Но если только сон был в руку, – Тяжка не будет мне она, – Иль так тяжка: я верю – други Меня вспомянут на досуге, Я чаю – без напоминанья Они и голос подадут: В стране – хоть вольного – изгнанья Удел певца немного крут, – Известно. Песней же делиться Привык с тобой – как с птицей птица: Вот почему – и рифме строгой Наперекор – как захочу Тебе на лире круторогой, Как захочу, – и забренчу. Мой первый бред внемли тифлисский, – И спой в ответ, певец Тииский! Юрий Верховский. Тифлис. 12. X. 1911.[1086] Когда печальное прости Пределу милому скажу я – И обречен один брести, Не правда ль: до полупути О том я думаю, тоскуя, – Что там, за мной – и без меня Живет у пристани знакомой; Что, вновь и вновь к себе маня, Как свет вечернего огня, Мне веет мирною истомой? Вперед! – счастливцы говорят – Смотри: ты минул полдороги; Вот светлых гор воздушный ряд – И облачных унылых гряд Ряды не близки и не строги. О да, гляжу невольно я В простор судьбы моей грядущей; На перевале бытия Меняется и мысль моя Под переменчивою кущей. И вот уж я – у новых врат; Вступаю в чуждое жилище, Быть может, полное отрад… Но я грустить и плакать <рад> По милом старом пепелище! Тифлис, ночь на 2. X. 911.4[1087]
Спасибо, милый Вячеслав, тебе За дружбу, за стихи; сказал бы даже – За прозу, если бы ее нашел В твоем посланье. Связанный цезурой, Быть может – по рукам и по ногам, Сияющие крылья развернул Твой белый стих привольно и широко – И, заносясь порой за облака, Все помнит шепот, шепчущий о тайне Земли родимой. Мой же стих – пускай По-прежнему развязан, бесцезурен, Но и – бескрыл в ему любезной прозе; И может быть утешен разве тем, Что как-то раз обмолвился Жуковский, Сказав: святая проза. Да и то – Пусть о невинности моей ты пишешь, – А я куда не свят. Так лучше к делу Я обращусь, хоть нынче не за делом Пишу, а для того скорее, чтобы Тебе на твой рассказ, кипящий жизнью, Живою жизнью, – отвечать мечтами Бессильными – расслабленной души. Ей-ей хандра моя не шутка. С нею Бороться трудно – и труднее вдвое, Когда охоты нет к борьбе. А я Теряю иногда охоту даже К какой бы ни было охоте. Право, Уж лучше и не говорить. Не легче И оттого, что иногда мечтать Начнешь-таки о том, о сем: как славно, Как хорошо бы сделать то и то, И пятое-десятое; а вот – Когда я это кончу, о, тогда… И прочее в таком же роде. Это Ведь хуже многого, не так ли? Впрочем, Одна мечта, которой я с тобой Задумал нынче поделиться, – правда, Она того достойна, чтоб увлечь, И, может быть, не так бесплодна, как Привык я здесь считать не только грезы, Но и действительность. (Не знаю все же, Что нам действительней: они ль, она ли?). Но лучше бросить этот смутный лепет И перейти к рассказу – вновь о смутном, О грезе, о мечте моей. Однако, Она яснее многого во мне. И так проста, что стало мне неловко За длинное вступление… Да что же! Я делаю его еще длинней. Ну, слушай. На стене у нас в столовой Для нашего Никиты[1088] и его Товарища – висит большая карта Европы. И Никита очень любит Названья стран, морей и городов На ней читать и вслед за тем – водить Внимательно от точки к точке пальцем И – «путешествовать». Так вот и я К неимоверным странствиям таким Невольно пристрастился. Но меня Ни океан Великий не манит, Ни полюс, ни экватор. Две страны Мечтаньями моими овладели С давнишних пор. Их очертанья ныне Всего милей мне тешат взор. Те страны – Италия и Греция. Ты знаешь. Италия-волшебница далеко, Но царственная Греция близка. Мне эта мысль покою не дает. Из Петербурга шутка ли пробраться? – И не мечтал. А здесь – рукой подать. Проехал ночь – в Батуме; или – в Поти. Покинул землю – через понт Эвксинский Тебя несет стальной Левиафан Вдоль знойных берегов малоазийских. Вот – Трапезунд, Синоп – и Византия. Четыре дня – и ты в стране богов. Ну, не четыре, может быть – и пять, Что за беда? О, дивная земля Анакреона и Перикла! Слава Тебе в народах и в веках. Но я ли Исчислю, я ли восхвалю твои Пределы, где желал бы преклониться Перед твоей святынею. Вожатый Мне, как слепцу, необходим. Его Не ищет сердце, только – ждет. Вожатый И друг, и спутник – пилигрим в отчизне, И строгий жрец, и резвый тирсофор – Ты, Вячеслав! И вот – моя мечта – Роскошная! Ведь ты же не забыл Обета дружбы – посетить меня На холмах Грузии печальной.[1089] Милый! Когда ж, когда? Скорей, скорей, скорей! Приди со мной торжествовать весну, Увядшую мне душу обновить И в тайну посвятить ее: ты будешь Со мною здесь, так будем мы – и там, В стране богов, в твоей отчизне дальней, Пусть осень пышная душе мила, Но ждать ее томительно. Труднее Покинуть север, если впереди – И близкий труд, и зимние заботы; Весной же беззаботнее, вольнее Слететь с гнезда – и мужественной грудью Разрезать воздух. Так ли, милый друг? А сверх того – теперь я прямо болен; Ты – исцеление мне принесешь. Вот какова мечта моя. Но чую: Уже насмешкою подстерегает Судьба мою улыбку: Эх ты, странник По островам Фантазии! А деньги? Да, деньги, деньги где? Ты без билета, Без паспорта, «задаром серебром» Собрался ехать? – Лепечу в ответ: Но, ведь, не дорого… Мне говорили – Одну-другую сотню припасти – И съездить, и пожить недели две Вполне возможно. – Где же эти сотни? – Ну, как-нибудь, откудова-нибудь, Ведь, может быть, удастся… (Между тем Должаю по десятке…) Все же, все же Моя мечта не так, не так бесплодна, Как вся действительность, которой здесь Живу! В нее готов душой поверить, – Душой, быть может, не вполне ослабшей, – Поверить должен. Может, не сейчас, – Ну, погодя. И буду ждать, все ждать Небесной манны. Друг, меня поддержишь Ты в этой грезе – и пока себя В действительности дашь ты мне увидеть. И, подкрепленный, буду я стремиться К возвышенной и светлой цели, буду Над нею голову себе ломать, «Изыскивая средства»… Обещай же, Что ты исполнишь обещанное – и Ко мне приедешь. Я ж к моим стихам, Столь прозаическим, хочу прибавить, Быть может, поэтическую – прозу. Вернее, к ней прибавлены стихи: Она готова раньше. Вот трактат, По коему ты можешь рассудить, Не сбился ли совсем я с панталыку; Быть может, так: уж я не разберу. Мне не хотелось врозь тебе послать Два эти бреда. Может быть, один Другим теперь немножко уврачеван – По принципу, что создал Ганеман: Similia similibus curantur.[1090] А я и душу слабую отвел, И мыслью слабой поработал. Так! Спасибо же тебе и «Мусагету». Я, получив «Труды и Дни», не раз Прочел тебя.[1091] Статья мне драгоценна: Раскрыла многое, поскольку нынче И мыслить я, и чувствовать способен. Суди же сам. Поклон мой милой Башне. Я Вере Константиновне прошу Привет мой радостный и благодарный Сказать и за письмо и за стихи, – И Марии Михайловне;[1092] пред ней Должник я неоплатный, но – как знать? – Не безнадежный. А тебя целую И обнимаю мысленно – с надеждой. Юрий. Тифлис, ночь 3–4. IV. 9125
ВЯЧЕСЛАВУ[1093] Милый, давно ли тебе я слал на север родимый С юга далекого – плач тристий унылых моих? Ныне в Петрополе я, а ты у священных развалин, Духу родных твоему, воздух Италии пьешь. Здесь же, средь тусклой зимы, наместо дружных объятий, Встретили лаской меня новые песни твои.[1094] Друг, благодарствуй – и ведай, что с песнями я и без песен (Сам я пою ли, молчу ль) помню твоих и тебя. Юрий Верховский.СПб., ночь на 16. I. 913.(Тифлис, ночь на 10. II. 913).[1095]6
ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ[1096] Я помню, старый друг, заветные слова Твоих стихов о смертной боли. Так! Пережитая недавно ли, давно ли, И в новой жизни всё жива Та боль великая разлуки с жизнью прежней. И правда: не было б страданья безнадежней Воспоминание хранить – и не одно – Смертей, что пережить в самом себе дано; Но в боли той – воспоминанья – Поверь – не смертного томленья одного, А пережитого всего Тобой в былую жизнь: услады и страданья. И их ты не всегда ль равно благословишь, Когда в душе твоей – былого тень и тишь? Так думал я не раз в благом уединеньи, Когда воспоминал иную жизнь мою; И ныне двадцать лет, как я один – пою, Пою минувшее, пускай полузабвенье Порой знакомых черт не даст мне разглядеть Под смутной дымкою своею; Живым живя душою всею – Былому верен я, былое буду петь. Так мы и все живем. С заботой повседневной Порой о вечности гадаем про себя, – В запечатленности душевной То наслаждаясь, то скорбя; И вдруг какой-нибудь житейский малый случай Нежданно в душу западет – И, душу зоркостью вдруг наделив могучей, О прошлой жизни ей шепнет. «Да, это, – скажем мы, – уж было раз когда-то». – Как бытия того преданья хороши Для оживающей души! Прикосновением к нему душа богата. Юрий Верховский. P.S. Мой друг, не раз я вспоминал Давно – с улыбкой и любовью Хвалу простому празднословью, Тобой воспетую, – и ждал Свидания на стогнах Рима Премногословного друзей – И шел с тобою в Колизей… Рука судьбы неоспорима! Ты там – я здесь. И через понт Не мчусь я влагою живою… Я был обрадован Москвою: Передо мной предстал Бальмонт. Но я – с посланья об Эсхиле[1097] – Все ждал – в обыденной тоске: Его во всей великой силе На русском слушать языке! И, поникая безотрадно, Могу ли празднословить складно? Тебя – все нет. Но есть молва: Я жду – Москва тебя приветит; И с ней – мой стих тебя да встретит – Живого дружества слова – Пускай не болтовней вседневной, А первой мыслью задушевной. Ю. В.Бобровка. 18–20. VIII. 913СПб., Пет<ербургская> ст<орона>, Александровский пр., д. № 3, кв. Каратыгина.[1098]
7
ВЯЧЕСЛАВУ[1099] Душою изобильной Ведь ты и мне сродни; Прочти же стих умильный, Воспевши оны дни. Ю. В.Тифлис, II. 914.8
ВЯЧЕСЛАВУ[1100] О, вожатый мой! За тобою следом Я вступал в обитель блаженной тени; Дивной я внимал; пред ее ж улыбкой – Взоры потупил. Мне ли, мне ль она – улыбнулась нежно? Оттого ль дерзаю в напеве робком Помянуть молебно святое имя Сладостной Сафо? Юрий Верховский.Лесной, ночь на 19. VII. 914.9
ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ[1101] Откликнись, друг! Услышать жаден я И уж заранее невольно торжествую Пред тем, как воспоет годину боевую Душа звучащая твоя. Мне памятны ее живые звуки Во дни недавние бесстрашия и муки Родных полунощных полков; И ныне ли, когда их жребий не таков, Когда венчает их величием победы Судьба-звезда, какой не ведали и деды, Не вырвется из пламенных оков Всерасторгающее слово? Под обаянием великого былого Я верю: на Руси не надобен певец На вызов славных дел; но сладок он для славы – И нам в биении созвучном всех сердец, И братьям-воинам, когда вернутся, здравы, На лоно мира, наконец. Юрий Верховский.4. XI. 914. Тифлис.Леонид Семенов – корреспондент Андрея Белого
«Мои слова памяти будут о стихотворце, мятежнике, работнике, страннике, священнике и мученике Леониде Семенове-Тянь-Шанском» – в этой фразе З. Н. Гиппиус из ее очерка «Поэма жизни (Рассказ о правде)» (1930)[1102] обозначены основные жизненные вехи одного из «младосимволистов», сверстника Александра Блока и Андрея Белого, избравшего, однако, иную – не собственно творческую, а, – используя символистскую терминологию, в данном случае вполне уместную, – «жизнетворческую» стезю. Обретенный Семеновым в 1907 г. путь «жизнетворчества» предполагал не только отказ от литературных форм самовыражения, но и полное изменение образа существования: «вслед за Александром Добролюбовым он расстается с “обществом” и уходит “в народ”. ‹…› Постепенно имя Семенова, как и имя Александра Добролюбова, становится своего рода символом – олицетворением “ухода”, к которому тяготели и другие младшие символисты (Блок, Белый)».[1103] Закономерным образом возникает вывод о том, что биография Семенова – «самое значительное его произведение».[1104]
Приведенная выше фраза Гиппиус содержит лишь одну неточность: пришедший в результате долгих духовных поисков в 1915 г. к исповеданию православия, Семенов в 1917 г. лишь готовился, по благословению оптинского старца отца Анатолия, принять сан священника, но за несколько дней до рукоположения, вечером 13 декабря, был застрелен на пороге собственного дома местными крестьянами. Пользуясь попустительством новой власти, воцарившейся после большевистского переворота, они безнаказанно разоряли дворянские гнезда и убивали их хозяев; жертвами бандитов стали и другие представители рода Семеновых, жившие на юге Рязанской губернии. Как свидетельствует в воспоминаниях (1942) В. П. Семенов-Тян-Шанский, «убит Леонид был не разбойниками, а распропагандированными людьми из крестьянской молодежи – теми же самыми, которыми ранее был ранен его старший брат». «Ими же, – добавляет мемуарист, – были убиты вслед затем и другие наши родные и знакомые, как Н. Я. Грот, князь Сергей Ник. и княжна Нат. Ник. Шаховские ‹…›. О том, что Леонид был убит не разбойниками, говорит тот факт, что дом на его хуторе не был ограблен, но, как передавала мне его сестра, были уничтожены частично лишь его записи и дневники, что, по ее мнению, сделано было из опасения, что Леонидом в дневниках могло быть описано происходившее вокруг, причем он мог знать имена тех, кто являлся виновником разных уголовных проступков, совершавшихся вокруг, в том числе убийств и покушений».[1105]
Семенов погиб от рук представителей той простонародной среды, с которой он на протяжении целого десятилетия пытался слиться и чей жизненный уклад представлялся ему единственно правильным и оправданным. На свой лад его участь могла служить подтверждением тех слов об «очарованной и проклятой пропасти», разделяющей народ и интеллигенцию, которые произнес в докладе «Россия и интеллигенция» (1908) Блок год спустя после «ухода» Семенова.[1106] Однако в плане завершения личной судьбы мученический конец придавал пройденному Семеновым жизненному пути особый смысл и переводил его в иной ценностный регистр – жизни как жития. В соответствии с канонами житийного жанра могут быть рассмотрены ранние этапы его жизни – как жизни «непросветленной», предшествовавшей духовному преображению. Именно так расценивал сам Семенов эту пору в автобиографических записках «Грешный грешным»: «безобразное время моей молодости»; тогда он, по собственному признанию, предавался соблазну «так называемыми эстетическими эмоциями (художественными впечатлениями или просто внешними щекотаниями чувств) заменить те внутренние, нравственные удовлетворения, которые ищет дух, когда чувствует себя одиноким и оторванным от других людей, когда жаждет Бога».[1107]
Тогда, в первые годы XX столетия, Леонид Семенов, внук сенатора, прославленного географа, общественного и государственного деятеля и сын председателя отделения статистики Русского географического общества, будучи студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, вошел в литературную среду – сначала в студенческий поэтический кружок под руководством Б. В. Никольского, где дружески сблизился с В. Л. Поляковым и А. Блоком,[1108] затем, в 1903 г. – под покровительство Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, в круг молодых авторов, печатавшихся в руководимом ими журнале «Новый Путь». В восприятии еще более юного начинающего поэта Вл. Пяста Семенов тогда представал уже вполне значительным и определившимся литературным талантом – «пронзал, поворачивал все внутри своими выстраданными, горячими, горячо произносимыми строфами».[1109] Тогда же, в 1903 г., Семенов завязал знакомство со своим ровесником, почти одновременно с ним пришедшим в литературу и также оказавшимся в сфере духовного притяжения четы Мережковских, – Андреем Белым.
Их общение началось в особо знаменательный для Белого день – 31 мая 1903 г., непосредственно после похорон отца Белого, Н. В. Бугаева, на кладбище Новодевичьего монастыря и поминальной церемонии в ресторане «Прага». «Вернувшись оттуда, – вспоминает Белый, – я застал у себя Леонида Дмитриевича Семенова, поэта, писателя, еще студента; он приехал из Петербурга передать мне что-то от Мережковских; и – хотел было уйти; но я оставил его у себя».[1110] Описывая события последующих дней (первая половина июня 1903 г.), Белый отмечает: «…почти каждый день ко мне приходил Леонид Дмитриевич Семенов; мы с ним совершали длинные прогулки по Москве, чаще всего оканчивающиеся сидением на лавочке в Новодевичьем Монастыре; мы посещали могилы Соловьевых, отца, Поливанова, Владимира Соловьева; и у этих могил происходили горячие и оживленнейшие разговоры наши о Боге, о России, о самодержавии и революции, о стихах, о Блоке, о Мережковских».[1111] «…Две недели провожу в упорных беседах с ним», – резюмирует Белый.[1112] В мемуарах в отдельной главке «Леонид Семенов» он затрагивает отчасти проблематику этих бесед: «…казалось, что он – демагог и оратор, углами локтей протолкавшийся к кафедре, чтобы басить, агитировать, распространять убеждения – месиво из черносотенства, славянофильства с народничеством; он выдумывал своих крестьян и царя своего, чтобы скоро разбиться об эти утопии, ратовал против капитализма; дичайшая неразбериха; не то монархист, а не то анархист! ‹…› Меня раздражало его самомненье, желание стать моим руководителем, организатором политических мнений; огромнейшее самомнение перло из его слов на меня ‹…›».[1113]
Андрей Белый не в силах передать много лет спустя в конкретных аргументах и деталях содержание тогдашних разговоров и не пытается фантазировать на эту тему. Составить определенное представление о проблематике и тональности дебатов, ведшихся между ним и Семеновым, можно по двум письмам последнего, сохранившимся в архиве Белого, которые датируются тем же 1903 г. Первое из них – не самое первое в завязавшейся переписке: утрачено как минимум одно письмо Семенова к Белому, содержавшее какие-то критические суждения по адресу московской группы поэтов-«декадентов», объединенных вокруг издательства «Скорпион», которое вызвало возражения со стороны Белого (он же, как можно судить по письму Семенова от 5 октября 1903 г., воспринял то послание как отповедь от имени петербургской группы, сплотившейся в «Новом Пути»). Письмо Семенова служит наглядным подтверждением вышеприведенных слов Белого относительно доктринального характера личности его автора (который отмечали и другие знавшие Семенова люди – в частности, товарищ по университету Ю. Бекман: «Его прямой и резкий характер требовал не только соглашения с ним, но даже подчинения ‹…›»[1114]). Оно является ответом на неизвестное нам письмо Белого (ни одно из его писем к Семенову не сохранилось):
5. Х. 1903.
Вчера получил Ваше письмо. Огорчило. Отложил его в сторону, занимался своим делом. Меня немного лихорадило, был нездоров. Взял вечером Фета. Прочел подряд его элегии и думы. Вспомнил о Вас. Взял «Будем как Солнце» и тоже не отрываясь прочел почти всё до конца, и изумился. Какой грандиозный мир, какая сила! какой стих и какая искренность!
Я всех люблю равно, любовью равнодушной, …… Я всех люблю равно, любовью безучастной. Пожалейте, люди добрые, меня.[1115]Да я жалею его. Мне жаль его, мне жаль его, потому что ему нет выхода из его прекрасного, таинственного то светлого, то мрачного замка. Он в нем вечный узник, несчастный узник с угрюмым взором каторжника, он никогда, никогда никого не согреет, никогда не станет солнцем, никогда не станет горячим лучом. Странный он человек – он светит, его лучи ослепительно-переливны, но это – свет холодный, не греющий, не ласковый, «электрический» свет, не оживляющий, а мертвящий. Я ненавижу электрический свет – при нем живые лица мне кажутся мертвыми – механическими масками, пугают меня своей роковой безжизненностью, своей непроизвольной переменностью. Я пришел к вам издалека; там в лесу у меня мерзнет жалкое слабое существо; я пришел ночью, я шел на свет, я захватил с собою лучину, чтобы затеплить ее – бережно донести назад и там у себя развести костер и согреть любимое умирающее существо, – и я прихожу и вижу электрический фонарь – и нигде живой искры, о которую я мог бы зажечь свою лучину, ее унести к себе, и у себя развести костер. А там в лесу умирают… и в эту минуту вы начинаете мне толковать про мудрость и хитрость инженера, изобретшего фонарь, познавшего законы энергии, механики и т. д. и т. д., и каков же должен быть мой ужас, когда я узнаю, что этот самый гениальный ваш инженер – как милостыни просит у кого? у читателей, у малых сих?
Пожалейте, люди добрые, меня. Мне уж больше не увидеть блеска дня. Сам себя слепым я сделал, как Эдип. Мудрым будучи, от мудрости погиб и т. д. ….. Я на солнце глянул, солнце разгадал и т. д. ….. Пожалейте соблазненного мечтой![1116]Несчастный! он соблазнен безумной мечтой! Изобретя свой электрический фонарь, он вообразил себе, что он изобрел солнце (разгадал его!), и с этим фонарем заперся в своем замке и живет в нем один – слепой, сам себя заковавший каторжник! и какой крик:
Пожалейте, люди добрые, меня!
Да, я его жалею! Но что же делать?
Простите, дорогой Борис Николаевич, всего бы меньше хотел я обидеть Вас, грубо задевать Ваши личные человеческие (как они меня приятно поразили!) чувства. Не о Константине Д. Бальмонте, человеке с рыжей бородкой, очень может быть, добром, любящем выпить, Вашем друге – и не о Валерии Яковлевиче Брюсове, человеке женатом и, конечно, не думающем о потехах с козой на лужайке[1117] – говорил и говорю я Вам, и не о литераторах Бальмонте и Брюсове – выразился я, что они лишни и пусты. Как от литераторов – от них ничего другого – кроме как корректности и литературной добропорядочности, и не требуется. Но что значит какое-то противоположение их Мережковским – в этом отношении? Я совершенно не понимаю! мое письмо к Вам – я думаю – не заключало в себе ничего такого, что могло бы дать Вам повод – считать его выражением взглядов Нового Пути, и ни я, ни Мережковские ничего подобного никогда и не думали выражать в печати! Это раз, а затем я лично за себя скажу, что не считаю себя обязанным скрывать свои мнения о Бальмонте и Брюсове – от «малых сих», с одним конечно условием: выражать эти мнения литературно. Т. е. так, чтобы они не вызывали такие прискорбные недоразумения, как мое письмо, написанное наспех, под впечатлением и лично к Вам. Иначе что это за странная жреческая каста, какое-то замкнутое деление на посвященных и не посвященных! И так я не говорил ни о Ваших друзьях Бальм<онте> и Бр<юсове>, ни о литераторах – в том узком смысле, как Вы это слово очевидно понимаете. Я говорил, если можно так выразиться, об их литературных личностях. И в этом смысле – если Вы это мое выражение поймете – я, простите, Борис Николаевич, – не беру и не могу – взять своих слов назад.
Я не собираюсь и никогда не собирался писать критических статей о Бальм<онте>, о Брюс<ове>. Это, по-моему, теперь в том же смысле лишнее дело, как лишни и они сами. Но Ваше письмо побуждает меня сказать Вам кое-что из того, что я о Вас и о них думаю. Не нотации я Вам читаю – Борис Николаевич! – зачем такое обидное слово! Простите, если мое письмо приняло такой нежелательный вид, но мне иногда страшно за Вас, страшно и за себя. Может быть, в этом последнем признании Вы найдете для меня оправдание в моей резкости. Я, может быть, потому и резок – и даже пристрастен, необъективен – потому что не победил еще в себе Бальмонта и Брюсова – потому что борюсь с ними в себе. Вы пишете мне, что Вы бываете «взорваны», когда Вам начинают говорить о «декадентстве» извне. Во-первых, Вы, значит, знаете, что такое «декадентство». Дело тут, конечно, не в словесных определениях, о которых можно бесконечно спорить, но Вы, значит, знаете, что оно, если различаете «его» «внутри» и «его» «извне» – если бываете даже «взорваны», когда осмеливаются говорить Вам о нем «извне». Но Боже мой! все мое письмо только и было вызвано желанием, чтобы Вы искусились выйти из этого «декадентства», чтобы Вы хоть раз взглянули на него именно «извне» – проверили бы себя: прорыв ли это к солнцу – или к электрическому фонарю Бальмонта – то, что Вы чувствуете. Не запирайтесь в этом замке «Я» – как Бальмонт, как Брюсов, как раньше их Baudelaire, Verlaine, как до последнего времени Мережковский – иначе будет время, что и Вы, вместо того чтобы светить и греть других, придете к «малым сим» с криком: «Пожалейте, люди добрые, меня!» Не предостережение это Вам, не нотация, это – просто мои чувства к Вам. И в ответ Вы лепечете мне азбучные истины, и поистине «нотации». Ну кто же спорит, что легкомысленно говорить про человека: он – лишний! не Раскольников я! и не сотрудник Петербургского листка,[1118] чтобы сказать про Бальмонта и Брюсова – они пустые люди – в том смысле как говорят – «она – пустая барынька»! Азбучная это истина – говорить, что все – нужно, все существует, следовательно, все нужно, все чемнибудь обусловлено и что-нибудь собою обусловливает. Легко сказать, что Бальмонт – сын своего века, плод мучительных, исторических, нравственных, философских переживаний и т. д.! О sancta simplicitas! Вы чисто по-бальмонтовски убегаете от ответственности суда, от суда над собой в блаженную тишь холодного философского сознания; я – сын своего века, я чудный таинственный тропический цветок – выросший на почве таких-то и таких-то переживаний, – возделанной такими-то и такими-то гениями, – и вот как я сложен и чуден! любуйтесь мною! О! я знаю, что в миллионы раз легче сказать: «я знаю, что ничего не знаю», «все существующее законно» – и, удовлетворившись такой азбукой, сложа руки любоваться своим отражением в «книге символов» – чем взять метлу в руки и сказать: я знаю, что – добро и что зло, и что нужно и что – ненужно, – идите, «малые сии», я отмету сор от бисера! и прежде всего это сделать в себе. Ведь тут суд! тут страшная ответственность суда, тут личное дерзание, тут подвиг! А там ничего – холодное зеркало – сознания! Возьмите книгу «Будем как солнце» – Боже мой! какая мерзлая, механическая ретроспективность! Какое убийственное отсутствие личного дерзания, личной смелости, подвига! Какая азбучная философия. Чисто механическое отражение – личности, правда – может быть, сложной, глубокой, великолепной, как Арум,[1119] – но ведь это не жизнь – не биение, не стремление – не прорыв! И я беру на себя дерзость и смелость сказать, что это ненужно и лишне, оговорюсь: теперь и не так спроста, огулом, а для того, о чем грезите Вы, о чем плачет в своей каторге сам Бальмонт, и в стремлении к чему – быть может – сходимся мы. Это – нужно, но чисто отрицательно – поучительно, что вот, мол, люди – бились, стучались в дверь, просили солнца и получили электричество вместо него, сначала обрадовались, а потом плакали: – пожалейте, люди добрые, нас! Это было нужно – но только потому, что это неизбежно, а не в прямом телеологическом смысле. Было нужно, чтобы по пути люди вошли в эти страшные замки – заглянули: – не в них ли то, чего мы ищем и жаждем, и вот, нагоняя страх на нас, идущих им вслед, – несется из этих замков как предостережение – их крик: Пожалейте нас, люди добрые. Пожалейте нас, соблазненных лживой мечтой! И мы идем мимо, потому что мы не потеряли еще надежды найти огонь солнца, зажечь о него свои светильники, разнести их по хижинам «малых сих», спалить ими стены проклятых замков, освободить каторжников и из «сумрачных и гордых паладинов»[1120] – сделать их ласковыми светлыми детьми. Но довольно! мы, может быть, говорим разными языками! Не беру и слова «пустой» назад. Не потому только, что пусто – это созерцание своих переживаний, и их отражений в символах, а и потому что – заверяя меня в литературной добропорядочности Брюсова, в чем я и не сомневался, Вы не доказали мне, что Брюсов – не нигилист, т. е. чтобы в нем было хоть что-нибудь, на что бы он мог опереться в личных дерзаниях, которые у него точно так же отсутствуют, как и у Бальмонта. Он ничего не знает, вот что я о нем думаю, пока не докажут мне противного. Он занят только собой, потому что, как и Бальмонт, умывая руки от всякого суда, он – безвольно созерцает поток своего сознания, свои переживания, текущие как река перед ним, мимо, сами собой и больше ничего. Он – индифферентист. Но я чувствую, что Вы меня опять не поймете. Но что собственно дало мне повод так резко высказаться о Брюсове, – так это – известие, что он бежит в Париж. Как?! теперь, когда здесь готовятся, зреют решающие, грозные события, когда готовится каждому испытание в его личной вере и крепости, он бежит… Для чего? Простите – я не могу себе это иначе представить, как так: Ему надоело, наскучило созерцать одну и ту же переменность своей личности, одно и то же течение своего сознания – и вот, чтобы его разнообразить, он прибегает к такому детскому, простому чисто механическому средству – замене одних внешних впечатлений другими. Там новые улицы, новые физиономии, люди, языки – они станут новыми элементами его переживаний, новой пищей его механически их воспринимающего и пережевывающего сознания. Будет все-таки – некоторое разнообразие, перемена белья, она не замедлит отразиться и в какой-нибудь «книге символов». Ее прочтут московские друзья и превознесут за новизну. Как это просто! Так это или не так? В ответ на это Вы толкуете мне о том, что Афанасий Афан<а>с<ьевич> Шеншин – не Фет, который говорит про себя «с бородою седою – верховный я жрец».[1121] Да неужели?!?! Ужели эта необыкновенная истина только вам и открыта в ваших теософских кружках в Москве?! – Я, конечно, не Вы, и еще менее Фет, и Брюсов, но представьте себе! и я знаю, что я не мал, когда говорил про себя: Я – горний дух непобежденный. Но изменяет ли это хоть что-нибудь в том, против чего я спорю!? Эта личность (индивидуальность, по Вашей терминологии) – может ошибаться и падать, может обнаруживать декадентство (упадок), бессилие и обнаруживает его, когда, как Бальмонт, отказывается от всякого делания, покорствует механической игре своего течения (эта личность – всегда течение, переменность Бальмонта). Это не переоценка всех ценностей, а отказ от всякой оценки – т. е. именно делания (какое же другое делание можно требовать от этой личности – не маханье же топором и руками?!) – так это отказ от деланья, говорю я, – когда Бальмонт говорит: Я ничей, полюбил я беспутство свое,[1122] Все равно мне, человек плох или хорош[1123] и т. д. и т. д. до бесконечности. Решите сами, что легче? Сказать ли, что я не знаю, что добро и что зло? ибо все существует – во мне и следовательно – все законно едино, равно – или взять меч и разрубить себя пополам и сказать про одну половину, она добро, а про другую: она – зло. Ведь первое ни к чему не обязывает! и потому оно и бесплодно и, по-моему, лишне, а второе осуждает – взявшего меч на вечный подвиг, обязывает к неустанной напряженности, к вечному мучительному «настороже» и деланию! Первое – по-моему – трусость бессилия, Пилатовское умывание рук. Против него-то в декадентстве я и спорю, его-то и боюсь, боюсь за Вас, не легкость ли его – Вы приняли за прорыв из мучительной, нудной борьбы Достоевского, Толстого, ибо уж они-то не уставали в своем мучительном делании! А вы что?
Вы говорите про символизм – ничего против этого не спорю. Но зачем Вы как-то таинственно завертываетесь при этом в плащ жреца! Может быть, – вы и знаете об этом что-нибудь большее, чем я! Но пока вы не откроете этого, я наравне с profanum vulgus[1124] буду только недоверчиво улыбаться. Простите, иначе не могу! побольше трезвости! Будем как солнце, но не солнцем при затмении. – Приглашая Вас стать «извне» – не ко всему тому, что Вы называете декадентством, – а вот к тому, о чем я говорю в этом письме, – я не звал Вас стать перебежчиком в другой лагерь, потому что сам ни к какому лагерю не принадлежу. Зачем Вы притащили за волосы либерализм и даже марксизм сюда?! – Не отрицаю глубины личности у Бальмонта, вернее, глубины философского прозрения своей личности – у него, знаю у Брюсова – в высшей степени прекрасную и трогательную, человеческую черту – но это все нисколько не касается того, о чем я говорю. Допускаю даже и то, что я их неправильно односторонне понимаю, но это все не исключает моего страха за Вас, и если Вы меня не понимаете, то тем страшнее мне за Вас. Но тогда оставим споры.
Кто этот эписк<оп> Антоний и какие у Вас с ним отношения?[1125] Приедете ли в Петербург? Простите за все, что Вам могло быть больно читать в том и в этом моем письме.
Рад за Вас, что Вы отказались от своих фантастичных экономических (sic!) планов.[1126] Но Ваши благодарности звучат для меня странно.
Преданный душой
Леонид Семенов.
6. Х. 1903.[1127]
«Антидекадентская» позиция и обличительный пафос, столь наглядно продемонстрированные в этом письме, во многом предвосхищают дальнейшую эволюцию Семенова, которая приведет его в конце концов к разрыву с литературным миром, к отказу от «искусственных» эстетических ценностей ради ценностей религиозно-этических, коренящихся в простонародном жизненном укладе. Оппозиция по отношению к идейно-эстетическому канону «старших» символистов ни у одного из «младших» представителей этого направления не была обозначена столь резко, как у Семенова. Андрей Белый во многом разделял его установки, противопоставляя индивидуалистическому «декадентству» символизм религиозно-теургического толка, представлявшийся ему истинным символизмом, освященным высшими «жизнетворческими» целями, но признавал тем не менее художественные достижения «старших» безусловными и воспринимал их как надежный и необходимый плацдарм для дальнейших исканий. Судя по некоторым замечаниям Семенова, Белый готов был также истолковывать его инвективы как продиктованные своего рода «партийной» предрасположенностью – критической позицией петербургской группы «Нового Пути», руководствующейся религиозно-обновленческими идеями, по отношению к московскому самоценному эстетизму, насаждавшемуся в издательствах «Скорпион» и «Гриф» – основных литературных пристанищах Белого. По всей вероятности, эти или сходные с ними аргументы были сформулированы в его ответном письме, на которое последовал приводимый ниже отклик Семенова:
11. Х. 1903.
Дорогой Борис Николаевич.
Никогда я на Вас не обижался и не обижаюсь. Не буду с Вами полемизировать. Но в заключение позвольте и мне кое-что еще прибавить. Не формально бросить Скорпион и Грифа советовал я Вам. Печататься-то, может быть, нигде, как у них, и не стоит. Но Ваше намерение читать лекции – меня (поверьте мне!) испугало за Вас, и его (может быть, и ошибочно) я приписал той атмосфере, которая несомненно Вас окружает – в обоих органах. Вот против нее-то я и писал. Вот и всё. Теоретически же не соглашаюсь и спорю я не против чистой поэзии. Напрасно Вы смеетесь надо мной! – а против той теории и теории именно – Московского декадентства, практическим последователем которой является Бальмонт и которую Брюсов ясно формулировал – напр<имер>, в последнем № Мира искусства в статье о Бальмонте стр. 31. «Вольно подчиняться смене всех желаний, вот – завет».[1128] Этот-то завет я и называю отказом от всякого личного подвига, дерзания, и даже от личной жизни и спорить против него готов до бесконечности – вот и всё.
Относительно своего желания уехать из России – в Париж или куда-нибудь совсем – мне говорил сам Брюсов в Москве. Теперь я слышал подтверждение этому от лица, приехавшего из Москвы и видевшего Брюсова.[1129] Никто тут об этом не «болтает» и этим вообще никто не интересуется. Жалею, что наша переписка вышла такой неудачной. Виноват, конечно, я. Но мне самому всего неприятнее то, что Вы мои ошибки и промахи как-то невольно переносите на Новый Путь – и даже весь Петербург. Самое лучшее, приезжайте сюда сами. Я в Москву раньше весны не попаду, но не во мне – дело. В Петербурге же многое обстоит лучше, чем Вам это кажется.
Искренно и всей душой сочувствующий Вам
Леонид Семенов.
Скоро ли появятся в магазинах Ваши вещи? Жду их с нетерпением.[1130] Еще раз прошу – не обращайте внимания на «тон» моих писем. Сам крайне сожалею – что я так неровен, невыдержан – и потом, может быть, и несправедлив в частностях.
Весь Ваш – Л. С.
Приведенные письма относятся к раннему этапу духовной эволюции Семенова – в ипостаси «стихотворца» (согласно определению Гиппиус), нашедшей свое завершенное воплощение в его «Собрании стихотворений», вышедшем в свет в начале мая 1905 г. и встреченном в целом благосклонно (так, Н. Е. Поярков заключал: «Стихи стыдливо робки, неуверенны. ‹…› Но на них лежит свежее дыхание таланта; молитвы и искания Л. Семенова искренни и часто очаровательны ‹…›. Если приклеивать ярлык, молодого поэта можно причислить к той школе, во главе которой стоят Андрей Белый и Ал. Блок. Мистический налет, искание Бога, жажда озарений – вот штрихи, бегло набрасывающие схему этой школы. Всё, конечно, в рамке красивой внешности кованного стиха и звонких рифм»[1131]). Последующие письма к Белому относятся к той поре, когда Семенова-«стихотворца» вытеснил Семенов-«мятежник» – опять же по слову Гиппиус. Демаркационной линией в данном случае стало 9 января 1905 г., «Кровавое воскресенье».
Расправа над безоружными манифестантами, свершившаяся у него на глазах, перевернула весь внутренний мир Семенова, питавшийся до того идеей единства царя и народа. Белый свидетельствует в мемуарах: «…он шел 9 января в первых рядах с толпою рабочих, чтоб видеть, как царь выйдет слушать петицию; шел как на праздник, чтоб видеть осуществленье идеи своей; когда грянули залпы, он в первых рядах был; кругом него падали трупы; он тоже упал, представляясь убитым; и этим лишь спасся; в течение нескольких дней он переродился».[1132] Ранее аполитичный поэт, имевший в традиционно неспокойной студенческой среде «отнюдь не радикальные убеждения»,[1133] стал ярым революционером. Приехавший из Москвы в Петербург в тот знаменательный день Андрей Белый вспоминает о Семенове: «…он был как помешанный; эдакой злобы ни в ком я не видел в те дни; в течение нескольких дней бегал он с револьвером в кармане и жертву из светского круга себе выбирал ‹…› В эти дни проживал с Мережковскими я; Леонид Семенов, растерзанный, дикий, в пальто, раз влетел в мою комнату; вывлек из дома; таскал по Летнему саду, рассказывал, как он на лестнице где-то встретился с князем великим Владимиром-де, совершенно случайно, один на один; инстинктивно схватясь за карман, хотел выхватить свой револьвер, чтобы выстрелить; а Владимир откинулся, по его словам, устрашась инстинктивного жеста; он же, увидя Владимира беззащитным, – он-де… не мог…»[1134]
Ко времени пребывания Белого в Петербурге с 9 января по 4 февраля 1905 г. относится записка Семенова к нему:
Дорогой Борис Николаевич.
Очень бы хотел повидаться с Вами еще раз. Застану ли Вас в субботу вечером[1135] и удобно ли это Мережковским? Передайте им, пожалуйста, мой поклон.
Ваш Леонид Семенов.
20 I 1905.
«Мятежник» Семенов до поры до времени еще сохранял прежние литературные интересы и предпочтения – включая готовность и даже желание печататься в «декадентских» изданиях, к руководителям которых он относился весьма пристрастно. Как явствует из его коротких писем к Белому, относящихся к 1905 г., он живо интересуется судьбой своей драмы «Огонь», представленной на суд Брюсову еще в 1904 г. В том же году он выслал Брюсову для публикации 14 своих стихотворений, добавляя в сопроводительном (недатированном) письме: «…прошу уведомить меня, когда прочтете мою драму-сказку – Огонь. Если ей невозможно будет появиться под Вашей фирмой – то я бы хотел это узнать скорее, т<ак> к<ак> нуждаюсь в деньгах и мог бы ее куда-нибудь пристроить. Но нечего и говорить – насколько мне лестно попасть в Ваши крестники».[1136] 27 декабря 1904 г. Семенов повторял Брюсову свой запрос: «Меня очень тревожит судьба моей рукописи сказки “Огонь”, которую передал Вам в апреле 1904 г. через Бугаева – и о которой Вы говорили мне в конце этого августа. Что с ней?»[1137] Не дождавшись ответа, Семенов возобновил хлопоты через Белого:
10. II. 05.
Дорогой Борис Николаевич.
Напишите, пожалуйста, о том, о чем я Вас просил – о моей сказке «Огонь» и о стихах, которые взял Брюсов; очень одолжите.
Ваш Леонид Семенов.
Невский 104, кв. 244.
Дорогой Борис Николаевич.
Убедительно прошу откликнуться – и дать мне ответ Брюсова! Почему такое молчанье – или имею я право всеми стихами, посланными на Скорпион, – располагать по своему усмотрению? Напишите, что моя сказка «Огонь»!!! Ведь я жду уже почти год, и если не получу от Вас ответа, буду считать, что у меня все с Брюсовым кончено.
За рукописью сказки сам приеду в Москву и представлю ему счет на проезд. Простите меня за грубость. Но ведь довели же меня. Жду целый год.
Ваш Леонид Семенов.
Невский, 104, к<в>. 244.
22. II. 1905.
Просьбу сообщить, как обстоит дело с его драмой-сказкой, содержит еще одно недатированное письмо Семенова к Брюсову, в котором особо подчеркивалась необходимость получения скорейшего ответа: «Я теперь очень нуждаюсь в деньгах, потому что должен был покинуть родительский кров, где до сих пор спасался от житейских волнений и корысти».[1138] По всей вероятности, рукопись драмы была в конце концов возвращена автору и не сохранилась – погибла вместе с другими бумагами Семенова при уничтожении его жилища в декабре 1917 г. Из четырнадцати присланных Брюсову стихотворений два были напечатаны в «скорпионовском» альманахе «Северные Цветы Ассирийские» (М., 1905).
Слова Семенова об оставлении им «родительского крова» намекают на перемену всего образа жизни в дни революционных волнений. Поэт отказался от сдачи выпускных экзаменов в университете, примкнул сначала к социал-демократам, а затем, под воздействием Марии Добролюбовой, перед которой преклонялся и которую любил и боготворил, к эсерам, в конце 1905 г. отправился в Курскую губернию для агитационной работы. Очередное письмо Семенова к Белому – ответ на не дошедшее до нас:
26. VIII. 05.
Дорогой Борис Николаевич.
Я – в Москве. Страшно жалею, что Вас не застал. Но, может быть, еще скоро увидимся. Гостил два дня у Блока. Много говорили о Вас.[1139] Получил Ваше письмо. Спасибо за него и за память. Мой адрес пока: Москва, Волхонка, д<ом> Волкова, кв<артира> д-ра Орлова. После 1-го сентября Ряз<анская> губ<ерния>, почт<овая> ст<анция> Урусово. Им<ение> Гремячка.
Преданный Вам Леонид Семенов.
Правомерно предположить, что Белый написал по указанному адресу, в родовое гнездо Семеновых, и получил ответ – следующее недатированное письмо:
Дорогой Борис Николаевич, спасибо Вам за письмо, за похвалы стихам, за упоминание обо мне в вашей статье о Северн<ых> Цветах…[1140] Но, право, не стоит… Стихи мои – плохи´. Это – не то. Я ухожу от Вас все дальше и дальше, от Вас всех к толпе, уже многое не различаю за дальностью, подчас хочется злобно, жестко смеяться. Смешон Брюсов, смешны Вы, но Вас почему-то люблю, по-настоящему, часто думаю о Вас. Хочу что-то услышать от Вас о Вас самих. Хотя знаю, что если увидимся, будем тупо, нехорошо молчать, ничего не скажем и разойдемся. Если хотите знать, что делаю, то скажу. Весь год был в мучительных переживаниях, никому, кроме меня, не нужных и не интересных. Был оторван от жизни Вашей, всякой, общественной… Теперь вернулся, но не к Вам, не к Вашим. Пишу роман, настоящий. Думаю, что делаю дело, нужное, важное, тенденциозное.[1141] Чувствую себя хорошо. Вы и Ваши осудят, или не обратят внимание. Но мне это безразлично – и это мне жаль. Хотелось бы и с Вами чувствовать связь. Если пишете Блоку, поклонитесь от меня. Его люблю. Вас также.
Ваш искренне преданный
Леонид Семенов.
Если пишете или увидите Брюсова, поблагодарите от меня за статью обо мне и хорошее пожелание. Мнение его знал и раньше, а пожелания не ожидал.[1142]
Осенью 1905 г. Семенов некоторое время провел в Москве, оказался вхож в литературно-общественный кружок П. И. Астрова, в котором активно участвовал Белый. Последний свидетельствует в «Воспоминаниях о Блоке»: «…вращался в то время Семенов меж нами; проездом застрял он в Москве; он бывал у меня и на астровских средах; они ему нравились ‹…› на похоронах Трубецкого он бурно расталкивал толпы, устраивал цепь; были вместе мы».[1143] Наверняка Белый имел возможность в те дни убедиться в прямоте и искренности тех признаний, которые содержатся в приведенном выше письме Семенова, в том, что в его внутреннем мире происходит серьезная ломка, ведущая к кардинальной переоценке прежних убеждений. Андрей Белый также переживал тогда всплеск «левых», радикальных общественных настроений, пытался обнаружить линии сближения между социально-политическими и религиозно-преобразовательными целями, и резкий идейный поворот Семенова, конечно, был ему понятен, а в некоторых областях интересы и тяготения его и Семенова обнаруживали прямые соответствия – в частности, в сфере чтения. В автобиографическом очерке «Почему я стал символистом…» (1928) Белый вспоминает о себе в 1905 г.: «…много читаю по социологии (Каутский, Маркс, Меринг, Зомбарт, Штаммлер, Кропоткин, Эльцбахер и ряд других книг)»;[1144] сходные увлечения – и у Семенова: «Набросился на Маркса, Энгельса, Каутского, – сообщает он Блоку 10 сентября 1905 г. – Открытия для меня поразительные! Читаю Герцена, Успенского. Всё новые имена для меня!»[1145] Существенное различие при внешнем сходстве устремлений, однако, заключается в том, что Белый пытается символистским мировидением охватить, вобрать в себя социальное содержание, а Семенов решительно освобождается от символизма и полностью отдается общественно-политической жизни.
Последнее из писем Семенова, относящихся ко времени революционного подъема, отправлено перед отъездом из Москвы в Петербург.
8. Х. 05.
Дорогой Борис Николаевич, ужасно жалею, что так спешно собрался в Петерб<ург> и сегодня Вас не увижу. На городской станции, где я хотел взять билет на завтра, мне сообщили, что билеты не выдают ввиду ожидаемой забастовки, и советовали ехать сегодня. Боюсь терять время, забастовка продолжится, м<ожет> б<ыть>, долго и будет все неудобно, решил собраться сейчас.
Повторяю свое обещание участвовать в одном из Ваших благотворительных и общественных вечеров. Для него специально приеду и буду рад всех вас опять увидеть. Все будет зависеть от ваших решений и от… финансов, что, впрочем, едва ли явится препятствием. Поклон Льву Львовичу и всем.[1146] До свиданья.
Леонид Семенов.
Мой адрес: СПб. Невский, 104. Комн<ата> 242.
После этого Белый и Семенов не виделись почти два года. За это время Семенова дважды арестовывали за революционную пропаганду среди крестьян: почти весь 1906 г. он провел в заключении (свои тюремные переживания и впечатления он отразил в стихах и прозе, публиковавшихся в 1907 г. в журнале «Трудовой Путь»); тяжким испытанием стала для него смерть М. Добролюбовой 11 декабря 1906 г., накануне его освобождения из тюрьмы.[1147] Тогда же ему суждено было пережить новый идейный и духовный переворот, побудивший его полностью изменить характер своей жизни, – отказ от революционной деятельности, поиск истины на религиозных путях, приобщение к учению Л. Н. Толстого. Он несколько раз посещает Толстого (впервые – 22 июня 1907 г.) и вступает в переписку с ним.[1148] «Помогай вам Бог неустанно двигаться на том пути, к<оторый> вы избрали, – писал Толстой Семенову. – Он единый истинный»; «Я больше, чем желаю любить всякого человека, полюбил вас».[1149] Семенов оказался одним из тех немногих, кто в своем жизненном укладе осуществил заветы Толстого – превратился из «мятежника» в «работника» и «странника» (определения З. Гиппиус): трудился батраком у крестьян, шахтером, жил среди сектантов (сблизился с А. М. Добролюбовым и его последователями), отказался от материального достатка, полностью прекратил литературную деятельность и лишь от случая к случаю встречался с представителями образованного общества.
Примечательно, что из прежнего круга своих знакомых Семенов и на новых жизненных путях готов был выделять Андрея Белого. М. А. Бекетова в дневниковой записи от 25 декабря 1906 г. передает слова о Семенове своей сестры (матери Блока) А. А. Кублицкой-Пиоттух: «Думает, что правы одни социал-демократы, и презирает поэтов. Признает только Андрея Белого».[1150] Возобновил общение с Белым Семенов уже в ипостаси «работника» и «странника». Белый относит эту новую встречу к сентябрю 1907 г.: «В этот месяц появляется от Льва Толстого Леонид Семенов, уже “добролюбовец”; мы проводим с ним 2 дня».[1151] «…Я едва в нем признал, – вспоминает Белый, – поражавшего некогда талантом студента; густая, всклокоченная борода, армяк, валенки; сел со мной рядом; насупясь, рассказывал, как батраком он работал».[1152]
Разумеется, подобные контакты – даже при сохранении взаимной симпатии – могли быть только эпизодическими, и описанная встреча Белого и Семенова была, по всей видимости, одной из последних.[1153] «Простое, чистое творчество жизни» («Листки», 1907),[1154] обретенное Семеновым, не могло подменить того чаемого «жизнетворчества», которое всегда оставалось важнейшей ценностью для Андрея Белого и целью всех его устремлений. Белый не мог и не хотел свою теургическую утопию минимизировать до совокупности элементарных истин, которые исповедовал Семенов после своего «ухода»: «Крестьянский труд, радость жизни среди простых и чистых людей труда, молитва, молчанье да песни ‹…›».[1155] Белый, с его едва ли не физиологической потребностью в писании, в многословном и «изукрашенном» словесном воплощении своих мыслей, переживаний и творческих фантазий, никогда не мог бы солидаризироваться с ригористическими утверждениями в семеновских «Листках» о том, что «писание – это окостевание всего живого», «писать – это значит не верить живому делу», и т. п.[1156] Истина вне интеллектуального и художественного поиска для Белого невозможна, для Семенова же истинный путь – в приобщении к народной среде и растворении в ней, приобщении через нее к Богу. «…Тема “ухода” меня, как Семенова, мучила, – признается впоследствии Белый, – ‹…› мы говорили о том, что, быть может, уйдем; но – куда? В лес дремучий?»[1157] Белый способен был признать индивидуальный путь Семенова путем спасительным, путем святости, но в отношении собственной личности – осознавал, что такой путь привел бы его «в лес дремучий».
Последнее, недатированное письмо Семенова к Белому – всего лишь небольшое дополнение к переписанному им тексту Толстого («Что я здесь брошенный среди мира этого?..»):
Сегодня раскрылся мне этот псалом Толстого, и так захотелось вдруг послать его Вам, мой бедный, дорогой брат. Примите это как тайное желание мое сблизить Вас с этим братом. Так думалось, что именно он Вам теперь нужен.
Ваш брат Леонид Семенов.
Вычеркнуты все ненужные и неискренние слова. Мне так трудно писать.
Вычеркнуто двенадцать рукописных строк. Знаменательное завершение начатого в 1903 г. отрывочного эпистолярного текста: слово капитулирует перед молчанием.
«Прекрасный рыцарь Парсифаль»: М. И. Сизов – Корреспондент Андрея Белого
Обрисовывая сформировавшийся вокруг него в первые годы XX века неформальный кружок «аргонавтов», тесно связанный с литературно-художественной и религиозно-философской средой Москвы и вместе с тем во многом автономный по отношению к ней, Андрей Белый отмечал, что «аргонавты» «сливались с “символистами”, считали себя по существу “символистами” ‹…›, но отличались, так сказать, “стилем” своего выявления. В них не было ничего от литературы; и в них не было ничего от внешнего блеска; а между тем ряд интереснейших личностей, оригинальных не с виду, а по существу, прошел сквозь “аргонавтизм”».[1158] По сути, полноправными представителями символистского литературного круга стали лишь трое из сообщества «аргонавтов» – Эллис, Сергей Соловьев и, конечно, сам Андрей Белый; все остальные лишь спорадически соприкасались с литературной жизнью – кто более, кто менее тесно, – оставаясь тем не менее вполне репрезентативными носителями специфически символистского мироощущения. Символизм воплощался в их личностях и судьбах минимально в эстетическом плане, но в «жизнетворческом» аспекте, в характере мировидения – вполне полноценно. Документальных свидетельств, по которым можно составить себе представление об индивидуальных обликах многих участников этого объединения, сохранилось немного, в основном это – их письма, отложившиеся в архиве Белого. Контуры личности одного из наиболее типичных «аргонавтов», ближайшего друга и единомышленника Андрея Белого на протяжении всей его жизни, А. С. Петровского, теперь отчетливо проясняются благодаря их переписке, рачительно подготовленной Джоном Малмстадом.[1159] Еще об одном ближайшем духовном сподвижнике Белого, постоянно упоминаемом им в мемуарах, М. И. Сизове (1884–1956), также имеется возможность узнать больше, чем сообщает мемуарист, – благодаря его письмам, адресованным Белому (письма Белого, хранившиеся, по всей видимости, у Сизова, утрачены – скорее всего вследствие конфискации его бумаг при аресте в 1933 г.). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый перечислил 17 имен, причастных к кружку «аргонавтов»,[1160] а в перечне лиц, составлявших в 1903–1905 гг. «ядро “аргонавтов”», назвал 13 имен;[1161] Сизов значится в обоих списках.
«Мой близкий и любимый друг» – так аттестовал Сизова Андрей Белый Александру Блоку в одном из писем за сентябрь 1907 г.[1162] Аналогичная аттестация – в письме Белого к М. К. Морозовой (апрель 1910 г.): «Мой близкий друг Михаил Иванович Сизов ‹…›, прекрасно знающий науку и глубокий мистик».[1163] С этими оценками вполне согласуются отзывы других людей, общавшихся с Сизовым. «Очень серьезный и значительный человек», – охарактеризовал его Блок в письме к матери (28 сентября 1907 г.).[1164] В восприятии М. Н. Жемчужниковой, деятельной участницы Московского Антропософского общества, Сизов – не просто ее единомышленник и товарищ по этому объединению, но и подобие «прекрасного рыцаря Парсифаля», воплощающего всем своим обликом «высокую духовно-мистическую сущность»: «По образованию – естественник, а по склонности – знаток самой разнообразной оккультно-мистической литературы ‹…› Даром слова он не обладал, говорил медленно и как бы затрудненно. В его высказываниях мне часто многое оставалось непонятным. ‹…› Держался он очень просто и дружелюбно, но тем не менее на всем его облике лежала печать какой-то значительности, отнюдь не назойливой, но притягивающей внимание. Высокий, красивый, для женских сердец неотразимо обаятельный и сам к ним весьма и весьма чувствительный, он вместе с тем казался каким-то пришельцем издалека. Его легко можно было представить себе в торжественном одеянии жреца. Но и в самом обыкновенном пиджаке, входя в комнату, он вносил с собой атмосферу “инобытия”, в котором чувствовалось нечто очень важное и немного загадочное».[1165]
Андрей Белый обратил внимание на Сизова еще в 1903 г., когда тот попытался участвовать в дискуссии по докладу К. Д. Бальмонта в Московском Литературно-Художественном Кружке,[1166] но познакомился с ним, поступившим в том же 1903 г. по окончании московской 3-й гимназии на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета,[1167] лишь год спустя, когда сам вторично стал студентом Московского университета (на историко-филологическом факультете). В сентябре 1904 г. Белый выступал в христианском студенческом кружке с рефератом на тему «О целесообразности». «На реферате, – вспоминает Белый, – знакомлюсь со студентом М. И. Сизовым, который начинает часто у меня бывать на дому; отсюда – начало дружбы».[1168] «Все больше сближение с М. И. Сизовым», – констатирует он же в записях об октябре 1904 г., а характеризуя происходившее в следующем месяце, отмечает: «…под влиянием Сизова начинаю читать “Сутта Нипату” и книгу Щербатского “Логика Дармакирти с комментарием Дармотарры”».[1169] Как и было заведено в «аргонавтическом» сообществе, в ходе этих общений Белого и Сизова серьезное, пафосное начало («…рассуждали о “мудрых глубинах”, лежащих на дне символизма; он с милым уютом переусложнял до безвыходности мои мысли») сочеталось с юмористическими и пародийными эскападами: «Миша Сизов был незлобивый юноша, стихи писал, к ним мотив подбирая на гитаре своей ‹…› здоровый, веселый, живой; ‹…› показывал нам свои шутливые шаржи; как-то “Будду в воздухе”; он был не прочь при посредстве гитары пропеть нам свой стих».[1170] Поначалу темы, занимавшие Белого и Сизова, затрагивали в основном сферы отвлеченной философской мысли и религиозно-мистических интуиций, но в 1905 г., когда всколыхнулись все общественные круги, актуальная политическая жизнь вовлекла их в свою стихию. При этом в общих установках Белый и Сизов были единомышленниками, примыкая – в рамках кружка Астровых, в котором оба деятельно участвовали, – к левому, революционному флангу и противостоя правому, кадетскому флангу, но в конкретных «партийных» симпатиях выражали разногласие: Белый тяготел к меньшевикам, Сизов – к анархистам.[1171] Впрочем, сколько-нибудь существенных перемен в характер их взаимоотношений эти нюансы внести не могли.
Наиболее раннее из посланий Михаила Сизова, адресованных Белому, – стихотворное. Оно полностью вписывается в «аргонавтическую» тематику и стилистику и наглядно ориентировано на круг образов и мотивов книги Белого «Золото в лазури»:[1172]
А н д р е ю Б е л о м у
Ты первый всадник, всадник белый, ты, выйдя, всё предпобедил и райский плод багряный, спелый в лазурном пиршестве вкусил. Своею тихой метеорностью ты бросил пламя в черный лед, уже чреват моей упорностью средь тайных песен мертвых вод. Тебе дарованной победою ты вознесен от бледных бурь и упоен священной Ледою и током золота в лазурь. Я утвержу во Слове истину, как разделителе земном, сказавшем любящим: «воистину приму вас в царствии своем». За мной – влеком безвольной верою, покоим тайной полнотой, вооруженный новой мерою: двойной внецветной красотой. За ним – из страха плена тесного плодя безгранность в бытии, в земном застывший, враг небесного, предавший аду смерть земли. Но мы в вечернем упоении следим восторги вечных снов. Уж ночь близка, в любовном бдении заслышим скоро шум шагов. 23 марта 1905.Та же устремленность в запредельные сферы и те же мотивы мистического ожидания, преломленные через метафорическую образность, прослеживаются в развернутом письме Сизова к Белому, относящемся ко времени его каникулярного отдыха. Тот факт, что письмо адресуется его автором также Сергею Соловьеву, другому представителю «аргонавтического» сообщества, во многом проясняет истинную природу этого эпистолярного текста: перед нами – род исповеди, внутренний монолог, лирико-медитативная импровизация, активно использующая в своем словесном арсенале художественные средства и, оставаясь по видимости письмом к конкретно обозначенному адресату, тяготеющая по сути своей к жанру спонтанного прозаического этюда. Череда зыбких образов-намеков призвана передать картину волнений души, влекущейся к неизреченному, к неуловимой мистической сущности преходящих явлений. Представляется правомерным привести этот опус в полном объеме:
5-го мая 1905.
Дорогой Борис Николаевич! Все время чувствую себя плывущим среди сильного волнения. Я люблю это, хотя теряешь себя, начиная низвергаться, хотя забываешь о цели, когда приближается судорожный пенношумящий гребень и приходится погружаться, чтобы пропустить воды над головой своей. Но встречаю я их все с большим терпением и надеждой; теперь я даже радуюсь, слыша пенное шумение вокруг и мягкость пены на своем теле, когда вновь обнажаюсь в воздух. Только так периодически могу я наслаждаться всем, чем украсил свет воды, и угадывать, какими тайнами гордятся они. Все прочнее становится полнота моего сознания и радости, дающей мне легкость, но часто думаю, устремив взор на грудь несущегося исполина: ах! не захлебнуться бы мне судорожной пеной! Радостно для меня мое незнание, но не могу я восклицать о нем, когда ступни мои висят над бездонным. Мне хотелось бы украсить им гимны, разлить все звуки, краски и запахи его как аккомпанемент псалмов, всю сладость и бессильную гладкость его превратить в молитвенную позу. Я знаю, сколько восстанет алчущего и жаждущего передо мной с грозными своим безумием мольбами поделиться добытой каплей жизни-любви, как бы мала она не была, знаю, что может взять у меня всю ее – это – близкий, до полной отчетливости близкий горизонт и за ним розово-мутная бездна. Я знаю, что она повечереет, горизонт опояшется горящими тенями, оденется в тени, свесив их вниз на землю до моих ног, обовьет их белыми туманами, нальется росистой прохлады, утоляющей жажду зеленых потемневших смиренниц, провожающих в вечернем сердце своем тающий образ птицы, летящей над ними туда, в закат, а я буду стоять все еще на подпорках и заставлять себя говорить: ах! когда я смогу броситься в этот мир, потонуть в нем; и думать, как бы хорошо мне теперь напиться из той капли, которая была у меня, ибо сухо во мне и слишком тяжко стою я здесь, как в полдень. Но я знаю, что я должен отдать и истратить, что если я вечером сух, то или не пришел еще час мой, или я должен лететь птицею.
Все это в сущности повторение того, что я Вам не раз говорил, но форма объясняется тем материалом для мудрствования, который попадался мне по дороге сюда и попадается здесь. Тут мое окно выходит в сад, поразительный по разнообразию деревьев и не умолкающих день и ночь птиц. Деревья всего умеренного пояса от березы, ели и сосны до уксусного дерева, шелковицы, тополей и грецкого ореха. Тополя, их целый ряд, восхитительны: то минареты или, лучше, превращенные в них муэдзины, то водопады зелени, то фонтаны, то только вздохи, серебряные и окутанные клубами тайны и тени. Иволги и соловьи выдел<я>ются, иногда кукушка. Масса сирени и цветущих вишень и яблонь – первые райские фиолетовые облачка Слова бытия, аромат, идущий из их сердца, говорит, что оно как вечер в родном саду и дары святого Духа. Но, повторяю, ни о чем не могу говорить иначе, как в псалмах. Но псалмов еще нет, и как они появятся, не знаю. Пока для меня их будут заменять письма к Вам и некоторым другим. Это объяснит Вам мою мелочность, которая есть в этом письме и, вероятно, будет и в других, а также случаи, подобные имеющему место здесь, когда я, говоря о цветущих вишнях и яблонях, перескочил через все прямо до Духа Святого.
Это письмо предназначается и для Сережи, да извинит он мне нежелание по лености писать ему отдельно, в следующий раз напишу ему. Если позволите, целую вас обоих.
Духовно и душевно и сердечно и всячески любящий и преданный
Михаил Сизов.
Р. S. Зная Ваш нрав, не претендую на скорый ответ.
Адрес пока: Переяслав Полтавской губ<ернии>, имение Карань, мне.
Р. Р. S. Забыл сказать о том, что видел Владимирский собор.[1173] Первый раз я вошел во время службы, было много народу, хоры заперты. Заметил только, что интересен орнамент; живопись показалась малозначащей и слишком близкой к обыкновенной. Отправился в Киево-Печерскую лавру и потом вернулся в собор, когда хоры были отперты. Тут я понял, что фотографии искажают донельзя, внося воспаленнность сухую, неподвижную и пустую. В действительности есть только напряженность, пожалуй, слегка огненная. Мне особенно запомнился рай, совершенно не тяжкий, каким он кажется на фотографии, и потом Дева с младенцем. Особенно замечательна Она с хор сбоку: Она идет по облаку, над которым сзади нее протянулись еще облака; фон золотой. Свет из противоположных окон падает таким образом, что если смотреть на это облако, по которому Она идет, оно темно и верхний край его кажется горизонтом, а над ним золотое сияющее небо, перехваченное облаками; что-то темное заслоняет почти половину горизонта и неба, это – край Ее платья и ступни идущих ног, девственно переступающих; уже колени теряются в высоком сумраке; где же лик Ее? поднимаешь глаза выше и выше – земля давно отлетела; что за невыразимый лик сейчас предстанет! и вдруг чувствуешь себя как бы сорвавшимся опять на землю, так не необычаен этот лик; но это потому, что у него есть особая тайна, она в том, что каждый, взглянув на него, может сказать: это – я… Этого я не ожидал, даже от Васнецова. Положим, такое впечатление получается только с хор (впрочем, и внизу я уже не мог отделаться от него). Только когда опомнишься от этого неожиданного падения, начинаешь видеть глубже: Земля пролетает, как сон; в Ее рте бесцветно-мягкая сушь и земных забот и страданий, в глазах тьма пролетевших столетий, поникшей мудрости, и из этой глубины, такой святой, долгий, пристальный взор, в котором пробегают иногда молнии тягучей реальности, даже смеха. Младенец… ах! мне хотелось бы молиться и получить, чтобы всегда жизнь моя была как трава, освещенная луной, все-таки это для меня сладчайшее утешение, божественная грусть… и, вот, в Нем много утреннего и розового порыва, много подобного траве, освещенной луной. Я могу еще чуть-чуть уловить более далекое в глубине, в чем две эти столь различные струи сливаются, но не умею выразить. Но и он прост до мягкой сухости. Да будут видны вам источники радости там, где их ничто замутить не может!
Белый отозвался на это послание ответным, выдержанным, по-видимому, в сходной тональности, о чем можно судить по следующему письму Сизова к нему (от 19–20 мая 1905 г.), в котором преобладают медитации, порожденные восприятием природы, – включая и особо характерные для «аргонавтического» мифотворчества наблюдения за солнечными закатами и угадывания в открывающейся гамме цветов неких тайных знаков и предзнаменований:
Сейчас гулял на закате. Гигантский птеродактиль с огромными раскинутыми крыльями, с уходящим вдаль за горизонт извивающимся драконовым туловищем вышел из закатного убранства. На левом крыле его приютилась шайка косматых губителей, которые стараются проколоть его же грудь. За этим гигантским крылом, задевающим выступы тучи, все придавившей на востоке, бледно-желтое кривляние обозначено дымно-серым. Я стараюсь меньше обращать внимания на облачные знаки, но это слишком уж многозначительно. Но это не Япония, это что-то еще за ней грядущее. Но замечательно, что закатно затушеванный, густо-сизый извивами уходящий вдаль хвост вызывает чувство розовой, золотисто-вечерней детскости, точно это блаженный покров, протянутый над извилистой рекой; и ближе к востоку как раз из-за крыла – сияние белой лучистой неудержимости.
Большинство писем Сизова к Белому середины 1900-х гг. относится к поре летних разъездов, когда их регулярные встречи в Москве прерывались. Одно из таких писем, датированное 29 июня 1906 г., днем отъезда Сизова в Крым, содержит реакцию на известие о предполагавшемся переезде Белого в Петербург (нереализованное намерение, обусловленное желанием быть поблизости от Л. Д. Блок, в которую он был тогда безнадежно влюблен), а также размышления о том, чем обусловлена переживаемая автором глубокая внутренняя близость с Белым:
Я теперь только, при мысли, что, может быть, уже не увижу Вас осенью и даже зимой, что только непредвиденная судьба может помочь нам развивать до цветения и до значения верного убежища все, что мы друг в друге находим и считаем общими нам зернами сказочности, теперь только я понимаю и чувствую, как я Вас люблю и любовью необычайной: все чувство и сознание необычайного, к какому я только способен, овладевает мной. И я лишь отдаленно намекну Вам на то, насколько это полно сказочно горячего эпически холодного <?> и мудрого созерцательного стремления, если скажу, как это сказали и Вы, что нас связывает, кроме мистики, естественный факультет. Вы поймете меня, если я, схематизируя, скажу, что категория данности, которую мы привыкли ценить и отличать благодаря естественным наукам, переносится нами как фермент в процессы, приносящие мистический опыт, религиозные стремления, прозрения, видения, дела, намерения.
Андрей Белый, в прошлом – выпускник естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, сам неоднократно подчеркивал, что важнейшей его творческой сверхзадачей было стремление к преодолению разрыва между научным познанием и мистическим постижением, и в этом плане установки, сформулированные Сизовым, им безусловно разделялись.
Следующее письмо Сизова было отправлено из Алушты:
1906. Августа 1. Поздний вечер.
Дорогой, дорогой Борис Николаевич!
Я Вас сегодня вечером вдруг так живо, непосредственно почувствовал в такой возрастающей радости, что чувствую себя обязанным, пока не остыли и не замолкли слезы этой, потрясающей, нашедшей наконец дом, радости, сказать Вам: поздравляю. Я говорю это перед взорами Вашей звезды – не знаю, всегда или сегодня только она Ваша. Да, сегодня некая звезда освеженно безумствует, вспыхивает беззастенчиво, безудержно звездными откровенностями, полыхает разноцветным довременным. Ради Бога, не думайте, что я что-нибудь предполагаю или имею в виду, все это совершенно безобъектно. Я пишу Вам потому, что, если это правда, то, что я сегодня чувствую о Вас, то это и для Вас факт огромного, космически-любезного значения, так как это звездно-кристальная пламенная радость, разогретая довременным холодом, это – как возврат детства в первой любви, и Вы этого уже не ожидали.
Какие обессиленно-сладкие нестерпимые слезы проливаю я над этим чувством Вас, над этой сказкой сегодняшнего вечера о Вас, над проглянувшим сквозь первую любовь детством.
А «здесь» – «прохладою росистой» душе кропит полян угасших холод вежды!.!.
Но это совершенно безобъектно.
Простите, что пишу Вам только это и вообще что пишу это; но о другом я не пишу. Да, может быть, Вы на меня обиделись.
До свидания, о, свободный, бесконечно милый мне скромному.
Ваш Сизов Михаил.
Время от времени возникает в письмах Сизова тема его предполагаемого сотрудничества в символистских и религиозно-философских изданиях – в сборниках Христианского Братства Борьбы,[1174] в сборнике под редакцией Д. С. Мережковского,[1175] наконец, в главной цитадели московских символистов – журнале «Весы». Письмо к Белому от 5 августа 1907 г. – свидетельство того, что невовлеченность Сизова в активную литературную жизнь была не только следствием нереализованности тех или иных издательских начинаний, но и обусловливалась нерешительностью самого Сизова, его сомнениями в собственных способностях:
Коля[1176] мне написал, что Вы со Львом Львов<ичем>[1177] просили сообщить мне о желательности моего участия в «Весах» и что это теперь или в ближайшем будущем, как я понимаю, было бы особенно кстати. Я был бы очень рад принимать участие в «Весах», и, чем более пришлось бы работать и чувствовать себя при этом просто работником в общем культурном деле, делающим свое, м<ожет> б<ыть>, и очень небольшое дело без претензии на александровские взмахи меча,[1178] мирообъемлющие молнии и ослепительные прозрения или безапелляционные приговоры, тем было бы для меня приятнее. И это потому, что я чувствую себя еще неподготовленным принимать участие в зрелой культурной работе, так как сам едва начинаю, как мне кажется, вступать в ту полосу развития, в которой окончательно складывается личность. Но, раз Вы находите, что я уже сейчас могу быть Вам полезен, располагайте мною как угодно. Но, к сожалению, должен прибавить, это согласие является чисто принципиальным.
Излагая далее свои сомнения и настороженность в связи с предполагаемым изменением «физиономии журнала» и относительно «субъективности метода» «Весов», Сизов заключает: «Словом, принципиально согласен и рад бы помочь, но право не знаю, как». Участником «Весов» он так и не стал.
Осенью 1907 г. Сизов поселился в Петербурге – перешел из Московского университета в Петербургский.[1179] Белый способствовал его знакомству с А. Блоком, и Сизов в письме от 25 сентября 1907 г. подробно описал свои визиты в петербургскую квартиру поэта.[1180] Регулярной переписки между Белым и Сизовым после того, как они оказались в разных городах, однако, не возникло. Очередное содержательное письмо Сизова к Белому, от 28 февраля 1909 г., было отослано после длительного перерыва в общении и было продиктовано стремлением донести до автора впечатления от его «четвертой симфонии» «Кубок метелей», вышедшей в свет в апреле 1908 г. Успеха Белому это сложнейшее по образной архитектонике произведение не принесло, на «симфонию» либо реагировали равнодушным молчанием, либо упрекали в непонятности, сумбурности и претенциозности. На таком общем фоне отзыв Сизова звучал полным диссонансом:
Ваша четвертая симфония меня победила совсем, поразила и больше того. Я ее читал летом и тогда же увидел, что это самая совершенная из всех Ваших симфоний, но многим она произвела на меня тяжелое впечатление, говоря точнее, я со многим не был согласен и, быть может, не был согласен мистически. Но многое, конечно, и тогда достигало Святого-Святых. Теперь, когда я, зная уже ее всю, – Вы правы, конечно, это необходимо – читал ее отрывками, я был умилен и потрясен, и благодарен, и поражен до благоговейного и счастливого восторга тем, как она написана. Ведь это такая сила, это египетская (!) сила, это – гиероглифы духа! И что я еще особенно чувствовал, это – на какой высоте напряжения, отчетливости, тонкости, глубины, смелости, меткости, свободной священной уверенности парил Ваш дух, когда он работал над этим, какое оно долгое, ясное, дивное и уверенное с сверхъестественной решимостью все это рассчитывало, проверяло и подчиняло единству, ему одному до времени, а может быть, и навеки на земле, ведомому. В этом – оно Микель-Анджело. Да, это Микель-Анджеловское произведение, но при этом-то еще и Вам свойственные ноты, голоса прозрения, веяния, нежность, вещий вещий <так!> незабвенный шум – чего? и, нет, не шум, но что, присутствие?! Вполне я это говорю о многом, но не о всем, потому что есть места, которые отчасти представляют самостоятельные отступления, отчасти являются пунктами, в которых сплавилось с фабулой их содержание, постороннее ей, формально, внешне, и которые в силу этого своего вводного содержания вызывают мой протест. Конечно, и в них есть всё те же достоинства, и от них пробуждается и начинает парить, носясь по душе, то же чувство священного, но они все же вызывают, лучше сказать, вызывали мой протест, потому что теперь я принимаю их, как-то примиряюсь с ними, хотя все так же не наполняюсь ими. В типичном случае они представляют то, что мне хочется назвать мистико-философскими ектиньями. И это вот что, например: «Время – хладный бархат пролетающего облачка. Смерть – хладный бархат пролетающего облачка. Горе, радость, жизнь, о, все то же, все то же. Если было, то будет, если будет, то есть. Вот миру весть: хладный бархат приимите пролетающего облачка».[1181] И так и не так. И да и нет! Но ведь Вы сами говорите: нет – да. Это и примиряет меня с затруднительным для меня в этих ектиньях и вообще в симфонии. Потом я не проникаюсь и теми образами, которыми она разрешается. Они производят на меня впечатление такое, как будто каденция начинается и не кончается, начинается опять и опять не кончается; еще это похоже на Баховскую фугу. В лучшем случае симфония кончается Баховской фугой. От первого мне чуть-чуть страшно; в последнем случае испытываешь неудовлетворение. После этой симфонии я просматривал первую. Какой громадный шаг от нее представляет последняя симфония! Первая трогательна бесконечно, очень властна по-своему, для меня достаточно бывает часто на небе одного мотива, чтобы она меня опутала, но она детское произведение, робкое, с безразличными движениями в сравнении с последней, в которой невыразимая сила вполне зрелого, сформировавшегося духа и при этом еще много могущего. Когда это почувствуешь, то самая величина ее, растянутость порождает вдруг впечатление сверхъестественности долго длящегося вдохновения – и она этим потрясает, и это само, одно, и это вновь, с другой стороны вызывает вопль благоговения. Но вот! есть таки в ней то, что она оставляет читателя, нет – слышащего, – оставляет с воплем благоговения. С благоговением… но и с воплем, но чему однако с воплем!! Я, м<ожет> б<ыть>, знаю, хоть отчасти, но, м<ожет> б<ыть>, не имею права и знать. Но благоговение громадное, и вот это чувство благоговения с чувством самой нежной благодарности мне и хотелось Вам выразить. Не обессудьте. Я очень буду благодарен, если Вы прочтете это письмо с интересом, все равно к чему, ко мне ли, к Вам ли, к тому ли, как реагируют иные на ваши слова, к судьбе ли Ваших выраженных и, м<ожет> б<ыть>, нерассмотренных все же переживаний. Желаю Вам, дорогой, от всего сердца успокоения и отдыха, да освежит Вас во всем Радость Небесная. Я сегодня узнал, что Вы из-за какой-то истории в Лит<ературном> Общ<естве> заболели и уехали в деревню.[1182] От души желаю, чтобы это для Вас оказалось к лучшему и Вы в деревне подольше и попрочнее отдохнули.
Всегда неизменный паразит Вашего духа по законам уважения, удивления, восхищения, благоговения… в более или менее значительной мере, М. Сизов.
Это письмо было написано незадолго до возвращения Сизова на постоянное жительство в Москву. Вспоминая о мае 1909 г., Белый фиксирует «ряд очень ответственных и важных разговоров о “коллективе”: с Петровским, Киселевым, Метнером и приехавшим из Петербурга М. И. Сизовым».[1183] Под «коллективом» понималось возросшее на прежней «аргонавтической» почве дружеское сообщество, объединенное задачами служения духовной культуре и отстаивания высоких философско-эстетических и религиозно-мистических ценностей, которое в том же году заявит о себе основанием книгоиздательства «Мусагет». Во главе «Мусагета» стояло редакционное трио – Э. К. Метнер, Андрей Белый, Эллис, но был сформирован и «ближайший совет при редакции» в составе Г. А. Рачинского, М. И. Сизова, Н. П. Киселева и А. С. Петровского.[1184] Тем самым перед Сизовым открывалась наконец возможность влиять на ход литературного процесса и активно в нем участвовать.
На одну из первых книг, изданных «Мусагетом», – сборник статей и исследований Андрея Белого «Символизм», появившийся в конце апреля 1910 г., – Сизов откликнулся письмом к автору (от 12 июня 1910 г.), в котором основное внимание уделил идейным построениям, развиваемым в статье «Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма»:
Теперь начал читать «Символизм». Голубчик, как я рад! Мне кажется, я вполне понимаю тебя, по крайней мере в отношении твоей позиции. Кроме того, меня приводит в восторг то, что ты делаешь комментариями. Я ведь знаю в общем содержание этой книги или знаю многое, что ты там говоришь, но теперь, когда она предстала передо мной в качестве пищи для ее читателей, я испытываю большое желание выразить тебе мое благоговение к жизни. Это чрезвычайно искусно составленный целебный напиток. Я не хочу сказать, что ты врач, но, м<ожет> б<ыть>, алхимик. Конечно, маги составляют целебные напитки. Читая эту книгу, я испытываю такое чувство, какое бывает, когда быстро мчишься туда, куда нужно. Но что я еще особенно понимаю – о чем ты, вероятно, в этой книге не говоришь – это то, как признание примата творчества, значит, творчества ценностей, может показаться страшным постороннему взгляду, как ведущее к авто<но>мии личности, индивидуальной, и как, в действительности, это необходимо приводит к познанию (истинному, ибо практическому) истинных ценностей, истинной Ценности, ибо признание такого примата ставит человека лицом к лицу, хотя бы вначале и помимо его сознания, с трансцендентным порядком ценностей. Так или иначе, но через такое миропонимание просачивается Ценное ‹…›
Участие Сизова в «мусагетской» деятельности было достаточно активным, в том числе и в сфере индивидуального творчества. Летом 1910 г. в издании «Мусагета» вышла в свет в его переводе книга средневекового мистика Рэйсбрука Удивительного «Одеяние духовного брака», а в ноябре 1911 г. – в его же переводе брошюра Пауля Дейссена «Веданта и Платон в свете Кантовой философии».[1185] В поэтическом альманахе «Мусагета» «Антология», появившемся в начале июня 1911 г., Сизов поместил четыре своих стихотворения (подписанных инициалами: М. С.). В № 3 «мусагетского» журнала «Труды и Дни» за 1912 г. была опубликована статья Сизова (под псевдонимом М. Седлов) «Кремль», в которой обосновывались общие представления о культуре как «кремле сознания», предполагающем триединство научных, эстетических и религиозных ценностей. Сходные авторские положения развиваются в «мусагетской» книге Сизова (опубликованной под тем же псевдонимом) «Цезарь Ломброзо и спиритизм». Сизов пытается убедить читателя в недостаточности и неубедительности попыток итальянского психиатра и антрополога объяснить спиритические явления в рамках материалистического монизма, отмечая тем не менее значимость того факта, что современная наука в лице Ломброзо «протягивает руку после долгого упорства теософической, оккультической, спиритической и религиозной натурфилософии» и тем самым приближает к осознанию единства знания и веры – «ибо знание и вера в душе стремящегося к истине едины».[1186] Один из безусловных авторитетов для Сизова в этой книге – Рудольф Штейнер (упоминается его «Путь к самопознанию человека в восьми медитациях»[1187]); убежденным его последователем Сизов стал еще до того, как доктора Штейнера своим учителем провозгласил Андрей Белый. Начало штейнерианства Сизова Белый относит к лету 1910 г.: «В то время Сизов и Петровский примкнули к учению Штейнера; мне то не нравилось».[1188] В «Предварительном Кратком отчете о теософических кружках в Москве за 1911 г.» Эллиса Сизов упоминается как «образованный спирит, секретарь 1-го спиритуалистического рус. съезда ‹…› систематически изучивший за 1911 г. все вышедшие циклы Д-ра».[1189] В письме Белого к матери от 5/18 мая 1912 г. Сизов и Петровский аттестуются как «завзятые штейнерьянцы; ведь они в Москве устроили штейнеровский кружок».[1190] Стоит при этом отметить, что преклонение Сизова перед Штейнером не было отмечено теми чертами экзальтации и фанатизма, какие сказывались в поведении Эллиса, а в известной мере позднее и Андрея Белого.
В «мусагетский» период переписка Сизова с Белым активизировалась в значительной степени благодаря тому, что последний продолжительное время проводил вне Москвы, Сизов же старался держать его в курсе текущих дел и событий. Письма его к Белому этой поры примечательны уже не столько своим исповедальным характером, сколько как документальные свидетельства происходившего в «мусагетском» литературном кругу, и в этом плане они особенно ценны и достойны внимания. Так, на открытку, посланную Белым во время путешествия по Средиземноморью, Сизов откликнулся пространным письмом от 1 января 1911 г., в котором в очередной раз отозвался о его книге «Символизм», а также отобразил несколько эпизодов из жизни и быта «мусагетцев»:
Читал это время твой «Символизм». Шлю тебе мои невероятные совершенно восторги по поводу статьи «Эмблематика смысла». Это целый переворот. Если бы это облечь вместе с будущей теорией символизма в разработанную систематически форму, рост Канта показался бы маленьким. Да и без такой разработки это есть, но, правда, трудно понять среднему читателю философу, куда ты метишь, а согласиться с тобой для многих мучительно нежелательно».
Указывая далее на недочеты в статье, Сизов признавался:
У меня так чешутся руки написать по-своему о символизме (это совсем не продолжение, не добавление в прямом смысле, не корректив к твоей точке зрения, а нечто гармонирующее с ней) ‹…› Как я рад, что ты заговорил об «испанской звездности». Это так мое!
Далее в центре внимания оказывается Эллис (Лев Кобылинский) с его неизменными эскападами и духовными эксцессами: «…в сочельник у него наступил пароксизм, так что он лежал и не пошел даже к Метнерам встречать Рождество, и кризис, м<ожет> б<ыть> еще неполный, но к лучшему, по-моему. Он лежал, обдумывая свою раздвоенность и созерцая мучительные и бесплодные тогда попытки его давнишнего “лучшего я” войти в него. А мешало этому одно обстоятельство, ошибочно им переоцененное, т<ак> к<ак> оно мрачно, по его мнению, отзывалось на Мусагете и на чем-то, что ему мерещилось за Мусагетом, хорошем, брезжущем, где, впрочем, он себя не видел. Вообще у него происходили перевороты – хвалил, кого он последнее время особенно ругал, и т. д. Но до этого и теперь трогателен невероятно. Написал сказку драму для детей с скрытым теософским содержанием и с большой правильностью. Прямо великолепно».[1191] Студенты, продолжает Сизов, «просят его начать объявленный им курс о докторе, но Лев сурово медлит и собирается в Гельсингфорс, откуда он приедет, заручившись специальными инструкциями и, м<ожет> б<ыть>, полномочиями (!). Студенты ждут, Лев в конце февраля думает начать свой курс и вдруг узнает, что в Гельсингфорсе доктор будет не в феврале, а в конце апреля.[1192] Лев был обескуражен несколько таким оборотом дела, и как он выйдет из создавшегося затруднения, не знаю. Да! На первый день Рождества я был у Григ<ория> Ал<ексеевича> <Рачинского – А. Л.> и рассказал ему о состоянии Льва. Он сейчас же, взяв меня с собой, отправился ко Льву с молебном. Это было очень трогательно, но это – по просьбе самого Григ<ория> Ал<ексеевича> – не секрет только для нас, близких. Льва мы уже не з стали, но молебен все же очистил его атмосферу. Лев пропадал три дня и, как потом выяснилось, прежде всего “у Сени Рубановича”,[1193] плясал на нескольких елках. Спит он теперь не только не раздеваясь, а наоборот – одеваясь: пиджак снимается, но зато надевается халат, иногда еще с “малыми чётками” и, кажется, с медальоном, ложится в таком одеянии и накрывается шубой, мехом обязательно наружу почему-то. Теперь к этому прибавилась малиновая с черной кистью шапочка, подаренная ему сестрой Боброва.[1194] Я еще на Льва воздействовал тем, что в некотором смысле его переселил. Пришел к нему как-то, и обратил внимание на то, что он спит головой в душный угол и к печке. Попробовал сам полежать на его кровати в таком и в противоположном положении и нашел, что надо его перевернуть. Лев этому не противился почти, и <я> переставил его стол и передвинул кровать, т<ак> ч<то> теперь он спит головой к двери, и, м<ожет> б<ыть>, отчасти и это играло роль в его успокоении. Вчера он был на семейном обеде у Братенши[1195] с Метнерами.[1196] Плясал там под граммофон, который м<ежду> проч<им> очень смешил Николая Карл<овича>. Затем плясали и другие: Карл Петрович плясал с Верочкой,[1197] а Эмилий Карл<ович> возился и прыгал козлом. Льва очень полюбила Наталья Алексеевна[1198] – он лучше вас всех, сказала она мне – и чтобы сделать Льву приятное, относится к Штейнеру лучше, чем сама бы по себе относилась, хотя вообще Лев ее очень распропагандировал, и это было в один вечер, при мне. Лев вообще в этом направлении преуспевает и если надо взять “семейство”, то начинает по-иезуитски с жены. И удается! ‹…› У меня и у Льва начинается любовь к Тургеневым (разумеется, после такого отнош<ения> к Штейнеру Нат<альи> Ал<ексеевны> не мог ее не полюбить горячо). ‹…› В Альманахе[1199] будет двадцать с лишним авторов!»
Продолжение повествования о «мусагетских» «трудах и днях» – в письме Сизова к Белому от 13 января 1911 г.; вновь в центре внимания – эксцентричный Эллис, но на этот раз в обстоятельствах установления неформальных взаимоотношений между собственно «мусагетцами» и автономно определившейся под эгидой и на издательской базе «Мусагета» группой философов (С. И. Гессен, Ф. А. Степпун, Б. В. Яковенко), издававших русскую версию «международного журнала по философии культуры» «Логос»:[1200]
Волнения твои о московских делах здесь как-то даже мало понятны. Если хочешь, все и в Мусагете и в Пути[1201] идет великолепно, т<ак> к<ак> двигается вперед, хотя и не с той быстротой, кот<орой>, м<ожет> б<ыть>, хотелось бы. Ждем альманаха. Пока еще ничего не вышло из других книг. События сводятся к тому, что Лёва давал представление в одном месте сегодня, в другом месте вчера и т. д. Вчера в среду в Мусагете происходило сближение Логоса с Мусагетом путем веселости на этот раз, и этот путь, как нередко бывает, оказался весьма удобным и коротким. Степпун представил Виндельбанда, читающего лекцию, Маркса, ешчо каво-то. Потом был выход Льва, который для именитых гостей постарался, хотя был очень усталым, т<ак> к<ак> накануне до 4 часов плясал костюмированный, и воспроизвел многие свои номера в расширенном объеме. Степпун, Гессен, Гордон[1202] прямо помирали. Трогателен был Эм<илий> Карл<ович> – он хохотал до исступления и по-детски весело. Степпун м<ежду> пр<очим> оч<ень> интересно рассказывал об Италии. Он от нее в восторге, как и от итальянцев. Очень комичен его рассказ о фигуре итальянского философа Рарini, который недавно выпустил книгу, где всех философов разносит в пух и прах.[1203] Он имеет вид добродушного неск<олько> неряшливого лавочника, и их компания (еще там есть неск<олько> философов) оказалась далеко не вполне сведущей по части итальянской философии, как это установил Яковенко. Эм<илий> Карл<ович> Италию осуждал за шум на улицах и противопоставлял ей Германию. – Есть в Москве одна новость не из приятных: Григ<орий> Алекс<еевич> опять болен, хотя и не так сильно, как неск<олько> лет назад, однако его пришлось везти в Ригу. С ним поехал Алекс<ей> Серг<еевич>. Из Риги он хотел заехать в Петербург.[1204] Григ<орий> Ал<ексеевич> был плох, но не физически, а нервно и психически. Незадолго перед этим я у него был, он уже считался больным, но был по виду только очень утомлен. Говорил о своей книге, которую он давно собирался и наконец решил написать, говорил, что готовит сборник своих стихов, чтобы издать в Мусагете (Эм<илий> К<арлович> м<ежду> пр<очим> уже сказал, что ничего бы против не имел),[1205] и этот сборник он собирался подготовлять в Риге. – Сегодня был в Пути, застал там Бердяева и Марг<ариту> Кирилловну.[1206] Она была как-то ужасно мила. Говорили о Серебр<яном> Голубе[1207] и о тебе. Странно, но у меня такое впечатление, что Марг<арита> К<ирилловна> растет и как-то расцветает, зацветает какой-то недосказанной грезой, но все все <так!> увереннее, все сильнее, все живее, пышнее и ближе. И она как-то помалкивает и только улыбается глазами, занавешиваясь туманностями или скромными обыденностями вздыхающей речи. Трогательно – так обрадовалась, видимо, когда я передал ей, что ты пишешь, что счастлив.[1208] Сегодня она взяла твой адрес и сегодня же хотела писать тебе. М<ежду> проч<им> она очень настаивает, что ты главн<ым> образ<ом> художник. Бердяев также взял твой адрес.[1209] Булгаков тебе писал.[1210] ‹…›
А я сегодня понял, почему мне так интересно, дорого и близко заманчиво испанское!: это единственный, какой мы пока имеем, синтез Запада и Востока. Запада вполне сознательного, горячего и ясного и Востока вполне сильного, но достаточно культурного, какими были мавры. Этот синтез, м<ожет> б<ыть>, в пустяках (?) – в песне, в чертах быта, но принципиальное значение его от этого не меньше. Поэтому я думаю, я прав, если утверждаю, что «испанское» не пустяк для России, именно для России, для нее это проблема будущего, но в более серьезной, грандиозной, значительной и трудной постановке. «Русский обыватель и испанцы», – вовсе не пустая и не комическая тема. И ведь есть в России бык! – Это у нас знают люди всех слоев и классов и обнаруживают, хотя часто и в ветхозаветных еще формах. Но откуда этот бык в России – с Востока или с Запада? И в Испании синтез – вечное преодоление быка, способность противостоять ему, выдержать его с полной энергией, быстротой, пляской и цветом жизни. Тогда все цветет – есть и жизнь, есть и бык. В Испании бой быков – это след, символ и воспоминание битвы с маврами, которая началась, вероятно, еще и раньше прихода мавров в предчувствовавшей душе Испании. Роланд, Роланд, имя твое не умерло! дело твое живо![1211] Но я не знаю, верно ли, что мавры – бык – оч<ень> возможно – тем более, что они пришли через Египет. Но в России откуда бык? Ведь для Европы – Россия бык (боязнь анархистов), а для России – Азия, Восток. Россия сама для себя и Восток и Запад. Она то тореадор, то возлюбленная тореадора. Кармен?! Кармен! Недаром Ницше, сверкая взорами в будущее, под конец признал, полюбил оперу «Кармен»![1212] Он был охранитель культуры! Но какого слова Испания не сказала, отчего она все-таки обессилела? Потому, что в отношениях с маврами не сумела найти пути положительного и созидательного, а видела лишь путь вражды и отрицания и страха?! Но отсутствие страха не есть конечно наше «шапками закидаем» и наша небрежность и неподготовленность. Что касается борьбы, однако, если бы она оказалась необходима, то я тут верю в силу, потому что Россию надо еще раскачать, а когда она раскачается и поймет, что дело действительное и серьезное, она со всей силой вступится за свою молодую жизнь. Ну, а потом, ну, а если сил не хватит. Все равно, не Россия, так кто-то еще на Западе не может быть до конца раздавлен, и он должен быть, иначе Восток оборвется опять в бездну, как с ним было и раньше. Или Испания пожертвовала собой ради Европы?
Еще один развернутый отчет о московских событиях содержит письмо Сизова к Белому от 10–11 февраля 1911 г. Начав его с сообщения о возможности ареста книги Вл. Соловьева, выпускаемой в издательстве «Путь», и о необходимости сделать в ней ряд купюр,[1213] Сизов продолжил свою «мусагетскую» хронику. В центре внимания на этот раз – состоявшееся 10 февраля заседание Московского Религиозно-философского общества, посвященное деятилетней годовщине кончины Вл. Соловьева:
Вчера в среду в Мусагете был Вяч. Иванов. Блок заболел и совсем не приедет, Вяч<еслав> был оч<ень> мил. Вошел такой птицей – знаешь? – в залу и затем пошел передаваться с рук на руки. Были Брюсов, Бердяев, Булгаков, Эрн. Началось с Сережиного реферата о Дельвиге.[1214] Ему в частном разговоре Иванов долго возражал на утверждение, что стыдливость принесена христианством и <не> была у греков. Сережа горячился по поводу еще каких-то пререканий и скоро ушел, кажется, неск<олько> обиженный. Потом читал стихи Иванов, какая-то дама, Лева и Брюсов (оба по одному стихотворению). Брюсову очень понравилось, как изданы Stigmata, очень хвалил обложку.[1215] – Об университетских событиях тебе писал Алеша и послал список ушедших профессоров.[1216] Лев радуется, что «разогнано гнездо позитивизма», а Россия, говорит, не погибнет: у нее был Толстой. Вчера Вячеслав Ив. ему выражает удовольствие по поводу его перевода гимна «Stabat Mater»,[1217] а Лев ему: «а мне, В. И., ваши стихи не понравились» – и с лицом, получившим выражение ихневмона (знаешь: борьба ихневмона с коброй?) – «не чувствуется, что это пережито», В. И. защищался, объяснял. Мы с Нилендером[1218] старались внести ноту примирения и впились во Льва, но он дальше не пошел. Однако Иванов между проч<им> ему сказал: «Вы занимаетесь исследованием моей личности, а не стихотворения». В общем, было много народа и масса каких-то перекрещивающихся токов, атмосфера была довольно сумбурная. Неприятно как-то, что Сережа так ушел, хотя возможно, что он поехал провожать С. Гиацинтову.[1219] – Вчера Соловьев<ский> вечер прошел без заметного подъема. Народа было много. Блок заболел и не приехал, его реферат «Рыцарь-монах» читал я.[1220] Были два молодых католических патера. Они заинтересовались взглядом Бердяева на различие церквей Зап<адной> и Вост<очной> и невозможность их соединения. Различие это он приводил к образам Иоанна и Петра в «Трех разговорах».[1221] Они сказали, что различие действительно таково. Сегодня один из них просил прийти к Бердяеву еще поговорить.[1222]
11 ф<евраля>. Вчера я был у В. И., поговорили с ним дружески, он самостоятелен и чувствует к. б. <?> нашедшим путь. К нему пришел Эрн, кот<орого> только что оправдали: ему грозил год крепости за издание одной брошюры,[1223] а жену надо везти на юг. Потом поднялись к Бердяеву, там был маленький раут, был Булгаков, Эм<илий> К<арлович>, Марг<арита> Кир<илловна>, Бородаевский, Герцыки.[1224] А. Герцык, Бородаевский и В. И. читали стихи. Было мило. Много было, но миролюбивых, споров. Был и Ал<ексей> Серг<еевич>. Вяч<еслав> уезжает. Лев сел в бест. В халате и ермолке сидит в «Дону»,[1225] произносит филиппики и обещает уйти из Мусагета, если он (Мусагет) будет более «деловитым», чем принципиальным. Вчера он был у Эм<илия> К<арловича>, и Э. К. ему сказал, что не может сделать ему никаких уступок. И при всем том Лев по обыкновению трогателен. Мучает Нилендера – как дойдет дело до серьезного разговора, требует отречения и перехода в христианство, мучает его и вообще состоянием своим. Но «истории» его приняли оборот розовый: восстановленный мир оказался прочным, даже муж Т. сказал, что свидание со Львом «помогает ему держать экзамены».[1226] Лев чувствует себя восходящим в силе и правде. Иные относятся к нему как авторитету. Поэтому в уставе нового кружка, вырабатываемом Львом,[1227] имеется, как рассказывает Нилендер, такой пункт: не считать его пророком. Трагизм положения Льва заключается в том, что он признает теперь, что может в Мусагете проявляться в рамках его редакторских функций, но понимает, что по вопросу, напр<имер>, об участии В. И. его голос против двух недействителен. А его питомцы ему видимо сочувствуют, и Лев проектирует удаление на священную гору. ‹…›
Тема возможного раскола внутри «Мусагета», провоцируемого Эллисом, занявшим непримиримую позицию по отношению к Вяч. Иванову, которого Э. К. Метнер надеялся привлечь к теснейшему сотрудничеству с издательством, поднимается в следующем письме Сизова к Белому в Африку, от 18 февраля 1911 г.; в нем уже в полный голос звучит и тема «штейнеризации» «Мусагета», которая со временем выйдет во всех внутрииздательских контроверсах на первый план и в конечном счете приведет к распаду «мусагетского» сообщества:
Милый, есть в наших отношениях какая-то взаимная порука, ты это знаешь, и тебе излишне указывать случай, когда мы это ясно и твердо чувствовали. Теперь, когда тебя нет тут со всеми нами, ты с нами, т<ак> к<ак> мы тут как бы и за тебя, а ты не один, т<ак> к<ак> мы там как бы и за меня и, м<ожет> б<ыть>, за других, и мы с тобой. Поэтому еще более кажется, что поездка твоя имеет глубокий смысл. И, конечно, интереснее и, можно сказать, нужнее поехать на Восток, чем по Европе. Мы сами Европа по какому-то в достаточной мере.
Что делается у нас?
Был вечер в память Вл. Соловьева. Блок заболел и не приехал, его доклад читал я. Особенного подъема не было. Впрочем, я тебе уже писал о нем. Значит, остается одна тема: Лев. Он так был взволнован своим объяснением накануне с Вяч<еславом> Ив<ановым>, что не спал ночь и не был на вечере. Я после заседания зашел к нему. Он был настроен очень воинственно, изрыгал тягчайшие обвинения против своих врагов и как-то странно в своей феске и халате напоминал Иеремию. Он был действительно блестящ, трогателен, чист! но неправ, как всегда, когда он ополчается. И неправ не потому, что не следует негодовать на то, на что он негодует, а потому, что объекты и поводы негодования находятся совершенно в ином отношении к правде и к действительности, чем это он думает. Но он меня начинает глубоко возмущать. И моя любовь к нему, которая, право, велика, толкает меня на изъявления этого возмущения. Хочется к нему отнестись хоть на одну десятую с той строгостью, с какою он относится к другим, и по какому праву?! – по праву всякого католика в дурном смысле. Льва надо гнать из Испании. Невольно, и не по категории сплетни или сования носа в чужое дело, начинаешь обращать внимание, как Лев обращается с Л. Т.[1228] Это, кстати, возмутительно, хотя и с той стороны тоже не мало распущенности. Нилендера Лев довел до ссоры с ним, полной прострации и неистового встряхивания руками, ногами и головой. Но Нилендер стоически утверждает, что со Львом можно жить,[1229] для него это вопрос чести и самолюбия. Был я недавно у Льва еще. Разговор вышел, постепенно, весьма глубокий. Лев развернул почти весь свой фронт по крайней мере в смысле полноты концепции его современного положения. Доказательства многого он не высказывает, прячет их для решительного сражения. Мне удалось его поколебать в некоторых пунктах его конструкции, и главное, что основной факт обвинения не доказан. И опять меня возмутило его бесцеремонное обращение с фактами, их толкованием, лицами как личностями. В одном важном пункте он ссылался на твое мнение, во всяком случае на твои слова. Очень жаль, что ты так ему много говорил и говоришь: Льву каждую вещь надо подносить стороной, обратной той, о которой он спрашивает, так только можно его заставить знать вещь, т<ак> к<ак> иначе для него вечно будет существовать лишь одна его интересующая в данный момент сторона. Из всякой откровенности с ним он делает невероятную кашу, твои слова в его руках превращаются в грандиозные источники всеведения, ему известны с несомненностью такие вещи, какие разве во сне ему могли присниться. В конце концов Лев занимает по отношению к Мусагету выжидательное положение: если политика Мусагета в отнош<ении> к Иванову, вообще стиль в нем, как он говорит, «модного книгоиздательства» приведет к позорным или пошлым фактам, Лев выступит с обвинением, что его не послушались, и как-либо себя проявит. Дела его в отнош<ении> занятий Штейнером идут вперед: он заявил, что всякого оккультиста, который «не поцелует вот этого портрета Штейнера», он выгонит за дверь. У меня осталось такое впечатление, что все эти бунты Льва имеют один общий корень, котор<ый> заключается в некотор<ом> роде ревнивом чувстве: все как-то по-иному, чем он, все согласны между собой, а с ним – нет, ему как будто не доверяют, и это тем более обидно, что «рыжему» доверяют, дают ему писать предисловие к Орфею, чуть не целуются с ним. Он не хочет для Мусагета такой кармической связи! И, действительно, представь себе положение Льва, когда феоретик оргиазма будет писать предисловие к Орфею – явный намек на то, что Орфей должен быть растерзан.[1230] – Под влиянием Stigmata одна барышня остригла волосы (т<ак> к<ак> больше нечего ей принести в жертву Богу или Деве Марии) и задумалась о монастыре; Лев, конечно, в восторге, прошел слух, что он хочет жениться и как будто на ней! Я был у Кожебаткина,[1231] велись деловые разговоры. Он купил у Сережи неск<олько> книг из библиотеки Вл. Соловьева[1232] с его собственнор<учными> отметками, это больше мистики <?>, неск<олько> книг Сережа продал еще кому-то, вообще распродает библиотеку Вл. Соловьева. Варварство! оставил бы хоть книги с заметками. Пожертвовал бы куда-нибудь, и продает ведь дешево, много, говорят, продал букинистам. Буду у него скоро – выругаюсь. Не может не быть племянником, потому что хочет им не быть.
Следующее письмо Сизова к Белому вдохновлено впечатлениями от чтения в корректуре книги Вл. Соловьева («Россия и вселенская церковь» или «Русская идея»); видимо, из-за отсутствия переводчика – Г. А. Рачинского, лечившегося в Риге, – он взял на себя труд по вычитке текста:
24 февр<аля> 1911.
Милый и дорогой Боря! Теперь мне станет посвободнее, буду тебе чаще писать. Кончил корректуру книги Соловьева, как эта книга нужна для России! под покровом простоты соловьевского рационализма она очень глубока! Сейчас чудная «соловьевская» ночь. Уже чувствуется весна в ночных воздушных морозах, уже раздается над Москвой напряженная песня, синяя, благоухающая, пронизанная близостью весны. Сейчас гулял по переулкам около нас: Москва плывет своими домами, крышами и огнями в синих звездных пространствах. Плыл в синих пространствах «на» Б. Трубном переулке, «на» Неопалимовском, пересекая его. Так ясно верю, вижу, что над Москвой дышит особая благодать, объяснимая только тем, что еще совершается священная история – священная история Нового Завета: вся история священна. Эта соловьевская истина стоит над Москвой, – ты вероятно сказал бы: – трубит в призывный рог, трубный звук раздается над спящей Москвой.[1233] Но над спящей! но где же она наяву-то увидит свою судьбу, свою правду-истину, свою радость, свой путь, свою волю?! И опять, опять все кажется, что увидит! Точно обманывают все эти призывы и приходы и точно не обманывают. Быть может, это – только Вл. Соловьев радуется, что на днях выйдет его такая важная для священной истории книга, которую там он должен, я думаю, больше ценить, чем «Повесть об Антихристе» со стороны выражения его окончательного слова России; то, что сказано о России в «повести об Антихр<исте>» образом Иоанна, а не Петра, вовсе не противоречит (как кажется, м<ежду> проч<им>, Бердяеву) идее папства, как самостоятельного, вненационального религиозного центра. Только Соловьев радуется, – но что значит это только, или, вернее, это уже не только. Ты на юге, ты счастлив. Милый, я тут на юге и тут счастлив. Милый Боря, так хорошо! И это среди всех ужасов окружающего, нашей настоящей сумбурной, бешеной, обезумевшей, кричащей всеми голосами, нечеловеческими уже, но в глухом безмолвном подземелье, несчастной действительности. Россия в подземелье, – вот в чем истина, и правда ее и о ней, и ужас ее положения. Но о счастье, о радости обо всем, когда хорошо, хочется всегда говорить с тобой. И об этом, о синем, о вечном, о юном, о милом. Прости мне мою откровенность, но ты единственный человек, который, мне кажется, всегда меня понимает и поймет – всегда, потому что иногда мы можем и не соглашаться, нам может быть друг не до друга, но это именно это и есть, и поэтому всегда – я ни к кому, и никому не могу говорить о самом главном, о самом бóльном, о самом милом и вечном, и живом и счастливом, потому что о нем говорить нельзя – его надо видеть и с достаточной ясностью, с достаточной яркостью, близостью, простотой, непосредственностью, верою, мужеством, счастием. Я знаю, что ты счастлив им, и, дорогой мой, я с тобою, – не могу иначе сказать! Как мне быть, как мне жить?! Грудь разрывается от тоски и счастья! Я так устал – прости – от большого знания и от большой силы и от невозможности их приложить: словно жизни это не нужно; – ты один и залог, и товарищ, и вестник, и друг богатырь, и баян, и указующий судьбу по старым книгам. Прости, но опять скажу – мне кажется, что никто не может меня понять, не потому, не в том смысле, чтобы не знали этого: многие знают, но как будто никто не знает, как это м<ежду> проч<им> лучезарно и небесно можно видеть, но здесь, на земле! Для меня, по кр<айней> мере, – ты единственный, потому что я чувствую всегда, что мой голос доходит до тебя, вижу, как ты всегда встрепенешься до глубины весь. До глубины, весь – вот! это-то и главное! В этом я и Льву не верю, других мало с этой стор<оны> знаю. Голос – о чем, откуда, куда, от кого, к кому, – не знаю еще сознательно. Но да знают это сыны человеческие! – а иные, м<ожет> б<ыть>, уже знают. Посылаю тебе насыщенную бирюзу моих приветствий, она сияет и прозрачна, и непрозрачна, и непрозрачностью глубока.
Могу перед тобою приходить в экстаз. Отвел душу; иначе, о чем писать!
А хорошая обещает быть весна. Я сейчас уже ее воспринимаю в «образах» 2-ой симфонии, настолько ярко, как не запомню давно. А сбывается в значительной мере 2-я симфония! Бродит дух Москвы. Пьянеют уже счастьем души, но сами часто еще не знают, что это оно. И по слепоте иногда льют на пол. А тогда, строго говоря, надо с пола вылизывать. И моя тактика заключается в том, чтобы прямо-таки в случае надобности вылизывать пол, а в общем – говорить, что пол может быть полит и что земля должна цвести, но что нельзя проливать того, что неоцененно, – лучше довольствоваться малым, чем выплескивать от неумения обращаться. Тут мы в контрах со Львом, хотя, странно, идея сама по себе ему тоже близка, но в общем у нас с ним прекрасные отношения, и он доволен мною в том, в чем я вполне откровенен и искренен.
Горячий привет тебе, Ан<не> Ал<ексеевне>, будьте благополучны.
Твой М. Сизов.
Одно из последних писем, отправленных из Москвы Сизовым Белому в ходе его заграничного путешествия, от 30 марта 1911 г., вновь помещает во главу угла фигуру Эллиса с его фанатической увлеченностью Штейнером:
В Москве все по-старому, лишь все больше и больше кипит и злится Лев. Сейчас у него закрыты иные его лица, за которые любишь его, открыто только кипящее лицо. Кипит на всех нас, на меня с Алекс<еем> С<ергеевичем> еще меньше, т<ак> к<ак> мы все-таки оказались «понятливее». Но он не может без нетерпимости, догматизма, требовательности, искажения того, что он превозносит, и того, что он ругает. Пропаганда его теософии очень полезна и она несомненно отвечает потребности, я сим ему очень благодарен за наш кружок, но он из теософии делает двуперстное знамение и, красный (!), швыряя окурками, вскакивая, разражается по адресу тех, кто думает, что можно что-нибудь дать миру, сидя в пещере или среди груд книг. Отсюда он выводит, что все такие люди – сгнившие эгоисты и что он предпочитает иезуитов, кот<орые> идут к людям. Но всего не передашь. Скажу только, что, помимо его деятельности как теософа, там, где он лично проявляется, он для меня печальное явление и в смысле культурном, и в смысле религиозном. И загадочно: он проповедует то учение, которое противно всей его собственной психологии. Я не хочу сказать, что для него самого невозможен религиозный путь, скорее, думаю, наоборот, но – что он не признает ни одного из иных возможных, кроме его пути, все это для него от диавола. А религиозных концепций 12, уж это minimum.
Определенную поддержку своим выводам относительно Эллиса Сизов нашел в лице Маргариты Волошиной (Сабашниковой), одной из первых русских учениц Штейнера, близко его знавших, постоянно с ним общавшихся и обладавшей в кругу русских штейнерианцев безусловным авторитетом. В недатированном письме к Белому, относящемся к июлю или августу 1911 г., Сизов сообщал:
Приехала Марг<арита> Вас<ильевна>. Мы со Львом были у нее, и я был рад тому, что по самым существенным пунктам Лев не получил от нее одобрения, и как раз тем, против которых говорил ему обычно я, например, да и другие. ‹…› Марг<арита> Вас<ильевна> переменилась, по моему, к лучшему во всех смыслах. Помолодела словно, сосредоточенная, спокойная, глубокая и очень трогательная, очень был интересен их разговор со Львом. ‹…› Марг<арита> Вас<ильевна> привезла перевод Экхарта и была в Мусаг<ете> по делам, связанным с ним.[1234]
Неизменная толерантность Сизова, проявлявшаяся особенно наглядно по контрасту с обрисованными чертами личности Эллиса, сказалась и в последующей истории «Мусагета», когда поводом для резкого размежевания былых соратников послужил все тот же Эллис. Время «ученичества» у Штейнера оказалось для него непродолжительным, в 1913 г. Эллис вышел из Антропософского общества и представил для опубликования в «Мусагет» трактат «Vigilemus!» – свой новый символ веры, который русские штейнерианцы – и Андрей Белый, ставший к тому времени убежденным последователем антропософского учения, в первую очередь – готовы были расценивать как идейный пасквиль. Несмотря на активное противодействие Белого, Э. К. Метнер принял решение (в октябре 1913 г.) книгу Эллиса опубликовать, после чего Белый, а также Сизов и Петровский вышли из числа сотрудников «Мусагета». При этом Сизов всемерно старался притушить накал разыгравшихся страстей. Белый свидетельствует в «Материале к биографии»: «Сизов был смущен резкостью моего тона».[1235] Сам Сизов несколько месяцев спустя обратился к Метнеру с письмом (от 25 ноября 1914 г.), в котором признавался: «Передо мной встала в большом величии правда “Мусагета” ‹…› прошу Вас не рассматривать это письмо как антропософический удильный крючок. Есть вещи, на которые я смотрю теми же глазами, что и другие, причем я называю мой взгляд антропософическим, а другие его так не называют. Я в таких случаях легко могу оставлять антропософию в стороне».[1236]
В Швейцарии Сизов участвовал вместе с Белым в 1914–1915 гг. в строительстве антропософского храма-театра – Гётеанума. После того как он в начале мая 1915 г. уехал в Россию, Белый в развернутом письме, адресованном ему, обрисовал в деталях значимое событие своей жизни – продолжительную беседу со Штейнером, состоявшуюся 27 сентября 1915 г.[1237] Уже в пореволюционную пору Белый и Сизов общались на собраниях Московского Антропософского общества, причем тогда обозначились какие-то, неясные нам, обстоятельства, о которых можно судить по глухим свидетельствам Белого в автобиографических записях, касающихся июля – августа 1919 г.: «Натягиваются отношения с советом “А. О.” и с Сизовыми»; «Инцидент с Сизовым на почве “А. О.”».[1238] Как можно судить по всей совокупности документальных свидетельств, характеризующих жизнь Белого в советскую эпоху, тесные связи его с Сизовым в это время не прослеживаются. В состав группы Ломоносова, выделившейся из Московского Антропософского общества и включавшей Андрея Белого, К. Н. Васильеву, М. П. Столярова, В. О. Станевич и др., Сизов, по всей видимости, не вошел. Впрочем, в 1920-е гг. он свою приверженность к антропософии находил возможным сочетать с участием в других неофициальных объединениях эзотерического характера: в 1920 г. вступил в Орден тамплиеров (в котором занимал одно время положение командора), а в 1922 г. – в московский Орден розенкрейцеров.[1239] Репрессии, жертвами которых стали в 1931 г. около трех десятков московских антропософов (многие из них входили в ближайшее окружение Белого),[1240] Сизова обошли стороной, однако два года спустя его арест (22 апреля 1933 г.) был проведен по Делу московских розенкрейцеров-орионийцев. Участи его в обстоятельствах набиравшего обороты сталинского террора можно было позавидовать: постановлением ОСО ОГПУ от 21 июня 1933 г. Сизов был освобожден с зачетом срока предварительного заключения.[1241]
Относительно благополучно сложилась его судьба и в последующую пору: в конце 1930-х гг. уехал в Сочи, где до 1948 г. работал в Институте курортологии СССР, вернулся с семьей в Москву в 1952 или 1953 г., где затем состоял на службе в системе Академии наук. Скончался от рака позвоночника 9 декабря 1956 г. Похоронен на московском Ваганьковском кладбище.
Андрей Белый – путешественник по Средиземноморью (новые материалы)
В 1910–1911 гг. Андрей Белый предпринял почти полугодовую заграничную поездку: отъезд из Москвы 26 ноября / 9 декабря 1910 г., – возвращение в Россию (в Одессу) 22 апреля / 5 мая 1911 г. Путешествовал он вместе с А. А. Тургеневой, с которой непосредственно перед этим соединил свою судьбу (официально брак будет зарегистрирован в марте 1914 г. в Берне). Предполагалось поначалу, что они проедут через Австрию и Италию на Сицилию, где проведут зиму (Белый запланировал начать там работу над второй частью романа «Серебряный голубь» – будущим «Петербургом»), а затем отправятся в обратный путь, по дороге внимательно знакомясь с Италией. Об этих намерениях Белый вспоминает, описывая отбытие из Москвы: «Улыбались мы, странники: странствие месяцы зрело, погнав из Москвы мимо пышных музеев в Сицилию, чтобы с началом весны нам подняться на Север: обзором Италии; так мы хотели».[1242] Согласно предначертанному плану, Белый и А. Тургенева бегло ознакомились с Венецией (12 декабря н. ст.), Римом, Неаполем (мимолетных впечатлений Белому хватило на несколько путевых очерков[1243]) и 17 декабря прибыли на Сицилию, в Палермо; через неделю переехали в Монреале – городок в 5 км от Палермо со знаменитым собором XII века. Сицилия поразила Андрея Белого более всего многослойным пересечением в ее культурных памятниках элементов западноевропейских, византийских и восточных; при этом интерес к Востоку – непознанному арабскому Востоку – возобладал настолько, что вместо задуманного долговременного пребывания на Сицилии (чему препятствовали и неудачные бытовые условия) и последующего путешествия по Италии спутники отправились на африканский берег – в Тунис (5 января 1911 г.), где провели более двух месяцев (в основном в арабской деревне Радес близ города Туниса). 8 марта Белый и А. Тургенева отплыли из Туниса в Египет, где провели почти месяц, 10 апреля прибыли в Иерусалим и около двух недель спустя отправились по Эгейскому морю через Константинополь на родину.
Время, проведенное в этом путешествии, оказалось для Андрея Белого одним из наиболее светлых, отрадных и безмятежных периодов его жизни. Путевые очерки, писавшиеся им на Сицилии и в Африке, сложились в книгу, которая, в силу ряда обстоятельств, долгое время не могла выйти в свет (в периодике появлялись отдельные фрагменты[1244]) и была наконец опубликована в переработанной редакции 1919 г., причем первый том был напечатан при жизни автора дважды,[1245] а второй так и оставался неизданным вплоть до новейшего времени.[1246]
Средиземноморское путешествие щедро документировано также письмами Андрея Белого – от коротких, но неизменно эмоционально выразительных записок, отправленных на открытках, до пространных посланий, полных развернутых описаний увиденного и прочувствованного и рассуждений культурологического характера, лишь отчасти отразившихся в «Путевых заметках». Часть этих писем, отправленных Белым матери – А. Д. Бугаевой, Э. К. Метнеру, А. С. Петровскому, А. М. Кожебаткину, вошла в публикацию Н. В. Котрелева «Путешествие на Восток. Письма Андрея Белого»,[1247] которую предваряет вступительная статья публикатора, указывающая на исключительную значимость предпринятого путешествия для творческой биографии писателя. Письма Андрея Белого, относящиеся к этой поре, напечатаны также в составе публикаций его писем к ряду корреспондентов: А. А. Блоку, М. К. Морозовой, А. М. Кожебаткину, А. С. Петровскому, А. Д. Бугаевой.[1248] Еще несколько писем Белого, отправленных в ходе этого путешествия, адресовано Н. П. Киселеву, они хранятся в архиве адресата в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ. Ф. 128).
В «Воспоминаниях о Блоке» Андрея Белого упоминаются «лица, о символизме не написавшие ни единой строки»; тем не менее «они все вынашивали атмосферу, слагавшую символизм».[1249] Один из них – Николай Петрович Киселев (1884–1965), друг Андрея Белого с середины 1900-х гг., входивший в организованный им и Эллисом кружок «аргонавтов», а с 1910 г. – один из ближайших сотрудников московского издательства «Мусагет», в котором Белый играл важнейшую роль. В пореволюционные годы Киселев активно трудился в области книговедения и библиографии, став одним из самых крупных профессионалов,[1250] однако и эта относительно безопасная ниша не спасла его от преследований по службе, ареста в 1941 г., лагеря и ссылки.[1251] Будучи в «Мусагете» одним из инициаторов издательской серии «Орфей», призванной публиковать писателей-мистиков, Киселев и в советское время сохранял интерес к эзотерическим учениям и стал наиболее компетентным специалистом по истории масонства и мистицизма в России.
В списке «Люди, имевшие для меня величайшее значение» (в рубрике «Ровесники», включающей 12 имен) Киселев на первом месте указал: «Б. Н. Бугаев».[1252] В свою очередь и Андрей Белый не раз упоминает Киселева в ряду лиц, образовывавших «целое душ, кровно связанных»,[1253] и отмечает особенную духовную близость с ним в 1910 г.[1254] – в пору, непосредственно предшествовавшую средиземноморскому путешествию. Естественно, что Киселев, с которым Белый время от времени переписывался начиная с 1905 г., оказался в числе тех корреспондентов, с кем он готов был делиться своими новыми впечатлениями и переживаниями.
Первое в этом ряду писем к Киселеву – открытка (с фотографией: «Palermo. Chiesa di S. Francesco d’Assisi, costruzione di stile gotico»), отправленная из Палермо, по-видимому, 19 декабря 1910 г. (почтовый штемпель прочитывается неотчетливо) и полученная в Москве по адресу «Мусагета» 12/25 декабря:
Милый Николай Петрович!
Привет! Вена – туманна; Венеция – жемчужина в туманном атласе; Неаполь – злой, пестрый арлекин в прекрасном наряде, курящий трубку (Везувий). Средиземное море – ласковое; Палермо – прекрасен, добродушен и бестолков. Но солнце, море, апельсины, цветы – ласкают. Привет: все хорошо. Целую.
Борис Бугаев.
От Аси привет. Супруге[1255] Вашей привет. Всему привет!
За этой открыткой последовала еще одна – из Монреале (отправлена 28 декабря 1910 г., получена в Москве 20 декабря ст. ст.); фотография на ней дает панораму Монреале, на которой Белый обозначил буквенные указания, проясненные в тексте:
Милый Николай Петрович!
Привет. Все хорошо. Вот вид Монреаля, где мы теперь живем. Дико, грозно, странно, много арабского вокруг; но – хорошо Все помню… (а) веранда плоской крыши, где мы живем. (b) Монреальский собор 12 века с лучшей мозаикой в мире; сплошь мозаичный. Ну, Христос с Вами.
Любящий Б. Бугаев.
P. S. Вашей супруге привет.
Более развернутый рассказ содержится в следующем письме, от 13/26 января 1911 г. (Maxula-Rades), полученном в Москве 21 января ст. ст.:
Милый, близкий
Николай Петрович,
пишу Вам с чувством некоторого беспокойства. Как? Все ли благополучно. Хотел бы от Вас иметь хотя бы несколько слов….
Как находите Вы сейчас «Мусагет». Друзья мне о «Мусагете» не пишут ничего ровно. А хотелось бы знать Ваше мнение.
Бердяев мне пишет, что он очень ценит знакомство с Вами.[1256] Как находите Вы Бердяева? Как Вы, и что Москва?
Пишу всё вопросами. О себе же скажу только, что все хорошо, ясно и радостно. Внутренно нет никаких туч, но есть внешние сложности.
Сейчас мы живем в арабской деревне под Тунисом.[1257] С арабами хорошо и просто. Местность очаровательная; ничего подозрительного нет. В арабах нет ничего монгольского; они благородны, самостоятельны, почтенны; нигде я не видал столько почтенных старцев, как в Тунисии. Дом, где мы живем, совершенно чист от всяких вибраций; чувствуешь себя в известном смысле безопаснее, чем в Москве, – о, насколько безопаснее: никакой напряженности, никаких психических, чуждых волн.
В Монреале было совсем не так: очень светлое чередовалось с очень темным.
Милый Николай Петрович, прошу Вас, по получению письма, напомните Кожебаткину, что у меня денег нет уже давно, телеграммы не посылаю (дорого), и что денег жду переводом по телеграфу.[1258] Мой адрес. Afrique. Tunisie. Maxulla-Radès (près de Tunis). А Madame Rebeyrol, buraliste de Radès. Мне.
Христос с Вами. Очень люблю и помню. Желаю Вам нового года. 1911 год – решающий. Остаюсь любящий Вас
Б. Бугаев.
P. S. Вашей супруге привет.
Следующее письмо Белого отправлено Киселеву два месяца спустя, 14/27 марта 1911 г., из Каира; в нем зафиксированы уже иные впечатления от арабского мира, во многом контрастные с теми, которыми одарила писателя земля Туниса. Пленившая Белого цельная средневековая культура арабского Магриба сменилась интернациональной чересполосицей современного арабского Египта:
Милый, милый
Николай Петрович!
Очень вдруг захотелось сказать Вам несколько слов: приближается август. Мы должны весной встретиться. Мы должны вместе провести хотя бы один день. Что будет, не знаю. Судя по отрывкам во французской прессе, в России – смутно, чревато событиями. Более трех месяцев не читал я русских газет. Ничего не знаю. Здесь же спокойно, пошло, мертво, т. е. пошло везде, где европейская цивилизация наложила руку на Африку; там же, где нет Европы, безобидно, чисто, свободно, но ничем не чревато. Отсюда мне кажется, что узлы мировых событий – в России. Еще и еще, и еще говорю всему: да! Буду в Москве, вероятно, в первой половине мая. Непременно должны встретиться!
Мы ждем денег, чтобы плыть в Иерусалим. В Иерусалиме пробудем с неделю; недели две отдохнем в Греции. А там – в Россию. Приедем в Луцк.[1259] В Луцке проживу несколько дней, чтобы потом на неделю, на две приехать в Москву. Лето провожу в Луцке; в августе, конечно, буду в Москве. В августе следует нам быть вместе.
Милый, как странно: мы с Вами все время сменяем друг друга. Помните прошлую весну и лето. Тогда были Вы. Осенью – я. Зимой опять Вы.
Что сказать о Каире. Каир безобразен, грязен, гадок. И Каир – прекрасен. Нил, сады Булака, окрестности – восторг; сам же Каир – пыжащийся быть цивилизованным турка да миллионщик англичанин, дерущий за всё огромный процент; процентом обложены сами пальмы. Впечатление от здешних англичан, как и от здешних «арабов» (?!) самое гнусное; арабы – ничего арабского в них нет; они растворились в феллахах и турках. Насколько сохранилась арабская культура на севере Африки, настолько провалилась она в Египте. Каир – центр африканской деморализации; и Каир – центр цивилизации. Здесь даже есть у арабов свой египетский университет; а египетские студенты кричат о свободе и равенстве; в прошлом году они освистали Рузвельта,[1260] обратившегося к ним с речью. Это ли – не «прогресс»? И однако «гаже» цивилизованного египтянина трудно себе представить. Университет – и на 1000 четыре грамотных! В Каире и под Каиром «декадентские» пейзажи; Каир неуютен; самая здесь природа грозна, сердита, печальна; и вместе с тем чисто тропическая роскошь.
Но самое неприятное здесь – блохи; они прыгают всюду по улицам; стоит пройтись по Каиру, как домой с собой приносишь с десяток блох. Мы с Асей воюем с блохами немилосердно; и с надеждой ждем денег, чтобы бежать из Египта. Насколько в Тунисии хочется жить, настолько удовлетворяешься беглым обзором Каира. Ну прощайте. Христос с Вами. Остаюсь крепко любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. От Аси привет.
Последнее из этой серии писем Белого к Киселеву было отправлено из Иерусалима на открытке с видом Масличной горы. Недатированное, оно написано незадолго до православной Пасхи (в 1911 г. – 10 апреля ст. ст.) и проникнуто ощущением близости предстоящего праздника:
Хорошо, светло – радостно: несказáнно. Цветы и камни – вот Палестина. Иерусалим продолжается в иудейские горы; это не горы, а несложенные стены Грядущего Града: так это ясно, что только слепцы не увидят. Будет, будет! Глядя на горы, понял Кабаллу. Легко дышится; отдыхаем от казней Египта. Храм Гроба Господня… – я им ошеломлен (пишу о чисто внешнем впечатлении): вовсе не то, что можно думать. Все живо там. Напряжение страшное. У гроба – монах католик и монах православный (рядом): церкви соединились, соединены неразрывно фактом (храмом).
Здесь проживем. Здесь все говорит. Здесь точно дома…
Пасху встретим здесь.
Христос Воскресе! Ура России!
Вынашивавшиеся ранее планы последующего пребывания в Греции – и тем самым восполнения одного культурно-исторического ареала другим, Иерусалима – Афинами, – реализовать не удалось. Посетив лишь Митилены, греческий порт в Эгейском море, Белый и А. Тургенева провели три дня (1–3 мая н. ст.) в Константинополе и оттуда отправились Черным морем в Россию.
Андрей Белый и Эллис о задачах «Мусагета»
В общих чертах история московского издательства «Мусагет» и выпускавшегося им журнала «Труды и Дни» нашла свое отражение в ряде работ новейшего времени.[1261] С необходимой полнотой картину «мусагетской» деятельности можно будет воссоздать после введения в читательский и исследовательский оборот наиболее значимых документов, ее освещающих, и прежде всего после опубликования переписки Андрея Белого и Э. К. Метнера, двух главных организаторов и руководителей издательства, подготавливаемой ныне к печати в полном объеме. Имеются в архивных фондах и многие другие неопубликованные документы, существенно дополняющие и корректирующие ту совокупность сведений о «Мусагете», которая зафиксирована в печатных источниках. В их числе – программные декларации Андрея Белого и Эллиса, третьего инициатора «мусагетского» сообщества, предназначавшиеся, по всей вероятности, для помещения в журнале, который задумывался в самом начале организационной деятельности по созданию «Мусагета» (затем его издание было отложено), либо в рекламном каталоге готовившихся к печати и запланированных книг.
В отличие от «Скорпиона», другого московского модернистского издательства, в 1900-е гг. наиболее престижного и наиболее толерантного в своем приятии всех форм и разновидностей «нового» искусства, «Мусагет» в своих исходных установках формировался скорее как объединение узко-корпоративное, хотя и провозгласившее как свой лозунг предельно общее и всеобъемлющее понятие культуры. Символизм осмыслялся и отстаивался «мусагетцами» как способ освоения унаследованных, подлинных и «вечных» культурных ценностей и как путь к созиданию на этой благотворной почве ценностей новых. Из широчайшего многообразия аспектов культуры для определения идейной платформы «Мусагета» отбирались главным образом те, в которых прямо или косвенно прослеживалась религиозно-философская проблематика. Генетически «мусагетский» союз восходил к организационно неоформленным объединениям энтузиастических мистиков, группировавшихся сначала вокруг Андрея Белого и Эллиса (кружок «аргонавтов», функционировавший в первой половине 1900-х гг.), а затем на собраниях у Астровых (середина 1900-х гг.), по следам которых были изданы в 1906 г. два литературно-философских сборника «Свободная совесть». Неоднократно возникавшие попытки этой общности, лишь частично – в основном в лице тех же Белого и Эллиса – входившей в круг активно вовлеченных в литературную жизнь писателей-модернистов, заявить о себе как о самостоятельной группе лиц, со своими особыми творческими задачами и целями, стали реальностью в 1909 г., когда Э. К. Метнеру удалось изыскать средства и возможности для учреждения собственного издательского предприятия.
Идея тождества символического образа Мусагета и синтетического понятия культуры была исходной во всех предварительных обсуждениях программных положений, которым должно было отвечать задуманное начинание. Еще за два года до того, как задачи формирования нового издательства и журнала обрели конкретную почву, Э. К. Метнер писал Эллису (15 апреля 1907 г.): «Я согласен стать одним из… (или, если хотите, главным) редактором Мусагета: 1) с января 1908 г. ‹…› Что журнал можно (при деньгах) начать уже с 1908 г., в этом я, по-видимому, еще меньше сомневаюсь, нежели Вы. Книгоиздательство под заголовком “Культура” может, начав функционировать уже теперь, зарекомендовать себя в течение 1907 г. двумя-тремя хорошими книгами (безразлично, оригинальными или переводными); каждая книга может состоять из 1, 2, 3 выпусков (томов), но не больше ‹…› Под знаменем “Культуры” можно издавать и рассуждения и стихи и изящную прозу. Хорошо бы начать с какого-н<ибудь> сочинения о культуре в нашем новом синтетическом смысле. Или с книги о Данте, о Гёте ‹…›». Перечисляя далее наиболее желательные, в смысле реализации программных установок и идейно-эстетических предпочтений, книги, среди них – «Арийское миросозерцание» Х. Ст. Чемберлена, «Произведение искусства будущего» Р. Вагнера, «Поэтика» Аристотеля, «Наука поэзии» Горация, «О народном красноречии» Данте, фрагменты из Гёте, Ницше, Вагнера, «заключающие культурно-руководящую мысль», и т. д., Метнер завершал: «Если издать несколько таких книг, то, в случае их успеха (в чем я не сомневаюсь), можно начать Мусагет».[1262]
В 1909 г., когда были начаты подготовкой к печати первые «мусагетские» издания – «Символизм» Андрея Белого и «Русские символисты» Эллиса,[1263] – параллельно формировался новый литературный центр, объединявший писателей-модернистов: петербургский журнал «Аполлон», во многом осваивавший и обновлявший те эстетические установки, которым следовали «Скорпион» и близкие ему, но менее влиятельные объединения и по отношению к которым дистанцировался триумвират в составе Э. Метнера, Андрея Белого и Эллиса. Панэстетизму «Аполлона» они противополагали иное содержание того же греческого мифологического образа: Аполлон-Мусагет, водитель муз, знаменовал не только служение искусству, но и гармоничное, согласованное воплощение всех возможных форм творчества, служение культуре в высшем смысле этого слова, подразумевающем совокупность универсальных ценностей, выработанных веками исторического развития и указующих пути к постижению ценностей высшего порядка. В 1909 г., в пору определения идейной платформы «Мусагета», Андрей Белый написал статью «Проблема культуры», опубликованную впервые в составе его книги «Символизм» (1910). Обрисовав в ней предельно общие параметры и критерии, которым призвано соответствовать анализируемое понятие, Белый заключал: «… правы законодатели символизма, указывая на то, что последняя цель искусства – пересоздание жизни; недосказанным лозунгом этого утверждения является лозунг: искусство – не только искусство; в искусстве скрыта непроизвольно религиозная сущность. Последняя цель культуры – пересоздание человечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого творчество кует ценность».[1264]
Сходного содержания и пафоса исполнена декларация Андрея Белого, указующая на задачи и принципиальные установки, которым призвано следовать в своей практике издательство «Мусагет». Во многом созвучны с высказанными Белым идейно-эстетические основоположения, которые выдвигал Эллис: собственно эстетические ценности и пути принимаются им лишь в унисонном сочетании с иными путями, высшего порядка, философскими и религиозными прежде всего, и оправданы они, по убеждению «мусагетского» идеолога, лишь стремлением приблизиться к «предпоследнему», за которым открывается «последнее» – вечная и цельная религиозная истина, полнота абсолютного бытия. Упомянутая Эллисом теофания (в изначальном смысле – дельфийские празднества в честь Аполлона), разумеется, осмыслялась им в сугубо религиозно-мистическом плане – как воплощение божественной мудрости, и сведение к ней, как к чаемой сверхзадаче, всех программных «мусагетских» установлений вызвало неприятие у Э. К. Метнера, гораздо более широко и без максималистского пафоса представлявшего себе открывавшиеся перед новым издательством культуросозидательные перспективы. «Необходимо переделать, – написал он на обороте последнего листа с текстом эллисовского «манифеста», – взять всё в более откровенно-субъективном тоне, не от группы. Нельзя о теофании». Таким образом, уже на самых первых порах деятельности «Мусагета», в процессе выработки объединяющих идейных установок, между учредителями издательства наметились те несогласия и разномыслия, которые несколько лет спустя приведут к острым конфликтам и в конечном счете к распаду «мусагетского» сообщества.
Некоторые из положений, высказанных в декларациях Андрея Белого и Эллиса, нашли свое отражение в программных текстах, опубликованных в 1912 г. в № 1 «Трудов и Дней», двухмесячника издательства «Мусагет», – в анонимном предисловии «От редакции», во «вступительном слове редактора» («Мусагет») за подписью Эмилия Метнера, в статье «Орфей» Андрея Белого (формулировавшей задачи «орфической», религиозно-мистической секции, мыслившейся как одна из составных частей «Мусагета»). Предшествовавшие же им опыты обоснования «мусагетской» платформы, своевременно, в 1909–1910 гг., не доведенные до печати, отложились в архиве издательства.
Декларации Андрея Белого и Эллиса публикуются по автографам, хранящимся в фонде издательства «Мусагет» в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки: РГБ. Ф. 190. Карт. 55. Ед. хр. 14 (текст Андрея Белого); Там же. Ед. хр. 15 (текст Эллиса). Некоторые однотипные сокращения, встречающиеся в этих рукописях («книгоизд-во», «к-рый» и т. п.), раскрыты без соответствующих обозначений в редакторских скобках.
Андрей Белый
Задачи Книгоиздательства «Мусагет»
Проблему обоснования понятия «культура» выдвигают многие доселе не связанные друг с другом течения современности. Чаще и чаще наталкиваемся мы на слово «культура» в статьях современных художников, философов, мистиков и ученых. Чаще и чаще вырастает потребность отчетливей определить эти ссылки на культуру; отнесением к ряду культурных ценностей оправдываем мы жизненность современных произведений творчества. «Это произведение культурно», говорим мы; и этим положительно утверждается значимость любого произведения; вопрос же, в чем признаки культурности наличного произведения искусства, поднимается реже. Понятие «культура» часто признается самоочевидным. «Культура», говорим мы, и будто бы понимаем друг друга; часто понимание это основано на самообмане, как основаны на самообмане частые нападки на культуру, и культуртрэгерство в лагере представителей как национализма, так и народничества. Народное и национальное творчество тогда противополагается культуре. Все самобытное, непосредственное признается стоящим вне культуры; все нарочитое, опосредствованное признается культурным. [С культурой связывается представление о чем-то ненужном].[1265]
Понятие о культуре принадлежит к наиболее сложным, в сознании не расчлененным понятиям; оно кроет не одно противоречие (нация и вненациональность, непосредственность и опосредствованность, оригинальность быта и внебытовая цивилизация и т. д.). Для одних только цивилизацией оказывается культура; ее смысл в механике прогресса, а не в органическом развитии национального творчества до сверх-национальных вершин; для других задачи культуры определяются рассмотрением существующих, исторических памятников; третьи связывают культуру с нацией; четвертые обратно: нацию и культуру противополагают. Формула культуры в зависимости от постановки вопроса всякий раз оказывается иной.
Разнообразие в понимании культуры оказывается связанным с разнообразием путей, ведущих к постановке вопросов о культуре. Для художника, участвовавшего в творчестве эстетических вкусов современности, становится ясным его роль как деятельного участника в выработке культуры; обосновать целесообразность своей деятельности становится ему совершенно необходимым. И вот вопрос об участии художника в общей культурной работе расширяет чисто специальные задачи его до задач общих; художник в культуре приобщается обществу. Для историка искусств, для критика самая оценка творчества зависит от ясного понимания задач творчества вообще: систематика форм исторического творчества необходима для него; а эта систематика и есть путь к определению того, что такое культура, ибо определение культуры начинается с описания фактов культуры; памятники творчества суть эти факты. И художественный критик ищет мерило оценки в истории эстетики. А история эстетики в методах связана с историей вообще. С своей стороны историк чаще и чаще уделяет внимание фактам творчества, ибо методы исторического исследования упираются в проблему индивидуального творчества, этого источника всякой творческой культуры. Художник и эстетик в постановке вопросов о культуре неожиданно встречаются с историком. К культуре же приходит и современный философ, ища оправдания своей деятельности как деятельности творческой и живой.
В настоящее время культура есть место встречи и пересечения путей, вчера обособленных; теоретический интерес к вопросам культуры есть показатель стремления к поискам общих лозунгов деятельности. Культура есть воистину ныне главнейший критерий ценности. Стремление к переоценке исторических ценностей искусства, философии, науки, религии наблюдали мы вчера; характерны в этом смысле попытки в различных сферах: в сфере искусства (Ибсен, Ницше, [Уальд,][1266] Гюисманс, Стефан Георге и другие), в сфере философии (Коген, Риккерт, Гуссерль и другие), психологии (Джемс, Гефдинг), религиозной[1267] (Мережковский, католический модернизм, Гефдинг, теософия), научной (Максуэлл, Томсон, Кроукс,[1268] исследования Кюри и т. д.). В частности в искусстве результатом переоценки оказались те многообразные течения, которые прокладывали себе путь то под ничего не говорящим лозунгом модернизма, то под другим лозунгом, таящим синтетическое мировоззрение (символизм). Эти пути, расширяясь, не могли не привести к новому обоснованию принципов эстетической культуры в связи с культурой вообще. Тут впервые эти течения встретились с аналогичными течениями философской, научной и религиозной мысли. В свете новых, привходящих путей явилась потребность переоценить самую переоценку эстетики; общая переоценка ценностей снова выровняла в один ряд как новые, так и старые эстетические ценности; в искусстве возник интерес к древним памятникам культуры именно там, где с особой энергией выдвигались новые эстетические формы (у нас – интерес к Пушкину, Баратынскому, Тютчеву, в философии – интерес к докантовской философии, к философии древней, к средневековой мистике). Появилась задача оценить вчерашнюю переоценку, подчеркнуть в ней подлинно культурную сторону и, наоборот, распроститься с преходящими и случайными утверждениями (хотя бы утверждениями крайнего субъективизма). Нет еще у нас разработанного понятия об эстетической культуре. Это понятие может отчетливей определиться из бóльшего знакомства с ближележащими к искусству творчествами (философским, религиозным), одушевленными стремлением к решению основного, связующего их вопроса: «Что есть культура». Ответ на этот вопрос может родиться из органического представления о цельности творчества, из сопоставления трудов художников, философов, мистиков и ученых, устремленных к одной точке: эта точка – нас интересующий вопрос, вопрос о культуре. Ответ на этот вопрос есть ответ будущего. Вера в единство и цельность разнообразно проявляемых путей культуры есть одушевляющее стремление нашей деятельности. Культура есть цель, а не средство, научного, философского и эстетического творчества, их далекое, религиозное высветление. В этом смысле вера наша в культуру религиозна. Отношение этой религиозности к существующим религиозным формам есть последнее наше устремление; этот вопрос относим мы к интимному исповеданию наших сотрудников, официально пока мы его не беремся решать: этот вопрос официально и не решаем в современности.
Вера в единство и религиозную цельность последних судеб разнообразных путей культуры есть наш единственный догмат; в этом единственном догмате мы можем совпасть и с философом, и с художником, и с ученым, и с деятелем в области религии; в этом же догмате можем мы разойтись с тем, другим, третьим, четвертым. Этот единственный догмат вместе с тем не затушует противоречий в частностях понимания культурных путей. В этом смысле стремимся мы не только к единству в многоразличии, но и к многоразличию в единстве.
Ценности предстоящих культур являются для нас рядом средств, восходящих к загадочному идеалу единой, цельной, религиозной культуры; и потому систематика этих ценностей уже на один шаг приближает нас к решению основного вопроса. Этот единый шаг более, быть может, всех дальнейших шагов; этого шага не знаем мы в современности; всё доселе сделанное искусством и философией есть подготовка к первому шагу. Книгоиздательство «Мусагет» хотело бы взять на себя скромную роль посильного участия в систематике и истолковании эстетических ценностей недавнего прошлого; это скромное участие в первом шаге к разрешению проблемы культуры есть главная задача Книгоиздательства «Мусагет».
Признавая искусство могучим орудием культуры, К-во «Мусагет» сериозно считается с искусством последних десятилетий, с символизмом; в символизме, как литературной школе, были выдвинуты лозунги, вскрытие, осознание и развитие которых неминуемо ставило самую школу в зависимость от теории символизма; теория же эта осознается нами не только как синтетическая искомая современностью система, но и как основа жизненного пути, связующая нас с вечными запросами религий; символизм заявил о себе в странах романских как новая литературная школа; в странах германских символизм сказался в новом мироощущении[1269]; в странах славянских, не отказываясь от стилистических (литературных) и методологических (философских) проблем, символизм должен сказаться и как путь жизни (моральный и религиозный смысл символизма); эти три этапа развития символизма намечают как бы троякий[1270] его смысл (эстетический, философский, религиозный). Задачи русского символизма 1) обосновать стилистические завоевания символистов идеологической надстройкой, 2) связать последние идеологические построения символизма с последними целями искомой культуры. В этом направлении развитие русского символизма, расширяясь в идеологии, из узкого русла школы впадает в широкий простор волнующих нас культурных задач грядущего.
К-во «Мусагет» признает культурную роль русского символизма, поскольку этот последний ставил и осознавал свои задачи в «Мире Искусства», отчасти «Новом Пути» и, наконец, в «Весах». В этих последних намечались вехи идеологии; в расширении и углублении этих вех он признает свою преемственность от до него бывших предприятий. Но поскольку К-во «Мусагет» более задается связью русского символизма с проблемами общей культуры, постольку деятельность его будет протекать в ином направлении. Не отношение между старым и новым искусством интересует нас главным образом; нас интересуют черты вечного и случайного как в старом, так и в новом искусстве. Ознакомление читателей с произведениями символистов лишь одна (и отнюдь не главная) наша задача. В этом отношении «Мусагет» признает первенствующую заслугу за высококультурным издательством «Скорпион».
Наоборот, преемственная связь с прошлым будет подчеркиваться; произведения прошлого, в особенности такие, которые нам по-новому близки, от времени до времени будут представлены вниманию читателя (например, иные из произведений романтиков).
Также[1271] сочинения теоретического характера, обосновывающие лозунги символизма, будут представлены вниманию читателя как в сборниках, так и в специальных работах.
Что касается до произведений, затрагивающих [специально][1272] задачи русской культуры, а также до серии книг, посвященных русским мыслителям, то К-во «Мусагет» не стремится проявить деятельность в этом направлении, имея в виду дружественное издательство, посвятившее себя означенным задачам («Путь»).
Мы сосредоточиваем свои силы на проблемах обоснования эстетической культуры; а такое обоснование связывает эстетику со всей сложностью проблем философии культуры; культура оказывается местом встречи философии с символизмом, еще недавно разделенных сектантским догматизмом как со стороны русских философов, так и со стороны некоторых представителей нового искусства. И если нам дорог Ницше, Ибсен, а в России Иванов, Мережковский, Брюсов, Блок и другие, то с другой стороны мы защищаем философию от отношения к ней, как объекта для лирической трели. Дант, Гёте, романтики вместе с Кантом, Фихте, Шеллингом – далее вместе с Риккертом, Гуссерлем и Христиансеном дороги нам прежде всего как деятели культуры. Поэтому К-во «Мусагет» ставит себе задачей издание переводных и оригинальных сочинений, затрагивающих проблемы философии культуры. Для последней цели оно взяло на себя издание русской серии международных выпусков по философии культуры «Логос». Что же касается до этического момента, неизбежно присущего творчеству и заставляющего определять последние цели творчества как цели религиозные (пересоздание жизни), то включение этого момента углубляет пределы искусства до точки соприкосновения символизма с мистическою символикой; для ознакомления с этой последней, а также ввиду переоценки недавнего прошлого по отношению к проблемам мистики К-во «Мусагет» выделяет серию изданий «Орфей», посвященную виднейшим мистикам прошлого («Гераклит», «Рэйсбрук», «Экхарт», «Бёме»).
Принимая и разделяя главнейшие лозунги символистов, признавая необходимость философского их обоснования, ища связи между идеалом будущего и прошлым в настоящем, мы определяем свою задачу как участие в общей работе обоснования проблем культуры.
Эллис
О задачах книгоиздательства «Мусагет»[1273]
В основе всей возможной деятельности «Мусагета» лежит одна общая идея, одно миросозерцание, до сих пор лишь крайне приблизительно выявленное. Внимательное изучение книг, изданных «Мусагетом», приводит к осознанию общего плана всей работы. В чем же эта основная идея, как реализуется она в общем плане издательской работы? На эти вопросы, быть может, будет не лишним дать краткий, схематический ответ в форме предисловия к проспекту, сводящему к итогу весь наличный материал.
Прежде всего следует сказать совершенно определенно, что творческая работа лиц, посвятивших свои силы издательству, совершенно свободна; в осуществлении ее не может быть речи о догматическом, внешнем руководительстве одних авторов другими; также чужды «Мусагету» и все условные, общепринятые рамки современной односторонне-преходящей «культуры», хотелось бы сказать, «культуры среднего сознания». Внешняя пестрота, внешнее разнообразие тем, школ, методов, уклонов, излюбленных авторов, эпох и схем на первый поверхностный взгляд способны даже озадачить того, кто стал бы искать в «Мусагете» тенденцию, школу или направление в общепринятом смысле.
Тем не менее в этой свободе, в этом разнообразии внешних форм и кроется общая идея «Мусагета», идея существенно характерная для современности, понимаемой в смысле творческого самоопределения. Для всех нас в одинаковой мере немыслимы возвраты к ценностям, уже раз навсегда подвергнутым небывалому испытанию; после завоеваний точной науки равно невозможен для всех нас обскурантизм примитивной мистики и догмы; после расцвета великолепных форм современной эстетики мы не можем поступиться радостями созерцания совершенной формы; пережив глубокий переворот в сознании современного человечества, нашедший свою первую и самую близкую нам форму в «символическом движении», мы раз навсегда покончили со всеми видами примитивного реализма, одинаково чуждого нам как в форме позитивизма мысли, так и в форме художественного реализма.
С другой стороны, самый кризис «соврем<енного> символизма» уже успел нас многому научить, прежде всего доводя до самоотрицания идею самодовлеющей Красоты, исключительно познавательного момента художественного творчества и преувеличенную игру формы с самой собой. Все более и более «как» символического процесса сменяется интересом к «что» символизации, к вопросу о том, где ляжет переход от субъективной символизации к объективной символике, а это приводит нас неизбежно к чисто религиозной проблеме.
Во всяком случае всех нас объединяет идея иерархической подчиненности (при относительной свободе) художественного символизма живым и вечным истинам мистического постижения, также как и идея взаимного оплодотворения морали и эстетики. Для нас для всех эпоха имморализма и эстетства – кончена безвозвратно! Если в двух словах выразить сущность той свободы и многосторонности, которые лежат в основе всех исканий, намеченных нами, то должно будет сказать, что основная идея «Мусагета» – предчувствие того общего, нового синтеза, который, быть может, на наших глазах даст своеобразное и единственно возможное завершение всем разрозненным стремлениям нашей эпохи, скажет то единое и последнее слово обо всем различном и предпоследнем, которое явится относительной формой вечного и единого откровения. Конечно, не мы призваны сказать это слово, но мы не можем вместе со всеми выразителями нашего времени не стремиться всеми силами духа к тому, чтобы услышать и сделать слышимыми для других каждое даже самое ничтожное с виду предвестие, каждое легчайшее дуновение того приближающего<ся> слова, в приближении которого мы не сомневаемся и самый приход которого мы можем ускорить лишь верой и призыванием!
Все самые знаменательные выразители нашей переходной эпохи ратовали и ратуют за идею универсального синтеза, все от самого значительного мыслителя нашей родины Вл. Соловьева и до блестящих и глубоких попыток его антипода Ф. Ницше, дерзнувшего через символизм коснуться последней тайны греческой религии и культуры, от хаотических прозрений о новом грядущем царстве духа Г. Ибсена, столь же близких нам, как и вся творческая эволюция Р. Вагнера, сочетавшая две основные религиозные идеи: идею искупления и идею мессианизма, как вновь обретенное сокровенное в творчестве Гёте, и вплоть до возродившихся повсюду в наши дни глубоких синтетических исканий в области гнозиса, теогнозии и теософии, среди которых мы видим обобщения, стоящие на высоте современной культуры и одновременно питающиеся первично-чистыми струями, как бы уже утраченных, родников религиозного опыта. В свете исканий этого синтеза вся современная культура, перед которой мы преклоняемся, все же представляется нам лишь отдельными разрозненными частями еще не существующего целого, лишь музеем, где довлеет себе каждая отдельная ценность. Мы должны изучать и постигать каждую ценность в этом музее, но мы уже знаем, что истинная культура всегда есть храм, а не музей. Особенность нашей эпохи в том, что наша будущая, живая и истинная культура будет музеем, ставшим храмом. Пусть же музей нашей культуры станет храмом! Вот самый общий и самый заветный наш лозунг! Кто почувствует его, для того станут совершенно понятны и приемлемы все три главные линии, по которым направляется работа «Мусагета»: линия эстетическая, говоря точнее чисто-символическая, преемственно возникшая из завоеваний символистов первого периода: Бодлэра, С. Георге и многих других, однако поставленная в иерархическую связь с целым сложным организмом, который всего точнее назвать грядущей религиозной культурой, линия философская, исходный пункт которой находится в многообразных систе<ма>тических исканиях современной философии стать из абстрактно-спекулятивной, условной и узкой схоластики понятий философией культуры, и, наконец, самой существенной и самой заветной для нас всех линией, нашедшей свое проявление в серии изданий под общим названием «Орфея». Это течение в нашем издательстве завершает, сводит к внутреннему единству все отдельные элементы и, кроме того, ставит в интимную связь все целое культурное здание с еще более глубоким, сокровенным источником, происхождение и внутренние законы развития которого являются для нас тайной; если «Мусагет» в общем есть искание религиозной культуры будущего, то миссия «Орфея» именно в том, чтобы культурные ценности, созданные «Мусагетом» в собственном смысле слова, освятить и, сопоставляя между собою, соподчинить их веянию религиозной тайны; лишь сравнительно низшие формы ее усвояемы нами, формы, лежащие в области непосредственного нашего воздействия, высоты же ее остаются заповедными. Сквозь сферу нам родную и близкую, сквозь дух музыки и реальные события уже в жизни проявившегося откровения (созерцания великих мистиков и их свидетельства) движемся мы к тому самодовлеющему первоисточнику великого бытия и ведения, который в своем последнем проявлении является для нас уже не фактом действительности, не символом в процессе созерцания, не идеей или отдельным элементом космоса, а Ликом, единственным и совершенным во всей своей полноте, ликом Христа.
Эта широкая и свободная идея синтеза, вдохновляющая нас, поставлена перед нами в настоящий момент строго и определенно. Если наши предшественники должны были главным образом совершить мучительную операцию раскрытия органов восприятия высших миров, доказать возможность потустороннего созерцания преимущественно в формах искусства, опрокинуть все узкие методы простого наблюдения чувственной области явлений, разрушить и расшатать наивные восприятия мира и самые формулы последних, наша задача существенно иная: не упуская ничего из завоеваний прошлого, мы призваны укрепить, оформить и сделать реальной, по-иному реальной, свою связь с высшим миром. Не творческое «как», а действительно-сущее «что» – влекущий нас объект на всех наших путях; не в глубине собственного я должны мы искать истинного знания, а в источниках выше и глубже лежащих, чем наше я, и не в одной своей личности, а в коллективном восприятии и осуществлении высших истин; не радости созерцания, как бы они ни были прекрасны и бескорыстны, а трудная работа воплощения и жажды действия – нас влекут! Поэтому главный лозунг, написанный на нашем знамени, – конец индивидуализма наших дней и окончательный разрыв со всеми видами имморализма!
Такова основная задача и основная идея «Мусагета»! Мы полагаем, что залогом ее стойкости и плодотворности является не только ее интимная связь с самой глубинной потребностью времени, т. е. настоящего; все самые значительные этапы прошлого в той же мере подтверждают ее правомерность и жизненность.
В сущности до эпохи падения великой средневековой системы, одинаково охватывавшей область жизни и познания и одинаково строго и стройно подчинявшей их религии во всех разветвлениях тогда понимаемой культуры, до эпохи падения теократического монизма средних веков и вплоть до нашего времени мы не знаем ни одной попытки универсального синтеза, даже ясного осознания всей глубины и необходимости такой задачи. Кажется, вся история за это время являет собой последовательную смену отдельных попыток поставить во главу миросозерцания человечества ту или одну отдельную идею, отдельный элемент культуры. По этому именно признаку всего удобнее классифицировать отдельные эпохи: эпоху Возрождения с ее реабилитацией плоти, личности и первыми попытками реализма на всех планах, эпоху культа общественности и социальной действительности с французской революцией во главе, эпоху научного и философского позитивизма, перешедшего в явно антикультурные формы материализма, поколебленного окончательно лишь на наших глазах точной наукой, эпоху расцвета идеалистической метафизики и параллельно критицизма с Кантом и Гегелем во главе и, наконец, только что мучительно и страстно пережитую нами эпоху исключительной веры в самодовлеющее искусство, эпоху эстетизма.
Каждая из этих эпох была права частично и была неправа существенно, роковым образом считая отдельный элемент культуры за последнее, не чувствуя, что все элементы культуры держатся не взаимно и не подавляя друг друга, а лишь иерархически соподчиняя себя высшему и лежащему вне человеческой творческой деятельности источнику, служа лишь дружными проводниками сил и влияний мира иного, высшего, сверх-человеческого! Дело всякой культуры – работа усвоения, приложения, самосознания, сущность всякой культуры сокровенна, ее сущность – теофания!
Наше время, трагическое в своей сложности, получает спасительное благословение в двух идеях: в строгом сознании относительности каждого отдельного элемента культуры, в предчувствии нового универсального синтеза и в непоколебимом убеждении, что первоисточник этого грядущего синтеза в религии.
Не нам, конечно, создать синтез религиозной культуры будущего; но мы счастливы, работая над подготовлением почвы для него, работая аналитически, над отдельными, составными членами организма и провозглашая необходимость и неизбежность последнего объединяющего слова. Оно же объединит и наши предпоследние, наши робкие слова!
Книга Эллиса «Vigilemus!» и раскол в «Мусагете»
При основании в 1909 г. издательства «Мусагет» это начинание призвано было стать в первую очередь действенным воплощением творческого союза трех лиц – Эмилия Метнера, Андрея Белого (Б. Н. Бугаева), и Эллиса (Льва Львовича Кобылинского). Тройственности этого союза соответствовала триипостасность общего замысла, реализуемого во взаимодополняющих аспектах собственно «Мусагета» (культуросозидательная деятельность), «Логоса» (теоретическая философия) и «Орфея» (религиозно-мистическое творчество). Союз учредителей «Мусагета» изначально мыслился как некое триединое ядро, от которого должны исходить живительные импульсы, способствующие формированию и развитию универсальной символистской культуры во взаимосообщающихся сферах художественного творчества, философского познания и теургического постижения. Это издательское предприятие лишь по внешним параметрам соотносилось с другими подобными предприятиями, изготовлявшими книжную продукцию; частные задачи и планы «Мусагета» представляли собой главным образом форму институциализации идейного сообщества, видевшего своей целью служение высокому идеалу духовной культуры. Работа издательства была подчинена миссии становления культурологической утопии, осознавалась как ряд целенаправленных шагов на пути к ее реализации. Как обычно бывает с максималистскими проектами в конкретной практической деятельности, «мусагетский» замысел по мере его реализации, в ходе неизбежного корректирования всеми привходящими обстоятельствами времени и места, обречен был минимизироваться и в конечном итоге обнаружить несостоятельность и недостижимость изначальных упований. В этом смысле история «Мусагета», начиная с его основания, предстает историей постепенного, поэтапного распада первоначального синкретического идейного ядра. История «Мусагета» разворачивается как серия внутренних конфликтов, постоянно возникавших в кругу учредителей издательства и его ближайших участников; конфликтов, порожденных как внешними, порой случайными обстоятельствами, так и глубоко идейными, принципиальными мотивами. В череде этих конфликтов наиболее сокрушительными для общего дела оказались распри, расколовшие «мусагетцев» на два лагеря – приверженцев антропософской доктрины Рудольфа Штейнера и не приемлющих ее в качестве доминирующей идейной составляющей культурной программы «Мусагета».
Как известно, в триумвирате учредителей «Мусагета» первым по времени апологетом Штейнера стал Эллис; история его приобщения к штейнерианству и последующего разочарования в нем прослежена в ряде книг, статей и публикаций[1274] и тем самым не нуждается здесь в подробном изложении. Приверженцем и проповедником теософии в ее штейнерианском изводе Эллис – со свойственными ему во всех жизненных проявлениях фанатизмом и эмоциональной безудержностью – стал с начала 1911 г. 30 марта 1911 г. М. И. Сизов писал Андрею Белому о том, что Эллис «из теософии делает двуперстное знамение», и проницательно добавлял: «И загадочно: он проповедует то учение, которое противно всей его собственной психологии».[1275] В 1911 – первой половине 1912 г. Эллис – правоверный последователь Штейнера и неустанный пропагандист его среди «мусагетцев», пытающийся и в «Мусагете» проводить штейнерианскую линию, что порождает его спорадические столкновения с Э. К. Метнером. Однако отмеченная Сизовым «психология» Эллиса, со всеми ее отличительными чертами, в данном случае довольно быстро возобладала и в конечном счете подавила его преклонение перед Штейнером; постепенно обрели былой ценностный статус ранее обозначившиеся пристрастия – европейское средневековье, католицизм, Данте, культ рыцарства и Мадонны. В течение нескольких месяцев, начиная со второй половины 1912 г., наблюдается стремительная эволюция – разочарование Эллиса сначала в теософах, в круге учеников Штейнера, затем в штейнеровских лекционных курсах, в доктрине, в созданном Штейнером Обществе, и наконец в личности самого Штейнера.
Более чем год спустя после приобщения Эллиса к теософии, в мае 1912 г., Штейнером был «полонен» Андрей Белый. На протяжении ряда месяцев он и Эллис, его близкий друг с юношеских лет, ощущают себя полными единомышленниками и выступают единым фронтом в тяжбах и распрях с Метнером, отстаивающим «мусагетскую» цитадель от теософско-оккультистского натиска. В это время у Белого, в отличие от Эллиса, увлеченность Штейнером все более нарастает; осенью 1913 г., в ходе слушания лекционного курса Штейнера в Норвегии, Белый и его жена Ася Тургенева принимают окончательное решение связать свою судьбу с Антропософским обществом: «…вся наша жизнь отныне должна принадлежать Обществу».[1276] Чем решительнее двигался Белый к полному растворению себя в антропософии, тем болезненнее воспринимал он постепенное отпадение Эллиса от штейнерианства. О марте 1913 г. Белый вспоминает: «…от Эллиса ‹…› приходит много писем; в них – явно уже звучит нота отхождения от А<нтропософского> О<бщества>; члены его ему видятся карикатурно; звучат ноты недоумения по отношению к Штейнеру; эти письма Эллиса мне очень мучительны; особенно мучительно мне, что и Поольман-Мой разделяет недоумения Эллиса: Эллис, Поольман-Мой, я и Ася, мне казались тесной, интимной антропософской группой. Теперь вижу: эта группа обречена распасться».[1277] Развитие ситуации – в апреле 1913 г.: «…от Эллиса получаю письмо за письмом, в котором он подвергает О<бщест>во убийственной критике».[1278] Наконец, в августе 1913 г., как сообщает Белый, «узнаем печальную новость: Эллис вышел из А. О.».[1279]
Весной 1913 г. Эллис предпринял поездку в Италию, неделю прожил в Ассизи, вызвавшем в нем исключительный подъем религиозных переживаний, и возвратился в Германию, убежденный как в несостоятельности «штейнеризма», так и в непреходящей ценности средневековых духовных скрижалей: чаемый им путь – это «путь чисто религиозный, уединенный, монашеский, простой, связанный с тайной неистребимой благодати святой католической Церкви ‹…›».[1280] В письме к Э. К. Метнеру от 2/15 августа 1913 г. Эллис со всей решительностью заявлял: «Steiner сделал попытку сам активно выступить, но с первого шага скомпрометировал себя связью с мировой помойкой = “теос<офским> обществом”, специально организованной против христианской церкви. ‹…› Я, запутавшись во всем, вернулся к евангелию!»[1281] Системное изложение своих определившихся убеждений Эллис предпринял в «трактате» (как обозначено им в подзаголовке) «Vigilemus!», в котором беглый обзор философских и мистических доктрин давался в свете задач и перспектив ожидаемого религиозного возрождения. Свое новое сочинение Эллис направил для опубликования в «Мусагет» – в «мусагетский» «двухмесячник» «Труды и Дни» (в 1913 г. уже не выдержавший запланированную периодичность и выходивший по мере готовности отдельными сборниками).
Сохранилась записка секретаря «Мусагета» Н. П. Киселева: «21 IX 1913 (суббота) Vigilemus прибыл в Москву»; она приложена к сопроводительному письму Эллиса, посланному на имя Э. К. Метнера: «Очень прошу Вас ‹…› ответить мне по просмотре моей работы “Vigilemus” (в которой я корректно, но активно защищаю религию, культуру и символизм от модерно-теософо-разгильдяйства), ответить мне, 1) согласны ли Вы поместить ее в “Трудах” в ближ<айшем> № без изменений».[1282] Ответ Метнера был предельно лаконичным (6/19 октября 1913 г.): «Vigilemus набрано»;[1283] из него следовало, что никаких промедлений с подготовкой текста к печати не произошло. Случились, однако, другие обстоятельства, автором «Vigilemus!» не предвиденные. Из Москвы до русских антропософов в Берлине докатились известия о том, что Эллис публикует в «Мусагете» свой антиштейнерианский опус, в котором якобы использованы тексты «доктора», предназначенные лишь для круга «посвященных».
В позднейшем изложении Белого эта ситуация и последовавшие его решительные действия представлены следующим образом: «…вдруг: проезжающая из Москвы в Париж О. Н. Анненкова с Е. А. Бальмонт приносят известие, что в Москве, в “Мусагете” выходит пасквиль на д-ра, написанный Эллисом. Мы бежим к М. Я. Сиверс и спрашиваем совета: что делать? М. Я. пожимает плечами и говорит: “Оставьте”. Но мы решаем ехать к Эллису и Поольман-Мой в Штутгарт, чтобы иметь объяснения с Эллисом и потребовать у него обратно циклы доктора и тетрадки его с заметками д-ра на полях. Едем в Штутгарт, отправляемся в Дегерлох; Эллис прячется от нас; мы имеем объяснение с Поольман-Мой, забираем почти насильно тетрадки у Эллиса;[1284] я передаю Поольман: “Если Эллис ко мне не выйдет сию минуту, чтобы объясниться, то пусть знает: я с ним на всю жизнь разрываю все…” Он – не вышел: с этого дня я все отношения с Эллисом прекратил. В совершенном расстройстве мы возвращаемся в Берлин; откуда я пишу в К<нигоиздательст>во “Мусагет” о своем выходе из издательства и о прекращении всех отношений с Метнером».[1285]
7/20 октября 1913 г., еще до поездки к Эллису в Штутгарт, Андрей Белый отправил из Берлина секретарю «Мусагета» Н. П. Киселеву следующее послание (получено в Москве 9/22 октября):
Милостивый Государь!
Тотчас же задержите книгу Эллиса. В противном случае этот выход кроме предательства нас, антропософов, будет поступком низким, поколику он совершался тайком. В случае выхода книги я отказываюсь иметь какое-либо сношение личное на-все-гда со всяким, приложившим руку к этому скверному делу.
Предупреждаю, что если Вы не задержите книгу, вы будете годами раскаиваться: но будет поздно.
Примите и прочее
Борис Бугаев.
В день же напечатания книги Эллиса вопреки моему настоянию прошу напечатать в газетах нижеследующее мое заявление:
М. Г.
Позвольте посредством Вашей газеты заявить, что я ни в каких отношениях не состою с членами Редакции К<нигоиздатель>ства «Мусагет», из которого я вышел.
Андрей Белый.[1286]
Формально Белый обладал всеми правами для столь ультимативных заявлений: он был членом редакционного комитета «Мусагета» и тем самым имел достаточные основания для того, чтобы настаивать на своем в решении любых вопросов внутрииздательской деятельности. Разумеется, Эллис об этих полномочиях Белого хорошо знал. Первый документ за его подписью, затрагивающий завязавшуюся конфликтную ситуацию, – телеграмма, отправленная из Штутгарта в Москву 10/23 октября 1913 г., – видимо, сразу после описанного Белым эпизода встречи-невстречи (текст – с пометой рукой Киселева: «писана Б. Н. Бугаевым»): «Требую остановить печатание брошюры до письма текст брошюры выслать Бугаеву Berlin Augsburger Strasse 52 Pension Beggklau – Elis».[1287] Свое решение Эллис аргументировал в письме на имя Метнера (Дегерлох, 11/24 октября 1913 г.), составленном в двух частях; одна из них – официальное распоряжение: «Редакции “Мусагета”. Честь имею просить редакцию “Мусагета” немедленно выслать корректуру “Vigilemus” или готовый, но еще не выпущенный экземпляр А. Белому в Берлин для цензуры, которую я лично обещал ему (честным словом) ради избежания неприятностей и возможности выхода его из “Мусагета”. Я лично с ним спишусь об окончательной редакции. До выхода “Vigilemus” не публиковать заглавия в анонсах прошу. Эллис». Другая часть письма, адресованная лично Метнеру, содержит версию конфликта в истолковании Эллиса и аргументацию принятого им решения:
«Интимно. ‹…› Бога ради, задержите “Vigilemus!” Киселев нечто сболтнул несуразное о какой-то конспирации известной теософской тетке Анненковой, которая состоит лично при Сиверс в качестве детектива.
Последняя передала Сиверс, в форме ужасающей, о каком-то тайном обществе в “Мусагете” против Steiner’a. Сегодня инспирированный Сиверс Белый специально приехал из Berlin’a в Штутгарт для скандала, длившегося целый день. Я лично его не видел, ибо считаю его ненормальным в силу влияния Steiner’a, но письменно, деловым тоном через посредство знакомого лица установил выход в виде цензуры его. Других выходов нет. ‹…› Уведомьте лично Белого об отсутствии тайных обществ в “Мусагете” и о том, что по общему мнению “Vigilemus” невинна. Все “А<нтропософское> Общество” через Белого болтает о брошюре. Надо остановить скандал».[1288]
О том, что в кругу русских штейнерианцев накал переживаний, вызванных известием о «предательском» сочинении Эллиса, был предельно высоким – и тем более высоким потому, что никто из них «Vigilemus!» не читал, и, следовательно, каждый мог полагаться только на силу своего воображения, – можно судить по письму Белого к Метнеру (7/20 октября 1913 г.), написанному одновременно с приведенным выше официальным заявлением в «Мусагет». «Vigilemus!» совершенно однозначно квалифицируется в нем как «пасквиль», факт его написания Эллисом – как «подлость предательства, т. е. разглашение сведений, не допустимых в печати», «дело Иуды Искариота», а намерение «Мусагета» опубликовать книгу, как в запальчивости заявляет Белый, «нас всех потрясло более, верьте, чем смерть родного отца, родной матери»: «…поступок Эллиса есть подлость 1) перед д<октором> Штейнером, 2) подлость перед Антр<опософским> О<бще>ством, 3) подлость по отношению к друзьям, ибо он выпускает книгу украдкой, как “тать в нощи”, вместо того, чтобы дать ее на просмотр нам, друзьям, ибо, зная свой темперамент и невольное тяготение к разглашению запрещенного к опубликованию, он, как порядочный человек, дал бы на цензуру книгу нам (цензуру не мнений, а затрагиваемого материала) ‹…› остается мне в полном самообладании и с великою горечью поставить ультиматум. Книга Эллиса никоим образом не выходит из печати: “Мусагет” ее не издает. Не появляясь в “Мусагете”, она может появиться в другом месте при условии, что рукопись поступает на просмотр нам, антропософам, причем мы выкидываем из текста все места, имеющие какое-либо касание циклов доктора Штейнера. ‹…› В противном случае нам всем, антропософам, имеющим какое-либо отношение к “Мусагету”, <придется> прервать всякое отношение с “Мусагетом” (по крайней мере так мне диктует совесть)». Угрожая в этом случае не общаться «ни с кем из приложивших руку к предательству Эллиса», Белый с уверенностью заключал: «Книга, конечно, не выйдет. Неужели книга разломает ряд интимных отношений, скрепленных годами».[1289]
Метнер, однако, готовности удовлетворить эти ультимативные требования не выказал. В ответном развернутом, подробно аргументированном письме (12/25 октября 1913 г.) он изложил Белому обстоятельства прохождения в издательстве рукописи Эллиса, обещал прислать на просмотр ее корректуру и на эмоциональный натиск Белого отреагировал веско и твердо – напоминанием о «духовной свободе» как основополагающем принципе «мусагетского» сообщества: «…не прочтя Эллиса, вы a priori требуете от Мусагета безусловного отказа печатать это не прочитанное Вами сочинение! Это ли не изуверство??!! – Это ли не деспотизм, не рабство мысли и чувства!»; «Я не теряю надежды, что Вы возьмете назад свои слова и решения».[1290] В тот же день он описал Эллису заявления и требования Белого («Вы, конечно, сами можете представить, какой беспощадный отпор я ему дал в своем ответе») и выразил готовность «действовать самодержавно», как руководитель «Мусагета», в разрешении конфликта, обещав автору «Vigilemus!» свою поддержку: «Католик, – поступите хоть раз как Лютер: hier stehe ich: kann nicht anders; Gott helfe mir.[1291] Ибо если Вы стоите за сказанное в брошюре с такою же непреклонностью, как Лютер, отстаивающий свои воззрения перед собором католических епископов, и если по вторичном более внимательном просмотре по корректурам ‹…› я не найду в Вашей брошюре никакой предосудительной огласки эзотерического и никакой личной обидной фразы по адресу Штейнера, то я напечатаю Вашу брошюру в Мусагете, хотя бы от этого произошел крах всего издательства».[1292]
Эллис, впрочем, демонстрировать лютеровскую непреклонность оказался не готов. В очередном «официальном» послании в «Мусагет» (18/31 октября 1913 г.) он заявлял: «В интересах мира и спасения “Мусагета” готов в границах приличия и допустимости уважить редакционные поправки г. Бугаева в “Vigilemus”, поскольку они не изменят смысла credo этой брошюры. Если таковые (поправки) окажутся чрезмерными и бьющими по чести моей, как лица, обязанного не брать назад сказанного в принципе, буду просить “Vigilemus” баллотировать в “Мусагете” и подчинюсь сей баллотировке безусловно.[1293] При негативном исходе ее издам “Vigilemus” без марки “Мусагета” и всякой цензуры». Однако в «интимном» продолжении того же послания, адресованном лично Метнеру, Эллис щедро поделился своими эмоциями: «Ничего в жизни б<олее> возмутительного, несправедливого, глупого я не испытал. Дрянность Белого безграничн<а>, но дело не в нем. Сиверс им руководит, и все дело в антропософ<ской> интриге, ловко и метко направленной против Мусагета. ‹…› Я после “Vigilemus” не могу видеть в Белом ни своего вождя, ни редактора, ибо он – несовершеннолетен морально. ‹…› Каким образом, не прочитав брошюры, Бугаев лает?»[1294] В недатированном письме к Б. П. Григорову, говоря о своей «злосчастной брошюре», Эллис склоняется к мысли ее «в “Мусагете” не печатать, а опубликовать под маркой “издание автора”».[1295]
О том, как справился Белый с взятой на себя ролью цензора, можно судить по корректурным листам «Vigilemus!» с его правкой (продублированной рукой Н. П. Киселева), которые сохранились в архиве «Мусагета».[1296] Среди них нет авторского предисловия и примыкающих к основному тексту «Десяти экскурсов к трактату “Vigilemus!”», занимающих в целом более половины объема книги. Всего в распоряжении Белого было, таким образом, около 45 страниц наборного текста. Белый сделал в нем 17 купюр различного объема – от одной-двух-трех строк до пространных абзацев. При этом изымать сведения, восходящие к «интимным» лекционным курсам Штейнера и к доверительным беседам с ним, «цензору» не пришлось – по той причине, что таковые в тексте Эллиса не приводились и вообще никак не затрагивались; в нем фигурировали лишь отсылки к опубликованным книгам Штейнера, причем их проблематика освещалась в спокойном, объективистском тоне, без каких-либо резких полемических выпадов и выдвижения идейных контраргументов. «Брошюра моя не только не против Steiner’a и антропософии, но, напротив, за них», – заявлял Эллис в недатированном письме к Б. П. Григорову;[1297] эта авторская характеристика отнюдь не соответствует действительности: антропософия осмыслена в книге как один из симптомов современного вырождения идеи подлинной религии, – однако и для диаметрально противоположных утверждений о том, что Эллис изготовил «пасквиль», нацеленный против доктрины Штейнера, книга «Vigilemus!» достаточных оснований не давала. Казалось бы, причин для «цензорского» вмешательства – даже если согласиться с аргументацией Белого, убежденного, что в идейно близком ему издательском сообществе не могут высказываться критические суждения по адресу антропософии, – не возникало. И тем не менее в своей запальчивости Белый не счел для себя возможным отступить и признать беспричинными посягательства на чужой текст. Не найдя в изложении Эллиса ничего «недозволенного», доносящего до «профанов» те сакральные суждения, которые предназначались только адептам антропософии, он предпринял вивисекцию текста, руководствуясь, скорее всего, подспудным неосознанным стремлением продемонстрировать во что бы то ни стало свою «цензорскую» волю и излить накопившийся гнев на автора трактата. Безусловный и последовательный эгоцентризм, являющийся одной из самых неотчуждаемых черт психологического облика Белого, сказался в данном случае в его обращении с вполне суверенным произведением другого автора как никогда ярко. Обзор не дозволенного Белым к печати дает в этом отношении весьма выразительную картину.
Разорвав личные отношения с Эллисом, Белый посчитал необходимым устранить из текста трактата любые упоминания собственного имени, невзирая на то, что в этих упоминаниях он и его творчество рассматривались в самом высоком ценностном регистре. «…Можно условно говорить о теософии Вл. Соловьева, Фомы Аквинского, Данте, Андрея Белого и т. д.», – пишет Эллис; Белый упоминание собственного имени из этого перечня вычеркивает, и это один из немногих случаев, когда его правка была принята автором.[1298] На той же странице делается отсылка к статье Белого «Круговое движение», сам он аттестуется как «первый среди символистов», а также говорится о верности миросозерцания Белого христианству; весь фрагмент Белый вычеркивает. Таким же образом он поступает с абзацем, содержащим цитату из «Кругового движения», которую Эллис расценивает как «речь от души и духа всего символизма, не изменившего себе»,[1299] а заодно и с упоминанием «симфоний» Белого и его «изумительного описания Сфинкса» в панораме новейших писателей, демонстрирующей сочетание в их творчестве христианских основ с другими культурными ценностями.[1300] Вычеркивает Белый и упоминание своей книги «Золото в лазури» в ряду других произведений, манифестирующих русский символизм,[1301] и примечание к этому упоминанию, содержащее цитату из его книги статей «Луг зеленый» (это примечание Эллис из печатного текста убрал).
Следующий пласт текста, изымаемый Белым, – немногочисленные упоминания Штейнера и его учения (с цитатами из его опубликованных книг «Философия свободы» и «Христианство как мистический факт»), оценка мистерий Штейнера, за которыми признается «единственное и недосягаемое оккультно-символическое значение», но отрицается значение «религиозное ‹…› и тем более вечно-христианское»; наконец, общая аттестация антропософии как одного из многочисленных симптомов вырождения самой идеи религии и последнего этапа на пути «удаления от Бога», по которому, согласно убеждению Эллиса, движется мировая культура после XIII века.[1302] Устранив всё касающееся антропософии, Белый столь же решительно обошелся с теми фрагментами, в которых идет речь о «родовом» синтетическом учении – теософии и об иных эзотерических доктринах; большой фрагмент (почти 2 страницы печатного текста), в котором говорится о возрождении древних мистериальных традиций в христианской культуре,[1303] вычеркнут и сделана приписка на полях: «Если этот абзац не будет выпущен, я не знаю, что мне думать о Н. П. Киселеве, Г. А. Рачинском, Э. К. Метнере». Негодование Белого вызывает отрицательная оценка Эллисом книги Эдуарда Шюрэ «Божественная эволюция» («На трех строках модерн-теософ оскверняет все основные положения христианства и рыцарства»[1304]); вычеркивая соответствующий фрагмент, «цензор» добавляет: «Погромные слова… требую, чтобы были вычеркнуты». Недопустимой представляется ему и фраза о «“магическом идеализме” Новалиса, вдохновленного болезненным и безумным эротико-религиозным культом Софии Кюн».[1305] Изъятию подвергается также целая страница, критически оценивающая теософскую «тайную доктрину» Е. П. Блаватской и Анни Безант как «движение, специально унижающее и даже отменяющее христианство», как «“крестовый поход” на Европу Азии»;[1306] в этом случае на полях корректуры появляется уже эмоциональная запись секретаря «Мусагета»: «Эта купюра – низость со стороны Бугаева. Киселев».
Решение в связи с протестом и требованиями Белого был полномочен принять редакционный комитет «Мусагета», состоявший из пяти человек – Э. К. Метнера, Андрея Белого, Н. П. Киселева, Г. А. Рачинского и А. С. Петровского. Заседание комитета состоялось 23 октября / 5 ноября 1913 г. За удовлетворение требований Белого выступил только Петровский, также приверженец антропософии; против – остальные члены комитета. Метнер по получении ультиматума Белого сообщал Эллису: «Возможны следующие решения: 1) отказ от брошюры; 2) отказ от мусагетской марки; 3) согласие на цензуру Белого; 4) требование, чтобы было напечатано без цензуры Белого и с маркой Мусагета».[1307] Тем временем Белый, не дожидаясь окончательного решения, предпринял очередной демарш – отправил на имя Киселева 27 октября / 9 ноября 1913 г. следующее официальное заявление (получено в Москве 30 октября / 12 ноября):
Многоуважаемый Господин Секретарь!
Позвольте через Вас довести до сведения Редактора-Издателя К<нигоиздательст>ва «Мусагет» Э. К. Метнера, что я к глубокому моему сожалению по причинам личного расхождения с К<нигоиздательст>вом «Мусагет» во взглядах на печатание брошюры «Vigilemus» вынужден выйти как из состава Редакции К<нигоиздательст>ва «Мусагет», так и из состава сотрудников двухмесячника «Труды и Дни». Прошу немедленно снять мое имя со списка сотрудников.
Подробная мотивировка моего поступка, а также деловой ответ на деловые замечания, бывшие в письме Э. К. Метнера и Н. П. Киселева, – готовы; я их высылаю на днях; очень прошу их выслушать вслух эту подробную мотивировку; очень желал бы, чтобы при чтении этом присутствовали, кроме Э. К. Метнера и Н. П. Киселева, также Г. А. Рачинский и В. И. Иванов; прошу также, чтобы присутствовали при чтении этом А. С. Петровский, Б. П. Григоров, М. И. Сизов и В. Ф. Ахрамович. Мне чрезвычайно важно, чтобы именно эти лица отчетливо представили себе печальную необходимость для меня отмежеваться от столь дружественного мне до последней поры К<нигоиздательст>ва.
Вместе с мотивировкой присылаю свое мнение о брошюре г. Эллиса «Vigilemus». Между прочим г. Эллис в записке заверяет меня, что он будет считаться с моей правкой брошюры; и я полагаю, что печатание брошюры до моего резюме о ней не входит в планы г. Эллиса.
Мне придется в последующем (за выходом моим) решении «Мусагета» относительно брошюры считаться с тремя фактами: 1) или брошюра не задерживается и выходит в том виде, в каком она написана автором, 2) или брошюра выходит с сокращениями, сделанными мной, 3) или брошюра не выходит.
Дело Редакции «Мусагет» печатать или не печатать брошюру. Дело мое – высказать «Мусагету» мой взгляд на печатание или непечатание брошюры. Я надеюсь, что «Мусагет» в решении своем примет во внимание то, что я считаю необходимым ему сказать.
Примите уверение в совершенном почтении.
Борис Бугаев (Андрей Белый).
Нюренберг. 9 ноябр<я> н. с. 1913 года.[1308]
Эллис, поначалу выразивший готовность пойти навстречу требованиям Белого относительно «Vigilemus!», после получения от него известия о разрыве с «Мусагетом» посчитал себя свободным от исполнения этих требований и заявил об этом очередным обращением в издательство (Дегерлох, 4/17 ноября 1913 г.): «…по моему личному мнению и желанию было бы лучше издать “Vigilemus!” в той редакционной форме, которая выслана уже мною в редакцию, т. е. с незначительными изменениями текста, сделанными лично мной одним без чьего-либо давления (ибо г. Бугаев официально уведомил меня о выходе из “Мусагета” и об отказе высказать свое мнение о “Vigilemus!”) без марки “Мусагета” под формулой “Издание Эллиса”». Окончательное решение вопроса он оставлял «на усмотрение редактора-издателя Э. К. Метнера, признавая за последним решением окончательную и безапелляционную силу».[1309] 12/25 декабря 1913 г. последовало еще одно распоряжение:
Дорогой Эмилий Карлович!
Прошу Вас напечатать «Vigilemus», не принимая во внимание поправки и выпусков г. Бугаева (А. Белого), но без марки «Мусагет».
Преданный Эллис.[1310]
Метнер, однако, принял решение наиболее бескомпромиссное: из четырех вариантов, обозначенных в цитированном выше его письме к Эллису, выбрал четвертый вариант – опубликовал книгу под маркой издательства «Мусагет» в той редакции, которая отражала волю автора (внесшего в текст лишь минимальные из тех купюр, на которых настаивал Белый). Разрыв Белого с «Мусагетом» сопровождался новыми документальными инвективами. «Вы еще не знаете, – писал Метнер Эллису о Белом 3/16 января 1914 г., – какую возмутительную “Записку” обо всем деле “Vigilemus” он составил и адресовал членам “Мусагета” и Григорову. В этой записке столько лжи, подлога, передержек и глупости до идиотизма, что остаток уважения исчезнет поневоле к такому человеку».[1311] Отповедь Белому на его «Записку» – рукопись, обозначенная Киселевым как «Досье Э. К. Метнера о “Vigilemus” на 25 лл.»;[1312] обращена она была также к группе «мусагетцев» и антропософов и представляла собой развернутый свод возражений и объяснений в связи с обвинениями, выдвинутыми Белым, причем затрагивался не только конфликт вокруг «Vigilemus!», но и ряд других эпизодов из непродолжительной истории «Мусагета».
Давая в своем «досье» подробные объяснения по целому ряду обстоятельств, предшествовавших публикации «Vigilemus!», Метнер особенно акцентирует те принципиальные основоположения, на которых зиждился идейный фундамент «Мусагета» и которые оставались непререкаемыми для всех участников этого начинания до тех пор, пока новые духовные устремления не повлекли их в разные стороны. «Никто почти не ставит Бугаева на такую высоту по его таланту, как я, – подчеркивает Метнер, – но однако я, не задумываясь, подал бы голос за проведение какой-либо меры или за напечатание какой-либо статьи, раз эта мера или эта статья желательна, полезна, “мусагетична”, несмотря на то, что Бугаев грозил бы уходом; свобода Мусагета, принцип либерализма на высших планах не может быть нарушен без измены основной идее Мусагета, с которой мы трое (Бугаев, Эллис и я) были согласны всегда и в особенности летом 1909 года. Потеря даже всех значительных сотрудников менее чувствительна Мусагету, нежели изменение его сущности».[1313] Касаясь печатания «Vigilemus!», Метнер настаивает на сугубой корректности своих действий как руководителя издательства: «Извинением ‹…› для меня и для Киселева, если бы мы, не спросясь литературного комитета, напечатали “Vigilemus”, могло бы служить 1) то обстоятельство, что Эллис центральный член Мусагета, которому можно большее позволить, нежели постороннему автору, а во 2) то обстоятельство, что по существу “Vigilemus” на взгляд беспристрастный и непартийный является очередною католическою экспекторацией Эллиса с вполне достаточными расшаркиваниями перед антропософией и Штейнером. Но корректуры были отправлены, конституция не нарушена, а весь скандал, поднятый вокруг этой безобидной брошюры, поскольку в нем участвовал Бугаев, взошел на дрожжах психологизма ‹…› В “Vigilemus” нет ни следа антиантропософского изуверства, а есть романтическое ультрамонтанство, горячее на словах, но никому не зажимающее рта».[1314] «Что же касается критики Бугаева этой брошюры, – продолжает Метнер, – то кое с чем в ней я согласен; напр<имер>, святой Лойола возмущает и меня самого;[1315] кое в чем согласен с замечаниями Бугаева по поводу схоластики и мистики; но, во-первых, все это не является причиной отказать Эллису в напечатании брошюры; во-вторых, безусловных промахов в брошюре ни Рачинский, ни я, ни компетентный по средневековью Киселев не заметили; есть только тенденциозные натягивания; в-третьих, Эллис отвечает за себя, так же как и сам Бугаев, который тоже не без греха в научном отношении ‹…› Что же касается предложенных Бугаевым сокращений брошюры (под угрозой в противном случае уйти из Мусагета с объяснительным письмом в газетах), то я затрудняюсь иначе квалифицировать требование Бугаева, как издевательство и над автором “Vigilemus”, и над редакцией Мусагета. Если это издевательство сознательное, чего я не думаю, то… тем хуже для Бугаева; если же оно бессознательное, то… тем хуже для тех принципов, под влиянием которых возможно ставить такие требования».[1316]
Касается Метнер в своем «досье» и неиспользованной возможности компромиссного разрешения конфликта из-за «Vigilemus!»: «Можно было бы уговорить Эллиса кое-что видоизменить, отказаться от марки Мусагета и т. п. Воинственное настроение мусагетских антропософов невольно заставляет предположить, не был ли ими уход из Мусагета предрешен, а “Vigilemus” явилась только удобным поводом».[1317] Думается, что у этого предположения Метнера были вполне веские основания. Примечательно сообщение в письме А. С. Петровского к М. А. Волошину от 9 ноября 1913 г.: «Брошюра Льва скоро выйдет в Мусагете. В связи с ней – хотя и не из-за нее – Бугаев, Сизов и я вышли из Мусагета».[1318] Для убежденных антропософов, изначально связанных с «Мусагетом», это объединение уже не могло восприниматься идейно близким пристанищем и «своим» печатным органом, поскольку руководитель издательства решительно противился явному или латентному проведению штейнерианской линии. С 1912 г. в Москве начало свою деятельность ангажированное антропософское издательство «Духовное Знание», которое обещало стать объединительным центром для российских последователей Штейнера; тем самым синкретический «Мусагет» с его широкой культурологической программой для адептов антропософии уже не только утрачивал привлекательность, но и переставал быть необходимым. С другой стороны, и Метнер, после двух лет оборонительных боев, призванных отстоять идейное кредо «Мусагета», каким оно осмыслялось изначально, до экспансии штейнерианства, решился перейти из обороны в наступление, и в этом отношении скандал вокруг трактата Эллиса послужил разделительной межой; в письме к В. О. Нилендеру от 3 января 1914 г. Метнер упоминает «“дело Эйлиса” (pendant “делу Бейлиса” в мире экзотерическом), разделяющее всю мусагетскую историю на два периода – на довигилемусовский и повигилемусовский».[1319]
Одним из выразительных документов, подводящих черту под «довигилемусовским» периодом «Мусагета», является письмо Андрея Белого к Н. П. Киселеву, отправленное из Берлина 11/24 ноября 1913 г. Аргументация, в нем развиваемая, представляет собой попытку взвешенного обоснования принятого решения post factum, уже без раздражения и эмоциональных перехлестов:
Милый, дорогой Николай Петрович!
Извините за долгое молчание. Мне больно Вам отвечать на Ваши слова (о том, что я могу Вас считать человеком, совершающим недостойный поступок). Ну, конечно, нет. Так что внутренне я продолжаю Вас любить и ценить, но, увы: трудно нам с Вами понять друг друга. Признаться, я считаю, что Вы поступили с брошюрой крайне опрометчиво, и тем вызвали меня на крайне резкие формы протеста, чтобы отмежеваться от «дела», которое, ввиду разных субтильных причин, выглядит «скверным» делом (Вы не знаете многого, почему брошюра Эллиса для меня не может не выглядеть «скверным» делом). «Мусагету» непонятно, почему мы, антропософы, рассматриваем брошюру г. Эллиса как пасквиль; и «Мусагет» должен был внять нашему голосу. Он – не внял: его дело. Но мы, увы, должны на будущее время отмежеваться от издательства и лиц, причастных и<здатель>ству, реализующих «скверное» дело печатанием. Э. К. Метнер не антропософ: он может лишь извне уважить или не уважить наше мнение. Он – не уважил: Бог с ним. Вы, собственно, тоже не антропософ, т. е. не ученик д<окто>ра, и Вам может многое не быть ясным. Вы поступили опрометчиво, вызвав всю эту историю, окончившуюся нашим уходом. И – я не виню Вас, не хочу Вас винить.
Но повторяю: остается общественное выступление, публичная демонстрация «Мусагета» против антропософии, т. е. против нашего «святое-святых». Остаетесь Вы, члены Редакции Мусагет, и в редакционных собраниях, и фактом выпуска брошюры, больно и грубо задевшие наше заветное, не уважившие нашего желания – молчать о том, что находится в центре нашей души. Вы хотели тащить нас в полемику, мы просили Вас «оставьте нас в молчании»; и Вы – не уважили нас.
Объяснять Вам, почему мы не хотим полемизировать на антропософские темы гласно, и скучно, и долго (не всё есть предмет полемики; например: «тайны исповеди» не предмет полемики тоже). Лично для Вас, Николай Петрович, антропософия есть предмет умственных интересов. Для нас, учеников д<окто>ра Штейнера, она – интимный, жизненный путь. Кажет<ся>, это ясно; и нечего этого объяснять. Так что зазывание нас в полемику, навязывание нам полемики насильно, мы рассматриваем как демонстрацию. И – уходим.
Вы тем не менее печатаете брошюру, т. е. переносите вопрос об антропософии в общественное нападение на нас.
И мы не можем не отмежеваться.
Остается внутренняя боль, что члены Редакции «Мусагет» поступили нетонко, неделикатно по отношению к нам; и остается Знание, что мы и «Вы» в двух враждебных лагерях отныне.
Но, вероятно, такая дифференциация лучше того конгломерата, который представлял собою «Мусагет» до нашего выхода. Остается пожелать «Мусагету» всяческого процветания и успеха, а Вам пожать руку и сказать, что хотя мы и «враги», но я храню в душе к Вам хорошее чувство и надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся еще в этой жизни ближе и согласнее.
Примите уверение в совершенной преданности и уважении.
Борис Бугаев.
P. S. Если Вы не считаете д<окто>ра Штейнера стоящим под знаком Антихриста и если не считаете А<нтропософское> О<бщество> иезуитским, я думаю, что Вам незачем уходить из А<нтропософского> О<бщества>.[1320]
«Поствигилемусовский» период в истории «Мусагета» был отмечен лишь одним ярким событием, относящимся к сфере затронутых выше идейных контроверз. Решающим шагом в предпринятом Метнером наступательном движении стала изданная в «Мусагете» в 1914 г. его книга «Размышления о Гёте», представляющая собой последовательно критический разбор штейнеровских интерпретаций мировоззрения Гёте. Откликом на выход в свет «Размышлений о Гёте» явилась статья Эллиса «Теософия перед судом культуры», автор которой уже не ограничивался, как ранее в «Vigilemus!», нейтральными или умеренно порицательными характеристиками теософской и антропософской доктрин, а решительно поднимал свой голос против них. Статья, предназначавшаяся для «мусагетских» «Трудов и Дней», осталась ненапечатанной[1321] и надлежащего эффекта, который прогнозировал Эллис, заявивший в ней о своем негативном отношении к штейнерианству совершенно однозначно, не произвела. В последующие годы стремление противостоять антропософии как антихристианскому учению стало для Эллиса одной из доминант его идейных и духовных устремлений. А в 1917 г. в издательстве «Духовное Знание» вышла в свет книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» – ответ-отповедь Метнеру как автору «Размышлений о Гёте». Раскол в триумвирате былых учредителей «Мусагета» был определен окончательно.
Лейб Яффе и «Еврейская антология». К истории издания
В истории русской переводной литературы заметную роль сыграла инициатива основанного М. Горьким в 1915 г. петербургского издательства «Парус», одной из задач которого была подготовка «сборников по литературам племен, входящих в состав империи»; ответом на стимулированные Первой мировой войной настроения великодержавного национализма и формой противостояния им должны были послужить издания в русском переводе книг, представляющих словесное творчество народов, населяющих Россию.[1322] В мае 1916 г. увидела свет первая книга этой серии – «Сборник армянской литературы» под редакцией М. Горького (составленный при активном участии В. Брюсова, почти одновременно, в августе 1916 г., издавшего свою знаменитую антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов»); за ней последовали «Сборник латышской литературы» (в июне 1917 г.) и «Сборник финляндской литературы» (в октябре 1917 г.) – обе книги под редакцией В. Брюсова и М. Горького. Планировались также сборники литератур грузинской, литовской, эстонской, украинской, татарской и еврейской; последний было намечено издать в двух томах, обязанности редактора поэтического раздела принял на себя Брюсов,[1323] который выполнил тогда переводы нескольких стихотворений Х. Н. Бялика. «Сборник еврейской литературы», подстрочные переводы для которого издательство «Парус» имело уже в феврале 1916 г., должен был выйти в свет зимой 1916–1917 г., однако это издание так и не состоялось.[1324] Вместо него увидела свет книга, во многом сходная по своим задачам, хотя и более узкая по тематическому диапазону и достаточно скромная по объему (если сопоставлять с неосуществленным двухтомником), – «Еврейская Антология. Сборник молодой еврейской поэзии под редакцией В. Ф. Ходасевича и Л. Б. Яффе» (М.: Сафрут, <1918>).
Как сообщалось в предисловии к сборнику, обязанности между редакторами распределялись следующим образом: «В. Ф. Ходасевичу принадлежит редакция самих переводов, как таковых», а «весь труд по составлению сборника (т. е. выбор авторов и отдельных произведений, а также расположение материала) выполнен Л. Б. Яффе»;[1325] последним были составлены также краткие биобиблиографические заметки о каждом авторе. Именно Яффе был инициатором этого издания, без его организаторских усилий оно не могло бы состояться. Яффе был и руководителем издательства «Сафрут», под маркой которого вышла «Еврейская Антология»; ранее в том же издательстве он опубликовал составленную им другую антологию – «У рек Вавилонских», – включавшую стихотворения на еврейские темы русских и иностранных поэтов, в том числе большое количество стихов еврейских поэтов в русском переводе (осуществленном в значительной части самим Яффе).[1326]
Лейб (Лев Борисович) Яффе (1875–1948) родился в Гродно в семье, происходившей от видного еврейского мыслителя XVI века Мордехая Яффе.[1327] Национальная еврейская тема с самых ранних лет стала основой для его самосознания и жизненного самоопределения. Уже в 1897 г., будучи студентом Гейдельбергского университета, он оказался одним из 197 участников Первого сионистского конгресса в Базеле,[1328] и задачи, сформулированные на этом учредительном форуме, явились для него стимулом во всей последующей многообразной деятельности. Еженедельная газета «Еврейская Жизнь», выходившая в Москве в 1915–1917 гг. при его ближайшем участии, помещала в каждом номере программный девиз: «Сионизм стремится создать для еврейского народа правоохраненное убежище в Палестине». Идея обретения Палестины, возрождения еврейства на исторической родине, восстановления в рассеянном по многим странам народе начал духовного единения и исторической преемственности, а также воскрешения и распространения исконного еврейского языка, языка Библии, стала для Яффе основополагающей идеей, пронизывающей все его творческие опыты в поэзии и публицистике. Писал он на иврите и по-русски, также переводил стихи с одного языка на другой. Первый его стихотворный сборник «Грядущее» включал раздел «Из новоеврейской поэзии», в который входили переводы из Л. О. Гордона, И. Л. Переца, Х. Н. Бялика, С. Черниховского и других поэтов. Открывался сборник исполненным пафоса стихотворением «Дома»:
Уж больше нет силы сносить этот гнет, Позор и гоненье народа… Отчаянно сердце больное зовет: Исхода! исхода! исхода! Как узник, изведавший ужас тюрьмы, Оковы и рабскую долю, – Так жажду свободы, так рвусь я из тьмы На волю, на волю, на волю!..[1329]Многие стихотворения Яффе навеяны «сионидами» классика средневековой еврейской поэзии Иегуды Галеви и даже обозначены как «подражание» ему – например, «Сион»:
Плакать довольно мне: сердце истерзано; Нужно надеяться, ждать. Снова займется заря обновления, Будем опять ликовать. Будут левиты петь в храме торжественно, Прежнее счастье придет, Снова в Сионе величие Божие В дивной красе зацветет.[1330]Тематически ориентированные на заветы и образы древней еврейской культуры, стихи Яффе были, однако, всецело выдержаны в традициях русской поэзии 1880-х гг., с характерными для нее надсоновскими мотивами и соответствующей поэтической фразеологией; в этом отношении они напоминали поэтические опыты другого весьма известного поэта конца XIX века, С. Г. Фруга, разрабатывавшего в надсоновской тональности ту же еврейскую национальную проблематику. Сказываются в поэтических опытах Яффе и другие влияния русских поэтов; в частности, без освоения Некрасова не могли бы быть написаны строки стихотворения «Еврейская школа в Палестине»:
Так сейте ж разумное, доброе семя, Учители школы еврейской, родной! С любовью я к вам простираю объятья И шлю вам горячий и братский привет; Работайте бодро и радостно, братья, Пред вами далекий, но яркий рассвет![1331]Задачей ознакомления современников с достопамятными страницами истории еврейского народа Яффе руководствовался, излагая на русском языке хроникальные повествования Германа Реккендорфа и Авраама-Шалона Фридберга.[1332] Он активно участвовал в сионистском движении,[1333] о чем свидетельствуют его многочисленные печатные выступления, неизменно подчиненные развитию одной и той же мысли и мечты – о грядущем возрождении еврейского народа на своей древней родине. Особенно активизировалась его публицистическая деятельность в дни Первой мировой войны. Именно тогда, по его убеждению, со всей очевидностью сказалось основное противоречие: «нет уголка в мировой культуре, на котором не лежала бы печать еврейского духа, на который не падал бы животворящий луч еврейского гения» – и вместе с тем «нет на земле народа слабее и беспомощнее еврейского народа ‹…› бесконечно жалка и ничтожна роль, которую наш народ играет в мире и в эти дни, в кровавой распре народов».[1334] Яффе писал о драматической ситуации в местах еврейской оседлости («Невообразимое поле сражения раскинулось там, где живет почти весь еврейский народ. По его бедным и шатким очагам, по его жалкому благосостоянию, накопленному горьким трудом, созданному слезами и кровью многих поколений, прошла растаптывающая, как нога прохожего муравейник, тяжелая, беспощадная и невидящая пята войны»[1335]), обрисовывал в цикле очерков картины жизни еврейских беженцев,[1336] взывал о помощи бедствующим еврейским переселенцам в Палестине: «В подобный момент палестинское еврейство должно стать предметом внимания и забот всего еврейского мира. ‹…› Он всеми силами должен охранять и лелеять каждый росток новой жизни в Палестине и дать палестинскому еврейству возможность провести свое дело до лучших дней ‹…›».[1337] Война только обострила уверенность Яффе в необходимости разрешения еврейской проблемы и удовлетворения «исторических притязаний на древнюю родину», равно как и усилила его оппозиционность по отношению к ассимиляционной идеологии «еврейских нотаблей и еврейских марксистов».[1338] Февральскую революцию он принял с энтузиазмом как обретение условий «для борьбы за осуществление нашей идеи»: «Входя в новую жизнь, приступая к новой работе для объединения и укрепления еврейства в возрожденной России, мы ни на миг не забываем о нашей конечной цели, о нашем историческом идеале».[1339] Убежденность и организаторская энергия Яффе были по достоинству оценены его единомышленниками: после смерти российского сионистского лидера Ефима Членова он был в феврале 1918 г. избран председателем Московской сионистской организации.
Контакты с известными русскими писателями установились у Яффе в предреволюционные годы, в пору, когда он сотрудничал в московском еженедельнике «Еврейская Жизнь» и возглавлял русско-еврейское издательство «Сафрут», выпустившее в 1917–1919 гг. ряд книг, имевших широкий общественный резонанс.[1340] В ранее опубликованных работах освещались завязавшиеся тогда отношения Яффе с Вячеславом Ивановым и Владиславом Ходасевичем.[1341] Общался Яффе в ту пору и с двумя другими крупнейшими поэтами эпохи – Валерием Брюсовым и Федором Сологубом. Примечательно, что он, поэтический выученик досимволистской поры, хотел видеть среди переводчиков современных еврейских поэтов на русский язык наиболее ярких представителей новейшей, модернистской формации.
Первой значительной культурной акцией, которую осуществил Яффе в содружестве с русскими писателями, была подготовка специального номера «Еврейской Жизни», приуроченного к 25-летию литературной деятельности крупнейшего еврейского поэта современности Хаима Нахмана Бялика. В открывавшей юбилейную подборку материалов вступительной статье Яффе патетически провозглашал: «Непонятным чудом, чем-то почти мистически-неожиданным было появление поэта такого роста и силы после многовекового перерыва в еврейской поэзии, когда временами казалось, что навеки замолкла песня Сиона на чужой земле».[1342] В сходной тональности были выдержаны статьи о Бялике М. Горького,[1343] Андрея Соболя, С. Черниховского, стихотворение в прозе С. Ан – ского (Ш. – З. Раппопорта) «Бялик», приветственное послание А. Куприна. В том же юбилейном номере были напечатаны посвященное Бялику стихотворение И. Бунина «Да исполнятся сроки» («– Почто, о Боже, столько лет…»)[1344] и стихотворные переводы из Бялика, выполненные самим Яффе, а также Вяч. Ивановым, В. Брюсовым и Ф. Сологубом. Обстоятельства подготовки «бяликовского» выпуска «Еврейской Жизни» проясняются в нескольких письмах Яффе к Брюсову;[1345] самое раннее из них:
20 II 1916.
Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.
В ближайшие недели исполняется двадцатипятилетие литературной деятельности самого яркого представителя новоеврейской поэзии Х. Н. Бялика. Наша редакция намерена дать специальный нумер, посвященный характеристике и оценке поэта. Для нас было бы чрезвычайно важно и ценно, если бы Вы нашли возможным дать хотя бы небольшую статью о Бялике.
Особенно желательно было бы, если б Вы согласились помимо статьи дать нам несколько его стихотворений в Вашем переводе.
Зная Ваш глубокий интерес к поэзии всех стран и народов, позволяем себе надеяться, что Вы не откажете нам в этой просьбе.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Ответ Брюсова был в принципе положительным, о чем можно судить по следующему письму Яффе к нему:
14 III 1916.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич.
От души благодарю Вас за Ваш отклик. Я не ответил Вам немедленно, потому что уже несколько дней лежу больной.
Посылаю Вам три стихотворения Бялика с транскрипцией подлинника и дословным переводом.
Зная несколько Ваши переводы из армянской поэзии, я не сомневаюсь, что Вам удадутся и переводы с еврейского.
Помимо перевода мы бы очень просили Вас дать хотя бы небольшую статью в 50 – 100 строк о Бялике или по поводу Бялика (вроде Вашей рецензии[1346]).
Для нас очень важно, чтобы к этому празднеству еврейской поэзии проявилось отношение лучших представителей русской поэзии.
«Юбилейный №» выходит несколько позже, чем мы предполагали, и последний срок для сдачи материала – 25 марта.
Я через несколько дней надеюсь подняться и тогда позволю себе позвонить Вам.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
На просьбу о статье Брюсов не откликнулся, но перевел для юбилейной подборки стихотворение Бялика «Где ты?» («Из мест, где скрыта ты, о жизни свет единый…»).[1347] 24 марта 1916 г., предлагая Брюсову передать с подателем письма текст перевода, Яффе просил поэта и о профессиональной консультации: «Если Вас не затруднит, я бы позволил себе просить Вас прочесть прилагаемый перевод стихотворения Бялика и высказать Ваше мнение о нем. ‹…› Стих<отворение> дано для юбилейного №». Возможно, в данном случае имелся в виду перевод стихотворения «Al Ha’schchitah» («О резне», или «Над бойней»), выполненный Сологубом, который не во всех формулировках удовлетворял Яффе.[1348] 26 марта, высылая Брюсову корректуру стихотворения «Где ты?», Яффе просил его и о переводе стихотворения, уже переведенного Сологубом: «Может, найдете возможным прислать мне перевод стихотворения о резне. Это стих<отворение> меня очень интересует и хотелось бы видеть его перевод». Брюсов выполнил пожелание Яффе, и в результате в «бяликовской» подборке появились два перевода одного и того же стихотворения – «О милости, небо, проси для евреев…» (Сологуба) и «Для меня милосердий, о небо, потребуй!..» (Брюсова).[1349]
С просьбой написать о Бялике для «Еврейской Жизни» Яффе обратился 25 февраля и к М. О. Гершензону, с которым был знаком еще со студенческих лет (два ранних письма Яффе к нему относятся к лету 1897 г., когда они оба находились в Германии):[1350]
Помимо еврейских поэтов и писателей в юбилейном нумере примут участие некоторые лучшие представители русской литературы.
Для нас было бы чрезвычайно важно и ценно, если б Вы нашли возможным принять участие в этом нумере и дать нам хотя бы небольшую статью о Бялике.
С глубоким волнением читал я Вашу статью «Народ, испытуемый огнем».[1351]
Может быть, Вы еще помните молодого студента, который в Гейдельберге писал под Вашу диктовку и который затем посещал Вас во Франкфурте.
Гершензон представил в «Еврейскую Жизнь» статью о Бялике под заглавием «Ярмо и гений»,[1352] а также содействовал привлечению в юбилейный номер новых участников (11 марта 1916 г. он сообщал родным: «… я познакомил Яффе с Шестовым и Вяч. Ивановым, у которых он также хотел просить статей»[1353]). О ходе работы Яффе оповестил Гершензона в письме от 15 марта 1916 г. (в автографе описка в обозначении года: 1915):
Дорогой и многоуважаемый Михаил Осипович.
От души благодарен Вам за Вашу прекрасную статью о Бялике. Я не откликнулся и не поблагодарил Вас до сих пор, потому что я уже некоторое время болен, лежу.
Юбилейный № выйдет в последних числах марта, несколько позже, чем мы предполагали. Материал мало-помалу получается. Сегодня получил статью от М. Горького.[1354] В. Брюсов согласился дать нам перевод из Бялика. Послал ему несколько стихотворений, с транскрипцией оригинала и дословным переводом. Должен был посетить 12-го Вячеслава Иванова, но тогда уже лежал. На днях поднимусь и пойду к нему.
Лев Шестов был у меня в редакции. Результат разговора: он статьи не даст. Не умеет писать на публицистические темы, к тому же еврейские темы его слишком волнуют, когда он думает о них, и он не в состоянии писать об этом.
Когда поднимусь, посещу Вас, если позволите. Низкий поклон Вашей уважаемой супруге.
Жму Вашу руку
с глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Проведенная организаторская и редакторская работа послужила для Яффе непосредственным стимулом к воплощению более масштабного замысла – сборника стихотворений новейших еврейских поэтов в русских переводах. Два месяца спустя после выхода в свет «бяликовского» номера «Еврейской Жизни» он писал Гершензону уже о будущей «Еврейской Антологии»:
Многоуважаемый и дорогой Михаил Осипович.
Я очень извиняюсь, что до сих пор не сообщил Вам о ходе работ для сборника. Состояние моего здоровья было таково, что меня насильно оторвали от работы и услали отдохнуть и полечиться. Перед отъездом успел только побывать у Валерия Брюсова. Он охотно будет переводить для сборника. К Вячеславу Иванову, к сожалению, не успел заехать. Был бы Вам очень благодарен, если б Вы мне сообщили его адрес. Пока читаю еврейских поэтов, составляю подстрочники, списываюсь с авторами. У Валерия Брюсова я видел произведения новейшей евр<ейской> поэзии, которые должны войти в хрестоматию, издаваемую М. Горьким.[1355] Всего этих стих<отворений> – от Бялика и после него – около десяти. Из них – только одно, которое мне очень хотелось бы иметь в нашем сборнике – небольшая поэма Бялика.
Где проведете это лето?
Низко кланяюсь Вашей супруге.
С сердечным приветом и глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
6 VI 1916.
Мой адрес до 15-го июня ст. Подсолнечная Никол<аевской> ж. д. Санаторий.
Яффе надеялся на всемерное участие Брюсова в новом своем начинании. «Я Вас очень прошу не отказать мне дать хотя бы несколько переводов для сборника новоеврейской поэзии, – писал он Брюсову 5 октября 1916 г., одновременно жалуясь, как и ранее Гершензону, на непрекращающиеся недуги. – Не могу себе представить, чтобы сборник мог быть выпущен без Вашего участия». Письмо застало Брюсова в сходном физическом состоянии (он болел с августа 1916 г.), о чем поэт сообщил Яффе в ответном послании:[1356]
9 окт<ября> 1916.
Многоуважаемый Лев Борисович!
Душевно жалею о Вашем нездоровьи, и сочувствие мое тем более живо, что и я лишь недавно вышел из стен лечебницы и на своем опыте изведал все тягости долгой болезни. Что до Вашего желания, то я очень рад был бы его выполнить, – если тому откроется возможность. После двух с половиною месяцев вынужденного, болезнью, «безделья», я теперь едва возвращаюсь к своим работам. Количество срочного дела, которое я обещал выполнить уже без малейшего медления, – прямо неимоверно. В сущности мне следовало бы сейчас работать беспрерывно, день и ночь, чтобы хоть сколько-нибудь исправить все, мною упущенное. Чувствую, однако, что я не имею нравственного права отнимать для какой-либо иной работы время, которое должен посвятить исполнению обещаний, ранее данных издателям и редакциям и, как мне известно, для них важным. Достаточно сказать, что моя болезнь на те же 2 ½ мес<яца> задержала выход двух изданий «Паруса»,[1357] и т. под. Но все, что могу, я постараюсь для Вас сделать. Если Вы можете еще некоторое время не торопить меня, я через 3–4 недели, вероятно, смогу освободить себе столько досуга, чтобы перевести желаемые Вами стихи. Прошу извинить мне такой долгий срок, но сейчас, переводя ежедневно стихи финских поэтов,[1358] я прямо не в силах «настроить свою душу» так, чтобы взяться еще за перевод еврейских. Вы – тоже поэт, Вы тоже пишете стихи и поймете это мое объяснение.
Сердечно желаю Вам здоровья,
преданный Вам
Валерий Брюсов.
Предварительным договоренностям с Яффе Брюсов оказался верен: в «Еврейской Антологии» были опубликованы 7 стихотворений в его переводе, в том числе два перевода из Бялика (одно из стихотворений, «Где ты?», перепечатано из «Еврейской Жизни»), один из Саула Черниховского, один из Якова Кагана, два из Якова Фихмана и один из Р. Шоула (Шоула Ротблата).[1359]
О ходе работы по подготовке «Еврейской Антологии» дают определенное представление письма Яффе к Ф. Сологубу.[1360] Поскольку составитель издания проживал в Москве, а поэт-переводчик – в Петрограде, эпистолярные контакты между ними дают документальную основу для прояснения обстоятельств воплощения в жизнь этого замысла. Первое из этих писем Яффе, относящееся еще ко времени выхода в свет «бяликовского» номера «Еврейской Жизни», представляет собой отклик на запрос Сологуба (в письме от 5 апреля 1916 г.) об этом номере и дополнительную просьбу: «Мне было бы очень приятно, если бы Вы пожелали высылать мне Ваш журнал»:[1361]
8 IV 1916.
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.
От души благодарю Вас за Ваше стихотворение. Юбилейный № нашего журнала выслал Вам. Мы, конечно, с величайшим удовольствием будем высылать Вам наш журнал.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Следующее письмо Яффе к Сологубу уже непосредственно касается замысла «Еврейской Антологии»:
8 VIII 1916.
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.
Позволяю себе обратиться к Вам с нижеследующей просьбой. Мы в ближайшем времени намерены приступить к изданию сборника стих<отворений> лучших еврейских поэтов в русском переводе. Предполагается в виде первого опыта дать стих<отворения> новейших евр<ейских> поэтов, начиная с Х. Н. Бялика. Сборник выйдет с предисловием М. О. Гершензона. К участию в нем мы приглашаем лучших представителей русской поэзии. Считая особенно важным и ценным Ваше участие в этом сборнике, просим Вас не отказать взять на себя некоторые переводы из Бялика и др<угих> евр<ейских> поэтов.
По получении от Вас ответа, вышлю Вам транскрипцию и подстрочный перевод некоторых стихотворений. Может, Вы бы нашли возможным указать, какого рода стих<отворения> Вам было бы желательно получить для перевода.
Позволяю себе надеяться, что и на этот раз мы встретим с Вашей стороны такое же отзывчивое отношение, как при первом обращении к Вам.
В ожидании Вашего ответа
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Ответ Сологуба был безусловно положительным, что выясняется из последующих писем Яффе к нему:
2 IX 1916.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Я хворал несколько недель, поэтому не ответил сейчас же на Ваше письмо, за которое я Вам искренно благодарен.
Посылаю Вам два стихотворения Х. Н. Бялика с транскрипцией оригинала и подстрочным переводом. В ближайшие дни пришлю Вам небольшую поэму Бялика и несколько стихотв<орений> других поэтов.
Я забыл написать в предыдущем письме, что мы можем предложить гонорар 50 коп. со строки. Если разрешите воспользоваться некоторыми переводами для нашего журнала до их появления в сборнике, мы сможем предложить еще 25 коп. со строки.
Если Вас не затруднит, я бы просил Вас подтвердить получение письма и стихотворений.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
12 Х 1916.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Очень извиняюсь, что не писал Вам и не послал стихов. Объясняется это тем, что я в последнее время часто и подолгу хвораю.
Как только оправлюсь, пришлю Вам другие стихотворения.
Если переводы из Бялика уже готовы, я бы очень просил Вас прислать их мне.
С глубоким уважением
<Л. Б. Яффе>[1362]
После этого в переписке Яффе и Сологуба образовался перерыв, длившийся более полугода. Осуществить издание «Еврейской Антологии» в предварительно намеченные сроки не удалось,[1363] и вновь за реализацию этого замысла Яффе взялся летом 1917 г., уже в новых исторических условиях, – и опять обратился к Сологубу:
6-го июня 1917 г.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
По причинам личного и общественного характера мне пришлось отложить издание «Еврейской антологии». Теперь снова приступаю к этой работе.
Позволяю себе просить Вас прислать переводы стих<отворений> Бялика, посланных Вам в прошлом году. Прошу также разрешить мне прислать Вам еще несколько стих<отворений> для перевода.
В ожидании Вашего ответа
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Более подробно о своих книгоиздательских планах Яффе писал в тот же день Гершензону: «Я в ближайшие дни освобождаюсь от “Еврейской Жизни”, приступил к своему издательскому делу. Очень прошу Вас, Михаил Осипович, прислать обещанную статью для первого сборника нашего издательства. ‹…› В этих сборниках, которые скорее всего будут книжками ежемесячника, будет меньше всего политики. Основная цель их – углубление в сущность еврейства, в ее проблемы. ‹…› Был бы Вам очень благодарен, если б Вы могли мне прислать статью к 10–15 июля. К концу августа хотим выпустить сборник».
Речь в этом письме идет об основанном Яффе в Москве издательстве «Сафрут» и о подготовке сборников этого издательства, которые, как оповещалось в редакционном предисловии, «будут посвящены обсуждению и углублению основных проблем еврейской национальной мысли, выяснению вопросов еврейской общественности и сионистского движения, а также ознакомлению с еврейской литературой и искусством».[1364] В письме к Гершензону от 3 августа 1917 г., вновь настойчиво призывая дать статью для первого сборника, Яффе сообщал о своих масштабных, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства революционных дней, издательских проектах: «Невероятно трудно теперь печатать книги, но мы решились пойти на это. Нашли две типографии, купили вагон бумаги. Мы спешим, потому что чем дальше, тем труднее будет. Уже несколько лет нет серьезных книг в еврейской журналистике на русском языке. Постараемся хоть несколько восполнить этот пробел. Печатаются уже книги “Основные течения в евр<ейской> истории” М. М. Марголина, “Судьбы еврейского народа” Д. С. Пасманика,[1365] сборник национально-евр<ейских> мотивов в мировой поэзии.[1366] Готовим к печатанию в первую очередь первую книгу наших сборников, затем рассказы Бялика,[1367] том избранных статей Ахад-Гаама,[1368] Плач Иеремии Эфроса[1369] и т. д.». Статью для сборника «Сафрут» Гершензон так и не представил, но свое сочувствие издательским начинаниям Яффе проявил иначе – написанием предисловия к «Еврейской Антологии», в котором расценивал новую еврейскую поэзию как значительное событие, свидетельствующее о выходе из духовного гетто и обретении гордого национального самосознания.
С лета 1917 г. работа Яффе над «Еврейской Антологией» протекала в тесном содружестве с Вл. Ходасевичем, который (согласно его свидетельству в статье «Бялик», 1934) занимался распределением материала между переводчиками.[1370] Письмо Ходасевича к Сологубу, отправленное в усадьбу Набатовой Княжнино (близ Костромы), где писатель жил летом и ранней осенью 1917 г., посвящено той же теме, что и приведенные выше письма Яффе; получено оно, по всей вероятности, 18 августа 1917 г. (предположительная датировка полустертого почтового штемпеля):[1371]
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич,
еще прошлой осенью Вы дали Л. Б. Яффе любезное свое согласие перевести несколько стихотворений для «Еврейской антологии». В настоящее время Л. Б. Яффе решил с изданием книги поторопиться. Редакция переводов поручена мне, – и Вы, конечно, понимаете, в какой степени Ваше активное участие в Сборнике было бы мне радостно. Так вот, если посланные Вам 2 стихотворения Бялика уже переведены, – то не будете ли добры прислать их мне. Не согласитесь ли также перевести еще что-нибудь? Если да, то я немедленно вышлю Вам подстрочные переводы.
Если стихи еще не переведены, то, быть может, Вы бы не отказались перевести их в ближайшем будущем.
Так как почтовые операции там, где Вы живете, кажется, не совсем просты, то не сообщите ли, каким образом, получив стихи, я должен Вам переслать гонорар. (Он, кстати сказать, повышен до 75 коп. за строчку).
Вас глубоко уважающий
Владислав Ходасевич.
Мой адрес: Москва, Плющиха, 7-й Ростовский пер., д. 11, кв. 24, Владиславу Фелициановичу Ходасевичу.
Переписку с Сологубом на эту тему продолжал и сам Яффе. Очередное его письмо было адресовано в ту же костромскую усадьбу и переправлено оттуда по петербургскому адресу Сологуба:
11 Х 1917.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за присланные Вами переводы. На днях вышлем Вам несколько новых подстрочников. Сборник сдается уже в набор и к началу весны он будет готов.
Выслал Вам в счет Вашего гонорара сто рублей в костромское отд<еление> Волжско-Камского Коммерческого банка, текущий счет № 452.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Новинский бульвар, Проточный пер., д. 10, кв. 19.[1372]
Следующее письмо Яффе к Сологубу отослано полтора месяца спустя:
29 XI 1917.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Посылаю Вам еще два стихотворения. По-еврейски они красивы и музыкальны. Уверен, что Вы им придадите ту же музыкальность и по-русски.[1373]
Не откажите разрешить мне воспользоваться одним из Ваших переводов стих<отворений> Бялика для литературно-художественного сборника, который будет выпущен нашим издательством до выхода в свет антологии.[1374]
За ответ Вам заранее благодарен,
искренно уважающий Вас
Л. Б. Яффе.
Около месяца т<ому> н<азад> послал Вам в Кострому сто руб. Не знаю, получены ли Вами эти деньги.
И, наконец, последнее письмо относится к завершающей стадии работы над Антологией:
23 I 1918.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Если перевод стихотворения Каценельсона Вами еще не выслан, очень просил бы его выслать возможно скорее, т<ак> к<ак> сборник заканчивается печатанием и мы сдали уже весь материал.
В ожидании Вашего ответа
Заранее Вам благодарный
с истинным уважением
Л. Б. Яффе.
«Еврейская Антология», включавшая стихотворные переводы из 15 поэтов, вышла в свет в начале июля 1918 г., за первым последовало второе издание, а в 1922 г. в Берлине появилось ее третье издание, – что очевидным образом свидетельствовало об успехе книги, сумевшей вызвать живой читательский интерес даже в отнюдь не самые благополучные времена. По приведенным письмам Яффе может создаться впечатление, что Сологуб как переводчик принял в подготовке сборника весьма активное участие. Между тем в него вошли всего два переведенных им стихотворения – «Так будет, – найдете вы…» Бялика и «В пламя солнце погрузилось…» Ицхака Каценельсона.[1375] Гораздо более представительным оказался вклад в «Еврейскую Антологию», помимо Брюсова, также Вяч. Иванова, Ю. Балтрушайтиса, Вл. Ходасевича, Вл. Жаботинского. В книгу вошли переводы Ю. Н. Верховского, С. Я. Маршака,[1376] Амари, О. Б. Румера, самого Яффе и молодых по тем временам поэтов-переводчиков – К. А. Липскерова, П. Н. Беркова[1377] и др.
После появления «Еврейской Антологии» издательская деятельность Яффе в Москве пошла на спад – неизбежный в условиях всеобщей разрухи и большевистского хозяйствования. Воодушевление, стимулированное февралем 1917 г., сменилось у руководителя «Сафрута» совсем иными настроениями: «… снова сгустились над нами зловещие тучи ‹…› бесчисленные новые имена вписываются в синодик еврейского мученичества», – и в этих условиях «еще ярче, чем всегда, горит в нашей душе наша единственная радость, наше единственное утешение – Палестина».[1378]
В сентябре 1918 г. Яффе уехал из Москвы в родное Гродно, откуда вскоре перебрался в Вильну, где, редактируя ежедневную газету на идише, прожил около года и прошел через тяжкие испытания.[1379] На рубеже 1919–1920 гг. Яффе переселился в Палестину, обосновался в Иерусалиме. 8 января 1922 г. он писал Гершензону: «Мы здоровы. Работаем тяжело. Много забот личных и общественных. Недавно провел несколько месяцев в Европе. Заехал в Гродно – повидаться со старушкой матерью – и в Вильну. Был по делу в Германии и Англии. Жизнь там легче и привольнее, но не променял бы на нее все наши тревоги и заботы».
С той поры жизнь и литературно-общественная деятельность составителя «Еврейской Антологии» были всецело связаны с исторической родиной – Палестиной. Там его и настигла смерть – 11 марта 1948 г. в Иерусалиме, от взрыва бомбы, подложенной арабскими террористами в здание Основного фонда, председателем которого он был.
Автобиографии А. А. Кондратьева
А. А. Кондратьев скончался в Америке (в штате Нью-Йорк) в преклонном возрасте в 1967 г., на много десятилетий пережив ту негромкую и весьма локальную известность, которой пользовались его стихи и проза в 1900 – 1910-е гг. Первый шаг к воскрешению писателя из забвения предпринял два года спустя Г. П. Струве, опубликовавший довольно большую подборку писем, дававших вполне отчетливое представление о личности Кондратьева и о его жизни и деятельности в пореволюционный период.[1380] В последующие годы в России и за рубежом была продолжена публикация эпистолярного наследия Кондратьева,[1381] появились обобщающая энциклопедическая статья о писателе[1382] и сборники его поэзии и художественной прозы;[1383] наконец, вышла в свет книга о Кондратьеве В. Н. Топорова, в которой творческие опыты писателя рассматривались как последовательное воплощение «неомифологизма», чрезвычайно характерного для русской литературы, изобразительного искусства и музыки начала XX века.[1384]
Монография В. Н. Топорова включает и обзор большого количества архивных документов – с пространными цитатами, – оказавшихся в поле зрения исследователя («Эпистолярное и поэтическое наследие А. А. Кондратьева (по материалам Рукописного отдела Государственной Публичной Библиотеки)»). Задача собирания и публикации рукописей, имеющих отношение к творческому пути и литературным связям Кондратьева, тем более значима, что архив писателя – безусловно, содержавший множество ценнейших документов, включая многочисленные письма к нему (А. Блока, В. Брюсова, Ф. Сологуба, И. Ф. Анненского, Б. А. Садовского, М. А. Кузмина и т. д.), мемуарные очерки и заметки Кондратьева (частично опубликованные в редчайших изданиях 1920 – 1930-х гг., частично остававшиеся в рукописи),[1385] – погиб: остался без присмотра в Ровно, занятом в 1939 г. советскими войсками. Источником сведений о Кондратьеве остаются его письма и рукописные материалы, отложившиеся в архивах других лиц.
При этом доля «рукописного» творчества в общем объеме сочиненного Кондратьевым весьма велика. Писатель с осознанными, и рачительно охраняемыми, «архаическими» литературно-бытовыми привычками и предпочтениями, он считал насущнейшей потребностью прежде всего самовыражение и свободное общение, а не жесткие нормативы текущей и спешной литературной деятельности. В письмах он старался быть щедрым на слово и обстоятельным – явно убежденный в том, что выходящий из-под его пера эпистолярный текст не только несет в себе конкретную утилитарную информацию, сообщаемую в определенный день определенному лицу, но и исполнен более широкого историко-культурного содержания. «Замечали ли Вы, изучая писателей двадцатых и тридцатых годов, как хорошо и пространно писали они письма? – спрашивал Кондратьев Б. А. Садовского в письме от 24 марта 1915 г. – Теперь, к сожалению, времена уж не те. Литератор вместо письма перешел на открытку. Каждая написанная им и не оплаченная строка кажется ему пятиалтынным, убегающим из кармана. Не будем стараться быть современными в этом отношении».[1386]
Тщательность, доскональность, внимание к подробностям, присущие «рукописному» творчеству Кондратьева, отчасти объясняются и самоосознанием того места в писательской среде, которое он занимал и которое во многом сам для себя определил – всемерно отклоняясь от литературного «центра» и последовательно отдавая предпочтение литературной «периферии» (В. Н. Топоров пишет в этой связи о Кондратьеве как о человеке, занимающем «некую “среднюю” позицию, периферийную (тем не менее) по отношению к тому, что было высшими достижениями эпохи в разных ее проявлениях (литература, искусство, религия, идеи общего характера, моды, вкусы, modi vivendi и т. п.)», о сознательности этого «среднего» выбора).[1387] Характерен преобладающий интерес Кондратьева в его историко-литературных и биографических штудиях к литераторам второстепенным, «забытым» или вообще никогда не пользовавшимся широкой известностью, даже к литераторам-дилетантам (Н. Ф. Щербине, А. И. Подолинскому, Авдотье Глинке, Ф. А. Туманскому, Панкратию Сумарокову и др.): «маргинальные» фигуры из прошлого оказывались предметом особого тяготения для писателя, избравшего для себя маргинальное место в литературном настоящем. Историк литературы Кондратьев ясно осознавал, что для таких авторов, обычно обделенных вниманием потомков, наличие архивных документов и их оснащенность биографическими фактами – главное и непременное условие сохранения от окончательного забвения. Подробность, детализованность, библиографическая точность характерны для кратких автобиографий Кондратьева – в том числе и для тех, которые сосредоточены в Рукописном отделе Пушкинского Дома.[1388]
Первая по времени составления автобиография хранится в архиве Петра Васильевича Быкова (1844–1930) – поэта, прозаика, историка литературы, библиофила, с которым Кондратьев общался на протяжении ряда лет и делился своими историко-литературными разысканиями;[1389] автобиография предназначалась для «Словаря русских писателей», составлением которого Быков занимался долгие годы, но так и не довел работу до конца. Текст приводится по автографу.[1390]
Родился 11 мая 1876 г. в Петербурге. Отец был чиновником и служил в Типографии при Канцелярии Государственного Совета. Учился и кончил курс в 8-ой СПБ. гимназии, где директорами при мне были: Я. Мор, Инн. Анненский и К. В. Фохт. О всех трех я сохранил лучшие воспоминания. Любовью к античному миру я обязан Иннокентию Федоровичу Анненскому, переводившему на русский язык Эврипидовские трагедии и потом нам их читавшему. Одна из переведенных им трагедий была даже разыграна гимназистами.[1391] Я всегда питал органическое отвращение к математике (несмотря на то, что преподавателем ее был человек, которого я глубоко уважал и любил)[1392] и не ладил с грамматикой древних языков. Почти не способен к отвлеченному мышлению. В Университет поступил осенью 1897 г., по желанию отца, на Юридический Факультет. Очень жалею, что не удалось побыть на историко-филологическом. Сдал государственные экзамены весною 1902 г. и в том же году, осенью, поступил на службу в Управление Железных Дорог М<инистерства> П<утей> С<ообщения>. Стихи начал писать в старших классах гимназии, подражая товарищам, но первые, самостоятельные, попытки относятся к самому раннему детству. В юные годы, не умея еще читать, очень любил декламировать пушкинскую «Полтаву». Затем любимым моим автором стал Алексей Толстой. Первое стихотворение мое было напечатано в 1899 г. А. К. Шеллером в «Живоп<исном> Обозрении».[1393] Шеллер относился к моим первым опытам весьма снисходительно и печатал, по доброте сердечной, вещи довольно слабые, потом хотя и переделанные, но не все вошедшие в Сборник моих стихотворений.[1394] Так же снисходительно ко мне относилась и «Петерб<ургская> Жизнь», где я с того же 1899 г. стал помещать свои стихи. К 1899 г. относится и начало моего сотрудничества в журнале «Шут» (стихотворения «Из античного мира», иллюстрировавшиеся талантливым художником Як. Як. Бельзеном).[1395] Помещал свои стихи и небольшие рассказы в «России», в «Звезде» («Лебеди Аполлона»),[1396] в «Детском Отдыхе», в «Новой Иллюстрации» (приложение к «Бирж<евым> Ведомостям»), «Севере», «Почтальоне» (мифологическая повесть «Пирифой»),[1397] «Беседе», в «Слове», в «Литературно-Художественном Сборнике студентов СПб. Университета» (издан в 1903 г. под редакцией приват-доцента Б. В. Никольского).[1398] Сотрудничал в «Новом Пути» (между прочим рассказ «Белый Козел» и «Материалы к биографии Алексея Толстого»),[1399] вальманахах «Гриф» (рассказ «Иксион»).[1400] Из ненапечатанных вещей упомяну повесть «Фамирид»[1401] и заканчиваемый в настоящее время роман «Сатиресса».[1402]
Сборник, в котором я поместил большую часть напечатанных и несколько не напечатанных стихотворений, выпущен мною в мае 1903 г. и встречен критикой, за немногими исключениями, сочувственно. Наиболее содержательными благоприятными рецензиями были П. В. Быкова («Слово», прилож<ение> к № 159 за 1905 г.) и Б. Вл. Никольского («Московск<ие> Ведом<ости>», № 149 за 1905 г. Вышла затем отдельной брошюрой под заглавием «Заколдованный Талант»). Из отрицательных рецензий следует упомянуть Вал. Брюсова («Весы» № 7, 1905 г.).[1403]
Должен, в заключение, признаться, что стихи даются мне не легко; пишу я их медленно и очень мало. Легче всего они писались в Италии, которую я посетил летом 1904 года.[1404]
Ал. Кондратьев.
9 февраля <19 >06 г.
Восемь лет спустя Кондратьев составил другой текст автобиографии – на этот раз по заказу С. А. Венгерова, собиравшего материалы для своего Словаря русских писателей и ученых.[1405] Автобиография хранится вместе с сопроводительным письмом Кондратьева Венгерову:[1406]
Ст. Поповка Николаевской ж. д.; поселок Подобедовка. Большой просп., дача Кондратьевых.
6. VII. 1914.
Милостивый Государь Семен Афанасьевич.
Отвечаю не тотчас же на Ваш запрос, т<ак> к<ак> живу на даче и лишь вчера получил адресованное мне на городскую квартиру Ваше письмо. Т<ак> к<ак> архив мой теперь не при мне, то я посылаю Вам лишь краткие сведения о себе и написанном мною (опуская журнальные и газетные статьи).
Примите уверение, глубокоуважаемый профессор, в моем совершенном почтении к Вам.
Александр Кондратьев.
Кондратьев, Александр Алексеевич, родился 11. V. 1876. в Петербурге. Отец и мать были русские и православные. Мать потерял (умерла) 3½ лет. Отец служил в Государственной Типографии (умер в ноябре 1904 г.). По его совету и желанию я пошел, по окончании 8-й СПБ. Гимназии, на Юридический Фак<ульте>т, где с достаточною степенью добросовестности изучал соответствующие науки. В гимназии был несколько лет учеником Иннокентия Федоровича Анненского, с которым поддерживал хорошие отношения вплоть до его смерти. Русский язык в гимназии преподавался мне Петром Максимовичем Филоновым и Платоном Васильевичем Красногорским. Им обоим я весьма признателен за то, что они научили меня грамотно писать. Любовью к литературе учебным заведениям, в которых воспитывался, обязан мало. Писать стихи начал в гимназии; печатать их – в Ун<иверсите>те (в 1899 г.). Первый рассказ напечатан мною в амфитеатровской «России» в 1901 г. (на тему из области деревенской мифологии).[1407] Напечатал много стихов, преимущественно под псевдонимом Э. С., в журнале «Шут», издававшемся Р. Р. Голике. Сотрудничал и помещал стихи и рассказы в журналах: «Новый Путь», «Золотое Руно», «Перевал», «Весы», «Аполлон», «Русская Мысль», «Огонек» и многих других. Помещал также статьи, заметки, стихи и беллетристические произведения в «Голосе Москвы», «Русской Молве», а также еще в 2–3 недолго выходивших московских газетах (о «России» Амф<итеатро>ва я уже упоминал). Из альманахов сотрудничал почти исключительно в «Грифе». Кроме того я занимался исследованиями в области истории русской литературы; написал несколько статей об Алексее Толстом (помимо вошедших в книгу о нем – «“Крымские очерки” гр. А. К. Толстого», см. «Современник» 1912 г., VI).[1408] Писал об Авдотье Глинке, Н. Ф. Щербине, Панкратии Сумарокове…[1409]
Стихотворения мои вышли в двух книжках: 1) Стихи А. К. СПб. 1905 г., 2) «Черная Венера». СПб. 1909. Беллетристика состоит из романа «Сатиресса» М. 1907, кн<игоиздательст>во «Гриф», и двух книг рассказов: 1) «Белый Козел». СПб. 1908, и 2) «Улыбка Ашеры». СПб. 1911. Кроме того, в кн<игоиздательст>ве «Огни» – «Гр. А. К. Толстой. Материалы для биографии». Мною же переведена была книга Пьера Луиса «Песни Билитис», второе издание которой было уничтожено по постановлению суда.[1410]
Из других событий литературной жизни моей, пожалуй, стоит упомянуть лишь о победе на поэтическом конкурсе, организованном журналом «Золотое Руно» в 1907 г.[1411]
Мои внелитературные занятия – служба – сперва в Юридической части Управления Железных Дорог, затем (с 1908) в Канцелярии Государственной Думы.[1412]
Ал. Кондратьев.
Третий автобиографический документ Кондратьева относится уже к совсем другой эпохе. Это, собственно, не автобиография в строгом жанровом определении, а письмо, содержащее рассказ о жизненных перипетиях писателя в пореволюционные годы и о том положении, в каком он оказался в разоренной войной Польше, под Краковом, бежав из имения своей тещи на Волыни, «освобожденной» советскими войсками. Адресат письма, Евгений Александрович Ляцкий (1868–1942) – литературный критик, историк литературы, фольклорист, – постоянно проживал в Праге с 1922 г., где вел широкую общественную и благотворительную деятельность, состоял председателем Комитета по улучшению быта русских писателей в Чехословакии. Связанный с Ляцким еще по Петербургу деловыми отношениями и близкими историко-литературными интересами,[1413] бедствующий Кондратьев обратился к нему за денежной помощью и, получив ее, откликнулся подробным письмом, в котором не только поведал о своей жизни, но и поделился надеждами на будущее и собственными специфическими «узнаниями» (в частности, сообщил своему корреспонденту о некоторых «сновидческих» прецедентах, которым он придавал большое значение и которые нашли преломление в его творчестве – прежде всего в повести «Сны», включающей автобиографическую подоплеку).[1414] Письмо приводится по автографу из архива Ляцкого.[1415]
Absender Aleksander Kondratjew.
15/2. V. 1942.
Дорогой Евгений Александрович.
Вчера получил Ваше доброе письмо, а сегодня дочь принесла присланные Вами деньги (ей выдали на почте польскою валютою 20 злотых). Огромное Вам спасибо за Ваше великодушие. Стыдно мне принимать эти деньги, зная, что Вы сами стеснены в средствах. Но отказаться тоже не могу. Только вместо букета приобрету кусок мыла, ибо здесь, выражаясь мягко, наблюдается некоторый недостаток такового, равно как и некоторых других предметов, чем пользуются тайно продающие эти предметы или продукты лица. Кило сала (помимо получаемых по карточкам не очень часто жиров) стоит около 100 злотых. Вздорожали несколько керосин, сахарин и сахар… Но пока, слава Богу, сыты (кончаем остатки запасенного с осени картофеля и крупы)… Мне еще в 1907 г. все это было предсказано. Ясновидящая говорила между прочим, что хотя будет трудно, очень трудно, но того, ч<то>б<ы> нечего было есть, не случится. В свободные получасы разворачиваю иногда спасенные дочерью и увезенные ею из усадьбы записные книжки свои и некоторые бумаги и отрываюсь от действительности… Мне не очень повезло в занятиях моих литературою и историей литературы. Пропал, между прочим, с любовью составленный труд – биография поэта Федора Туманского, в котором приведены были некоторые его ранние стихотворения. У меня существует подозрение, что, благодаря сходству инициалов, кое-какие произведения Туманского приписываются Тютчеву. В одном из ранних произведений первого есть выражение, повторяющееся у второго («Возвышенная стыдливость страданья»)…[1416] Остались в Петербурге выписки и заметки по славянской мифологии и фольклору, лет за 10 до революции. Да и книги кое-какие по этим областям там остались. У меня был между прочим труд Вашего предшественника по «Слову о Полку Игореве», гр<афа> Мусина-Пушкина.[1417] Конечно, ошибок у него много, но и любопытного много, особенно принимая во внимание его эпоху. Вы – первый, если не ошибаюсь, указали, что произведение это принадлежит нескольким авторам…[1418] Время от времени задумываюсь над значением слов: «Див? кличет вверху древа» и т. д.
Не повезло мне и в изучении оккультных наук. Правда, несколько книжек по демонологии, главным образом на франц<узском> языке, у меня были, но романа из жизни обитателей ада написать мне так и не удалось. Покойный профессор Вяч<еслав> Мих<айлович> Грибовский[1419] добыл раз для меня из библиотеки СПБ. Ун<иверсите>та что-то вроде адского адрес-календаря на франц<узском> языке – середины ХVШ в., если не ошибаюсь. – «Эту книгу я доставал там несколько ранее и для покойной Мирры Лохвицкой», – говорил он мне… Этот Грибовский кончил свои дни в Риге и до самой смерти своей писал мне оттуда. Я не принадлежал к числу университетских его слушателей (меня больше интересовал тогда Л. И. Петражицкий).[1420] С Грибовским же я сблизился по кружку поэтов и поэтесс К. К. Случевского. У меня сохранилась здесь даже рукописная статейка – воспоминание об этом кружке.[1421] Сохранилось и еще что-то вроде статейки – заметка с воспоминаниями об умершем поэте Рославлеве,[1422] одном из молодых писателей, носивших, по примеру Горького, Леонида Андреева и Бунина, поддёвку (такую же носил и Есенин)… Две тетради с наклеенными на их страницах газетными вырезками воспоминаний моих о знакомых русских писателях остались в г. Ровно. Не знаю, уцелели ли…
Возвращаюсь к невезению с оккультными науками. Еще в СПб. работал я над биографией поэтессы Авдотьи Глинки, жены поэта Ф. Глинки. Т<ак> к<ак> кое-какие материалы по биографии последнего и бумаги его хранились в Шереметевском архиве, я был очень рад, когда получил туда рекомендацию не то из Публичной Библиотеки, не то из Архива Академии Наук (не помню). Мне говорили между прочим, что там хранятся розенкрейцерские ритуалы для вызова видений. Т<ак> к<ак> я в тот момент больше интересовался Авдотьей Глинкой, то, получив на первый раз лишь часть рукописей Глинки, не очень был огорчен, не найдя там текстов этих ритуалов, а лишь тетрадь со тщательно зарисованными видениями. Цветными карандашами там изображены были надгробные памятники, эмблемы, кажется, – ангелы и т. п. Я решил, что самые ритуалы я успею списать в другой раз. В подлинности их я не сомневался, т<ак> к<ак> Федор Глинка был в довольно высоких для России градусах… Когда же я пришел во второй раз, Шереметевский архив был закрыт по случаю войны (1914 г.).
На Волыни (с 1918 по 1939 г.) у меня было сравнительно много свободного времени и очень мало попадало в руки интересных книг. По истории литературы я перечитывал учебники и «курсы», бывшие в библиотеке Ровенской гимназии, ядром которой послужила библиотека б<ывшего> директора Ровенского реального училища Соколова. Ничего нового для себя я там не прочел, но списал много. Составлял я тогда для себя что-то вроде рукописной библиотеки-словаря по истории русской поэзии. Покупать книги удавалось редко, – главным образом, начиная с середины тридцатых гг., когда жена моя унаследовала именье, в котором мы жили. Жили мы не столько на доходы с земли, сколько на остатки от сумм, вырученных от продажи земельных участков для уплаты обыкновенных и чрезвычайных налогов. Доходов для жизни и налогов не хватало, и приходилось продавать землю. Пробовали сдавать землю в аренду, – арендаторы не платили нам условленных взносов, так что не на что было даже воспитывать детей. Сына, напр<имер>, пришлось взять из Львовского политехникума, куда он поступил, прилично выдержав вступительные экзамены. Боюсь, что именье это, на котором не было налоговых долгов (все были уплачены до войны), нигде не заложенное, в наши руки не вернется. Еще поляки некогда говорили мне, – «Ваша земля нужна нам для наших польских крестьян»…
У меня лично была земля в Шлиссельбургском уезде (доходов она не давала). Во время войны осенью 1916 г. я ее продал (вместе с совладельцами). На мою долю досталось не то 125, не то больше тысяч рублей. 75.000 р. я отдал на военный заём. На остальные деньги отправил в Крым и держал там семью до осени 1918 г., когда перебрался на Волынь, к теще. Несколько тысяч пропало в каком-то Киевском банке, а то, что не было растрачено на жизнь, утратило цену и обратилось в ничто…
Теперь все это кажется мне сном. Я благодарен Судьбе, что сон моей жизни не лишен был интересных картин и впечатлений. В молодости, когда я служил в М<инистерстве> П<утей> С<ообщения>, удалось мне 3 раза совершить три больших путешествия (1904, 1906 и 1908 гг.). Помимо европейских больших городов и находящихся в них музеев, побывал я в Греции, Египте и Малой Азии. Это дало содержание многим стихам. А картины российской «Великой и Бескровной», виденные мною в Таврическом дворце![1423] Сколько предшествовавших поколений желало их повидать! А сколько интереснейших литераторов и ученых удалось мне встретить в жизни, и не только встретить, но и пользоваться их расположением. Благодаря Вам, напр<имер>, увидела свет работа моя об Алексее Толстом…[1424] О другом очень полюбившемся мне в молодости поэте, Н. Ф. Щербине, закончить работы мне не удалось. Петр Бернгардович Струве напечатал в «Р<усской> М<ысли>» начало этой работы: «Молодость поэта Н. Ф. Щербины». Незадолго до начала войны мой варшавский (тогда еще заочный) знакомый, приват-доцент С. Ю. Кулаковский (сын киевского профессора византинолога)[1425] прислал мне, без предупреждения, в презент, эту статью, вырезав и склеив соответствующие страницы из книжки журнала. За день до получения этой посылки вижу сон: приходит ко мне будто бы покойный Н. Ф. Щербина. Я его спрашиваю: чему я обязан удовольствием его видеть. А он мне отвечает: «Ведь Вы обо мне писали». Когда я получил свою статью, я понял, почему видел этот сон. А поэта А. К. Толстого во сне никогда не видел. Зато за последние годы, годы изгнания, часто вижу разных покойных или по всей вероятности умерших поэтов, знакомых своих. Хотя бы, напр<имер>, Петра Петровича Потемкина,[1426] который мне приснился в 1941 г. А на другой день иду в клинику, где содержалась жена, подхожу по дороге к лотку с книгами (меня обычно тянет к этим лоткам). Спрашиваю, нет ли русских книг. Торговец протягивает мне книжку стихов Потемкина. Купил ее за 30 грошей. Снились мне здесь в Холмщине и И. И. Ясинский, и С. А. Кречетов-Соколов, и совсем недавно – Б. В. Бер.[1427] (Не знаю, слыхали ли Вы об этом поэте – я познакомился с ним у Шеллера-Михайлова, – у которого собирался очень небольшой поэтический и артистический кружок довольно интересных людей, как напр<имер> кн. Г. С. Гагарин†, Евдоким Николаевич Квашнин-Самарин, Ив<ан> Ив<анович> Тхоржевский, молодой скульптор Микешин, сын знаменитого, и др.).[1428] Валерий Яковлевич Брюсов снится мне обычно перед болезнью кого-либо из членов моей семьи. При жизни В. Я. очень хорошо всегда ко мне относился, хотя я, пока он был жив, не напечатал о нем ни строки. А после его смерти печатал только хорошее. Не знаю, чем объяснить такое совпадение. Думаю, что объяснить могут только оккультисты.
Простите, что я так заболтался, и таким мелким почерком! Рассчитываю на доброту Виды Павловны,[1429] которая не откажет, вероятно, прочесть Вам мои каракули.
Жена, хотя и очень смущена неожиданностью Вашего подарка, просит меня поблагодарить Вас за Ваше внимание к ней и доброту. Она просит Вас также сообщить, не известно ли Вам чего-нибудь о судьбе Вашей поклонницы, общей знакомой нашей Марии Эмильевны Штраус.
Дай Вам Бог здоровья и благополучия и радости, дорогой Евгений Александрович. Не знаю, удастся ли мне Вас увидеть. Многое будет зависеть от того, вернут или нет жене ее именье на Волыни (немного больше 150 дес<ятин>). Если бы удалось повидать Вас, был бы счастлив. Не знаю, удастся ли сыну перетащить нас на Волынь. Он в марте переехал туда и пристроился там, кажется, на пивном заводе. Но на Волыни едва ли не сильнее, чем здесь, чувствуется, особенно в городах, экономический (вероятно, – временный) кризис. Пристроиться же самому на какое-либо место не удается, из-за незнания немецкого и недостаточного знания польского и местных наречий… Счастлив буду, если напишете.
Виде Павловне целую ручки. Вас обнимаю.
Ваш душевно Александр Кондратьев.
16/3 – V – 1942.
В. А. Мануйлов – ученик Вячеслава Иванова
В ноябре 1920 г. Вячеслав Иванов был избран профессором по кафедре классической филологии на историко-филологическом факультете Бакинского государственного университета и исполнял свои обязанности (чтение лекционных курсов, ведение семинаров) по май 1924 г. включительно, 22 июля 1921 г. был удостоен степени доктора классической филологии за работу, два года спустя вышедшую в свет отдельным изданием под заглавием «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923).[1430]
После тяжелых жизненных испытаний первых пореволюционных лет, проведенных в Москве, Иванов воспринял свое пребывание в Баку как период относительного благополучия. «Университет, где я занимаю кафедру классической филологии, мне мил, – писал он 12 мая 1922 г. И. М. Гревсу. – Он имеет около 2000 студентов, достаточное число действительно выдающихся ученых сил, работает дружно всеми своими аудиториями, семинариями, лабораториями и клиниками, печатает исследования, пользуется автономией и, по нашим временам, представляет собою зеленеющий маленький оазис среди академических развалин нашей родины. ‹…› Вокруг меня ревностные ученики. ‹…› Мне говорят, что у меня призвание быть академическим учителем, и в самом деле кафедра – лекции, семинарий, направление т<ак> наз<ываемых> “научных сотрудников” ‹…› – совсем по мне, по моим вкусам, по моему эросу».[1431] В какой-то мере постоянные бакинские общения Иванова с коллегами по университету и студентами соотносились с былыми «симпосионами» на петербургской «башне»; вновь ему открылась возможность выступить в привычной для него роли протагониста и духовного наставника. Одним из «ревностных учеников», о которых Иванов упоминает в письме к Гревсу, был Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987), впоследствии выдающийся историк русской литературы XIX века, крупнейший специалист по Лермонтову, главный редактор «Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981), зачинатель изучения жизни и творчества М. Волошина.[1432]
Литературные интересы В. А. Мануйлова обозначились еще в дореволюционные годы – в Новочеркасске, где он родился и учился в Частной классической гимназии Е. Д. Петровой. По окончании ее (уже переименованной в 8-ю Советскую школу II ступени) летом 1921 г. начинающий восемнадцатилетний поэт отправился в Москву, где сразу оказался в гуще литературной жизни: «Лето 1921 года подарило мне незабываемые встречи с С. А. Есениным, В. Маяковским, М. Кудашевой и Б. Пастернаком, я слушал В. Я. Брюсова и впервые был у него дома ‹…›, познакомился с Рюриком Роком, Сусанной Мар, Наталией Бенар, В. Шершеневичем, А. Кусиковым, А. Б. Мариенгофом и другими».[1433] 4 августа 1921 г. в кафе имажинистов «Стойло Пегаса» Мануйлов познакомился с Есениным и передал ему на просмотр тетрадку своих стихов; после этого он по рекомендации Есенина был принят во Всероссийский Союз Поэтов и получил удостоверение его действительного члена, встречался с ним еще несколько раз и выступал с чтением своих стихов с эстрады.[1434] Таким образом, когда в следующем году Мануйлов оказался в Баку, где в дневные часы отбывал военную службу в политотделе Каспийского военного флота, а по вечерам учился на историко-филологическом факультете университета, он уже обладал определенным опытом общения с литературной средой.
И тем не менее встреча с Вячеславом Ивановым произвела на него экстраординарное впечатление: «Впервые я увидел Вячеслава Иванова ранней весной 1922 года в вестибюле Азербайджанского государственного университета. Высокий, румяный, он шел легкой походкой, немного сутулясь ‹…› Это Вячеслав Иванов – с нескрываемым восхищением сказал мне мой собеседник. Его волнение передалось мне: да, именно таким я представлял себе этого удивительного человека, о котором столько уже слышал, учеником которого мечтал стать». «Читал он обычно, – продолжает Мануйлов, – в самой большой аудитории. Греческие и латинские стихи звучали у него как музыка. Все лекции Вяч. Иванова были необыкновенно красочны и, открывая неведомые миры, оставляли глубокое впечатление. Он говорил всегда увлекательно, вдохновенно, хотя и не для всех понятно, удивляя разносторонностью своих интересов и познаний. ‹…› Вскоре лекции Вячеслава Иванова стали для меня и небольшой группы сплотившихся вокруг него учеников, посещавших также и его семинары по Пушкину и поэтике, самыми главными, самыми значительными в нашей университетской жизни событиями».[1435]
В сообщении «О Римском архиве Вяч. Иванова» Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина говорится: «Один из авторов этих строк вспоминает, как с волнением и гордостью рассказывал В. А. Мануйлов в ближнем круге о том, что в брюссельском собрании сочинений Вяч. Иванова воспроизведена бакинская фотография поэта с его учениками, где студент Мануйлов сидел ближе всех к учителю; оригинал ее висел у изголовья Мануйлова».[1436] В этих словах – две неточности. Одна – мелкая: автор этих строк отчетливо помнит, что фотография Иванова в группе друзей и учеников висела не у изголовья, а на стене, вдоль которой стояло спальное ложе В. А. Мануйлова в принадлежавшей ему комнате коммунальной квартиры в доме на углу 4-й Рождественской (тогда и поныне 4-й Советской) и Дегтярной улиц. Вторая неточность – более существенная: в вышедшем в свет в 1971 г. томе I брюссельского Собрания сочинений Вячеслава Иванова воспроизведена другая фотография, 1923 года (вклейка между с. 160 и 161): Иванов и 11 его учеников, по правую руку от учителя – Мануйлов, по левую – М. С. Альтман. Фрагмент фотографии, висевшей в комнате Мануйлова, был опубликован в томе IV брюссельского издания в 1987 г., в год его кончины, и этот том он уже не мог подержать в руках. На этой фотографии, после 1987 г. неоднократно воспроизводившейся, Иванов запечатлен в группе участников бакинского поэтического кружка «Чаша»,[1437] собиравшегося в большой комнате у профессора химии Петра Измайловича Кузнецова. Снимок сделан в мае 1924 г. на веранде квартиры Кузнецовых: 19 человек, в их числе дочь Иванова Лидия, его друзья Вс. М. Зуммер и С. В. Троцкий, ученики Иванова: будущий известный критик и литературовед Ц. С. Вольпе, литературовед и библиограф М. А. Брискман, впоследствии видный лингвист-германист М. М. Гухман, художник-график и поэтесса В. Ф. Гадзяцкая, в будущем научный сотрудник Эрмитажа искусствовед М. Я. Варшавская, а также Е. А. Миллиор, К. М. Колобова, Е. Б. Юкель и др. Давая в мемуарах краткие пояснения о ряде лиц, представленных на фотоснимке, Мануйлов добавляет: «Фотографируясь, я удостоился чести сесть у ног Учителя и положить ему на колени согнутую в локте правую руку».[1438]
Такая композиция в центральной части фотоснимка может быть признана знаковой. В мемуарах Мануйлов признается: «В 1922–1924 годах в Баку я был как бы член семьи Вячеслава Ивановича, он доверял мне и многое рассказывал о себе ‹…›».[1439] У Иванова установились неформальные доверительные отношения с целым рядом его бакинских учеников – ближе всего с Ксенией Колобовой, Еленой (Нелли) Миллиор, Моисеем Альтманом, автором ценнейшего документального источника – «Разговоров с Вячеславом Ивановым», составленных по образцу классических «Разговоров с Гёте» И. П. Эккермана. И все же близость учителя и ученика, наглядно продемонстрированная на групповом фотопортрете, имела особый характер, что признавали и другие, безмерно преданные учителю ученики. 12 июня 1924 г. Е. Миллиор писала Мануйлову: «Что касается забот В. И. о тебе, – он действительно большой души человек! Делать так, как он, по-настоящему, до конца, решительно и вместе просто – кто мог бы еще из окружающих тебя людей, особенно профессоров?»[1440] 28 июля того же года Мануйлову писала К. Колобова, откликаясь либо на его устное признание, либо на слова из неизвестного нам письма: «Если тебе В. И. дороже родных, то я не могу даже подумать, дороже кого мне В. И. ‹…›».[1441]
Чем была обусловлена эта близость? Разумеется, Иванову должен был импонировать студент с широкими литературными и культурными интересами, инициативный, деятельный, способный к организационной работе (Иванов поручил Мануйлову обязанности секретаря двух своих университетских семинаров – по Пушкину и по поэтике) и вместе с тем начинающий поэт: в бакинские годы поэтическое поприще было для него на первом плане. Не могли не располагать к себе и душевные качества, тогда уже вполне проявившиеся: юноша, открытый миру и людям, излучающий доброжелательность и теплоту (те, кому довелось общаться с В. А. Мануйловым в его преклонные годы, подтвердят, что эти качества он пронес нерастраченными через всю свою нелегкую жизнь) и вместе с тем готовый к благодарному постижению не только внешних личин и оболочек мира, но и его «тайн», живо интересующийся разного рода эзотерикой. «…Чего стоят всяческие “метафизические” и “чернокнижные” ереси, до которых и я большой охотник, оставаясь, впрочем, жизнерадостным язычником, стремящимся ко Христу», – признавался Мануйлов в первом своем письме к М. А. Волошину (21 октября 1925 г.).[1442] Эта самоаттестация свидетельствует о том, что в лице Мануйлова Иванов обрел не только исполнительного и преданного ученика, но и духовного последователя, способного подхватить и развить те мажорные звучания, которые доминировали в его собственном самосознании. В мемуарной книге, писавшейся в советские годы и в расчете-надежде на публикацию в советских идеологических условиях, Мануйлов очень обтекаемо и явно не договаривая касается тех аспектов, которые обусловили его неформальную, внутреннюю связь с университетским наставником: «Вячеслав Иванов был сама мудрость. Но он проявлял такую любовную заинтересованность, что с ним говорилось, как с родным человеком, который мудрее тебя, но говорит с тобой, как с равным, хотя знаешь, что ни о каком равенстве не может быть и речи. ‹…› Однажды я спросил Вячеслава Ивановича, почему он так внимателен ко мне и тратит столько времени на разговоры со мной вне университета, дома. Он ответил, что беседы со мной и рассказы об уже пережитом, знание моего прошлого и настоящего позволяют ему уверенно заглянуть в будущее, а направленность моего пути он уже чувствует по моим ранним стихам».[1443] Уверенность Иванова в том, что и в будущем, – перспективы которого тогда уже четко вырисовывались для него отнюдь не в благоприятном свете, – Мануйлов выдержит заданную «направленность пути», побуждала, таким образом, уделять ученику повышенное и благосклонное внимание.
Тему взаимоотношений учителя и ученика затрагивает и Ксения Колобова в стихотворении, написанном, вероятно, по случаю первого юбилея Мануйлова – 20-летия со дня его рождения (22 августа / 4 сентября 1923 г.); она возникает, обрамленная главной темой – «первой юношеской любви»[1444] Мануйлова к Елене Борисовне Юкель, также ученице Иванова по Бакинскому университету, представленной в обличье Елены из греческой мифологии – спартанской царицы, прекраснейшей из женщин:
Вите Мануйлову Ведь издавна поэты мечтали о Еленах, но на дороге редким встречалось это имя… То – Мирра, то – Мария, а то Елисавета, а то и деревенское – простая Серафима. Но Ты – Судеб Избранник, прославленный дарами, все Боги благосклонны – поэт, друзьями чтимый, – досель не опьяненный дурманными парами, вегетерьянец скромный, Ивáновым любимый. Ах, Оккультист заядлый, влюбленный в тайны мира, и Wunderkind, но, право, для вящей скажем славы: один из членов тайного вселенческого клира, достойный сопрестольник гордыни Вячеслава! Все Музы и Хариты сбежались на рожденье и каждая с собою дар принесла бесценный – Лишь Афродита весело – «Взгляни на отраженье, пускай запечатлеется в тебе лицо Еленино». Ах! из Москвы от Брюсова сбежал в Баку к Иванову, Вздохнул свободно, радостно избавился от плена, не знал, что Афродитою мечтанья затуманены, что плен сладчайший зиждется – здесь учится Елена. Один на Мирру смотрится, другой поет Марию, Елисавету третий в Унив<ерситета> стенах… Ты оправдал надежды – спаситель и Вития, ты – Менелай, вернувший сокрытую Елену.[1445]Из немногочисленных стихотворений, которые Вячеслав Иванов написал во время пребывания в Баку, большинство обращено к ученикам. Это – цикл из трех сонетов «Моисею Альтману» (один из сонетов – акростих), написанный 10–14 апреля 1923 г.;[1446] стихотворный экспромт «Какая светлая стезя…» (май 1924 г.) на фотопортрете, подаренном «моей филологической сотруднице и сомечтательнице Елене Александровне Миллиор»;[1447] стихотворение «Ксения, странница…», адресованное К. М. Колобовой и записанное также на обратной стороне подаренного ей фотопортрета;[1448] наконец, опять же на обороте фотопортрета в берете и с книгой в руках, – стихотворение, обращенное к Мануйлову (около 20 декабря 1923 г.):
Victori manu Elohim
Поэт, пытатель и подвижник In nuce и в одном лице, Вы, бодрый путник, белый книжник, Мне грезитесь в тройном венце. Вы оправдаете, ревнитель И совопросник строгих Муз, Двух звуков имени союз: Рукою Божьей победитель. Вяч. Иванов.[1449]Это стихотворение немедленно (22 декабря) вызвало к жизни ответное послание, которое Мануйлов приводит в мемуарной книге:
Ты сердцем солнечным, Учитель милый, Меня давно неудержимо влек, И я летел к тебе золотокрылый, И трепетный, и глупый мотылек. Я тоже солнечный, но Всемогущим Мне мудрости змеиной не дано, Я только радуюсь лугам цветущим, Я только пью медвяное вино. Что принесу тебе я легкокрылый? Твои цветы в твои же цветники! За то, что ты, Учитель, свет мой милый, Взял мотылька к себе в ученики.[1450]Мануйлов акцентирует здесь ту важнейшую доминанту, которая сближает его юношеские творческие порывы с поэтическим мироощущением автора «Cor ardens», – мотив солнечности. Другую доминанту, обозначенную в этом стихотворении и относящуюся уже только к его автору, Иванов определенно нашел меткой и выразительной. Об этом можно судить по его поэтическому экспромту, приписанному несколько дней спустя на обороте той же фотографии, под текстом стихотворного послания «Victori manu Elohim»:
Ответ
В. А. Мануйлову Я вижу: детям Солнца милы Мои живые цветники, Коль мотылек воздушнокрылый Ко мне упал – в ученики. ВИДекабрь 1923.[1451]Уподобление, найденное Мануйловым и санкционированное пером его учителя, вошло в обиход ближайшего круга ивановских учеников. Оно определяет образный строй одного из стихотворений Ксении Колобовой, посвященных Мануйлову:
Виктору «Не вспоминай и не зови» Юр. Деген Ты любимый, живой и желанный огнекрылых стихий мотылек. Вихрь тебя породил ураганный, захотел ты и многое смог. Подари же меня приветом, как других любовью даришь. Знаю я – пронизанный светом, от меня навсегда улетишь. И не мне полететь за тобою, словно камни ступни тяжелы. Мотылькам, завлеченным игрою, мои мысли враждебны и злы. Не простится Господнему року: мое солнце в зияньи орбит, глядя горько расплавленным оком, черным пламенем тихо горит.[1452]В архиве Мануйлова сохранился также машинописный список цикла Иванова «Лебединая память» (11 стихотворений), опубликованного в журнале «Русская Мысль» (1915. № 8) с дарительной надписью автора: «Эфирному мотыльку песни Памяти – Вите Мануйлову Вяч. Иванов».
Об особом положении Мануйлова в ближайшем кругу бакинских учеников Иванова свидетельствует и тот факт, что именно ему последний, отправляясь в Москву на празднование 125-летия со дня рождения Пушкина, предложил стать своим спутником. 21 мая 1924 г. Мануйлов писал родителям и сестре Нине в Новочеркасск: «6-го июня в Москве большие пушкинские торжества. ‹…› Вячеслав Иванович вызван Луначарским для доклада в Большом театре на тему “Пушкин в 1824 г.” Вячеслав Иванович считает, что мне необходимо воспользоваться отпуском и правом бесплатного проезда и ехать с ним, чтобы в Москве сам Вячеслав Иванович мог меня познакомить со всеми, с кем это нужно, и, может быть, перевести меня для дальнейшего образования в Москву. Сами понимаете, как все это для меня важно. ‹…› Я выезжаю 27 V. ‹…› Вячеслав Иванович прилагает все усилия устроить меня в скором поезде, пишет письма нашему комиссару, хлопочет еще в Наркомпросе и т. д.»[1453] Примечательно, что Иванов надеялся перевести Мануйлова для завершения университетского образования в Москву: вполне определенно он планировал уже тогда не возвращаться в Баку, а выхлопотать себе в «высших» инстанциях заграничную командировку, и в перспективах этого хотел обеспечить своему любимому ученику более благоприятные условия, чем те, которые ожидали его в Бакинском университете. Из этого намерения, впрочем, не последовало ожидаемых результатов.
В цитированном письме в Новочеркасск Мануйлов сообщал также: «Завтра сдаю предпоследний экзамен, накануне отъезда последний. Еще один, возможно, в дороге между Баку и Москвой либо Зуммеру, либо Вяч<еславу> Ивановичу». Последняя фраза достаточно выразительно свидетельствует о том, насколько неформальный характер имел процесс обучения в Бакинском университете при Вяч. Иванове. В мемуарном очерке о своем учителе Мануйлов не сообщает, принимал ли Иванов у него экзамен в купе вагона во время следования в Москву, но приводит надпись на обложке книги Иванова «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923), подаренной ему автором в ходе этого путешествия: «Милому спутнику из Баку, Виктору Андрониковичу Мануйлову, при переезде через Оку, “любовью требуя” – верности эллинскому языку. ВИ. 30/V 1924».[1454] Исполнить этот завет Мануйлов, однако, не смог: в отличие от других самых близких и самых верных учеников Иванова – Моисея Альтмана, Ксении Колобовой, Елены Миллиор, ставших высокопрофессиональными филологами-классиками, он в дальнейшем сосредоточился в своих интересах на истории русской литературы (хотя в бакинские годы, безусловно, был увлечен и той сферой знаний, в которую вводил своих слушателей Иванов: среди первых публикаций Мануйлова имеется, в частности, рецензия на популярную книжку М. Брикнера «Страдающий бог в религиях древнего мира» (М., 1923), вполне благосклонная: «Удачно проведена аналогия между древними религиями и христианством»[1455]).
В мемуарном очерке «О Вячеславе Иванове» Мануйлов воскрешает эпизоды пребывания в Москве летом 1924 г.[1456] – посещения московских друзей и знакомых Иванова (П. Н. Сакулина, М. О. Гершензона, В. Я. Брюсова, Г. И. Чулкова и др.), визит к А. В. Луначарскому, знакомство с М. П. Кудашевой, близкой приятельницей М. Волошина и впоследствии женой Ромена Роллана (Иванов устроил своего ученика жить в ее квартире), общение с Б. Пастернаком, поездку в подмосковное имение к композитору А. Т. Гречанинову. В архиве Мануйлова (ИРЛИ) сохранились относящиеся к этой поре документальные материалы. В их числе – билет на 1924 г. Вяч. Иванова как действительного члена Всероссийского Союза Поэтов, а также записка Иванова: «Прошу о пропуске в Ак<адемию> Х<удожественных> Н<аук> на мой доклад 9/VI для студента бакинск<ого> университета, моего ученика, В. А. Мануйлова. Вяч. Иванов». Имеется также письмо, адресованное поэту Василию Васильевичу Казину (1898–1981), одному из руководителей Общества пролетарских писателей «Кузница» и сотруднику редакции первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь»:
23/VI 1924.
Дорогой товарищ Казин,
Позвольте обратить Ваше внимание на моего университетского ученика (в Баку), тов. В. А. Мануйлова, как на поэта, обнаруживающего, по моему мнению, замечательное дарование. Познакомившись с ним, Вы, я надеюсь, не откажете ему в добром содействии на первых шагах его литературной деятельности и, быть может, устроите его стихи в «Красной Нови».
Истинно уважающий Вас
Вячеслав Иванов.
Судя по тому, что это письмо отложилось в архиве Мануйлова, оно не дошло до адресата; начинающий поэт не рискнул воспользоваться столь энергичной рекомендацией (стихи его в «Красной нови» не появились).
Среди материалов, относящихся к Вячеславу Иванову, в том же архивном фонде имеются: машинописная копия стихотворения Иванова «Ио» (с пояснительной припиской: «Неопубликованное стихотворение, автограф которого был передан в собрание П. Н. Медведева В. А. Мануйловым в конце 1920-х годов»);[1457] фрагмент из музыкальной трагикомедии Иванова «Любовь – мираж?»;[1458] библиографические записи; наброски и тезисы на тему «Бальмонт»; отдельные листы черновых и исправленных беловых автографов, относящихся к исследованию Иванова «Дионис и прадионисийство». Особый интерес представляет карандашный черновой автограф стихотворения Иванова «Металлом обложился…», впоследствии опубликованного в его книге «Свет вечерний» под заглавием «Был в сердце поздний ропот»:[1459]
Металлом обложился Осенний небосклон[1460] И ветр-трубач кружился С трубою похорон. Был в сердце поздний ропот[1461], Невыплаканный плач, Да памятливый опыт, Безрадостный богач. Когда бы люди жили Как легких птиц семья, Взвивались и кружили, – И с ними – жизнь моя! Ненастья бы метали[1462] Листву осокорей, – Мы б с ветром улетали[1463] За тридевять морей. Всегда б нам твердь синела,[1464] И рдел на древе плод,[1465] И песня бы звенела, И реял хоровод. Над нами, полднем пьяны, Сплетали б мирты сень, – Где шепчутся бурьяны Убогих деревень. Поник мой дух унылой…[1466] Вдруг резвый пастушок[1467] Предстал, с улыбкой милой Мне подал посошок:[1468] «Ты с палочкой, вот этой,[1469] О прошлом не тужи, О будущем не сетуй: В руке ее держи!»[1470] И прочь бежит проворный. Держу я посошок, А в сердце животворный[1471] [Затеплен] огонек.[1472] Дивлюсь, как чудом эта[1473] Мне палочка дана? Из мглы клубится света[1474] Зеленая волна. По сумрачной дубраве[1475] Клубы колец вия, Ползет, в огнистой славе, Красавица-змея. Горит на лбу покатом В коронке <?> – самоцвет[1476] И весь зеленым златом Дремучий лес одет. Подкрался я, неслышный, До царственной змеи, Жезлом волшебно-пышной Коснулся чешуи. Доверился удаче, И мощь была в жезле. Так стал я всех богаче Богатых на земле.Хлопоты Вячеслава Иванова об отъезде за границу вместе с семьей (дочерью и сыном) увенчались успехом. Официально отъезд был оформлен как временная заграничная командировка в Италию для работы над переводами Эсхила и Данте, а также для участия в различных культурных инициативах.[1477] Ивановы выехали из Советской России 28 августа 1924 г. Судя по одному из последовавших писем Мануйлова, Иванов предлагал ему отправиться в Италию вместе с ними, но тот отказался. Мануйлов вспоминает об их предотъездной встрече: «Мы обедали в последний раз и прощались в Доме ученых.
Это было очень долгое прощание. Мы совсем уже простились, я спустился со второго этажа и в вестибюле стал надевать пальто. Вдруг вижу – Вячеслав Иванович быстро спускается с лестницы, бежит в вестибюль: “Я не могу, я должен вас еще раз обнять!” Мы снова обнялись и оба заплакали.
Больше мы не встречались».[1478]
Днем отъезда за границу датировано хранящееся в архиве Мануйлова письмо Иванова к нему с наставлениями касательно так и не состоявшегося перехода из Бакинского в Московский университет:
Успеньев день 1924. Москва.[1479]
Дорогой Витя.
Пишу в последние минуточки перед отъездом на вокзал. Обратитесь к Н. А. Дубровскому и, непременно, к П. С. Когану;[1480] они помогут, и были уверены оба в успехе. Копии захваченных Вами (очень не к месту) стихов, особенно посвященных Вере (покойной жене моей), вышлите мне – лучше всего через Ольгу Александровну Шор (М<алый> Знаменский 7, 2-й этаж).[1481] Мой адрес во всяком случ<ае>
Al Sig<nore> Professore Venceslao Ivanov
ferma in posta Roma
или, через посольство,
All’ ambasciata URSS
Via Gaeta 3
Roma
per il Prof. Venceslao Ivanov.
Целую Вас и кланяюсь Вашим.
Любящий Вяч. Иванов.
Поселившись в Риме и не имея на первых порах никаких надежных гарантий относительного дальнейшего жизненного обеспечения, Иванов на протяжении ряда месяцев пребывал в сомнениях, в неопределенном положении относительно своего статуса и принципиального выбора – считать себя временно командированным или обосновавшимся за границей окончательно. 1 декабря 1924 г. он записал в дневнике: «Чувство спасения, радость свободы не утрачивают своей свежести по сей день. Быть в Риме – это казалось неосуществимым сном еще так недавно! Но как здесь остаться, на что жить? Чудо, ожидавшее меня за границей, чудо воистину нечаянное, сказочно-нечаянное – еще не обеспечивает нашего будущего. Во всяком случае возвратить в советскую школу моего ненаглядного Диму было бы прямым преступлением. Итак, одному опять нырнуть in gurgite <в пучину – лат.>? Не значит ли это испытывать судьбу?» (III, 850–851). И в этот же день, ниже: «Письмо от бедной Ксении. Как ее встряхнешь? Надо написать ученикам» (III, 851). Переписка с учениками, однако, приобрела в основном односторонний характер. Ниже публикуются 8 писем Мануйлова к Иванову за 1924–1928 гг., в то время как в архиве Мануйлова имеется лишь одно письмо Иванова к нему, отправленное из Италии. 3 письма (1925–1926) Иванов адресовал Е. А. Миллиор.[1482] Более или менее регулярно Иванов переписывался со своими друзьями, жившими в Баку, – С. В. Троцким и В. М. Зуммером (его письма к ним, видимо, впоследствии погибли).
Иванов воздерживался от установления активных эпистолярных контактов с учениками, вероятно, главным образом из нежелания вселять в них надежды на его скорое возвращение в Баку – надежды, которые с течением времени имели все меньше шансов на осуществление. Он продолжал числиться штатным профессором университета, «в отпуску без содержания», и это обстоятельство подкрепляло убежденность многих в том, что его отсутствие – явление временное. С. В. Троцкий в своих письмах регулярно его информировал: «Здесь все меня спрашивают, когда вы вернетесь. Уж очень любят, очень дорожат вами» (10 октября 1924 г.); «…за вами ‹…› оставлена кафедра, авторы древности ‹…› в ожидании вас даже никто до сих пор не назначен. Вот как ждет вас университет. А о нас грешных не говорю; вы и сами знаете и, может быть, только не представляете себе достаточно ярко» (18 июня 1925 г.); «Кафедра – за вами, и – многих радостное ожидание» (12 ноября 1925 г.).[1483] Однако сам Иванов 27 января 1925 г. писал Ал. Н. Чеботаревской: «В Баку, должно быть, не вернусь, потому что детям необходимо продолжать их дело здесь ‹…› Окончательные решения однако не приняты. Все надеюсь на то, что денежный вопрос как-нибудь решится в благоприятном смысле».[1484] В книге А. О. Маковельского о первом десятилетии деятельности Азербайджанского государственного университета указано, что Иванов был профессором до 1 июля 1925 г., однако его фамилия значилась даже в повестке на явку профессоров на совещание 22 октября 1925 г.[1485]
О том, какое огромное место занимал Вяч. Иванов во внутреннем мире его ближайших учеников, можно судить по письмам к Мануйлову Е. А. Миллиор. В одном из них, написанном 13 августа 1924 г., еще до отъезда учителя за границу, но уже в пору, когда его отсутствие в Баку было осознано как ощутимая утрата, она предпринимает пристрастный отсчет: «А Вяч. Ив. вовсе не для всех. Кто с ним, кроме меня, тебя, Ксении? Мирра, Миша Сир<откин>. Уже Миле он чужд. Брискман, Цезарь, Муся от него далеки. В. Ф. “любопытствует”, но не любит. Андрей относится горячо, но любит или ненавидит? Нина очень любит, но идет своим путем. Шура, Лена знают мало».[1486] 26 августа 1924 г. – вновь об Иванове: «Я твердо убеждена, что в конце концов не изменю ему и заветам его, но сейчас я в пустоте ‹…› мы связаны В. Ивановым и должны говорить правду друг другу: ведь и от тебя я жду того же. Но не только ты сдаешь позиции, хочешь идти и с В. Ив. и без него (даже против), и все остальные делают то же ‹…› я разрушала Бога, потому что кругом творили его. Теперь я против “веры в неверие”. Я хочу ставить вопросы. Миросозерцание В. И. дает гораздо больше страшной свободы, более творческое, но и более разрушительное. Вот почему я хочу быть с ним».[1487] Три года спустя, из Баку в Ленинград (25 ноября 1927 г.), уже после ознакомления с присланными В. М. Зуммеру новейшими стихотворениями Иванова («Палинодия», «Собаки») – провозглашениями «Хлеба Жизни» христианства: «Как-то у нас был “симпосион” в нынешнем классическом кабинете: собрались на праздник ‹…› Читали стихи В. Ив. ‹…› Конечно, это хорошо, что новый путь открылся перед В. Ив., я верю В<ячеславу> Ив<анови>чу, что путь его верен. ‹…› Зуммер как будто считает возможным, что В. Ив. примет католичество и станет монахом. А мне не верится. Все-таки, его молчание беспокоит меня. Он знает, как важно для нас его слово, как просили мы его хоть несколько строк прислать нам. Отчего же он не захотел? Или не мог? Или считал для нас нужным искать пути без его слова?»[1488]
Мануйлов по складу своей личности не был подвержен тем поглощающим все сознание рефлексиям, которыми наполнены письма Нелли Миллиор. В его посланиях, обращенных к Иванову, преобладает чувство восторженной и благодарной памяти об учителе и готовность следовать его заветам – которые ученик, однако, надеется сочетать с адаптацией к тем новым жизненным параметрам, которые принесла советская эпоха и которые, в конечном счете, побудили его учителя остаться в Италии (см. письмо от 9 февраля 1925 г.). Год спустя после совместного с Ивановым отъезда из Баку в Москву Мануйлов написал стихотворение, обращенное к учителю:
Вячеславу Иванову
По вечерам рассматриваю карту Италии далекой и желанной, И снится мне потом, как будто в Риме Я просыпаюсь утром золотым. И улицею Четырех фонтанов, Насквозь пронзенной звонкими лучами, В который раз, походкою весенней Я прохожу по левой стороне. И всякий раз, в окне одном и том же, Склоненное над книгою старинной (Должно быть, томик вещего Эсхила) Мне светится знакомое лицо. Учитель мой, все тот же, как и прежде, Твой горестный и величавый облик, Власы дымящиеся ореолом, Кольцо опаловое на руке. И, опаленный радостною болью, Бросаюсь я к тебе и просыпаюсь, И снова русское смеется солнце И освещает карту на столе. 25 мая 1925Баку[1489]По инициативе Мануйлова состоялась последняя при жизни Вяч. Иванова публикация четырех его оригинальных стихотворений на родине. Сборник «Норд» (Баку, 1926), составленный Мануйловым (фамилия его в этом качестве, впрочем, в книжке не обозначена), являл собой скромный итог деятельности того кружкового литературного объединения «Чаша», которое увековечило себя на описанной выше групповой фотографии. Из 15 стихотворцев, участвовавших в сборнике, шестеро представлены на этом снимке: кроме Иванова и Мануйлова также Кс. Колобова, М. Брискман, Вера Гадзяцкая и Мих. Сироткин. Среди участников сборника – М. Волошин и поэты, приобретшие широкую известность в 1920-е гг., – Н. Тихонов и Вс. Рождественский, а также авторы, входившие в круг близких друзей составителя, – Вл. Луизов и Мих. Казмичев.[1490] Выход в свет сборника откровенно аполитичного, лишенного зримых примет новой советской действительности был немедленно оценен по достоинству в идеологически бдительной бакинской печати; заглавия рецензий: «Поэзия, вышедшая в тираж», «Норд, который не дует» (А. Якоби) – говорят сами за себя.[1491]
Перед Мануйловым с годами все отчетливее вырисовывалась дилемма – или продолжать свои попытки активно включиться в советскую литературную жизнь, но ценой ущерба для собственной поэтической индивидуальности, которую надлежало перестроить сообразно повсеместно внедряемым идейно-эстетическим нормативам, или избрать себе иное творческое поприще. Окончательный выбор он сделал во многом под влиянием двухдневного общения в Коктебеле в июле 1927 г. с Максимилианом Волошиным. «До этого, – вспоминает Мануйлов, – я мечтал о литературной работе, о славе, выступлениях в печати, хотя три хироманта в 1920, 1923 и 1924 годах предупредили меня, что печататься не нужно, а надо писать совершенно свободно, не делая поэзию своей профессией, своим заработком, стать профессиональным литературоведом. Встреча с Волошиным укрепила меня в этом решении. Я понял, что даже он, большой поэт, лишен возможности печатать многие стихи и вынужден при жизни “быть не книжкой, а тетрадкой”».[1492] Об этом своем выборе Мануйлов сообщил Иванову в письме от 12 мая 1928 г., отправленном из Ленинграда, где он обосновался на всю оставшуюся жизнь, – последнем из его писем, сохранившихся в Римском архиве поэта. Оно было ответным на письмо Иванова, исполненное любви к ученику и тревоги за его судьбу: «Знаю, как вам трудно, и верю, что Бог Вам поможет».[1493]
Еще какое-то время до Иванова доходили краткие известия о Мануйлове и других бывших бакинских студентах. 10 октября 1929 г. С. В. Троцкий писал ему, в частности: «Витя, Нелли, Ксения работают и пробиваются к науке, сохраняя себя такими, какими были».[1494] В том же 1929 году Мануйлов написал сонет «От необыкновенной красоты…», который вместе с ранее написанным сонетом «Вновь конькобежец режет вензеля…» составил двухчастный цикл «Зимние сонеты»[1495] – явный отголосок одноименного цикла Вяч. Иванова, впервые опубликованного в 1920 г. (№ 1) в московском журнале «Художественное слово». В последующие долгие годы, когда сталинскую империю отделял от цивилизованного мира непроницаемый железный занавес, даже эпистолярные контакты бакинских учеников с их учителем оказались невозможными. Связь восстановилась только тогда, когда в железном занавесе обнаружились первые прорехи, – уже после смерти Вячеслава Иванова: возобновилась дружеская переписка Мануйлова и Миллиор с детьми поэта.[1496] Но это уже другая история.
Позднейшей своей работе «Размышления о романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”» (1967–1975) Е. А. Миллиор предпослала посвящение: «Посвящаю моему другу В. А. М. и нашему общему учителю поэту Вячеславу Иванову».[1497] В этом соединении имени Мануйлова с именем учителя – указание на исток становления и самоопределения личности, а также на общность жизненного пути, пройденного под знаком Вячеслава Иванова.
Ниже публикуются 8 писем В. А. Мануйлова к Вяч. И. Иванову по автографам, хранящимся в Римском архиве Вяч. Иванова. Выражаю глубокую благодарность А. Б. Шишкину за предоставление этих документов и за всяческое содействие в работе.
ПИСЬМА В. А. МАНУЙЛОВА К ВЯЧ. И. ИВАНОВУ
1
19/IX 1924 г.Милый Учитель, Вячеслав Иванович!
Я никогда не думал, что любовь моя может довести меня до того, что я, потеряв контроль над самим собой, стану делать грубые глупости и доставлять Вам неприятности.
Когда я взял из «Русского Современника» Ваши стихи,[1498] я почти ни о чем не думал – поэтому не верьте мне, если я стану оправдываться.
Да, я спрашивал Лидию Вячеславну,[1499] я думал, что это не нужные Вам копии, я предполагал, что, если бы Вы были рядом, Вы позволили бы мне взять эти стихи – но все это разве уменьшает мою вину?
Мне осталось только одно – точно исправить свою ошибку – рукописи уже отправлены (все в целости) Ольге Александровне Шор.[1500]
Та же самая любовь толкнула меня и на второе преступление – я написал стихотворение «друзьям» – отвратительное по стилю, грубое и ненужное.[1501] Как оно плохо, я понял только теперь, когда уже прошел месяц с тех пор, что копия его послана в Москву Вам. Жаль, если Вы его получили.
Я написал новые стихи Вам и о Вас, но прислать сейчас их не могу, хотя говорят, что они хороши.
На этот год (кончать Университет) я остаюсь в Баку, т<ак> к<ак> нам, переходящим сейчас на 4-ый курс, разрешено кончать историко-филологический факультет.[1502] С Багрием же думаю я как-нибудь сладить,[1503] я ведь теперь уже не буду пытаться остаться при университете. Кончу и поеду в Ленинград. Кончать же по всем соображениям лучше в Баку. И студенты, и профессура меня здесь знают, чистка мне здесь совершенно не угрожает,[1504] и в материальном отношении я устроился лучше, чем в прошлом году, т<ак> к<ак> демобилизовался[1505] и взял небольшую службу – сократив все расходы и освободив почти все время для занятий.
Послезавтра сдаю греческий яз<ык>, которым занимался все лето дома. Приехал я в Баку 5/IX. Поселился у Мили Блинкова, друга Миши Сироткина[1506] и Нелли[1507].
Через день занимаюсь с Сергеем Витальевичем[1508] по-французски, т<ак> к<ак> хочу научиться писать письма по-французски – тогда не придется задумываться над правописанием, по-русски же я что-то часто делаю ошибки: слишком уж я люблю пушкинскую орфографию. Надо же было постараться Павлу Никитичу Сакулину![1509] Даже моими личными письмами распорядился.
Итак, следующее письмо по «новому правописанию».[1510]
Мой адрес. Баку. Будаговская 36. Самуилу Михайловичу Блинкову для В. Мануйлова.
Простите меня, пожалуйста!
Любящий с каждым днем все крепче
Витя.Я очень скучаю. Спасибо за записку из Москвы.
Привет Диме[1511] и Лидии Вячеславне.
2
26/IX. 1924.Дорогой Вячеслав Иванович!
Я уже писал Вам о том, что остался еще на один год в Баку, т<ак> к<ак> нам, переходящим на 4-ый курс, разрешено кончать Историко-филологический факультет, более милый мне, чем Педфак. Итак я демобилизовался, взял не очень обременительную службу и понемногу, но все же интенсивно сдаю экзамены, чтобы к маю сдать все необходимое.
На днях Петру Христиановичу[1512] сдал греческий, и он остался мною доволен, т<ак> к<ак> я занимался все лето.
Все устроилось как нельзя лучше, и я не жалею, что еще на год остался сидеть в провинции.
Хуже дело с А. В. Багрием, который очень любезно и искренне объяснил мне, что дипломную работу он от меня не примет.
Приблизительно он мне сказал следующее: «Ввиду того, что вы у меня не работали и я вас совершенно не знаю, ввиду того, что направление Вячеслава Ивановича диаметрально противоположно моему и переделывать вас за год я не в состоянии, да и не нахожу нужным, – я не имею ничего против, если вы спишетесь с Вячеславом Ивановичем и получите от него записочку, что на такую-то тему дипломной работы он согласен, и если вы защитите ее у него же. Оставаясь в Италии, Вячеслав Иванович сможет дать отзыв на вашу работу и согласно его отзыва факультет может найти возможным дать ту или иную командировку по окончании. Тема дипломной работы может быть по поэтике, но не по русской литературе».
Дорогой Вячеслав Иванович, ответьте мне, пожалуйста, как мне быть, согласны ли Вы принять от меня дипломную работу и смогу ли я, написав ее здесь, переслать Вам для отзыва в Италию.
Что касается темы, я хотел бы взять что-либо из поэтики Пушкина. Не предложите ли Вы мне еще какие-либо темы и не посоветуете что-либо. Больше всего меня интересует вопрос о связи фонетики стиха с фонетикой рифмы, т. е. меня интересует вскрытие процесса поэтического творчества, идущего путями звуковых ассоциаций, отправляющихся от того или иного звукообраза.
Это общая часть.
Что касается матерьяла – любезен мне более всего «Граф Нулин»[1513] – но здесь сильны и чисто историко-литературные мотивы.
Итак, жду Ваших указаний, коими мог бы я руководствоваться при выборе темы для моей дипломной работы.
В случае, если Вы не найдете удобным принять от меня дипломную работу, мне придется кончать у Вс. Мих. Зуммера[1514] или по философскому отделению, а этого за год почти наверняка не сделать.
Ваши рукописи уже отправлены Ольге Александровне.[1515]
У Сергея Витальевича опять прошлогодняя история с ногой, но пока он еще двигается кое-как по комнатам. Зуммеры уже приехали.[1516]
Посылаю вчера написанный стишок,[1517] т<ак> к<ак> совершенно не знаю, каков он: Сергей Витальевич и Зуммеры – хвалят.
Ужасный, крепкий-крепкий привет Лидии Вячеславне и Диме.
Витя.Будаговская 36, кв. Блинковых.
С. М. Блинкову Ветер Какая буря! Как скрипят и стонут И всхлипывают ставни, рамы, двери; Как будто мы не дома, не на суше, А на качающемся корабле… Я никогда не видел, чтобы лампа, Подвешенная к потолку, от ветра Гуляла равномерными шагами Вперед-назад, как сонный часовой… Не закрывай окна! На подоконник Поставим увядающие розы: Пусть разлетятся на ветру осеннем Веселой стаей пестрых мотыльков. Огня не зажигай! Придвинься ближе И слушай, что рассказывает ветер; Он перелистывал живые книги Священных рощ и вековых лесов! Баку. В. Мануйлов.25/IX 1924.3
3 декабря 1924 г. Баку.Свет мой милый, дорогой, Вячеслав Иванович!
Сначала я ждал от Вас весточки, потом стал догадываться, что ее не будет (и не верилось этому); потом обрадовался несказанно, узнав от Сергея Витальевича, что письма мои получены и на них последует ответ.[1518] Ожиданиями этими, опять, жил с утра и до вечера и, до прихода почтальона, день не клеился – пока не выяснялось – «письмо будет завтра!» Письма еще нет, и я его уже не жду.
Только вижу Вас во сне каждую ночь почти, и недавно, проснувшись, не мог я уже заснуть – так хотелось Вас видеть и так не верилось, что это невозможно сделать.
Та радость, которую Вы принесли мне, дорого мне досталась – мне приходится расплачиваться теперь за нее все растущей, тоскующей любовью. Я люблю вспоминать о Вас, но это так тяжело: неужели же все невозвратно. Чем больше я живу, тем убедительнее для меня моя Любовь к жизни и радостность моя – и, как бы мне ни было трудно и тяжело жить (и внешне и внутренне), радость моя крепнет и ширится. Любя всё живое (а мертвого вообще нет), в любви этой я становлюсь все суровее и тверже и, со столькими людьми встречаясь, и, будучи нужным им – в отдельности, для себя – никого я не люблю. Это я понял уже довольно давно. Может быть, путь мой и тяжести, взятые мною добровольно, есть иллюзия и обман, но назад я не отступлю и чем дальше иду я, тем больше вижу, что я одинок в этом пути и никого с собой брать не могу – хотя были и такие, которые пошли бы за мной – если бы я имел слабость позволить им.
Любить для себя на пути моем почти невозможно – это помешает мне, – помогать же я должен иначе – не беря с собой – но обгоняя.
И люблю я одного только Вас. Вы далеко, далеко впереди меня – только следы я различаю; Вы шли при другой погоде, и Ваше солнце – другое солнце, чем мое, – но земля у нас одна, родная. Мой путь не может быть таким, как Ваш – и я не знаю – могу ли я даже любить Вас; – иначе я должен был бы отказаться и от пути своего и слушать и видеть – куда поведет Учитель. Может быть, так надо, чтобы мы разлучились рано или поздно и чтобы я прошел испытание без Вашей помощи. Мне еще трудно говорить обо всем этом – я боюсь, что даже Вы – не поймете сейчас меня – но все это очень важное. Конечно, я еще малый и глупый, но все чаще и чаще начинаю я думать, что так любить, как я люблю Вас, – я не должен – ибо это уже есть грех перед самим собой и задачами, возложенными на меня. Это не гордость – это просто сознание ответственности взятого на себя пути.
Вот чем утешаю я себя! Во внешнем мире дéла у меня еще больше, чем в прошлом году, но я стал ровнее и устремленнее к главному, а потому горю более устойчивым, не таким трепетным огнем. Я стал сильнее.
Много новых людей. Во встречах с ними все больше вижу и люблю Достоевского. Гоголя я не то чтобы боюсь, но обхожу подальше.
Достоевским заменяю разговоры с Вами. В службу вхожу целиком, живой <?>, по-душевному – и часто за это даже себя ругаю:
«Доколе звездный голос мой и пламень Ты будешь безрассудно расточать В слова бумажные, на мертвый камень Под круглую, тяжелую печать?»Что должно сейчас делать: петь и радость благовествовать – или камни тесать на новую стройку, чтобы руки были в крови и душа без песен тосковала – вот самое для меня тревожное сейчас. Веры в себя во мне много, да не песен просят от меня люди, а хлеба – самого простого.
Как служить им? Вот главное… Служить-то я хочу – только просят они у меня слишком малое. Здесь трудно говорить об этом; только вопрос разрешить нужно во что бы то ни стало. Пишу об этом стих<отворение> «Разговор с душой» – для меня это то же, что: «Поэт и чернь».[1519] Внешних тяжестей много, занят я страшно, на университет почти нет времени, учусь усталый, сонный – но на это я не обращаю внимания, к этому я привык давно – тяжелей внутренний рост, слишком быстро иногда идущий. Человек я практический, действенный – не могу мысль продумать без того, чтобы ее в дело не пустить, поэтому-то каждая мысль – так важна для меня и богата последствиями – и на всем внешнем строе жизни отражается. Времени так мало, что оставшиеся 9 экзаменов и занятия французским языком с Сергеем Витальевичем застряли – и когда расчищу для них время – ума не приложу.
Много пишу – не только стихи, но, хоть еще и рано, учусь писать прозу. Печататься еще не тянет – знаю: все впереди – не пора еще. На Пушкина нет времени – это досадно. Багрий теснит и припирает всячески. Успеваю слушать в Университете семинарий по Софокловой Антигоне у Петра Христиановича[1520] (какой он хороший); курс по Платону у Гуляева[1521] и его же методологию наук. Ходил бы на Евлахова[1522] – да занят на Баилове,[1523] как раз в его часы. Стал бывать у Леонида Александровича Ишкова[1524] – он мне доставил на днях большую радость, разговорившись за вином, до поздней ночи, о Пушкине и о моей работе над «Графом Нулиным». Если бы было время – я написал бы хорошую работу – у меня столько новых открытий и догадок – всего только не напишешь – места мало. Леонид Александрович заинтересовался темой и со мной согласен. Он советует мне не выбирать никакой другой темы для дипломной работы и писать ее, если нельзя у Багрия, – у Томашевского.[1525] Очень жалеет, что нет Вас. Если у Вас есть какие-либо советы относительно моей дипломной работы (подробности моего разговора с Багрием я писал Вам еще в октябре), напишите, пожалуйста, записочку для меня и приложите в письмо к Сергею Витальевичу – мы видимся часто, и он передаст ее мне.
Как бы дорого я дал за то, чтобы посмотреть сейчас на Вас, когда Вы читаете эти строчки, на Лидию Вячеславну и на Диму. Увидимся ли мы и когда? Меня теперь уже тянет из Баку – здесь стало как-то тесно – тянет меня только не в Москву, а в Петрóполь. Там много друзей и там литература как-то роднее и выше.
Другое дело, если Вы вернетесь в Баку осенью. Только университет стал уже не тот. Педфак дает себя чувствовать.
Витя.Боюсь, что не разберете моего письма – а разборчивее не могу!
Мой адрес на всякий случай.
Баку, угол Краснокрестовской и Б. Чемберекендской, Лютеранский пер. д. № 5, кв. Варшавских. В. Мануйлову.
4
9/II 1925.Дорогой мой и милый Учитель
Вячеслав Иванович!
Я только что от Леонида Александровича, у которого читал Ваше письмо[1526] и строчки обо мне, вернее о моей дипломной работе. Большое, большое спасибо, любимый Вячеслав Иванович, за согласие Ваше дать отзыв о моей будущей дипломной работе.
Кстати, на днях я был у Петра Христиановича Тумбиля[1527] и часа два говорил о моих «Пушкинианских ересях». (У меня есть еще ряд занятных предположений, касающихся отношений А. С. и Николая I). Петр Христианович, также как и Леонид Александрович, живо откликнулся на мои мысли и нашел мою проблему очень занимательной.
Завтра годовщина смерти Пушкина. Мы отметим ее с Мишей Сироткиным совместным чтением любимых мест.
Да, о работе… Совершенно неожиданно Александр Васильевич Багрий сменил гнев на милость, вспомнил, что «Нулин» написан в 1825 году (юбилейная дата), нашел тему – «современной» и безо всяких изменений тему моей работы утвердил. Сейчас я сдаю ему экзамены и готовлюсь очень основательно, так, как мне бы хотелось сдавать Вам. (Курьерская гонка с моими прошлогодними экзаменами до сих пор мне не дает покоя).
Поскольку поэтика обнимает 2–3 главы моей работы, являясь одним из методов исследования, и поскольку вся работа, в целом, строится на историко-литературном матерьяле, как историко-литературная проблема – я думаю, что мне нужно «согласиться» на согласие Багрия и «обагриться». Во всяком случае, без Вашего ответа я не начну никаких формальных приготовлений – Ваш совет определит все мои дальнейшие шаги.
Леонид Александрович согласен провести через факультет утверждение моей работы и в том случае, если я буду писать ее у Вас. Особых препятствий как будто не встретится.
Нам предоставлено право сдавать экзамены до осени 1925 года, а дипломную работу к январю 1926.
Мне кажется (независимо от моего желания), что правильнее всего я поступлю, «обагрившись», тем более что никаких уступок в отношении темы я не делаю, и мне представлена полная свобода действия.
Что касается отзыва – Ваш отзыв мне дороже всех. Отзыв Багрия – формальность. Последний не исключает первого, если его заслужу.
Во всяком случае, пока я сдаю экзамены, с расчетом к июню сдать все и летом уже, съездив на 2–3 недели в Москву и Петербург, засесть за работу.
Осень этого года я буду еще в Баку, пока не защищу работы, и только тогда стану думать о переселении на север.
Как бы хотелось мне видеть Вас осенью в Баку на защите работы и с какой радостью остался бы я около Вас. Ведь меня в Москву и даже Петербург совсем не тянет. Баку любим мною еще крепче и еще 5–6 лет работы над собой совсем не требуют моего переселения. Внутренне расти, заняться языками, накопить литературный матерьял, серьезно теоретически и жизненно подготовиться к дальнейшей деятельности и трудному своему пути – я смогу лучше всего здесь в ветровом и упорном, древнем Баку.
Я много сейчас думаю о пути, который меня ждет, и о той трудности – вынести которую я готовлюсь… Во всем этом много еще неперебродившей мальчишеской дерзости, но я чутко слушаю Жизнь и все окружающее и имею основания полагать, что в силу непреложного закона диалектического развития – мы идем к эпохе синтеза; к новой эпохе Возрождения – которая выразится в нашей русской литературе и (верю) философии как неоромантизм. Вспоминаю разговор у Дегтяревского о романтизме и классицизме.[1528] Только теперь я начинаю в этом разбираться. Я не жалею, что я отказался в свое время ехать с Вами в Италию, хотя Вы для меня дороже всех любимых мною людей. – Не быв еще на западе (по одним модным французским журналам и по тому, что до нас доходит из берлинских газет и книг), я глубоко убежден, что мы со своей отсталой техникой и темной деревней ушли уже далеко вперед. Я люблю СССР и верю в него (не в названии дело). Жить везде трудно, везде тяжело и здесь, может быть, тяжелее, но тут больше правды, да и я здесь нужнее. А разве в том лишь дело, чтобы меня понимали и меня благодарили. Я об этом много сейчас думаю – короче: тяжело – но я чувствую живую и крепкую жизнь сквозь налет «казенной» пыли. Наша жизнь тверже, жарче, злее и здоровей, чем на западе. Куда бы мы ни шли – мы идем, и не по инерции, а с усилием роста. Такого желания работать и строить (пусть нет уменья), такой молодой силы я сейчас не вижу нигде, кроме нашей страны.
Мне трудно учесть все то, что нужно для Вас; я не могу «советовать» Вам возвращаться в Баку – я знаю только одно – мне очень нужно Вас видеть; мне и таким, как я (а на нас впереди лежит многое), Вы нужны очень, и даже не словесным факультетом определяется все это, а только тем, что Вы один и никто уже Вас заменить не может.
Что касается словесного отделения – за него ведется отчаянная борьба, и есть вероятия его отстоять.
Я много пишу и, говорят, делаю успехи, кончил большую поэму «Часы». Сергей Витальевич, Зуммер, Ксения[1529] и другие хвалят. Из «Русского современника» стихи взял.[1530] Предлагают печататься и даже устроить в Баку вечер моих стихов. Отказался. Много еще работать нужно, да и спешить не хочу. Сейчас одно – кончить университет. Потом еще несколько лет подготовка к работе (не дипломной – но делу всей жизни). Только тогда – заговорю. Много у меня друзей – а вообще одиноко – и никто бы меня сейчас не понял – как Вы. Всеволод Михайлович многого не видит и смотрит несколько специфически узко; вот Сергей Витальевич и Ксения понимают. Мы должны обязательно увидеться, Вячеслав Иванович! Мне не только этого хочется, но это нужно. Есть еще одно: когда я буду больше и умнее – мне очень захочется писать о Вас и о Ваших стихах. Пока мы с Вами не увидимся, я не смогу получить на это разрешения и благословения: а без этого я не могу.
Вы ведь еще не прочитаны! Совсем не то пишут эти Коганы[1531] и даже Андрей Белый.[1532]
Или я потерял всякую меру? Вячеслав Иванович! Я и сам еще только начинаю чувствовать Ваши слова и часто не понимаю – но я пойму – я ведь еще вырасту. Я расту каждый день.
Я вот сейчас пишу и чувствую Вас около себя, и мне стыдно за некоторые слова, и я чувствую, какой я еще глупый и маленький перед Вами и сколько нужно работать над собой. А еще больше чувствую я свою любовь к Вам.
Ведь я никого так не люблю и не полюблю наверно – здесь есть даже что-то даже особенное.
Часто вижу во сне, как я пешком отправляюсь в Рим – бросив все – смешно – а это так; во снах я еще ребячливее.
Помните ли Вы еще меня? Если бы Вы только знали, как я Вас люблю. Вот сейчас стал думать о Вас и даже расплакался. Это со мной в первый раз – никогда еще не было. Неужели же мы не скоро увидимся. Я очень по Вас скучаю. А о московском житье и вспомнить спокойно не могу. Поклон Лидии Вячеславне и Диме. Как хочется всех вас видеть!
Крепко, крепко целую Вас.
Витя.P. S.
Сейчас по дороге на почту зашел к Леониду Александровичу. Он просит передать, что письмо Ваше получено дня три тому назад – сильно задержалось в дороге.
Утро с Мишей[1533] провели за Пушкиным. Я рассказывал ему о своей работе. Миша заинтересовался и даже вполне согласился.
Не сердитесь на меня за конец вчерашнего письма![1534]
Витя.Декабрь 1924 – январь. Баку.
Вступление[1535]
Такие дни, раз в четверть века Пронзают грохотом лазурь, Когда от Ниццы до Казбека Земля дрожит под звоном бурь; Когда Двина, раздвинув льдины, В морские рушится стремнины, Дивясь декабрьской весне, Когда спросонок, в полусне, Идет Нева, дыша туманом И ледоходным холодком, Когда бушует бурелом Над Ледовитым океаном И даже синий Енисей – Старик холодный и суровый, Хрустит, становится синей, И рвет хрустальные оковы… Так в эти дни, когда сама С ума свихнулась мать Природа, Сбежала с севера зима И перепуталась погода: Весна на севере, а юг Оглох под завыванья вьюг… Замерз Аракс, под небывалым Буранно-белым покрывалом, И говорливая Кура Пришла в смятение и ужас; Под ледяной корой натужась, Она боролась до утра, Пока не уступила вьюге И не замолкла подо льдом… И горы, в горе и в испуге, Сгрудились гордые кругом… И даже здесь, в Баку любимом, Шальная русская зима Заволокла метельным дымом И минареты и дома; Напрасно кутались татарки В свой разрисованный и яркий, Как крылья трепетный, платок – Платок татаркам не помог; Напрасно в море с вихрем белым Бессильный спорил рыболов, Одни лишь крылья парусов Над ним трещали, оробелым, Да снег с оснеженной земли Летел непобедимой тучей, И брошенные корабли Искали смерти неминучей… Рождался двадцать пятый год В таком смятении и шуме, Что поседел весь юг, и вот… Замерзли кактусы в Батуме… И в эти дни самой судьбой, В мятели встретиться с тобой Мне было суждено, подруга… Ты помнишь, как взметалась вьюга, Гоня в отгулье голоса – Как ночь звенела зимним хладом, Как было сладко тронуть взглядом Твои крылатые глаза… Зачем, зачем, не для того ли, Чтоб в летописях наших дней Одним безумством было боле И болью новою больней. ГОЛОС ОРФЕЯ Грустно и дико кругом… Войди, Эвридика, в дом. Сердце мое – погляди – Красной гвоздикой в груди… Пусть за окном пустота, Осень за синим стеклом; Нам ли грустить о том, Что синева разлита. В тонком бокале вино, В тонкой руке бокал… Помнишь, как плыли давно Весенние облака… Как глубока была высь; (Глубже, чем этот бокал…) В тонкую пряжу вились Весенние облака… Выпьем за ту весну, Что не цвела никогда. Солнце еще в плену, Но погляди в глубину – Утренняя звезда Светит всегда… 9/I 1925 г. Баку. Так входит в мой задумавшийся дом[1536] Твоя любовь приветливой хозяйкой, И открывает голубые ставни Навстречу звонким утренним лучам… Сквозь окна, разрисованные льдом, Она глядит и видит: над лужайкой Нет и следа мятелицы недавней, И радуется солнцу и грачам… Любовь поет, и мой суровый дом, Разбуженный приветливой хозяйкой, Поет и светится, и даже ставни Скрипят навстречу утренним лучам. 12/I 1925 г. Баку.5
21/Х 1925 г. Баку.Дорогой Вячеслав Иванович!
Я затеял в Баку издание альманаха стихов «Норд» при участии М. Сироткина, Ксении Колобовой, Всеволода Рождественского[1537] (ученик Гумилева) и 3-х хороших, добрых молодых поэтов из Петербурга.[1538] Просим Вашего на то благословения и разрешения напечатать те стихи, которые были даны Вами в «Русский Современник», но из-за его преждевременного закрытия и всяческих идеологических соображений напечатаны не были. Почти уже получено согласие дать стихи от Макс<имилиана> Волошина и С. Есенина.[1539] Наша задача дать сборник стихов, никаких других целей, кроме поэтических, не преследующий.
К сожалению, прилично издать сборник стоит настолько дорого, что мы не можем никому предложить гонорара – вкладываем в дело все свои тощие средства, т<ак> к<ак> считаем издание такого сборника своей моральной обязанностью. Наступило время, когда нужно дать голос и Музам.
Если Вы разрешите напечатать Ваши стихи – припишите об этом, пожалуйста, в первом же письме к С<ергею> В<итальевичу> или, еще лучше, пришлите на его имя хотя бы одно слово телеграфом – «Да» или «Нет».
Из Ваших стихотворений у нас есть: Звезды блещут; Гревсу; Вл. Вл. Руслову; Чернофигурная ваза (В день Эллады светозарной) и Сочи – все это нам бы очень хотелось иметь, как литературное напутствие.[1540] Перечисленные стихотворения есть у Всеволода Михайловича (частью) и частью у меня (переписаны мною с рукописей, взятых из «Русского Современника» и отправленных Ольге Александровне Шор, согласно Вашему желанию).
Если Вы найдете возможным прислать что-либо из Римских сонетов (о них я знаю от Сергея Витальевича)[1541] и стих<отворение> памяти А. Блока[1542] – нам очень бы их хотелось включить в число печатаемых стихотворений.
Трудно, в наших условиях, что-либо обещать, но альманах постараемся издать возможно более выдержанно и строго; каждому из участников отведем небольшую квартирку в 5 – 10 страниц, отделенную белым листом с именем и фамилией.
Недавно послал Вам довольно большое письмо о себе. Хотел с С<ергеем> В<итальевичем> переслать Вам кое-что из стихов этого года, но надеюсь переслать их уже в «Норде», который должен быть выпущен к концу ноября, если ответ Ваш не задержится.
Александр Дмитриевич Гуляев просил написать Вам, что Правлению Университета нужно официальное Ваше заявление – ответ на деловые письма Гуляева и Ишкова,[1543] т<ак> к<ак> Наркомпрос требует формальных оснований для оставления Вас в числе профессоров Ун<иверсите>та или для исключения из списка 1925 – 26 уч<ебного> года. Ваше положение в Университете остается неоформленным, тогда как можно просить продления отпуска, хотя бы еще на год, без сохранения жалования – это даст возможность университету числить Вас в качестве профессора по кафедре классической филологии на Восточном факультете, а Вам даст известное официальное положение и возможность в любой момент вернуться в Баку.
Кроме того нас интересует, дошли ли 8 экз<емпляров> «Диониса и прадионисийства», посланные еще в марте мною, и книги, отправленные Оником не так давно (кажется, в конце лета).[1544]
Жду ответа о книге Лернера: «Труды и дни А. С. Пушкина».[1545] Эта книга очень нужна для моей работы, и мне хотелось бы купить ее вместе с книгой Гершензона «Гольфстрем».[1546] Обе книги даны С<ергеем> В<итальевичем> мне сейчас на дом, и я ими уже постоянно пользуюсь – особенно первой.
Еще раз очень прошу Вас разрешить напечатать Ваши стихи в «Норде» – мы (все участники) придаем этому большое значение – «Норд» – для нас есть начало, первый литературный смотр – начало литературного пути – и напутствие Ваше для нас очень дорого.
Привет Диме и Лидии – мы с Нелли писали ей недавно.
Витя.Адрес для ответа телеграммой. Баку. Университет. Зуммеру.
Адрес для ответа письмом. Баку. Лютеранский 5 (уг<ол> Краснокрестовской и Б. Чемберекендской), кв. Варшавских, В. А. Мануйлову.[1547]
6
9/XII 1925. Баку.Дорогой Вячеслав Иванович!
Большое спасибо за согласие Ваше принять участие в нашем Норде. Сборник уже средактирован, но вышла небольшая денежная задержка, кроме того я оттягиваю со сдачей в печать намеренно, в надежде на получение письма, обещанного Вами.
По целому ряду (но чисто эстетических соображений) нам бы хотелось напечатать в Норде следующие Ваши вещи в следующем порядке.
1) Может быть, это смутное время (?)[1548]
2) Чернофигурная ваза.
3) Тот вправе говорить: «я жил».
4) Звезды блещут над прудами.
5) Возврат (Гревсу).
6) Весь исходив свой лабиринт душевный.[1549]
Хотелось бы напечатать, но это еще не значит, что удастся – возможны всяческие редакционные перетасовки до последней минуты.
Мне было бы очень важно получить до выхода сборника в свет Ваше мнение о сделанном нами выборе и порядке, чтобы можно было успеть согласоваться с Вашим желанием.[1550]
Кроме того у Зуммера оказались «Звезды блещут над прудами» – в зуммеровской редакции, а не в той, что Вы читали мне в Москве. Всеволод Михайлович часто «исправляет» чужие стихи и выбирает из них по своему вкусу отдельные части, подобно составителям древних рукописных изборников, синаксарей[1551] и т. д. – часто в ущерб художественной цельности. Мне бы хотелось видеть в Норде «Звезды блещут» полностью, но у меня нет этого стихотворения вообще, но только зуммеровская редакция – не могли ли бы Вы прислать это стихотворение целиком.[1552] Кроме того всем нам, участникам сборника, хотелось бы очень видеть в нем Ваши последние Римские сонеты.
Итак – мы ждем Вашего письма с инструкциями о выборе и порядке печатаемых стихов.[1553] Сборник предположено сдать в печать в начале января – к этому времени ответ Ваш, надеюсь, уже успеет прийти.
Я сейчас увлечен статьей: «Мировосприятие поэта и прозаика» – это первый опыт в этом роде, первый блин, поэтому вряд ли что получится хорошее – но мне-то это полезно.
Кроме того готовлю большую статью «Пушкин в 1826 году»,[1554] Багрий все сопротивляется и тормозит мои работы, но так или иначе университет я кончу и тогда уже примусь за работу. Сейчас сдача экзаменов и университет только мешают моему росту и занятиям – хочется заняться языками, прозой, поэтикой Пушкина, перебраться в Петербург к книгам и проч. – но, видно, надо ждать до мая – я так перегружен службами и проч. – что раньше не кончу, да и переутомляться очень не позволяет здоровье.
Обо многом надо было бы с Вами посоветоваться, целый ряд сомнений терзает меня (впрочем, радости к жизни и самой горячей любви к работе и гуманизму я не утратил нисколько). С одной стороны, меня не удовлетворяют стихи мои, чувствую, что все это еще не то, что мне нужно, увлекаюсь белым пятистопным ямбом и все убеждаюсь, как трудно писать хорошие стихи. Тянет к прозе, много замыслов, но нет времени писать и работать. Очень хочется учиться – но широко, а не закапываться в статистические таблички пиррихиев и спондея у Пушкина.
Чувствую, что с формалистами, которых, впрочем, я очень уважаю и у которых мне будет чему поучиться, сговориться мне будет не многим легче, чем с Багрием.
Главное же – с каждым днем убеждаюсь в несовместности научной и литературной работы – два разных мировосприятия и мироощущения – недели, проведенные над анализом чужих стихов, – опустошают меня в области творческой и наоборот – предамся поэтической лени, напишу много захватывающего меня, почувствую самый процесс своего роста – стоят эти самые исследовательские работы – а и к тому и к другому тянет чрезвычайно – хотя знаю, что нужно остановиться на чем-нибудь одном. Конечно, все это «образуется», отстоится.
Но пока, предоставленному самому себе – иногда становится несколько недоуменно – правилен ли путь – так ли я должен идти и проч.
Впрочем, я не теряю бодрости и веры, я знаю, что без всех этих внутренних препятствий и противоречий трудно добраться до намеченного не мною.
Витя.7
24/I 1928.Дорогой, милый Вячеслав Иванович!
Я очень хочу Вас видеть и, как никогда еще, скучаю о Вас. Писать страшно трудно – все равно ничего не получится. О том – как идет внешняя жизнь – вряд ли стоит. Много работы, очень устаю,[1555] но по-прежнему, кажется, счастлив. Пишу и, должно быть, расту – очень хочется работать над прозой – но пока никак не могу найти для себя свободного времени.
Летом много странствовал пешком по берегам Черного моря, был в Коктебеле. М. А. Волошин встретил очень ласково.[1556] Сейчас живу на Васильевском острове 15 л<иния>, д. № 16, кв. 16. Но не об этом стоило писать. Мне только хотелось сказать Вам еще раз большое, большое спасибо – если бы Вы только знали, кáк я Вас люблю и кáк много Вы мне дали и продолжаете давать после разлуки нашей; а еще особенно благодарен я Вам за Ваши последние стихи.[1557] Я чувствую сердцем – кáк все это дорого мне, кáк это важно, и никакого изменения (измены? – как думает Ксения) не вижу, не могу увидеть.[1558] Много раз перечитывал Ваше письмо к Ксении – оно многое мне сказало и обрадовало до слез – значит, Вы впереди, значит, я все еще иду за Вами, значит, любовь моя – зоркая и живая! Может быть, нам не должно уже увидеть друг друга – очень мне это тяжело – но я знаю, что все не случайно.
Вячеслав Иванович, милый, только думайте обо мне иногда, потому что я никогда так никого не любил и не буду любить – как Вас – я весь от этой любви и отсюда моя радостная вера.
Впереди трудная, очень трудная жизнь – только Вы мой свет и мой Вожатый – поэтому мне не страшно, а хорошо. А еще я жалею, что нет здесь со мной Сергея Витальевича, но он иногда пишет необыкновенные письма. Привет Лиде и Диме, о них также я помню всегда и люблю их очень.
Виктор.8
12/V 1928.Дорогой, милый Вячеслав Иванович!
Меня очень, очень обрадовало Ваше письмо.[1559] Я знаю – оно одно уже будет меня радовать многие годы. Я всегда верил, что Вы меня не забыли, что Вы помните, как много Вы для меня значите, но получение такого письма, такого знака было все же совершенно неожиданной и невероятной радостью.
За последнее время в моей внутренней жизни ничего существенно не изменилось, но это не значит, конечно, что я подобен стоячему пруду – нет – маленький ручеек все дальше и дальше пробивается по камушкам, но направление все то же, к одной цели, к Единому Морю. Я только стал внутренне богаче и полнее, как бы принял приток – 19 февраля я женился на Лидии Ивановне Сперанской,[1560] дочери московского врача. Я с ней познакомился в море, на пароходе, около Ялты этим летом 3-го августа; видел ее до свадьбы 31 день, но этого было достаточно. Счастлив ли я? Такой вопрос мне часто задают, как будто это существенно. Да, я остался по-прежнему счастлив и даже не потому, что каждый из нас должен (а не может) быть счастлив, а просто потому, что мне хорошо, хорошо всегда – совершенно независимо от внешнего моего бытия.
А внешняя реальность такова: очень много работы. С утра до обеда сижу в Пушкинском доме – готовлю для Щеголева книгу «Лермонтов в жизни»[1561] – это дает мне очень многое: научный метод, знание матерьяла, а летом отдых (гонорар). Это единственная работа, которая меня захватывает – вся прочая не так. Школьной работы получить не удалось, и я по ней очень скучаю, а работа по театру (лекции по поэтике театральных форм в клубно-сценической мастерской Дома Культуры) в том виде, как сейчас, меня не удовлетворяет. Работой руководит Сладкопевцев[1562] – его метод мне чужд и кажется глубоко неверным. Работы вообще очень много – все срочная, напряженная и трудная; а как никогда, хочется писать – не столько стихи, сколько прозу: многое накопилось, душа разбухла и чем дальше, тем труднее делать то, что может сделать всякий на моем месте, и откладывать исполнение своего труда, самого основного для меня и существенного, продиктованного мне голосом сердца и жизни. Частично потому, возлагаю большие надежды на это лето – хочу попытаться на юге устроиться вообще, на зимовку и даже больше – чтобы жить в тишине, у моря – больше думать и больше писать. Город мне сейчас очень не пó сердцу, и если не только я, но мы (вдвоем с женой) сможем достать самое необходимое для жизни на юге, в провинции – я на несколько лет уеду разговаривать с природой, потому что хочется ее правды.
Эта зима внешне была очень трудной – была безработица, нужда, потом большая и напряженная работа, переутомление – но это все не важно – я многое понял и многому еще научился – а самое главное, мне надо было приехать сюда, чтобы понять, что жить мне лучше всего не в городе, а если в городе, то только в этом и нигде больше, но сейчас мне здесь делать нечего: выбиваться в литературу я не хочу – она сейчас не стоит того – надо работать не на сегодня, а на завтра, не на день, а на гораздо бóльшие сроки – это можно только вдали и в тиши, потому что такое, действительно нужное и человеческое, всегда нужно потом и никогда не нужно сейчас. Таков закон, и в нем есть своя глубокая мудрость. Я очень многое бы дал за то, чтобы с Вами поговорить. Может быть, после нашего разговора не только мне, но и Вам, было бы очень хорошо, потому что я Вас очень люблю, потому что солнце внутри нас, оно неистощимо и незакатно, и смерть есть только рождение.
Виктор.Стихов я не посылаю, потому что они еще только будут написаны – те, которые я хотел бы Вам послать, а те, которые есть, или не стоят того, или не портативны. Кроме того я не знаю, можно ли вообще посылать за границу рукописи, а мне важно, чтобы письмо дошло: это важнее стихов.
До середины июня я предполагаю быть еще здесь. Я очень скучаю по Светику – СВТ.[1563]
А что с Димой и Лидой? Привет им братский!
Владимир Щировский – корреспондент Максимилиана Волошина
По возрасту Владимир Евгеньевич Щировский (1909–1941) принадлежал к поколению поэтов, начинавших свою творческую деятельность на рубеже 1920 – 1930-х гг., в условиях окончательного установления и укрепления нового общественного строя. Однако ничего общего, кроме возраста, у него с подавляющим большинством представителей этого поколения не было; живя в советской стране, он ни в малой мере не мог называться советским поэтом. Другие с большей или меньшей убежденностью себя «мерили пятилеткой», у Щировского же вся окружающая его социальная действительность вызывала лишь всеобъемлющее чувство отвращения и презрения: «ледяное презрение к власти Советов», по позднейшей формулировке Т. Кибирова. Совершенно недвусмысленно его отношение к большевистской революции («Вот, проползая по земной коре, // Букашки дошлые опять запели // Интернационал»), к пореволюционному политическому режиму («Неистовая свистопляска // Холодных инфернальных лет») и насаждаемой им идеологии («убогая теодицея: // Безбожье, ленинизм, марксизм»).[1564] Не приходится удивляться тому, что ни одно стихотворение Щировского не было при его жизни напечатано. Открытие этого поэта произошло лишь в перестроечную эпоху, в 1989 г., когда Евг. Евтушенко опубликовал в своей поэтической антологии «Русская муза XX века» 4 его стихотворения с краткой преамбулой, суммировавшей основные биографические сведения об их авторе.[1565] Ныне лирика Щировского осмысляется как одно из соединительных эволюционных звеньев между русской поэзией символистской и постсимволистской эпохи и «теми поэтами-“метафизиками”, которые объединились в пятидесятые годы вокруг А. А. Ахматовой», самым ярким представителем которых был И. Бродский.[1566]
Щировский погиб в Крыму в ходе боевых действий летом 1941 г., там же, в Керчи, сгорел его архив, включавший рукописи стихотворений и переписку. Стихотворные тексты Щировского, вошедшие в рачительно подготовленный В. В. Емельяновым сборник «Танец души», лишь в единичных случаях основываются на рукописях самого автора, по большей части они известны по спискам, рукописным и машинописным, выполненным первой женой поэта Е. Н. Щировской и ее сестрой А. Н. Доррер; нет твердой уверенности в их аутентичности, тем более и потому, что многие стихотворения зафиксированы в тетрадях, изготовленных в 1950-е гг., и некоторые из них записаны по памяти, с отмеченными пропусками строк и строф.[1567] От людей, близко знавших Щировского, которым он мог передавать рукописи своих произведений, архивов также не осталось.[1568] Щировского дважды ненадолго арестовывали – в 1931 и 1936 гг.; вполне вероятно, что при этом были изъяты его рукописи. При таком положении дел с творческим наследием поэта выявление его автографов приобретает особую значимость. Сохранились автографы Щировского, в частности, в архиве Максимилиана Волошина.
А. Н. Доррер сообщает в кратком биографическом очерке о Щировском: «В 1928 году знакомится с будущей женой Екатериной Николаевной Рагозиной, и летом 1929 г. они вдвоем отправились в Коктебель к М. А. Волошину. У Вл. Евг. была к нему рекомендация от харьковских поэтов, и Волошин принял их очень гостеприимно (как обычно он принимал и многих других). Щировский читал свои стихи, был одобрен. Пробыли они десять дней, и на прощание М. А. подарил Владимиру свою небольшую акварель с коктебельским пейзажем, надписав ее: “На память Вл. Щировскому, за детской внешностью которого я рассмотрел большого и грустного поэта”».[1569]
Приведенные сведения могут быть уточнены. В. П. Купченко предположительно датирует пребывание Щировского в доме Волошина 3-й неделей июля 1929 г.[1570] Поэт появился в Коктебеле с двумя сестрами Рагозиными – Екатериной и Лидией, приехавшими вместе с ним из Харькова. Щировского рекомендовала Волошину харьковская поэтесса Елизавета Андреевна Новская (1893–1959), автор стихотворных сборников «Звезда-земля» (Харьков, 1918) и «Ордалии» (Харьков, 1923); впервые встретившаяся с Волошиным в феврале 1925 г., но состоявшая в интенсивной переписке с ним еще с 1918 г., она входила в ближайший круг его друзей и почитателей, неоднократно гостила в Коктебеле. В Харькове Щировский общался еще с одной близкой приятельницей Волошина и его жены Марии Степановны – Лидией Владимировной Тимофеевой (в замужестве Тремль; 1900–1990), «Дадой» по коктебельскому прозвищу, позднее в эмиграции опубликовавшей о Волошине мемуарный очерк.[1571]
«Дорогие Марусенька и Макс! – обращалась Новская в недатированном письме. – Это письмо передает Вам юный поэт, Володя Щировский, о печальной судьбе которого я как-то рассказывала Вам и стихи которого Макс однажды читал (в Х<арькове>) и одобрил. Он отправляется в пешеходное путешествие вдоль Черного моря – кажется, вместе с одной подругой своей (товарищем – в хорошем смысле этого), и начинают путь с Феодосии, конечно идя через Коктебель. И если у Вас найдется возможность где-ниб<удь> на чердаке, на балконе, вообще где-ниб<удь> дать им возможность 2–3 ночи переночевать, без всяких забот о них, – то я очень буду благодарна Вам и рада за них, т<ак> к<ак> несмотря на современный опыт и т. д. – это совсем не современные юные фантазеры и пессимисты. Знаю, что к Максу он относится с благоговением, и думаю, что они будут тихи, как мыши. Этот Вова – сын убитого губернатора, кажется, Седлецк<ой> губ<ернии>, потом – одно время – беспризорный, теперь – гонимый студент Богословск<их> курсов, потом, кажется, Инстит<ута> Литературы, – отовсюду вычистили его; собирается вновь где-то держать экз<амены>. Хорошо, талантливо прямо, играет, – и не плохо, культурно, пишет стихи. Но в жизни – чужой и несливаемый с нею. Простите, дорогие, за эту просьбу: не могу отказать им в этом письме».[1572]
Аттестация, даваемая в этом письме Щировскому, грешит неточностями. Отец поэта, родившегося летом 1909 г. в Москве и проведшего детские годы в усадьбе под Харьковом, был сенатором в отставке, умер своей смертью в первые пореволюционные годы. Студентом «богословских курсов» Щировский не состоял; впрочем, не исключено, что он был причастен к деятельности какого-то официально не зарегистрированного кружка, интересовавшегося религиозными вопросами. Слова о том, что Щировского «отовсюду вычистили», соотносятся с сообщением А. Н. Доррер в биографическом очерке о нем, что в 1927 г. в Ленинграде его «вычистили за сокрытие соцпроисхождения» из Института с факультета языко-материальных культур, т. е. за умолчание в анкете о своем дворянстве. Примечательно в письме Новской упоминание о том, что Волошин уже ранее одобрительно отзывался о поэтических опытах Щировского (видимо, во время своего пребывания в Харькове в январе 1928 г.).
Для юного поэта, преклонявшегося перед тем миром интеллектуальных, духовных и эстетических ценностей, который был низвержен и унижен большевистской властью, атмосфера, царившая в волошинском доме, и личность его хозяина, безусловно, оказались внутренне чрезвычайно близки. Отрадными впечатлениями от пребывания в Коктебеле и чувством глубокой признательности за гостеприимство продиктовано первое письмо Щировского к Волошину:
Многоуважаемый Максимилиан Александрович!
Не рассердитесь, пожалуйста, на эту розовую бумагу: никакой иной у меня нет под руками.
Наше путешествие окончилось неожиданно быстро. Одна из моих спутниц (может быть, Вы помните – Лида) повредила себе ногу в пути, и нам пришлось вернуться в Феодосию. Неделя, проведенная нами в Коктебеле, была так хороша, что сейчас, в Харькове, нам кажется, что мы читали о ней в книге. А Харьков удивительно скверен: к нему нельзя даже привыкнуть. Ощущением некоторого внутреннего самооправдания и бодрости я обязан Вам; я, после встречи с Вами, пользуюсь воспоминанием о Вас, как успокаивающим средством.
В конце августа я думаю уехать в Петербург. Ехать туда не хочется – сам не знаю, почему.
Против всех своих обыкновений, пишу стихи летом. Одно из них я позволил себе посвятить Вам – прилагаю его к этому письму.
Я буду безмерно рад, если когда-нибудь у Вас найдется время и будет желание написать мне несколько строк.
Из Петербурга я напишу Вам письмо.
Катя и Лида Рагозины просили меня передать Вам их поклоны. Они пленены Коктебелем и говорят, что любят даже дорожные мешки, побывавшие в Вашем доме.
Передайте, пожалуйста, мой поклон Марии Степановне. Я с большой благодарностью вспоминаю ее заботы о нас, и чайник, просьбами о котором мы ее, вероятно, терзали.
Передайте привет – если они меня помнят – Всеволоду Ивановичу, д-ру Саркизову, Парижской Тане (я почтительно храню чертей ее работы), Тамаре и М. А. Тарловскому, буде все они еще у Вас.
Преданный Вам
Владимир Щировский.
Харьков 9 августа 1929.[1573]
Авторизованная машинопись стихотворения, упомянутого в письме, хранится в архиве Волошина в особом альбоме, содержащем стихотворения, посвященные хозяину Дома поэта.[1574] Среди стихотворных текстов Щировского, составляющих собрание А. Н. Доррер и вошедших в сборник «Танец души», оно отсутствует. Тексту предпослан эпиграф из стихотворения З. Н. Гиппиус «14 декабря 17 года» (1917).[1575]
М. А. Волошину О, петля Николая чище, Чем пальцы серых обезьян. З. Гиппиус. Иль вправду чище петля Николая, Чем пальцы серых обезьян? Была Россия белая, теперь – былая, А будет ли опять бела? Вторично белая – от смерти, что ли? Вторично чистая – скребли ножом. Иль Бог придет – откуда-то, оттоле – И белый остов будет обнажен? О, мертвенькая, беленькая, разве И после смерти явятся врачи – Диагностировать похабство в язве И лить сквозь грудь рентгеновы лучи? Пока же мним: вот выдуман и создан Наш новый мир; нас старый мир бесил. Так Фаэтон к неразрешимым звездам, От власти ошалев, скакал без сил; Так душу голого переполняют В конце концов добытые штаны; Так, скотски сытные, нам снятся сны В те дни, когда «младая кровь играет»… О, пальцы злополучных обезьян! Вот аристократический ребенок Висит на веточке; а капитан Лебядкин сетует, совсем не пьян, А даже философски тих и тонок. И в выспренней кромешности слились С водицей душ – стигийские водицы. И камни запрокидывают в высь Свои неописуемые лица. Кощунствую и говорю: явись – Ты, чей костюм не плащ, а плащаница. И открывается простой исход: Пусть излучается забвенье всех Дурных и радостных земных погод, Сырых и гадостных людских потех. И – сердце бедное – тебе ли жаль, Что прёт бесследная небожья тварь, Что вскоре рухну я, что кроет даль Над вечной кухнею тоска и гарь? Ведь впредь – как в прежнее, и вновь – как встарь. И – страшно ль стать забвенником отпетым? Пройду дождем, пройду костлявым летом, Пройду – любя и плача свысока. И с черствой долговечностью песка Споется кратковременность куска Несчастного, мечтающего мяса. И камешек – последняя украса – Приютно ляжет над – уже не мной. А ты – останься глупой и земной, Как женщина, как Марфа, как хозяйка, – Моя страна. Твори столбцы газет, Играй в цепочки, гвоздики и гайки. Пройдет сто лет. Пройдет еще сто лет… Харьков. 7 августа 1929 г. Владимир Щировский.Мелькающий здесь персонаж из «Бесов» Достоевского возникнет вновь в стихотворении Щировского «На отлет лебедей» (1931): «… стада волосатых студентов // И потрясателей разных стропил, // Народовольческих дивертисментов // И капитана Лебядкина пыл…»[1576]
Из приведенного выше свидетельства А. Н. Доррер следует, что Волошин подарил Щировскому в Коктебеле одну из своих акварелей. Из второго письма Щировского к Волошину выясняется, что весной 1930 г. последний отослал ему акварель через Л. В. Тимофееву. Наверное, уже не удастся достоверно узнать, была ли это одна и та же акварель (и, соответственно, биограф Щировского допустила неточность) или Волошин в знак своей симпатии к молодому поэту отправил ему еще одну свою работу. Если (как можно судить по письму) акварель при пересылках затерялась и не дошла до адресата, то наиболее вероятен второй вариант. Выражая свою благодарность, Щировский попутно сообщает немало важного и интересного о своей жизни, о своих настроениях и общих воззрениях на окружающий его и глубоко ему чуждый мир:[1577]
Харьков 29 июня 1930.
Дорогой Максимилиан Александрович.
Сегодня от Л. В. Тимофеевой я узнал, что Вы послали мне свою акварель, которую она, кажется, послала в Петербург. Пишу «кажется», т<ак> к<ак> до отъезда моего из Петербурга я акварели не получил, а, со слов Лидии Владимировны, она ее послала в последних числах мая. Уехал я из Петербурга 5-ого июня, так что даже при ошибке в адресе письмо мне было бы доставлено. Я чрезвычайно жалею о том, что не получил этой акварели.
Прошедшую осень, зиму и весну я провел в Петербурге. Мне много раз хотелось написать Вам, но почему-то я не решался, а потом, нанявшись чернорабочим, не имел времени, т<ак> к<ак> сильно уставал.
От Лидии Владимировны я с большой радостью узнал, что Ваша болезнь, о которой я имел в Петербурге весьма неопределенные известия, не слишком расстроила Ваше здоровье.[1578]
В этом году, в марте, я женился на Кате Рагозиной; может быть, Вы ее помните: она и ее сестра Лида были со мной в Коктебеле.
В Петербурге я жил очень однообразно. В ноябре прошлого года я нанялся на постройку, весной поступил на военный завод, где и работал с глубочайшим омерзением, ибо я решительно не люблю работать. Да и необходимость все время состязаться с коллегами в хамстве меня очень тяготила.
Вообще, вступив в ежедневное общение с народом-богоносцем в лице крестьян, работающих на постройках, и заводских рабочих, я что-то усумнился в качествах этого народа. Народ-то, в сущности, дрянной. Не отдельные личности, а именно – народ. Или это так кажется? Я, конечно, не судья.
За 1929 г. я написал много стихотворений.[1579] А в этом году, работая, писал очень мало. Большинству моих стихотворений присущ злобный и, может быть, несколько дидактический тон.
Неприятно то, что я совершенно не могу понять, не чувствую – удачно написанное или нет. И вообще – плохо или хорошо?
Поэтов (из молодых и знакомых мне лично), которые бы мне нравились, я не знаю. Поэтому новых литературных друзей у меня не завелось, а прежние расстраиваются.
Главным моей жены и моим развлечением является собирание дураков, но хороший дурак выводится, от усиленной работы, голода и очередей теряя способность к тому специально дурацкому экстазу, который мы в нем особенно ценили.[1580]
Теперь я надолго осяду в Харькове. В будущем году мне предстоит военная служба, которую я намерен отбывать в Харькове, т<ак> к<ак> здесь живет семья моей жены. Быть может, в будущем году я смогу, если Вы разрешите, приехать в Коктебель. Признаюсь, я мечтаю попасть к Вам, как в рай. Очень плохо в России.
Примите мои и моей жены почтительные приветствия Вам и Марии Степановне.
Преданный Вам В. Щировский.
Мой адрес:
г. Харьков, Каплуновский переулок № 7, В. Е. Щировскому.
Планам поэта вновь попасть в Коктебель не суждено было сбыться: непродолжительный арест в 1931 г., затем – призыв в армию (служил до 1933 г. при Харьковском военкомате).[1581] А в августе 1932 г. Волошина не стало.
Штрихи к биографии Андрея Белого и К. Н. Бугаевой (по материалам архива Д. Е. Максимова)
Статус вдовы большого писателя – высокий и обязывающий. Он предполагает исполнение миссии – быть наследницей и представительницей ушедшего, хранительницей живой памяти о нем; он побуждает к ответственному труду – по собиранию, систематизации и обнародованию всех тех оставшихся после кончины писателя материальных свидетельств его жизни и деятельности, которые будут способствовать воссозданию его личности и увековечению его творчества. В истории русской литературы XIX века самый яркий пример следования этой миссии – А. Г. Достоевская. В истории литературы модернистской эпохи с вдовой Достоевского могут быть поставлены вровень И. М. Брюсова и К. Н. Бугаева. С обеими вдовами двух крупнейших русских символистов поддерживал отношения на протяжении десятилетий Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987), автор книг о Брюсове и Блоке, один из немногих исследователей символизма в годы, наименее благоприятные для подробного и объективного изучения этого литературного направления.[1582] И. М. Брюсова и К. Н. Бугаева постоянно проживали в Москве, Д. Е. Максимов – в Ленинграде, встречались они эпизодически, но переписывались регулярно, хотя и с большими перерывами.
В архиве Д. Е. Максимова сохранились 64 письма К. Н. Бугаевой к нему за 1936–1969 гг.[1583] Этот эпистолярный комплекс – один из немногих документальных источников, содержащих сведения о жизни и работе вдовы Андрея Белого после смерти ее мужа. Биографических свидетельств о самой Клавдии Николаевне Бугаевой (урожд. Алексеева, в первом браке Васильева; 11 июня 1886 – 22 февраля 1970) – в особенности о той поре ее жизни, которая предшествовала началу общения с Белым, – сохранилось совсем немного,[1584] и в этом отношении письма ее к Максимову также нельзя недооценивать. Наконец, особую значимость этим письмам придают содержащиеся в них авторитетные свидетельства о жизни и произведениях Белого.[1585]
Первое письмо К. Н. Бугаевой к Д. Е. Максимову датировано 4 февраля 1936 г. Судя по фразе: «От нашей мимолетной беседы и у меня осталось очень теплое чувство», – ему предшествовала их личная встреча. В это время К. Н. Бугаева была всецело погружена в работу по составлению обзора «Литературное наследство Андрея Белого», который готовила в соавторстве с А. С. Петровским и Д. М. Пинесом (последний, как репрессированный автор, в опубликованном тексте не был указан).[1586] Это была первая и единственная из работ К. Н. Бугаевой о Белом, опубликованная при ее жизни. В первые месяцы после смерти писателя ею совместно с П. Н. Зайцевым и А. С. Петровским было подготовлено для издательства «Academia» «Собрание стихотворений» Андрея Белого; доведенное в январе 1935 г. до верстки (784 страницы), это издание не состоялось, набор был рассыпан.[1587] В 1934 г. К. Н. Бугаева начала и в конце 1935 г. в основном закончила свои «Воспоминания об Андрее Белом», увидевшие свет в полном объеме лишь одиннадцать лет спустя после ее кончины.[1588] Одновременно она работала над составлением библиографии Андрея Белого, над подготовкой «Материалов к поэтическому словарю Андрея Белого» и «Материалов к словарю художественных произведений Андрея Белого» – лексических регистров, призванных облегчить труд будущих исследователей поэтики и стилистики писателя.
На первых порах переписка стимулировалась профессиональными интересами Д. Е. Максимова. Изучение истории русского символизма тогда находилось в зачаточной стадии, архивы писателей еще оставались необработанными и не были доступны для исследователей, надежной источниковедческой базы для работы практически не существовало, и приходилось обращаться за помощью к тем, кто, будучи непосредственно связан с изучаемым писателем, способен был такую помощь оказать. Первое письмо Клавдии Николаевны, от 4 февраля 1936 г., содержит ответ на вопрос относительно авторства публикаций под псевдонимом Taciturno в журнале «Перевал» (1906–1907), которые приписывались Белому: «Пока еще не удалось установить, чей именно это<т> псевдоним. Но только не Бориса Николаевича. Последнее отпадает решительно. Я просмотрела статьи в “Перевале” за подписью Taciturno, и для меня нет сомнений, что это не он. ‹…› Укажу на одно: в № 2 (“Перевала”) в статье “Искусство прошлого и искусство будущего” на стр. 51 есть упоминание о Симфониях Андрея Белого. Но и помимо этого для меня ясно, что Борис Николаевич не мог быть автором этих статей. Весь стиль мысли, тональность, вплоть до отдельных выражений, примеров и слов – не его». Дополнительное сообщение на ту же тему – в письме К. Н. Бугаевой от 22 августа 1936 г.: «Давно уже собиралась Вам написать о псевдониме Taciturno. И. Ф. Масанов раскрыл его, как псевдоним А. Бачинского, что мне и казалось с первого взгляда. Несмотря на некоторую общность тем, в статьях этих много отличий, и отличий по существу. Весь стиль мысли Бориса Николаевича, не говоря уже о языке, совершенно другой».[1589]
В том же письме К. Н. Бугаева отвечала и на другие вопросы своего корреспондента – о матери Белого: «Годы рождения и смерти А. Д. Бугаевой – 1858 (6 апреля) – 1922, 20-е числа октября, а может быть и ноября. Точно теперь не помню. Помню зрительно, что был небольшой снег, еще не покрывший землю, и скорее сыро, чем морозно. Скончалась она в клинике Россолимо»; о продвижении в печать работ, посвященных Белому: «Вопрос о библиографии в “Лит<ературном> насл<едстве>” остается еще открытым, скорее нет, чем да. Символистский том у них будет подготовляться осенью. Наш “обзор” лит<ературного> наследства Бориса Николаевича очень разросся, хотя мы с Петровским сжимали его изо всех сил. Но так много фактического материала, что, несмотря на все усилия быть краткими, все же не уложились в назначенные рамки. Большое спасибо за Ваше предложение об издании некоторых писем. В настоящее время Н. С. Ашукин подготовляет для Лит<ературного> музея небольшую часть из писем к матери. И кроме того знаю по слухам, что в Ленинграде Орлов делает то же с частью переписки с А. Блоком». Библиография Андрея Белого тогда не была напечатана (впрочем, большое количество библиографических сведений приведено в составе упомянутой обзорной статьи «Литературное наследство Андрея Белого»); планировавшийся в серии «Летописи Государственного Литературного музея» том «Русские символисты» под редакцией Н. С. Ашукина в свет не вышел,[1590] но в той же серии был опубликован в 1940 г. подготовленный В. Н. Орловым том переписки Александра Блока и Андрея Белого, включавший все выявленные к тому времени письма Блока к Белому и большинство писем Белого к Блоку.
Следующее письмо К. Н. Бугаевой к Д. Е. Максимову (от 31 декабря 1936 г.)[1591] касалось пушкинской темы у Белого – неосуществленного замысла романа «Адмиралтейская игла»,[1592] доклада «Пушкин и мы», прочитанного в феврале 1925 г., в годовщину смерти поэта:[1593] «Не будет ошибкой, если скажу: Борис Николаевич был пронизан Пушкиным. Пушкин был – воздух, которым дышал».
Затем в переписке наступил многолетний перерыв, возобновилась она после личной встречи в Москве в январе 1944 г. Д. Е. Максимов оставил запись о содержании состоявшейся тогда беседы (включена им в подборку документальных записей «Мои интервью»[1594]):
«Клавд<ия> Ник<олаевна> Бугаева. Сблизилась с Б. Н. в 1918 г. Однако она могла переехать к нему только с 1932 г., т<ак> к<ак> была женой врача и оч<ень> трудно расходилась с мужем, живя между Москвой и Кучиным.[1595]
Рассказывает о крайне важных письмах Б. Н. к Разумнику. Однако в 1932 г. отношения их испортились. Р. В. <Иванов-Разумник> прислал Б<орису> Н<иколаевич>у оч<ень> ехидную открытку с насмешками по поводу разбора Б<орисо>м Н<иколаевич>ем поэмы Санникова.[1596]
Взбешенный Б. Н. написал огромнейшее (2 печ. л.) ответное ругательное письмо Разумнику, но посылать его отсоветовали. Ответил кратко.[1597] С тех пор близости между ними не было.
Кл<авдия> Ник<олаевна> считает одной из важных причин разрыва – политич<еский> момент.
Б. Н. говорил К. Н., что его любовь к Л. Д. <Блок> – первое в его жизни страстное, напряж<енное> чувство (и с ее стороны тоже). Но что он решился добиваться брака (1907 г.?) лишь тогда, когда узнал, что она еще чиста. ‹…›
Кл<авдия> Ник<олаевна> составила: 1) Словарь поэзии Белого. 2) Статистику цветовых определений в его прозе.
У нее есть (обещала дать) тт. 1–4 “Эпопеи” и неизд<анные> комментарии к своим (ранним) письмам к Блоку».[1598]
Полтора года спустя Д. Е. Максимов вновь побывал у К. Н. Бугаевой, о чем также сделал развернутую запись:
Беседы с К. Н. Бугаевой и ее сестрой Елен<ой> Никол<аевной>.
Июль 1945 г.
Период зорь для А. Белого был связан с его увлечением Марг<аритой> Кирилловной Морозовой – женой Морозова, урожденной Мамонтовой, матерью шекспиролога Морозова (ныне еще жива).
Она не отвечала его любви, но создала с ним дружбу, проходящую через всю жизнь.[1599]
В нее был влюблен Евген<ий> Трубецкой.[1600] В «Первом свид<ании>» ее изобразил Белый: Над<ежда> Львов<на> Зарина.
Сила любви Б. Н. к Л. Д.: когда в ресторане (в Москве) увидел кого-то похожую на Л. Д. – упал в обморок.
Жизнь Блоков изображена в рассказе Б. Н. «Куст» («Зол<отое> Руно»), которым они были крайне возмущены.[1601]
Антисемитское выступление Б. Н. в «Весах» – единственное в его жизни.[1602] О статье этой он жалел и нигде никогда ее не перепечатывал. Она – под влиянием Метнера. В антропософии не было национализма, а в ряды антропософов входило много евреев.
Жизнь с Асей для Белого была очень тяжелой. Он и она сошлись на почве неудачной любви: его – к Л. Д.; ее – к кому-то в Бельгии.[1603] Она – резкая и, кажется, несколько стилизованная. Была одержима антропософией, презрительно относясь к творчеству Б. Н., которое считала пустяками по сравн<ению> с антропософской доктриной. К Б. Н. относилась плохо, не называла его иначе, как «дурак».
Нина Петровская полюбила Б. Н., который не проявлял к ней активности, а только спасал ее: эта любовь отвернула ее от Брюсова.[1604]
Исключит<ельное> уменье Б. Н. представлять из себя зверей, напр<имер> слона, медведя и т. п.
Называл себя: Миша.
Когда писал прозаич<еские> произведения, для кажд<ого> героя имел свой лист, на который наносил мысли об этом герое.
Штейнер и Белый оч<ень> ценили Л. Толстого, особенно такую его книгу, как «О жизни».
По следам этой встречи Д. Е. Максимов отправил К. Н. Бугаевой открытку, на которую последовал ответ 2 октября 1945 г.:
Милый Дмитрий Евгениевич, давно уже хочу ответить на Вашу открыточку, на которую сердцем мы обе с Ел<еной> Ник<олаевной> откликнулись сразу. Конечно, и мы воспринимаем нашу встречу вне рамок «истории литературы», и очень многое в ней еще не закончено. Надеюсь, что будущее даст нам эту возможность. А до тех пор очень хотела бы хоть изредка обмениваться такими, по словам Гончарова, «вещественными знаками невещественных отношений».[1605] Как идет Ваша работа? Очень хотелось бы знать. Если будет возможность, напишите об этом. – Шлю самый сердечный привет. Всего лучшего.
К. Бугаева.
Следующее письмо Клавдии Николаевны (от 16 ноября 1945 г.) содержало печальную весть о кончине Е. Н. Кезельман, сестры и помощницы в работе над творческим наследием Белого: «Милый Дмитрий Евгениевич, – у меня горе. Родная моя Люся ушла от меня. 10 ноября она скончалась от кровоизлияния в мозг. Все произошло так мгновенно. Утром в 9 ушла в магазин. В час мне сказали, что ее отвезли в карете скорой помощи. А в 12 ночи ее уже не стало. Держусь только тем, что она не страдала. Но – Вы можете понять, как больно ее потерять». Но уже месяц спустя она отвечала на ранее присланные очередные вопросы Дмитрия Евгеньевича, на этот раз касавшиеся «симфоний» Белого:
15/XII <19>45. Москва.
Милый Дмитрий Евгениевич, не думайте, что я забыла о Вашем письме с вопросами. Помню все время. Но никак еще не могу собраться с мыслями. Слишком неожиданно налетело это, хотя и давно ожиданное. Ведь я знала, как плохо здоровье Е. Н. и как она слаба. Но все не думалось, что потеряю ее так скоро. – О Ваших вопросах, конечно, лучше было бы поговорить. Но постараюсь сказать, что можно – в пределах письма.
Прежде всего: «любил», может быть, Б. Н. действительно больше 2-ю Симфонию. Но авторски ценил как раз выше других, именно, 3-ью. Он говорил, что в ней затронуты очень важные темы, и еще в кучинские времена намечал ее для переработки. Особенно отмечал речь Хандрикова: это зерно, которое нужно развить. В отношениях Хандрикова, Ценха, Орлова сплетены многие проблемы культуры, науки, сознания. – 4-ую Симфонию считал неудавшейся, «замученной» переработками. Кроме того, в ней он подошел к тем пределам, которые показали самую невозможность дальнейшей работы над этой формой, и – «пятой» симфонии уже не появилось. А появился «Серебряный Голубь», «Петербург» и т. д., т. е. «роман». Благодаря «замученности» фабула как-то судоржно перекрутилась. Для меня эта Симфония тяжела. В ней я люблю только метели, ветер, поля, солнце, – природу. А людей ее – нет, начиная даже с имен. Но «природу» зато люблю очень. – Теперь, коротко отвечу на Ваши вопросы:[1606] Адам П<етрович> умер. Он тождественен со скуфейником, как и Светлова – с игуменьей. Их любовь, пройдя через страсть, кончается встречей в иных планах. – Из деталей, может быть, Вам интересно будет узнать, что в «гадалке» отражена З. Н. Гиппиус. ‹…›
На следующий день, 16 декабря, К. Н. Бугаева добавила к этому письму дополнительные сообщения:
Милый Дмитрий Евгениевич, сейчас, перед отправлением письма узнала, что в Лен<инградском> отд<елении> «Сов<етского> писат<еля>» возрождается «Большая серия библ<иотеки> поэта». Если Вам не трудно, я очень просила бы Вас узнать, включен ли в план сборник Бориса Ник<олаевича>, подготовление которого было уже начато весной 41 г. Ц. Вольпе,[1607] а в июле должен был быть заключен договор со мною. Если – да, то я очень просила бы Вас быть редактором этого сборника. Знаю Вашу загруженность. И все-таки – не могу Вас не попросить. В Гослитиздате Б. Н. включен в план 46 года. Тоже стихи: томик, больше «Малой» и меньше «Большой» серии.
Эти издательские проекты пришлось отложить до лучших времен: после публикации 14 августа 1946 г. постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» разговор о печатании в СССР произведений Андрея Белого надолго был снят с повестки дня.
Вновь отношения К. Н. Бугаевой и Д. Е. Максимова активизировались в 1960-е гг., когда, наконец, было принято решение об издании в Большой серии «Библиотеки поэта» тома стихотворений Андрея Белого и когда в Тарту стали выходить в свет литературоведческие сборники с материалами, относящимися к символистской эпохе. Энтузиазм тартуских филологов, и прежде всего З. Г. Минц, восхищал Клавдию Николаевну, и, говоря в письме к Максимову от 21 сентября 1962 г. о своих работах над творческим наследием Белого, она заключала: «… прежде всего мне хотелось бы, чтобы они были переданы в Тарту, а не в Пушкинский Дом. Целью всего, что я делала, было снять с будущих исследователей творчества Б. Н. трудоемкую подготовительную работу, и мне хотелось бы, чтобы это попало в руки живых людей, а не формалистов». Упоминая о собранных ею материалах к словарю художественной прозы и стихотворений Белого, она отмечала (8 января 1969 г.): «Метод работы для Словника мне дал Г. О. Винокур, прекрасный сердечный человек, которого я до сих пор вспоминаю с глубокой сердечной благодарностью. Так возник словник поэтического языка Андрея Белого. Но когда дело дошло до цитат к словам (цитатный словник), его уже не стало и все, к кому я обращалась за советом, при имени Белый становились сухими и отговаривались недостатком времени».
Одна из тем переписки К. Н. Бугаевой с Д. Е. Максимовым в 1960-е гг. – немногочисленные по тем временам публикации, касавшиеся Андрея Белого. В связи с появлением статьи В. Н. Орлова «История одной любви» в составе его книги «Пути и судьбы» (М.; Л., 1963) – статьи, в которой шла речь о личных взаимоотношениях Блока, Л. Д. Блок и Белого, – она писала Дмитрию Евгеньевичу (30 июня 1963 г.): «О статье Орлова мне уже говорили. Сама ее не видела и не хочу видеть. В моем сознании его имя стоит для меня по отношению к Б. Н. под знаком “минус” в ряду тех трех имен, которым не могу простить их литературных выпадов: Асмус, Корнелий Зелинский, Всеволод Вишневский.[1608] Мне пришлось быть свидетелем “иных” их проявлений при жизни Б. Н. Этой вины за Орловым нет. Вина его – предвзятость при издании “Переписки”, где он старается подчеркнуть “дионисизм” Б. Н. и “аполлонизм” Блока. Я же поставила бы к ней эпиграфом: Блок – “О, страшных песен сих не пой”… Б. Н. – “Я понять тебя хочу”…»[1609] О публикации семи стихотворений Белого в сборнике «День поэзии» (М., 1965) – 10 февраля 1966 г.: «Там помещено пять или шесть стихотв<орений> Б. Н. из “Зовы времен”. Выбор и напечатание были осуществлены Б. А. Слуцким и С. Григорьянцем. ‹…› Слуцк<ий> очень любит и прекрасно читает стихи Б. Н., хорошо передает их ритм и интонацию. А Григорьянц просто горит им. Он написал мне пламенное письмо о творчестве Б. Н. Очень резко отозвался о редакционной деятельности Орлова. Они будут теперь снова подавать заявку о напечатании мемуаров Б. Н. Орлов куда-то задевал эту заявку».[1610] 5 мая 1966 г.: «…причина моей “усталости”, как это ни странно, просыпающийся интерес к Б. Н. Пока этого не было, мне было легче. А теперь иногда я жгуче остро ощущаю свою потерю. Иногда до вздрога ясно вижу: он входит в комнату… … Особенно разволновала меня публикация ленинградца К. Григорьяна (ж<урнал> “Дружба народов”. 1966, № 2, стр. 230–237) “А<ндрей> Б<елый> в Грузии”. Приведен ряд отрывков из его писем к разным лицам. Обращения сняты».[1611] По выходе в свет тома «Стихотворений и поэм» Андрея Белого в Большой серии «Библиотеки поэта» К. Н. встретилась с его составителем и автором вступительной статьи Т. Ю. Хмельницкой (1906–1997), о чем сообщала Д. Е. Максимову 14 сентября 1966 г.: «Виделась с Тамарой Юрьевной. Очень хорошо. Она сделал большое – даже – огромное – дело. Прекрасная вступительная статья и такая щедрость в подаче авторских текстов. Для меня радостная неожиданность, что полностью даны две поэмы. Ведь Б. Н. так давно стал библиографической редкостью, что обнаружилось: даже среди членов Союза Писат<елей> есть такие, к<ото>рые никогда не читали “Перв<ое> Свид<ание>”. Нечего и говорить, что в Лавке Писат<елей> книга появилась только на витрине, и сейчас же попала в разряд “Р” (распродано). Чуть ли не на второй день ее можно было купить уже у букинистов (?) по милой цене 10 р.» (официальная цена, обозначенная в книге, – 1 р. 80 к.). В то же время К. Н. была огорчена тем, что поздним редакциям стихотворений Белого («Зовы времен») составителем тома были предпочтены ранние редакции из сборников 1900-х гг.
Выход тома в «Библиотеке поэта» помог Клавдии Николаевне, официальной наследнице Белого, немного поправить свое бедственное материальное положение (которое Д. Е. Максимов по мере возможностей пытался облегчить: одно из писем К. Н. к нему, от 28 сентября 1962 г., содержит благодарность за денежный перевод и фразу: «Очень тронута вниманием “заочных друзей”»; за последних в данном случае, скорее всего, представительствовал сам Д. Е.). Попытки получить аванс под готовящееся издание предпринимались и ранее, однако консультант Секретариата Правления Союза писателей СССР А. И. Орьев письмом к Д. Е. Максимову от 1 февраля 1963 г. сообщил, что ходатайство о выплате вдове гонорара можно возбудить лишь по выходе книги в свет, и оповестил о принятом решении: «Учитывая затруднительное материальное положение и болезнь Клавдии Николаевны, Секретариат Правления СП СССР поручил Литфонду выдать ей единовременное пособие в размере 100 рублей». На этом документе Д. Е. Максимов сделал пояснительную приписку: «Это – ответ на мое письмо Федину о тяжелом матер<иальном> положении К. Н. Бугаевой. Подачка в 100 р. – позорна для писат<ельской> организации и Федина».[1612]
Часть архива Андрея Белого тогда еще хранилась у К. Н. Бугаевой, и Д. Е. Максимов организовал приобретение ее Отделом рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде; основу этого фонда составили творческие рукописи Белого (в том числе машинопись неизданной «берлинской» редакции воспоминаний «Начало века»), часть его переписки, а также работы К. Н. Бугаевой по описанию и систематике творческого наследия писателя.[1613] Елена Васильевна Невейнова (1902–1988), близкий друг и помощница К. Н. Бугаевой, писала Максимову 5 января 1963 г.: «Кл<авдия> Ник<олаевна> ‹…› очень благодарит Вас за хлопоты по продаже ее архива. Все оформление она предоставляет на Ваше усмотрение». 16 февраля того же года К. Н. Бугаева сообщала ему о получении денежной суммы из Публичной библиотеки: «… спешу Вас известить, что деньги переведены (1568 р. 62 к.). Еще раз большое, большое Вам спасибо за все Ваши хлопоты». Среди раритетов, переданных Клавдией Николаевной в Ленинград, была посмертная маска Андрея Белого работы скульптора С. Д. Меркурова; в связи с этим К. Н. писала Максимову 22 октября 1963 г.: «… оставьте маску у себя сколько хотите; у меня становится тепло на сердце, когда думаю, что она у Вас. – А куда ее передать? Боюсь, что Пушкинский Дом встретит ее “нелюбезно”. Может быть, лучше в Библиотеку, поскольку там есть фонд Б. Н.». Маска долгое время хранилась у Дмитрия Евгеньевича, после чего была передана им в Государственный Литературный музей (полученную за нее сумму он переадресовал Е. В. Невейновой, самоотверженно ухаживавшей за К. Н. в последние годы ее жизни).
Подарила Клавдия Николаевна Максимову и 4 тома берлинской «Эпопеи» с «Воспоминаниями о Блоке». В сопроводительном письме (от 30 октября 1964 г.) она сообщала: «… сам Б. Н. не любил этого варианта своих “Восп<оминаний> о Блоке” и в 1922 г., в бытность мою в Берлине,[1614] разорвал на листки весь свой экземпляр, делая в нем поправки и вклейки. Из этого впоследствии и вышло известное Вам “Начало века” ред<акции> 1923 г.» В другом письме, от 15 февраля 1965 г., она вспоминала о последнем лете Белого (1933): «Все забываю спросить, знали ли Вы лично поэта О. Мандельштама? ‹…› Мы столкнулись с ним в Коктебеле. И вначале не обошлось без “бури” со стороны Б. Н. Но потом М<андельштам> прочел нам свой перевод из Данте,[1615] и Б. Н. также бурно пришел в восторг. М<андельштам> прекрасный поэт. Мне приносили его стихи – начиная с первых и до конца. А потом я узнала о его трагической судьбе – подобной судьбе Мейерхольда». 23 февраля 1969 г., отвечая на очередные вопросы исследователя, К. Н. сообщала о реакции Белого на постановку сделанной им инсценировки «Петербурга» в МХАТ 2-м:[1616] «Он был доволен только первой картиной, когда открылся занавес и во всю длину сцены протянулся стол и за ним лысая голова с огромными синими глазами и торчащими ушами, напоминающими облик Победоносцева, – М. А. Чехов. Но Берсенев – Николай Аблеухов – возмутил Б. Н. тем, что он на сцене играл его походку, жесты и манеру говорить, то, что Б. Н. называл “tour de force”. Когда же дошло до ангела-пери – Гиацинтова, то он был возмущен тем, что она дала, по его словам, “мальчик резвый, кудрявый, влюбленный”. Кроме того они исправили ему весь словарь его характерных слов, – напр<имер>, “мальчик-ушанчик” и др. Вообще он определил эту постановку, как “лебедь, рак и щука”, – т<ак> к<ак> это были три режиссера, из которых каждый тянул в свою сторону».
Последние годы жизни К. Н. Бугаева тяжело болела, была прикована к постели. «Был у Кл. Н. Б. в августе 1959 г., – записывал Д. Е. Максимов, – ей плохо (склероз, радикулит, грипп с выс<окой> t°). Выживет ли?» В письмах К. Н. к нему нет жалоб на тяжкую участь, но лишь грустные констатации положения дел: «Слишком велик угол между “горизонталью” моего лежачего положения и “вертикалью” моего сознания. Предел того, о чем мечтаю: хотя бы одну секунду постоять на ногах без посторонней помощи» (21 мая 1963 г.); «… ходить и стоять на ногах удается – с помощью Елены Васильевны, – не более часа. ‹…› Лечилась я усердно два года и смотрели меня не менее 12 врачей всех специальностей, кроме психиатра. Диагноз так и не поставлен» (30 июня 1963 г.).
К этому времени относятся две записи Д. Е. Максимова, сделанные им после посещения Клавдии Николаевны в ее московской квартире. Первая из них – машинописный текст с карандашной припиской (сведения о болезни К. Н.):
Беседа с К. Н. Бугаевой 21 апреля 1968 г.
Б. Н. будто бы никогда не использовал антропософию для своих лит<ературных> произведений. Все писалось от внутр<еннего> опыта, который был еще с детства.[1617]
Во всяком случае на «Петербург» не влияла антропософия, а скорее теософия (о «телах») – недаром он и раньше увлекался «Тайной доктриной» Блаватской (рассудочная Анни Безант на него не влияла). Это влияние шло к нему через его приятельницу Гончарову.[1618]
К. Н. вполне согласна со мною, что существенных идеологических сдвигов у Б. Н. от сириновского к берлинскому изданию «Петербурга» не произошло: Ив<анов>-Разум<ник> в своей концепции полит<ической> эволюции Белого неправ. Неправ Разумник и в том, что изд<ание> «Петербурга» – анапест (в «Сирине») и амфибрахий в изд<ании> 1922 г.[1619] К. Н. думает, что эта эволюция – от трехдольника к двухдольнику (сжатие).
На Штейнера Б. Н. никогда не восставал, хотя в свой последний приезд в Берлин ему «нагрубил» (был сердит, что Штейнер не содействовал возвращению к нему Аси): на вопрос Штейнера о нем он ответил доктору, что занимается квартирными делами (это и есть грубость – Штейнер отвернулся). Это было в Берлине.[1620]
Тогда К. Н. пыталась их примирить, действуя через жену Штейнера Марью Яковлевну.[1621] Штейнер назначил свидание Белому в Штутгарте. К. Н. повезла сопротивляющегося и убегающего от свидания Белого. Но он все-таки приехал с нею в Штутгарт (это было в 1923 г. – год ее приезда в Германию). Они примирились со Штейнером. Белый поцеловал его руку. Штейнер его благословил.[1622]
Белый считал (и К. Н. тоже), что Штейнер писать не умел: вся сила в его лекциях и беседах.
К. Н. сказала, что однотомник Белого в «Библ<иотеке> поэта» причинил ей много огорчений. Нельзя было, вопреки воле Белого, печатать прежние редакции стихов. Нужно было напечатать «Зовы времен» целиком, а прежние редакции, если уж их печатать, – поместить в примечаниях. ‹…›
К. Н. – мне: мне с Вами приятно: в Вас частица Б<ори>са Ник<олаеви>ча.
Тогда же Ел<ена> Вас<ильевна> Невейнова рассказала мне о болезни Кл<авдии> Ник<олаевны>: лет десять назад (или знач<ительно> больше) она упала (от мяча, запущенного мальчишкой) и повредила позвоночник. Это и есть причина. За это время вырос горб. Почти не прекращаются боли – то сильнее, то слабее. Об этом К. Н. оч<ень> не любит говорить. Сознание вполне ясное. Ее пенсия – 45 р. Денег (запаса) хватит года на два.
По следам следующего (и, вероятно, последнего) посещения К. Н. Бугаевой Д. Е. Максимов сделал аналогичную запись:
7 августа 1968 г. (записываю 8 VIII в вагоне – шатает).
Беседа с Кл<авдией> Ник<олаевной> Бугаевой
К<лавдии> Н<иколаевн>е 82 года. Она лежит неподвижно. Почти не читает – по словам Елены Вас<ильевны> Невейновой, – дремлет. Но все-таки, зная, что я интересуюсь сейчас «Петербургом», К. Н. сказала, что читает его. На память по-немецки читала стихи Гёте – мне.
Мы говорили 1 ч. 15 м. Больше – она. С абсолютно ясной головой, с великолепной памятью, с полным самообладанием, но <с> усилием, с перерывами, вероятно от слабого дыхания. Как скелет.
Утверждает, что Б<орис> Н<иколаеви>ч всю жизнь больше любил г<ород> Петербург, чем Москву, что сказалось и в «Петербурге».
Как и в прошлый раз, утверждает, что на творчество Б<ориса> Н<иколаеви>ча (и на «Петербург») штейнерианство не влияло, что Белый это знал и раньше из теософской л<итерату>ры. В частности, она назвала таких авторов-оккультистов, которых, по ее словам, несомненно читал Белый (до «Петербурга»): 1) Санти д’Эльвор. Миссион де Жуиф. 2) Фабур д’Оливе. Ля лянг ‹…› 3) Элифас Леви. ‹…›[1623] И более упрощенных: С. Пеладана и Папюса. Б. Н. даже гороскоп себе сам составил (в 1910 г.?):[1624] вышло, что ему жить 53 года (сбылось). От этих авторов многое вошло в его творчество. Штейнеру же Б. Н. был обязан исключительно христологией (она, по-видимому, сказалась в поэме «Христос воскрес»).
Эта поэма в корне отличается от «12-ти». У Блока только Христос (да вполне ли это Христос?), а у Белого в поэме «Хр<истос> воскр<ес>» и распятие Христа и только потом его воскресение (у Блока в «12-ти» распятия нет!).
О христологии Штейнера обещала рассказать в след<ующий> раз. Но и вчера сказала, что, по Ш<тейне>ру, Голгофа в земном плане совершилась раз – в Иерусалиме, а Второе Пришествие совершится – там («на небесах»): это соответствует и Евангелию.
Она говорила также об антропософ<ском> учении о 4-х «возрастах» земли. 1-й, самый древний, соответствует расплавленному, сатурническому состоянию (явление образа Сатурна в произведениях Белого).
В образе ангела-пери в «Петербурге» отразились мать Б. Н. и Люб<овь> Дм<итриевна> Блок.
В романе «Крещ<еный> китаец» довольно точно описан семейный быт Бугаевых. Об этом, кажется, есть в кн<иге> «На рубеже двух столетий».[1625] Этот быт оч<ень> тяжелый. Мать Б. Н. вышла за Ник<олая> Васильевича «из уважения». – Н. В. много страдал. Эпизод с гвоздем («Кр<ещеный> кит<аец>»)[1626] – было.
В гимназич<еские> годы Б. Н. его мать переживала длительный и бурный роман с В. И. Танеевым (братом композитора).[1627] В эти годы Б. Н. ненавидел мать.
Она в детстве наряжала его в дет<ские> платьица, под девочку. Но все же он любил ее, а в совет<ское> время (она умерла одинокой в 1922 г.) заботился о ней. Чтобы добыть ей ботинки, обращался в Совнарком.
Особенно плохие отношения у Б. Н. и его матери были в начале сближения Б. Н. с Асей. (Ася – дерзкая). Мать ненавидела Асю и сопротивлялась браку (у Аси и матери дело дошло до разрыва).
Вообще же мать Б. Н., которую К. Н. хор<ошо> знала, – одаренная музыкантка, прекр<асная> рассказчица.
Главное в «Петербурге» не форма, а Gestalt.[1628] Это слово непереводимо. Не сразу можно уловить Gestalt…
К. Н. говорит о крайней неспособности Б. Н. к языкам. По-фр<анцузски> и по-нем<ецки> он не умел говорить. Со Штейнером объяснялся через его жену – она переводила. Всё.
30 декабря 1969 г. Е. В. Невейнова написала Д. Е. Максимову, что у Клавдии Николаевны три недели назад был инсульт с потерей речи и параличом правой руки, через пять часов сознание и речь восстановились. 22 февраля 1970 г. К. Н. Бугаева скончалась. Помнится, Дмитрий Евгеньевич оповестил об этом нас, своих студентов, участников руководимого им Блоковского семинара на филологическом факультете Ленинградского университета; не исключено, что тогда это был единственный случай публичного оглашения той траурной вести… Подробности сообщила Е. В. Невейнова в следующем письме:[1629]
Дорогой Дмитрий Евгеньевич,
простите, что так долго не отвечала на Ваше письмо, но очень грустно писать, все еще так тяжело и никак не можешь привыкнуть к совершившемуся.
Кл. Н. мне с осени все время твердила, что это зима последняя, что я ее не переживу, но мне все не верилось, что это правда, да и не было к тому никаких предпосылок.
И вот началась зима, пошел у нас гулять грипп. Я из-за нее очень береглась, но, к сожалению, все же заразилась, берегла ее как могла, и грипп у меня уже начал проходить, и в это время она заболела. Это было в понедельник 16/II. Я с первой же минуты начала волноваться, т<ак> к<ак> знала, что грипп у нее всегда кончался воспалением легких. Но первые дни было еще сносно, с лекарствами было трудно, она отказывалась их принимать и с большими уговорами принимала. Мне даже дня через 3 начало казаться, что пошло на выздоровление. И тут опять за последние два дня стало очень плохо. Слабость, совсем перестала есть и пить, но была в полном сознании. Все говорила мне: «как трудно умирать», «какое трудное, больное тело», последние сутки все металась, все просила перевернуть с бока на бок, подсадить, но ничего, кроме бытовых слов, как – «поверни», «подсади повыше», не говорила. Последние часы уже не владела языком, а в последние минуты вдруг села, три разочка вздохнула, как бы глотая что-то, откинулась на подушку и сама закрыла глаза. И все было кончено.
Мы ее кремировали, т<ак> к<ак> она просила похоронить ее в могиле Бор<иса> Ник<олаевича> на Новодевичьем. Это, вероятно, будет уже в мае, когда будет тепло.
Дорогой Дмитрий Евгеньевич, Вы были для нее в последние ее годы самым близким и дорогим человеком, она часто вспоминала Вас с чувством глубокой любви и признательности, беспокоилась о Вашем здоровьи.
После нее осталось уже очень мало. Философская рукопись Б. Н. «Душа самосознающая», которую она просила сдать в Лен<инскую> Б<иблиоте>ку,[1630] и книги Б. Н., почти полная подборка, которые она завещала Саше Богословскому, своему крестнику, в надежде, что он доживет до лучших дней, когда, м<ожет> б<ыть>, будет издаваться Б. Н. и эти книги, м<ожет> б<ыть>, пригодятся для переиздания, т<ак> к<ак> их нет даже в Лен<инской> Б<иблиоте>ке. Письма самые интересные, очень большая ее переписка с Б. Н. во время Вольфилы[1631] и еще ряд писем, как, напр<имер>, Пастернака, были сожжены ее матерью в 1931 году, роковом году, когда они были с Б. Н. в Детском.[1632] Ее воспоминания находятся в 3-х местах.[1633] Рукопись беловая в Щедринской б<иблиоте>ке, черновик рукописи у нас в Лит<ературном> Музее и авторизованная рукопись в Лен<инской> Б<иблиоте>ке, там же и картотеки и словник по творчеству Б. Н.[1634]
Родных у нее никого не осталось. Завещание она оставила на меня. Что касается денежного вопроса, то у меня на ее книжке около 1500 рублей, так что пока я обеспечена.
Дорогой Дмитрий Евгеньевич, не забывайте меня, хоть изредка присылайте весточку о себе, а если будете в Москве, позвоните, м<ожет> б<ыть>, мы и увидимся.
Да, незадолго до смерти, недели за 2, она видела во сне Ел<ену> Н<иколаевну>,[1635] которая принесла ей букет белых цветов и сказала: «Как у нас здесь хорошо». Это ее очень обрадовало.
И вот мне тоже хочется Вам сказать, будем надеяться, что ей там хорошо.
Всем сердцем с Вами
Е. В.
1/IV <19>70.
В последнее десятилетие жизни Д. Е. Максимова фигура Андрея Белого вышла на первый план в его творческих интересах. Тогда им были написаны мемуарный очерк «О том, как я видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки издали»[1636] и большая исследовательская статья «О романе-поэме Андрея Белого “Петербург”. К вопросу о катарсисе».[1637] Поначалу Д. Е. предполагал в воспоминаниях о Белом подробно коснуться и личности К. Н. Бугаевой, что побудило его к изысканию биографических сведений о ней. 17 февраля 1981 г. он обратился с письмом к Марии Николаевне Жемчужниковой (1899–1987), деятельнице антропософского движения, автору «Воспоминаний о Московском Антропософском обществе (1917 – 23 гг.)»,[1638] общавшейся с Клавдией Николаевной на протяжении десятилетий. «В настоящее время, – писал он Жемчужниковой, – я заканчиваю небольшой мемуарный этюд об Андрее Белом, которого, еще подростком, слушал в Вольфиле и с которым позже встречался в Кучине. К этим воспоминаниям, в виде их 2-й части, я хочу приложить несколько писем ко мне Кл<авдии> Николаевны Бугаевой, в которых она рассказывает много интересного о Борисе Николаевиче. Но, могу признаться, назначение этой 2-й части моей работы – не только в том, чтобы пополнить наше знание о Белом, но и в том, чтобы вспомнить о Клавд<ии> Никол<аевне> (через несколько дней исполняется 11 лет со дня ее смерти) и, что возможно, о ней рассказать. Она была необыкновенным, замечательным человеком, и приходится только жалеть, что имя ее теряется в блеске имени Андрея Белого. Я знал Клавд<ию> Никол<аевну> еще со второй половины 30-х, всегда посещал ее, будучи в Москве, и много с нею переписывался (у меня 60 ее писем). И все же, как это часто бывает в случае небытового знакомства, ее жизнь я знаю плохо и очень бы хотел узнать больше. Поэтому я и позволяю себе обратиться к Вам с просьбой о помощи – с просьбой сообщить мне хотя бы некоторые биографические сведения о Кл<авдии> Николаевне».[1639] И далее следовали конкретные вопросы – о детстве и юности К. Н. Бугаевой, о ее родителях, о получении ею образования, о ее первом браке с П. Н. Васильевым, об участии в антропософской деятельности и занятиях эвритмией (тематизированными мелопластическими упражнениями, практиковавшимися в антропософии) и т. д.
В ответном письме от 14 марта 1981 г. М. Н. Жемчужникова предложила Д. Е. Максимову обратиться с теми же вопросами к Е. В. Невейновой («Она, и пожалуй, только она может ответить на многие Ваши вопросы»), выслала машинописную копию своих воспоминаний об Антропософском обществе, а также поделилась с ним теми сведениями, которыми располагала:[1640]
Многоуважаемый Дмитрий Евгеньевич,
конечно же, я знаю Вас и по книгам Вашим и по Вашему доброму участию в жизни Клавдии Николаевны в последние годы.
Ваше сообщение о желании Вашем написать о Клавдии Николаевне дало мне большую живую радость. Ведь она для меня – один из самых дорогих образов воспоминаний всей жизни. И я очень хочу всем, чем только могу, Вам помочь. Но, к сожалению, это очень мало, особенно в части того «минимума», который прежде всего необходим. Я знала Кл<авдию> Ник<олаевну> с 1917 года, но – так же как у Вас – общение с нею в небытовом плане отодвигало, заслоняло детали ее биографии. А ведь она и в этом житейском смысле была незаурядной личностью, ведь к ней влеклись сердца не для одних только антропософских бесед, ее любили как человека, ее окружало восхищение. А вот теперь и приходится горько сожалеть о своей беспомощности перед Вашими вопросами. Конечно, постараюсь помочь, чем могу. ‹…›
Род Алексеевых – казачий, с Дона. Там Кл<авдия> Н<иколаевна> и родилась и училась в гимназии, в каком точно городе – не знаю. Отец умер рано, детей (их было трое – Клавдия, Елена, Владимир) воспитывала мать[1641] – в атмосфере материнской преданной любви, но вместе с тем в строгих и требовательных моральных правилах. Она была глубоко православно верующей и находилась под влиянием какого-то очень тогда известного и чтимого Старца (как его имя – не знаю). Этот Старец, между прочим, предсказывал в предстоящем 20-м столетии ужасные катастрофы и бедствия и потому советовал ей всячески и настойчиво отговаривать дочерей от замужества. Тем не менее обе дочери рано вышли замуж, что не помешало матери очень сердечно относиться к своим зятьям, особенно к Петру Николаевичу,[1642] которого она очень любила, и его трагедия была горем и для нее.
Когда и при каких обстоятельствах семья Алексеевых, а затем Васильевы переехали в Москву – не знаю. Жили они в Москве на Плющихе, в большом доме на углу Неопалимовского переулка в подвальном этаже, где в окнах мелькали ноги прохожих. В некоторые периоды живал там и Бор<ис> Ник<олаевич>, в частности – последние месяцы перед уходом в клинику – умирать.
Симпатии Кл. Н. к Петербургу – понятны. Это – город ее молодых лет и важных жизненных встреч. Там она училась на Выс<ших> Женских Курсах, там же познакомилась с семьей Васильевых. Один из них – Петр Николаевич – скоро стал ее мужем, а жена его брата Всеволода – Елизавета Ивановна Васильева (волошинская «Черубина де Габриак») – познакомила ее с антропософами – Бор<исом> Алексеевичем Леманом, его двоюродной сестрой Ольгой Николаевной Анненковой и Трифоном Георгиевичем Трапезниковым, который там основал первую в России антропософскую группу.[1643] (Антропософское Общество было юридически оформлено лишь позднее, в 1913 году в Москве под председательством Б. П. Григорова).
Я не знаю, где находится рукопись Кл. Н. «О том, как образ Р. Штейнера отразился в одной душе».[1644] Вероятно, у Ел<ены> Вас<ильевны> Нев<ейновой>. У меня есть полная ее копия, списанная мною с машинописного экземпляра. Знаете ли Вы содержание этой работы или только по названию? Мне кажется, она была бы для Вас очень ценной, в ней открывается и душевная жизнь Кл. Н. в пору ее сближения с Антропософией, и есть кое-какие биографические данные. Если она Вам осталась неизвестной, я Вам ее пришлю – с просьбой в дальнейшем вернуть.
Вы спрашиваете об эвритмии. Да, Клавдия Николаевна очень много с самого начала работала в эвритмии. Ее заграничные поездки в значительной мере с этим связаны. Но главная ее работа проходила, конечно, в России и для России. Ее наследие не пропало. Ею создана книга, без которой вообще нельзя себе представить начало русской эвритмии. Сейчас не пришло еще время для выхода эвритмии в каких-либо, даже самых скромных, общественных формах. Но дело ее не умерло, оно живет, как живет зерно под снегом, ожидая весны.
Заболела Клавдия Николаевна в 1957 – 58 гг. Сначала приступы, а затем сплошные, острейшие мучительнейшие боли почти до потери сознания. О к<аком>-л<ибо> падении как причине болезни я не знаю. ‹…› Причину находили в каком-то процессе в позвоночнике, но точный диагноз так и не был поставлен, а попытки лечения не давали успеха, а иногда даже ухудшали состояние. Но потом процесс стал как-то сам собой затухать. Острые боли прекратились, но постоянная боль осталась и началось разрастание костей грудной клетки, вырастали два горба – спереди и сзади, и это сопровождалось потерей подвижности мускулов спины и ног. Это было постоянное мучительство. Она сказала как-то: «Я живу так, как будто на меня надели табуретку и завинтили». В это время она вернулась к интенсивной умственной работе. Могла разговаривать с людьми, читала и много переводила, редактировала. В частности, стихотворный перевод первой «драмы-мистерии» Штейнера «У врат посвящения» сделан М. В. Шмерлингом[1645] под ее руководством. Это нигде не зафиксировано, но это так. В это же время – 60-ые годы – и Вы с ней встречались, и Хмельницкая при подготовке издания сборника стихов А. Белого. Постепенно силы слабели. Последние год-два она просто тихо уходила. Умирала она в полном сознании. Решительно отказалась пригласить священника для причастия. Это было большим горем для Лели,[1646] но здесь она уступить не могла. Умерла она тихо, без агонии. При последних ее минутах с ней были две глубоко верующие души – Леля и жившая в то время в той же квартире ее подруга. Они молились. И право же – это были лучшие проводы в иной мир, чем если бы здесь присутствовал священник со своими заученными молитвами.
Ее отпевали в церкви Ильи Обыденного в Обыденском переулке на Остоженке. Потом была кремация. А позднее, уже летом, урна была похоронена в могиле Бор<иса> Ник<олаевича > в Новодевичьем кладбище. Это я знаю точно, сама присутствовала. ‹…›
За этим обменом письмами последовали другие послания, в которых Д. Е. Максимов и М. Н. Жемчужникова касались иных проблем, связанных с Андреем Белым и осмыслением его творческого наследия; фрагменты из них опубликованы.[1647] Реализовать же свое намерение подробно рассказать о Клавдии Николаевне ученому так и не довелось: мемуарный очерк о Белом был завершен и оформлен без первоначально задуманной второй части, посвященной вдове писателя; среди бумаг, оставшихся после кончины Д. Е. Максимова, материалов, свидетельствующих о том, что работа над мемуарно-биографическим литературным портретом К. Н. Бугаевой перешла в стадию текстуального оформления, не обнаружено. Тем выше значимость документальных источников, которые легли в основу предпринятого обзора.
Публикации
Письма Д. С. Мережковского к С. Я. Надсону
В свое время «лучший и талантливейший поэт советской эпохи» послал Надсона «на Ща»:
Между нами – вот беда – позатесался Нáдсон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!Кажется, участь позатесавшегося Надсона самый прозаседавшийся в отечественных классиках определил уверенно и метко: в историко-литературных анналах, рубрифицируемых в согласии с алфавитом, он действительно оказался там, где ему определил быть автор «Юбилейного». Он же и ударение на первом слоге поставил – в знак особо изощренного издевательства: вдруг читательницы, раскупившие с 1885 по 1906 г. 22 издания стихотворений Надсона и сподобившиеся дожить до чтения «Юбилейного», споткнутся на безупречно смастеренной лестнице. Маяковский лишь довел до последнего предела ту переоценку Надсона, которую начали символисты и которая, конечно, не могла не произойти: новая изощренная поэтика с надсоновскими мотивами, звучавшими намеренно безыскусно:
Это не песни – это намеки: Песни невмочь мне сложить; Некогда мне эти беглые строки В радугу красок рядить,[1648] –была несовместима; темы и настроения надсоновской поэзии также воспринимались на рубеже веков уже как безнадежная архаика – неотторжимая примета давно минувших восьмидесятых годов, и только. И тем не менее образ этого десятилетия в сознании последующих поколений неизбежно будет ассоциироваться с образом Надсона и его незамысловатыми стихами. Безукоризненно метко сказал об этом Мандельштам в «Шуме времени»: «А не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу девяностых годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели, от чтения ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница являет черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой? Вглядываясь в лицо юноши Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? ‹…› Не смейтесь над надсоновщиной – это загадка русской культуры и в сущности непонятый ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. ‹…› Сколько раз, уже зная, что Надсон плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как слышало поколенье, отбросив поэтическое высокомерие настоящего и обиду за невежество этого юноши в прошлом».[1649]
Мандельштамом Надсон воспринимался уже главным образом как знак эпохи; ранние же символисты, первыми ушедшие от Надсона бесконечно далеко, в большинстве своем начинали с усердного прохождения его школы: даже Брюсов признавал Надсона своим первым учителем в поэзии.[1650] Таким же учителем Надсон был в свое время и для Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941): в поэзии – наставником и образцом для подражания, в жизни – задушевным другом, «братом по страданию», как назвал сам Надсон Мережковского в одном из писем к Плещееву.
В книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) Мережковский писал: «Сознание болезненного бессилия, разочарование в утилитарных идеалах, страх перед тайною смерти, тоска безверия и жажда веры – все эти современные мотивы Надсона произвели быстрое и глубокое впечатление даже не столько на молодое, как на отроческое поколение 80-х годов».[1651] Эту общую характеристику можно воспринимать и как автобиографическое признание: еще гимназистом Мережковский сблизился с Надсоном и «полюбил его, как брата»,[1652] через посредничество Надсона познакомился с А. Н. Плещеевым, немало содействовавшим вхождению в литературу обоих молодых поэтов, и напечатал в «Отечественных Записках» в 1883–1884 гг. несколько своих стихотворений. Прозаик И. Щеглов (Леонтьев), постоянно общавшийся в ту пору с Надсоном, свидетельствует в позднейшей мемуарной заметке: «Вспоминается сейчас один литературный вечер у покойного поэта А. Н. Плещеева, как известно, окружившего чисто отеческой любовью нежный поэтический дар Надсона. Сидим мы с Надсоном на диване и о чем-то весело болтаем; а неподалеку от нас оживленно беседуют старик Плещеев, Всеволод Гаршин и Дмитрий Мережковский, тот самый Мережковский, который теперь так много шумит дома и за границей и который тогда только вылупился на свет Божий, благодаря настойчивому вмешательству Надсона. Теперь, спустя двадцать лет, не грех вспомнить, что первый дебют Мережковского в “Отечественных Записках”, редактируемых М. Е. Щедриным, состоялся исключительно благодаря С. Я. Надсону, принимавшему близко к сердцу малейшие проблески чужого дарования. А в то время попасть в “Отечественные Записки” не так-то легко было, ибо “Михаил Евграфович” был беспощаден в своей зоркой литературной критике».[1653]
Надсон был старше Мережковского всего на два с половиной года: возрастная разница в юношестве самая удобная для того, чтобы младший поэт воспринимал старшего одновременно и как «мэтра», и как близкого товарища. Именно такой и была тональность взаимоотношений между ними. Надсон, со своей стороны, ценил Мережковского как единомышленника и ближайшего сподвижника в литературе: в одном из журнальных обозрений (1886) отметил «выдающееся эпическое дарование» Мережковского,[1654] посвятил ему стихотворение «Муза» (1883).[1655] Стихи Мережковского, относящиеся ко времени его общения с Надсоном, – это преобладающим образом вариации на надсоновские темы; в них – надсоновский культ страдания, надсоновские мотивы уныния и безысходности, надсоновская небогатая и стандартная поэтическая фразеология:
Герой, певец, отрадны ваши слезы, И ваша скорбь завидна, мудрецы: Нетленный лавр, невянущие розы Вам обовьют терновые венцы. Светло горит звезда высокой цели; Вам есть за что бороться и страдать, И обо всем, что втайне вы терпели, Должны века векам пересказать: То выразят пленительные звуки Певучих струн, иль славные дела. Все назовут святыми ваши муки, И загремит им вечная хвала. Но там, в толпе страдальцы есть иные, Там скорби есть, терзающие грудь, Безмолвные, как плиты гробовые, Что не дают подняться и вздохнуть, и т. д.[1656]В надсоновской тональности выдержано и стихотворение Мережковского «Смерть Надсона», прочитанное на литературном вечере памяти поэта 27 февраля 1887 г.[1657]
Письма Мережковского к Надсону – в тех случаях, когда они не касаются сугубо деловых вопросов – навеяны теми же темами и настроениями, которые пронизывают поэтическое творчество обоих корреспондентов. Трудно сказать, какова мера подлинности в тех признаниях, которыми наполнены письма Мережковского, и нет ли за словами выпускника-гимназиста, а затем студента Петербургского университета неосознанного, может быть, стремления свои жизненные восприятия и переживания переосмыслять «по-надсоновски». Возможно, что неизбывно минорное мироощущение Надсона, тяготившегося вынужденной военной службой в Кронштадте, постоянно страдавшего от душевных и телесных недугов, побуждало и Мережковского строить свои послания в соответствующем регистре. Однако уже в этих ранних письмах (а более ранних писем Мережковского, видимо, не сохранилось) нетрудно заметить обрисовывающиеся контуры того крупного писателя и мыслителя, каким он сформируется десятилетием спустя, – в восторгах перед красотой южной природы (предвосхищающих будущие откровения Мережковского о «языческой» полноте земного бытия), в преклонении перед творчеством Эдгара По – признанного предтечи символизма, в ощущении «благодатного присутствия Бога», которое с годами станет у Мережковского сильнейшим из всех ощущений. У Мережковского впереди были еще десятилетия, в течение которых ему удалось полностью реализовать творческий потенциал своей личности; Надсону же судьба подарила всего 24 года жизни – и как знать, может быть, оставшегося навечно молодым юношу-поэта сменил бы зрелый мастер с иным литературным обликом, в соотношении с которым известные всем «восьмидесятнические» стихотворения воспринимались бы лишь как juvenilia. И у Надсона было немало проблесков того, что никак не вмещается в «надсоновщину», что говорило о возможности преодоления той однотонности, которая отличает большинство его произведений; достаточно привести хотя бы один из его стихотворных набросков, оставшихся в рукописи и впервые опубликованных лишь в наши дни:
Дураки, дураки, дураки без числа, Всех родов, величин и сортов, Точно всех их судьба на заказ создала, Взяв казенный подряд дураков. Если б был бы я царь, я б построил им дом, И открыл в нем дурацкий музей, Разместивши их всех по чинам за стеклом В назиданье державе моей.[1658]Переписка Мережковского и Надсона сохранилась не целиком. Известны два письма Надсона к Мережковскому (1883), впервые опубликованные последним в журнале «Новый Путь» (1903. № 4) и затем воспроизведенные по этой публикации в Полном собрании сочинений Надсона (1917) под редакцией М. В. Ватсон. Отвечая на запрос М. В. Ватсон о надсоновских письмах, Мережковский сообщал ей 17 апреля 1887 г.: «Искал, рылся в бумагах, но ничего кроме незначительных записок не нашел. Нашел одно большое письмо, – но его я целиком не дам по личным соображениям. <… > моя переписка с Сем<еном> Яков<левичем> была очень ограничена: мы оба питали отвращение к этого рода обмену мыслей»[1659]. В архиве М. В. Ватсон в Пушкинском Доме сохранились 11 писем Мережковского к Надсону (ИРЛИ. Ф. 402. Оп. 4. Ед. хр. 63). В настоящую публикацию включены 8 из них, не печатаются небольшая недатированная записка и два недатированных письма (1884 г.), посвященные деловым хлопотам.
1
20 марта 1883 г. С. Петербург
Уже давно, Семен Яковлевич, ожидаю Вашего посещения или письма; давно собирался я сам писать Вам, но все откладывал, будучи весьма занят и надеясь видеть Вас у себя. Между тем ни Вас, ни письма от Вас нет, как нет. Вы знаете, Семен Яковлевич, как бесцветна и уныла моя жизнь, Вы знаете, как я дорожу возможностью хотя на минуту отвести душу в дружественной, искренней беседе. Ваше посещение дало бы мне именно такую светлую, отрадную минуту. Что Вы поделываете, как себя чувствуете, здоровы ли, что написали, отчего не подадите мне весточку о себе?
Что касается меня, то нужно сказать, что я в последнее время грущу, как никогда. У меня бывают какие-то припадки малодушного отчаяния. Я спрашиваю себя иногда, суждено ли мне когда-нибудь распутать или разорвать всю эту паутину мелких, постыдных, бесчисленных и бессмысленных терзаний.
Положительно я делаюсь пессимистом. Вы в этом убедитесь уже по одному факту, который привожу здесь, чтобы самого себя наказать. Дело в том, что мне иногда против воли кажется, что Вы позабудете то, что было сказано на последней нашей беседе. Может быть, эта мысль зла и неверна. Я бы даже очень желал, чтобы она такою оказалась. Но во всяком случае я не мог и не должен был о ней молчать, оставаясь до конца верным принципу откровенности и прямоты, при которых только и возможны, как мне кажется, все честные и прочные связи духа. Если мои опасенья ошибочны, простите мне и забудьте их: они были вызваны таким тяжелым настроением, что решительно не отвечаю за их строгую объективность и беспристрастие. Чтобы с этим покончить, признаюсь Вам, чем я обосновывал свою мысль. Вы самостоятельны – так думалось мне, – Вам открыты все поприща борьбы с пороком, Вы не связаны, как я, по рукам и ногам, Вы можете каждую минуту встретить женщину, которую полюбите глубокой, целительной любовью, – и тогда Вы спасены. А спасенье и забвенье идут рука об руку, Вы будете счастливы, перед Вами откроется целый мир, новый таинственный мир. Не говорите упрямо «нет»; такие неожиданные открытия – очень возможная вещь в 20 лет. И тогда-то – казалось мне – должны Вы забыть наивного мальчика, протянувшего Вам слабую руку, Вы вправе даже его забыть, как докучный и печальный призрак ненавистного прошлого.
Надеюсь и верю, что этого не будет.
Вы, может быть, меня спросите, почему я дошел до такого пессимизма. Увы! причин слишком много. Главную из них Вы знаете. Она теперь сделалась еще мучительнее, потому что я убедился, что по крайней мере в настоящую минуту мне невозможно бороться с пороком. Не то, чтобы сил не хватало; но они скованы самым по-видимому ничтожным, на самом деле непреодолимым препятствием. Когда я спросил совета у товарища, тот обещал все устроить. Но ничего не устроил, потому что нельзя… Если увидимся, объясню Вам все это подробнее. В письме все равно не скажешь и десятой части того, что хотелось бы сказать. Если можете вырваться на несколько часов, – приезжайте. Мой забытый, темный уголок примет Вас как дорогого, желанного гостя. Если не можете приехать, пишите по крайней мере, а если и писать лень, то изредка вспоминайте
об искренне любящем Вас
Д. Мережковском.
P.S. Несмотря на всю гнусность своего существования, я не перестаю слагать вирши. – Только что был у Плещеева. Минуту у него про´был, сказал всего два слова. А ушел как будто утешенный. Чем именно, сам не знаю. Может быть, той атмосферой искреннего радушия, которая его окружает. Какое у него теплое и хорошее пожатие руки![1660]
2
<Петербург. Апрель? 1883 г.>
Мне бы следовало уже давно отвечать Вам, Семен Яковлевич; но я не мог: когда получил Ваше письмо – заболел, так что к Плещееву идти с Вашими стихами не мог, а мне хотелось сказать Вам о них его мнение.[1661] Выздоровев, я был завален гимназической работой и решительно не мог урвать минуты, чтобы с Вами побеседовать. Так что Вы, вероятно, извините мне, что я не тотчас же отвечал. Прежде всего должен я Вас горячо поблагодарить за то утешение, которое доставило мне Ваше дорогое, милое письмо.[1662] Да, я теперь в Вас уверовал – беззаветно. Что бы со мною и с Вами ни произошло, я буду Вас всегда и всюду любить, хотя бы за последние строчки Вашего письма. Но, если Ваши личные отношения ко мне, выраженные в нем, меня так глубоко обрадовали, то так же глубоко меня огорчила одна мысль, высказанная Вами. Вы говорите, что не хватает у Вас энергии для борьбы с недугом, не хватает ее (я так понял) потому, что в глубине души Вашей таится сознание, что именно эти-то страдания этого недуга и возвышают Вас над толпой, что с прекращением их должна ослабеть таинственная сила, выдвинувшая Вас, что отсутствие страданий есть признак пошлости. Неужели эта мысль отнимает у Вас энергию? Если это так – я всеми силами души, всем существом отрицаю это чувство, эту мысль. Буду говорить откровенно: у меня самого часто ослабевает, почти потухает энергия, но никак не вследствие мысли, а вследствие страсти, бессмысленной и всемогущей страсти, которая одним дуновением своего пламенного урагана может разрушить самое сложное и хитрое здание логических умозаключений. Но только умолкнет страсть, ясный разум торжествует, сияет и указывает путь.[1663] Я ненавижу тогда свой недуг, потому что полюбить его, хотя бы за высокий трагизм, вносимый им в мою жизнь, – полюбить его значит отказаться от исцеления, от здоровой деятельности, от надежды принести пользу. Вы говорите, что Ваши страданья кажутся Вам святыми; они действительно святы, как веяния великие, незаслуженные и невознаграждаемые страдания. Но да будет проклят их источник, это Вы сами освятили свои страдания тем взглядом, которым Вы на них смотрите. Но вовсе не эти именно страдания возвысили Вас над толпою: как хотите, – они все же себялюбивы; я хочу этим сказать, что Вы все же страдаете только за себя и про себя. Таких страданий очень, очень много. Кто не страдает за себя: и всем любо говорить о них, а кто может, воспевает их; эти именно страдания единственно за себя и равняют с толпою (хотя сами по себе, для отдельной личности они все же благотворны), мне кажется, возвысить могут меня страдания, – страдания за других, к ним-то и нужно стремиться со всей энергией, как к счастию, для них-то и нужно в душе приготовить достойное святилище. Я для того буду бороться с своим недугом, чтобы освободить скованные им силы, которые нужно всецело употребить на истинно возвышающие страданья за других. Ведь Вы страдать никогда не перестанете, пока будете жить и действовать, но вопрос в том, как и для чего страдать. Мне кажется, лучше страдать за идею, за человечество, за добро, чем за случайные, минутные условия <?>, породившие роковой недуг. Вот ответ, возникающий у меня на Ваш вопрос: зачем? Впрочем, думается мне, – Вы также разрешили уже этот вопрос: не тот же ли ответ звучит в Ваших лучших песнях. И я верю, эти песни раздадутся еще громче, еще отраднее, когда Вы свергнете цепи недуга, чтобы принять, если нужно, стократ почетнейшие цепи мученика. Тогда вы будете новым поэтом. Мы все его ждем. И я знаю, Вы не обманете нашей надежды. С величайшим напряжением буду я следить за Вашим выздоровлением: потому что Вы предрешите мою собственную судьбу. Если Вы падете в борьбе, я отчаюсь за себя, если Вы победите, я воспряну духом, и одного Вашего призыва будет довольно, чтобы меня спасти. Я предчувствую, что мы оба будем спасены, если не разлучимся. Впрочем, если я даже погибну, я не перестану ни на минуту верить в ис<т>инность <?> того ответа, который я Вам только что дал. Мне бы хотелось, умирая, сказать: все-таки мир прекрасен, даже в этой глубочайшей бездне сомненья, позора и мук я чувствую благодатное присутствие Бога. Да, мир прекрасен: чтобы убедиться, стоит только посмотреть на вечные, яркие звезды там в небесах, или на столь же яркие буквы сияющего слова, начертанного в глубине моего сердца, таинственного слова: добро.[1664] Да, мир – прекрасен, и, конечно, одна из лучших вещей в нем – дружба, хотя откровенность, вызванная ею, и заставила меня в этом беспорядочном и необдуманном письме наговорить столько странного и туманного. Половина его, конечно, совершенно неудобопонятна, я Вам ее подробно объясню при свидании, которого ожидаю с величайшим нетерпением.
Искренне любящий Вас друг
Д. Мережковский.P. S. Это письмо пролежало у меня на столе с неделю, прежде чем я решился Вам его послать; вот почему: когда я его прочел – оно мне показалось слишком растрепанным; мне не удалось выразить моей мысли вполне ясно; а она мне очень дорога. Я хотел переделать письмо: но решительно не был в состоянии; в эти дни решается моя судьба – кончу или не кончу гимназического курса,[1665] экзаменов боюсь, как смерти, – мыслей сосредоточить нет никакой возможности, а вместе с тем чувствую необходимость хотя минуту с Вами побеседовать. Будь что будет, у Вас настолько чуткое сердце, что Вы – может быть – сквозь всю мою нескладную болтовню заметите и поймете мысль и чувство. И таки посылаю Вам письмо в прежнем виде. Не умею писем писать – вот мое горе!..
Если будете писать, напишите также, когда приедете, если только знаете. Плещеев мне о Ваших стихах не сказал ничего определенного и замечательного; мне они, как все Ваши произведения, очень нравятся: тепло, задушевно и красиво. Особенно второе из присланных Вами стихотворений мне симпатично. Со мною самим так часто случалось то же самое. Во втором – последние два стиха – прелесть. Печатать, как мне кажется, очень стоит. Читал у Плещеева Ваши «Грезы».[1666] О них хочется так много сказать, что не смею начинать, а то никогда не кончу и без того чудовищного письма. Впрочем, скажу одно: «Грезы» нравятся мне, кажется, больше всех Ваших прежних произведений. В них Вы сделали несомненный, великий шаг вперед…[1667] Когда увидимся, поговорим о них.
Сегодня у нас в гимназии кончились классы. Буду готовиться к экзаменам по 8 часов в день. Вы, Семен Яковлевич, и вообразить себе не можете, какая египетская работа предстоит мне… Приезжайте, жду Вас, –
Как узник ждет порой в темнице за решеткой Приветного луча весны – богини кроткой. Д. М.3
11 июля[1668] <1883 г.>. Ялта
Представьте себе, милый друг Семен Яковлевич, – здесь на южном берегу Крыма, в виду невыразимо-прекрасного моря, величественных гор, восхитительного неба, вечно-зеленых кипарисов и лавров, здесь среди этой роскошной природы я стосковался… по чему бы Вы думали… да не более, не менее как по Вашей крохотной комнатке в пыльном, грязном, но милом Петербурге,[1669] по нашим увлекательным беседам, по этим белым ночам, которые мы так мило проводили вместе с Вами; бывают минуты, когда я охотно отдал бы это море, это небо, эти горы за крепкое пожатие Вашей дружеской руки. Может быть, все это немного сентиментально – в таком случае великодушно извините меня за эту невольную сентиментальность; ведь нужно же хоть чем-нибудь выразить мое теперешнее настроение. Увы! я, кажется, начинаю к нему привыкать, как это ни постыдно. Вся моя жизнь – сплошной, бесконечный досуг, настоящего дела – никакого, серьезная цель только одна – убить время, надежда – весьма слабая, что когда-нибудь все это кончится. Хуже всего то, что я сознаю, что сам решительно во всем виноват; какую чудовищную глупость сделал я, не воспользовавшись приглашением Алексея Николаевича! Жил бы я теперь в Белоострове, гулял бы с Плещеевым по полям и лесам,[1670] видался бы с моим милым подпоручиком-трубадуром.[1671] А теперь… однако довольно плакаться. Прошлого не воротишь.
Опишу Вам по возможности точно внешние условия моей жизни в Ялте: удовольствия: лежание на боку в созерцании небес, барахтание в соленой воде, поедание шербета и мороженого, гуляние при луне; невзгоды: жара, москиты, комары, скука, скука и скука. Искусства: театр ниже всякой критики, оркестр – еще хуже театра. Просвещение: библиотека, исключительно состоящая из Поль де-Кока и Монтепена.[1672] Население: больные с четырех концов света, черномазые татаре, турки, жиды и, наконец, большое изобилие так называемых «туристов», попросту прощелыг. Слабый и прекрасный пол: 1) туземный элемент: 90 % – гречанок (писаные дуры, по Вашему выражению), 9 % – жидовок, 1 % – русских. Хорошеньких очень мало, интересных вовсе нет, впрочем с полдюжиной экземпляров из этой коллекции я имел несчастие познакомиться, вынес – одно заключение, что местная болезнь – атрофия мозга и хронический столбняк. 2) Приезжие – для меня пока terra incognita, впрочем, судя по виду, они не подают надежды на что-нибудь более отрадное.
Осталось последнее и самое главное, для чего я и приехал, – природа; но об ней – благоговейное молчание; Вы его, конечно, поймете лучше всех описаний. Впрочем, относительно природы сделаю маленькую заметку. Овидий, кажется в своих «Amores», говорит, что в объятиях любимой женщины, в минуты высшего, почти нечеловеческого, почти нестерпимого наслаждения, в полузабытьи, обращался он к богам с одной безумно-страстною мольбою: «смерти, смерти!»[1673] Я испытываю что-то весьма близкое к этому сумасшедшему порыву, упиваясь южною природою; душа изнемогает, удрученная исполинским бременем какого-то необъятного восторга; буря наслаждения потрясает существо мое; не помня себя, шепчу я в эти мгновения в объятиях моей единственной, вечной любовницы природы: «умереть, умереть!» К несчастию, мое желание не исполняется, и я продолжаю влачить постыдное существование. Быстро, бесследно мелькает минута восторга, я снова чувствую себя ничтожным, жалким, одиноким, я сознаю опять, что все это безумный бред, что до меня божественно-самодовлеющей природе нет никакого дела; она беспечно ликует и смеется, она меня не услышит, не поймет; и мне тогда становится еще грустнее, чем на далеком, милом Севере, где природа мне больше сочувствовала, где она носила отпечаток тех же страданий и той же тоски, которые живут и в моей груди… Однако это уже положительно сентиментально. Что же делать? я изведал теперь на опыте, как одиночество, в особенности мечтательное, размягчает, ослабляет сердце, лишает его мужественного закала. Да, я теперь только живу и дышу мечтами. Впрочем, в тумане этих призрачных грез начинают все более и более обрисовываться, как силуэты двух незыблемых твердынь (надеюсь – вовсе не воздушного замка), два определенных, вполне сложившихся решения относительно моего будущего. Во-первых: во что бы то ни стало, ценой каких угодно жертв я должен освободиться от моего физического недуга и притом немедленно по приезде в Петербург. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня хватит силы это исполнить; а не то в моих собственных глазах «весь разум мой, вся воля и душа» – не будут стоить ни гроша! Я бы мог, пожалуй, и здесь со всем этим покончить. Но для этого мне необходим Ваш совет и напутствие, только с Вашей помощью и Вашим утешением могу я произвести эту мучительную операцию над совестью. Второе решение: всю свою жизнь (если только буду жив), все свои силы (если таковые окажутся) посвящу я литературе (хотел бы, но не смею сказать «поэзии»), чем я буду в этой области – поэтом ли, публицистом, издателем, книготорговцем, переводчиком или просто наборщиком, – это предоставляю решить моей счастливой или несчастливой звезде. – В настоящее время пишу не особенно много. Если бы при такой жизни, при такой скудости впечатлений я писал очень много, это показывало бы, что я – или полная бездарность, или невозможный, сверхъестественный гений. Зато не прекращается внутренняя работа над созданием образов и поэтических мотивов. Останется ли она бесплодною для будущего – право, не знаю. – Извините, Семен Яковлевич, что я так много говорил о себе, – предлагаю средство отомстить мне за мой эгоизм: пишите в свою очередь в Вашем письме исключительно о себе, и мы будем квиты. Жду от Вас ответа между прочим на следующие вопросы:
1) не решилось ли, когда будут напечатаны ваши «Грезы»,[1674]
2) были ли Вы у доктора и каков результат (это мне особенно интересно и важно знать),
3) что поделывает Алексей Николаевич (кстати, привет ему сердечный от меня),[1675]
4) не решилось ли, где Вы проведете зиму,[1676]
5) были ли Вы на благословенных пажитях ораниенбаумских окрестностей[1677] и в каком положении находится чувство, Вами питаемое к некоторым из их обитательниц.[1678]
Ваш друг Д. Мережковский.P. S. Извините меня, милый друг, за огромное количество поправок в моем письме, за неразборчивость руки; оно по внешнему виду так неизящно, так способно оскорбить эстетический вкус, что долго я не решался отправить Вам его, тем более, что и речь безалаберна и глупостей много в нем наговорено.[1679] Я не мастер письма писать, да к тому же 30-градусная жара страшно притупляет мозговую деятельность.
Д. М.Мой адрес: город Ялта Таврической Губернии, дача Малиновской, кв. 22.
4
<Петербург.> 17 декабря <18>83 г
Что это от Вас, дорогой милый друг, Семен Яковлевич, так давно никакой весточки не приходит. Стосковались мы по Вас – и Алексей Николаевич[1680] и я; даже Горбунов[1681] ко мне на днях заходил и спрашивал, что Вы поделываете, когда Вы приедете. Я должен был ему отвечать, что знаю не больше его самого. Черкните мне хоть две строчки. Здоровы ли, пишете ли? Я в последнее время что-то хворал, и тоска на меня нападала смертельная. – Кстати: и Коррнбуты[1682] о Вас часто спрашивают; по-видимому, Вы на них произвели сильное впечатление. Последнее Ваше стихотворение (про цветы)[1683] я многим рассказывал, или, скорее, читал наизусть, насколько запомнил, и каждый раз все более убеждался, что «скворешник»[1684] его не стоит. Сам кое-что написал. Плещееву понравилось и настолько, что он обещал его куда-то сунуть.[1685] Я его Вам не посылаю, потому что страшно: вдруг разругаете, лучше уж я его Вам прочту, по крайней мере могу защищаться и спорить до последней капли здравого смысла. Голубчик, приезжайте, если даже существует намек на возможность. Только не сердитесь на то, что я Вас так тормошу: посудите сами, сколько времени мы не виделись. Если что написали, то будьте незлобивы, не пожелайте мстить и сообщите мне. – О «делах» Плещеев, как мне сам сказал, Вам написал, но ответа еще не получал (я у него был сегодня, в субботу, в 7 часов вечера). – Я послал перевод из Сюлли-Прюдома Вейнбергу.[1686] – Кроме того, по знакомству несколько моих стихотворений отправлены в Москву, в Русск<ую> Мысль, Гольцеву,[1687] который сам изъявил желание через знакомых получить моих стихов. Только что ведь он не редактор,[1688] и, пожалуй, из всего этого никакого толку не выйдет. Плещееву об этом я ничего не говорил, потому что успех – сомнителен, а он, чего доброго, будет еще недоволен. Как бы хорошо было, если бы это письмо пришло после Вашего отъезда в Петербург и не застало Вас в Кронштадте. Читаю несметное множество книг, но почти нигде не бываю, потому что бывать негде: разве в театр загляну когда. – Горбунов сообщил мне следующие новости: на вечере у Минского[1689] было скучно, Альбов издает книжку рассказов,[1690] Яхонтов издает стихотворения (в Декабр<е> От<ечественных> Зап<исок> – будут его стихи) Тютчева новое издание,[1691] впрочем это не интересно. Если бы не было довольно пошло извиняться в конце письма за дурной слог и помарки, то я бы попросил у Вас прощения за безалаберность моего послания. Привет – Абрамову.[1692] – До скорого, до желанного, до радостного свидания!
Горячо любящий Вас друг
Д. Мережковский.
5
<Петербург. Около 21 января 1884 г.>
Пишу Вам, голубчик Семен Яковлевич, по обещанию, хотя и запоздал немного. Дело в том, что я все ожидал решительного результата; но он медлит определиться, и так передам Вам, что пока знаю.
С Вашим письмом приехал я к Плещееву; он мне прямо сказал, что Скворцов,[1693] вероятно, не отдаст Ваших стихов, что нужно выдумать более действительный предлог: он поручил мне сказать, что Вы желаете видеть «Цветы» в первоначальном виде (т. е. с «бедняком») и думаете, что в Отеч<ественных> Зап<исках> его пропустят в этом виде.[1694] Я в точности исполнил поручение Алексея Николаевича. Но Скворцов (к котор<ом>у я должен был заезжать 4 раза, чтобы застать) ответил мне, что он отдает сначала цензору Ваше стихотворение, не пропустит ли тот его в первоначальном виде, а если – нет, то передает его Плещееву. Сделать он это, конечно, в полном праве, я ему ничего не мог возразить. Плещеев страшно досадовал, когда узнал об этом, и, встретившись в театре со Скворцовым, лично поговорил с ним о стихотворении; но и эти переговоры не имели, кажется, успеха, как Алексей Николаевич мне потом передавал. Второе Ваше стихотворение («я жил, как все живут»)[1695] понравилось и Плещееву и Скворцову, от которого Вы можете потребовать за него гонорар, если только хотите его оставить у него. Плещеева я видел недавно, и он мне сказал, что обо всем Вам напишет, так как Скворцов еще раз окончательно хотел с ним поговорить. Не сердитесь на меня, милый друг, Семен Яковлевич, если все это покажется запутанным и совсем безрезультатным. В этом виноваты не мое нежелание или небрежность. Вы знаете, как бы я был рад, если бы «Цветы» могли появиться в Отеч<ественных> Зап<исках>;[1696] яих считаю одним из Ваших лучших стихотворений, и было бы бесконечно досадно, если бы оно осталось незамеченным и кануло бы в этот треклятый «Скворешник». Но что же было делать? Следовало же попытаться. Да ведь наконец дело еще не решено окончательно. Может быть, все это кончится общим благополучием. Во всяком случае, если что-нибудь еще узнаю, сейчас же Вас извещу; впрочем, и Плещеев Вам, должно быть, уж написал.[1697] Ваше письмо Мамонтову[1698] отнесу сегодня, потому что мне, кажется, не судьба с ним встретиться в Университете. Червинского[1699] также что-то не видно. – Мои стихи в январской книжке производят лучшее впечатление, чем первые две вещи в Ноябре.[1700] Напишите мне, что Вы не очень сердитесь на меня за мою медвежью услугу.
Любящий Вас Д. Мережковский.6
<Петербург.> 27 января 1884 г
Милый друг, Семен Яковлевич,
я только что узнал от Алексея Николаевича, что Вы ему еще не отвечали на письмо, которое он Вам отправил. Что бы это значило? И его и меня это беспокоит. Да и мне Вы ничего не написали.
Насчет «Цветов» – я узнал от Плещеева, что Скворцов их не отдает.[1701] Февральский номер Отеч<ественных> Зап<исок> пойдет, кажется, без стихов.[1702] Впрочем, я все надеюсь, что Вы еще что-нибудь напишете.
В последние дни я никуда не выхожу. Пишу, но больше все задумываю. Между прочим, мне явился прекрасный сюжет, очень колоритный и – чем я дорожу – совершенно объективный; а главное – можно в него влить массу чувства и живую, свежую мысль. Эта тема поглотила меня всецело. Она мне явилась только сегодня, а я уже в нее просто влюблен. Рассказывал ее Плещееву – тому она тоже весьма понравилась. Впрочем, боюсь слишком поспешно начинать, пусть лучше созреет. Хорошо бы, если что-нибудь вышло; а то я почти ничего еще путного не написал. Вообще я в последнее время так глубоко в себе сомневался, что не раз искренне жалел время, труд, силы, потраченные на мои литературные попытки, которые доставляли мне столько терзаний, может быть, совсем ненужных, бесцельных… Рассказал бы Вам охотно мой сюжет, да как его расскажешь, особенно в письме, когда и живой речью едва удается передать тот мотив, еще для меня самого неясный, который служит основой для стихотворения.
Я начал знакомиться с одним весьма оригинальным и замечательным американским писателем – Эдгар По. Аристократ, пьяница, поэт, философ – все это совмещалось в этой поразительной личности. Его произведения – это какой-то совсем новый, неведомый мир, точно с другой планеты, дышащий между тем такою правдой, таким совершенным реализмом в мельчайших подробностях, что при чтении начинаешь верить этому бреду сумасшедшего, как какой-нибудь неопровержимой математической формуле.[1703] Приближение экзаменов[1704] меня серьезно устрашает, но заниматься не заставляет. Видел новую драму Островского; она не произвела на меня глубокого впечатления, потому что – мелодраматична; а между тем вся театральная зала плакала.[1705]
Плещеев мне дал на прочтение стихи Фофанова и некого Теплова.[1706] И те и другие слабы. Впрочем я еще больше убедился, что у Фофанова есть дарование, но в совершенно первобытном состоянии: крупица золота на глыбу грязи.
Видел Леонтьева,[1707] который меня познакомил с Корабчевским,[1708] оказавшимся преумным и премилым господином. Мы втроем весело провели вечер в ресторане. Он много меня расспрашивал о Вас.
С нетерпением буду ждать ответа, и втайне надеется на свидание
любящий Вас Д. Мережковский.P. S. Если мне не соберетесь отвечать, так пишите но крайней мере Плещееву, а то он положительно беспокоится насчет Вас.
7
<Петербург.> 29 января <18>84 г
Посылаю Вам, Семен Яковлевич, 15 рублей, которые я взял у Скворцова в счет Ваших стихов и статьи. Я полагаю, этого довольно, чтобы Вам приехать в Петербург. Плещеев мне дал прочесть Ваше письмо к нему. Вы говорите, что все хвораете, и доктора посылают Вас на юг. Мне кажется что Вам положительно необходимо последовать их совету; кроме всяких личных соображений (о ценности здоровья и тому подобных азбучных вещах, которые все-таки отрицать не приходится) Вас должно к тому побудить сознание, что у Вас есть талант, т. е. задаток огромного влияния на общество; погубить его, отнять его у общества – величайшее преступление, которое, по-моему, стократ тяжеле убийства или хищничества. Вы не имеете права легко относиться к своей судьбе. Будьте убеждены, что в моих устах это – не пустая фраза. Никто, может быть, не следил так внимательно, как я, за тем впечатлением, которое производило каждое Ваше произведение, и поэтому я могу сказать с полной уверенностью, что Вы уже были полезны своими произведениями – многим. Повторяю: Вы должны, обязаны употребить все силы, чтобы сохранить себя на долгую, здоровую деятельность. Путешествие на юг Вам было бы полезно и в том отношении, что оно освежило бы Вас, успокоило и на время облегчило бы от гнетущей всех нас тоски и уныния.
Практическая сторона этого дела весьма упрощается тою мыслью, которую Мария Вален<тиновна> Ватсон[1709] подала Плещееву в разговоре о предполагаемой Вашей поездке; а именно – можно обратиться к «Литературному фонду», который почти наверно не откажется Вам помочь. Плещеев мне об этом говорил и вместе с тем выразил полную готовность самым энергичным образом об этом хлопотать. Его жар, конечно, не успеет охладеть, если Вы поторопитесь приехать, чтобы все это устроить. Итак, до скорого свидания, крепко жму Вашу руку, мой милый трубадур!
Ваш друг Д. Мережковский.P. S. Если не очень скоро собираетесь приехать, ответьте, получили ли деньги.
8
<Петербург. 1884? г.>
Дорогой, милый друг Семен Яковлевич,
спешу исполнить свое обещание, – поделиться с Вами каким бы то ни было благоприятным известием насчет искомого места для Вас.[1710] Дело вот в чем: есть у меня товарищ-студент, человек весьма хороший и довольно умный; о семье его я, кажется, Вам говорил, и Вы, помнится, не отказались с ней познакомиться. Этот господин принадлежит к числу Ваших страстных поклонников. Когда я сообщил, что Вы ищете места, вся семья (особенно мать, образованная, хорошая женщина) приняла в Вашей судьбе самое живое родственное участие. Тотчас же я с товарищем отправились к его родственнице, г-же Философовой[1711] (которую знает чуть не весь Петербург, Алексей Никол<аевич> об ней очень хорошо отзывался), она меня отлично приняла; нужно Вам сказать, что это известная либералка, много даже пострадавшая за свои убеждения. Она знала Вас понаслышке и с величайшей охотой согласилась подействовать на своего мужа[1712] (сама она настолько известна правительству своим покровительством увлекающейся молодежи, что боится своими хлопотами Вас компрометировать). Г-н Философов, тайный советник, член государственного совета, как мне было сообщено, зная Вас, как поэта, с удовольствием согласился похлопотать о месте для Вас. Но, конечно, он может это сделать лишь после личного с Вами свидания и переговоров. Обо всем этом я сообщил Плещееву. Оба мы думаем, что Вам не следует упускать этого случая. Приезжайте, если только возможно, в Петербург поскорее. Мы отправимся вместе с моим товарищем к Философову, который будет рад Вас принять и назначил даже час – после 11 утра, каждый день. С нетерпением жду ответа от Вас или, лучше сказать, Вас самих. Если затрудняетесь насчет финансов – сообщите поскорее Плещееву, он Вам вышлет за рецензию. Или, наконец, я сам пошлю, если только получу за стихи. Можете прямо ко мне приезжать и у меня остановиться – есть целая комната, так что дядя,[1713] если хотите, совсем о пребывании Вашем в Петербурге не узнает. Родители мои[1714] уже приехали и на мой вопрос, можно ли Вам у меня останавливаться, они сказали, что почтут это во всякое время за большое удовольствие. Итак, до скорого свидания.
Горячо любящий Вас Д. Мережковский.«Сирин» – дневниковая тетрадь А. М. Ремизова
Среди материалов архива А. М. Ремизова сохранилась тетрадь в черной коленкоровой обложке, на которой вырезаны надпись «1912. Сирин» и рисунок – птица на ветке. Записи, занесенные в нее, объединены одним сюжетом – основанием петербургского издательства «Сирин». Как выясняется из этих записей, Ремизов был одним из инициаторов начинания – наряду с Михаилом Ивановичем Терещенко и его сестрами, Елизаветой Ивановной и Пелагеей Ивановной Терещенко, финансировавшими новое издательское предприятие.
Отец брата и сестер Терещенко, происходивший из казаков-торговцев, нажил большое состояние на сахарорафинадном деле. Будучи крупным сахарозаводчиком, землевладельцем и финансистом, М. И. Терещенко (1886–1956) активно занимался многообразной культурно-общественной и политической деятельностью.[1715] По окончании экстерном в 1909 г. юридического факультета Московского университета недолгое время преподавал там на кафедре римского и гражданского права; был членом 4-й Государственной Думы; в 1915–1917 гг. – товарищем председателя Всероссийского Военно-промышленного комитета; наконец, в 1917 г. вошел во Временное правительство: со 2 марта – министр финансов, с 5 мая – министр иностранных дел, с 5 сентября – заместитель министра-председателя.
Контакты Терещенко с писателями модернистского круга завязались в пору, когда он был чиновником особых поручений при дирекции Императорских театров в Петербурге. А. Блок получил тогда, в марте 1912 г., предложение от Терещенко написать сценарий балета на средневековую тему (позже этот исходный замысел преобразился в пьесу «Роза и Крест»), Ремизов еще с 1911 г., также по инициативе Терещенко, работал над «русальным действом» – либретто балета по мотивам своих сказок. 16 сохранившихся писем Терещенко к Ремизову, относящихся в основном к 1911–1912 гг., свидетельствуют о том, что между писателем и будущим книгоиздателем установились прочные дружественные контакты, причем Блок был полноправным третьим участником этих встреч.[1716] Спонтанно сложившееся трио стало основой для будущего издательства. Когда идею было решено воплотить в жизнь, для конкретной организационной и редакторской работы был привлечен давний знакомый Ремизова и почитатель его творчества Иванов-Разумник (литературное имя Разумника Васильевича Иванова; 1878–1946),[1717] критик и публицист, историк русской литературы и общественной мысли, давший всему делу живую практическую основу. В биографии Ремизова наступил, по его определению, «период Терещенок».[1718]
Задумав объединить вокруг «Сирина» самых крупных и признанных писателей-символистов, семья Терещенко выкупила у издательства «Шиповник» права на собрания сочинений Ремизова и Федора Сологуба (под маркой «Сирина» вышел в свет в 1912 г. 8-й, заключительный том Сочинений Ремизова – «Русальные действа», тома 1–7 были изданы в 1910–1912 гг. «Шиповником»)[1719] и предприняла издания многотомного собрания сочинений В. Брюсова и собрания стихотворений А. Блока. «Сирином» были выпущены в свет три книги Ремизова – «Подорожие» (1913), «Докука и балагурье» (1914), «Весеннее порошье» (1915); кроме того, его произведения были опубликованы в сборниках «Сирин»: в первом (1913) – «Цепь златая», и в третьем (1914) – «Кузовок (Вещь Темная)».
Издательская деятельность «Сирина», начатая уверенно и с размахом, продолжалась лишь около двух лет.[1720] После начала мировой войны Терещенко решил ликвидировать издательство и перераспределить свои капиталы сообразно изменившимся обстоятельствам (в частности, он вложил большие суммы в создание госпиталей Красного Креста, в июле 1915 г. возглавил Киевский Военно-промышленный комитет). Большие издательские проекты «Сирина» остались незавершенными: из Собрания сочинений Ф. Сологуба в 20 томах не были напечатаны 5 томов, из Полного собрания сочинений и переводов В. Брюсова в 25 томах вышло в свет всего 8 томов, Собрание стихотворений А. Блока вообще не состоялось (1-я книга была доведена до стадии корректуры). 5 февраля 1915 г. Г. И. Чулков сообщал из Петербурга жене: «“Сирин” заплатил неустойку Сологубу и Ремизову: издательство это не существует более: Терещенко не захотел тратить деньги на эту затею».[1721]
Дневниковые записи Ремизова, кроме заключительной, охватывают лишь первые недели истории «Сирина». Обладая безусловной документальной значимостью и достоверностью, они в то же время дают интерпретацию действительности под специфически ремизовским углом зрения. Как и в позднейших больших художественно-дневниковых повествовательных композициях, «сон» и «явь» в этих лаконичных записях сосуществуют на равных правах, а в отображении «яви» образно-игровое начало заметно превалирует над установкой на объективную описательность и точную фиксацию событий – при всем стремлении писца выдержать строго регистрационный стиль всего текста. Собственно дневниковые сообщения в тетради – лишь часть целого, выстроенного по коллажному принципу: текст включает в себя документальные вставки (печатное объявление, письма, телеграммы), каллиграфически выполненные выписки из книг, рисунки с переводными картинками, фотографии (в частности, вклеена фотография с надписью Ремизова: «церковь Воскресения Христова, что на Нижней Дебре, Кострома (устроена тщанием московского купца Кирилла Григорьева Исакова в 1652 г.)» – и с дополнительной пояснительной припиской: «Птица Сирин изображена на наружной стене»). Тем самым «сиринская» тетрадь выходит за рамки традиционного дневникового жанра, превращаясь в аналог рукописной книги многосоставного содержания – образец в миниатюре того типа синтетического творчества, к которому Ремизов неизменно тяготел на протяжении всей своей писательской деятельности.
Тетрадь «Сирин» хранится в фонде А. М. Ремизова в ИРЛИ (Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 3). В публикации сохранены все специфические особенности автографа.
«СИРИН»
СИРИН ПТИЦА[1722]
Рай же, егоже насади Бог на востоце, яко быти третей части, до небесе высота его и всяческыми добротами оукраси его и паче сего света божественою благодатию сиая красным садовием и плоды сладкими и благоюханием исполняем, иже не может человек изрещи; глаголют же, яко и птица добропеснивы тамо. Обретаеться оубо на сей земли на время птица, глаголемаа сирин, его же нарицають райскоую птицоу; толико же бе песни его сладость: егда оуслышит того человек поюща, забывает вся соущаа зде и в след его шествуеть дондеже изнемог пад оумирает. И от сего единого оуказаниа разоумети неизреченнаа благаа божественнаго раа…
«О раи» гл. 2, л. 9 об.
Русский хронограф. Ч. I. Хронограф редакции 1512 года.
Полн. собрн. рус. летописей. XXII т.
Изд. Имп. Археографич. комис. СПб. 1911 г. стр. 25.
(Надеждинская 27, до 3-х ч. дня)
Райская птица Сирин.[1723]
«Птица райская Сирин, глас ея в пении зело силен;
на востоце в раю пребывает, непрестанно пение красно воспевает;
праведным будущую радость возвещает, – которую Бог святым своим обещает.
Временем вылетает и на землю к нам, сладкопесниво поет,
якоже и там всяк человек во плоти живя, не может слышати песни ея;
аще и услышит – то себе забывает и, слушая пение, так умирает»
Д. С. Ровинский, Русские народные картинки.
I и II т. СПб. 1900, 4° – 3 р. (продается у М. П. Мельникова,
Литейный 57 т. 82–77)
(а издание большое 1881 г. в 9-и том.
1780 картинок in 8° стоит ордалионы несметных денег).
Птицы Сирины были написаны на столах в хоромах царя Алексея Михайловича
И. Е. Забелин, Домашний быт русских царей
XVI–XVII. 1862 г.
______ // ________ Домашний быт русских
цариц XVI – ХVII. 1869 г.
2-ое изд. 1872.
10 окт. 1912.
Основание издательству «Сирин» положено было 10-ого октября в среду 1912 г. в день св. Иакова Постника.
К вечеру того дня было мне извещение по телефону от Михаила Ивановича, а вечером приехали сестры его Пелагея Ивановна да Елизавета Ивановна[1724] исказали:
– Мы решились. Согласны.
Эти слова мне очень памятны, понял тогда я и сообразил, что дело начинается, и только направить надо по хорошему.
Потом сидели за самоваром и вели разговор о деле, но совсем к делу не относящийся, или так, будто дело давным-давно налажено и уж так идет, только пей самовар да разговаривай.
11 окт
Знакомство Михаила Ивановича, Пелагеи Ивановны, Елизаветы Ивановны с Ивановым-Разумником. Разумник Васильевич рассказывает, куда и как надо идти и что первым делом предпринять надо, чтобы издательство основать. Пьем чай, курим да слушаем. Потом вычеркивать в каталоге стали всяких писателей.[1725] А издательство думали «Златоструем» назвать.
Прошлую ночь я плохо спал, а эту, пожалуй, и совсем не засну. Думаю все о деле, но такое совсем не-дельное.
12 окт
Разумник Васильевич действует. Дело пойдет на лад, верую. Накурили так, что сил никаких нет – это все Михаил Иванович, я меньше. Отворил я дверь в прихожую, а Елизавета Ивановна зазябла, и нарядили ее в бабушкину шаль с букетами, посадили в красный угол, – сидела она, да оттуда посматривала.
Поздно вечером ломился к ним некто Маныч, требовал (и придет же в голову человеку такая мысль пагубная), чтобы я в Вену к 11 1/2 ночи непременно ехал ужинать с каким-то издателем и с Сологубом.[1726] Это – знамение.
13 окт
Михаил Иванович в моей комнате уговор держал с Разумником Васильевичем. Теперь весь план уж намечен, дело за названием и действием.
Разговаривал по телефону с Елизаветой Михайловной[1727] о названии. Бог с ним с моим тем, не надо, надо, чтобы весело начиналось дело без задоринки.
Ничего делать не могу, так заняла мысль о издательстве. А сейчас поздний вечер, лунный холодный, у меня болит голова и читать нельзя, не читается. Позвонил Блоку, вместо ответа урчание – уу –. Вернулся к себе в комнату, сел на диван, сижу так. – Лягушка-квакушка! – почему-то на лягушку смотрю, на столе стоит она зеленая, брюшко белое.
14 окт
Разумник Васильевич вчера был у Сологуба.
Сегодня нет у нас никаких совещаний, сегодня воскресенье.
Был Ляцкий, редакт. Современника Дутик по прозванию, – ему Горький каждый день письма пишет.[1728] Грешным делом стал я его искушать «Бродячей собакой» и… искусил.[1729]
15 окт
Утром на неистовый звонок подбежал я к телефону и услышал:
– Пришли сто чаек!
Я же сказал:
– Я чайками не торгую.
На это получил ответ:
– Полно дурака валять.
Все в сборе, нет только Елизаветы Ивановны. Придумано название издательству.
– А есть такие птицы какие-то, – сказала Пелагея Ивановна.
За птиц ухватились, «Сирин» и вышел. Квартиру нашли: Пушкинская, 10. Завтра разговор у Шиповника,[1730] завтра очень решительный день.
Я сделал одну ошибку непоправимую (перепутал) и волнуюсь вдвойне и за Издательство и за свою оплошность. Да еще и доктора жду.
Доктор выпустил меня на волю! Сидел я у Фокина,[1731] а вернулся, слушал поэта Тинякова.[1732] Чтой-то в моей комнате холодно так, прежде не так было. Слушал стихи, а сам думал: «как холодно!»
16 ок
Вчера Серафима Павловна[1733] сон видела: на гору взбирается будто на высокую. Сон не особенно-то приятный. Сегодня я Копельмана и сестру его Антик видел,[1734] немирно разговаривали. Что-то будет, что выйдет из переговоров сегодняшних?
Ездили квартиру смотреть: квартира хороша. А переговоры – плохи. Вечером приходил Гржебин и одно твердил и доказывал, что не отдадут они ни меня, ни Сологуба.
Пошло письмо к Брюсову.[1735]
17 ок
Видел во сне Марью Сергеевну Боткину (Сергея Сергеев. покойного сестру).[1736] А Серафима Павловна опять на гору ползла, с Каринским и Середониным[1737] сначала, а потом одна. На другой горе повыше Бурлюки голые лежат.[1738] А в комнатке на вершине горы, когда доползла до вершины, сидят такие вроде Свечина «барины», а из окна видно: Сириец доктор стоит черный сам в черном.[1739]
Ездили с Михаилом Ивановичем по Блоку, катались с ним на островах. Блок согласен.[1740]
Потом был у Фокина, сказку сделал, и Ночь на Лысой горе сделал и волшебное озеро. Остается Кикимора.[1741]
18 окт
Во сне видел Леонида Андреева.[1742] С утра беды и напасти. Господи, сохрани и помилуй! Разумник Васильевич звонил: «Шиповники» принципиально согласны.[1743]
Сидел Пришвин, читал Бабью лужу.[1744] Кончил «Лужу», Разумник Васильевич пришел – о «Шиповнике» пошел рассказ. От Брюсова телегр<амма> получилась.[1745] Вечером был у Михаила Ивановича – вечер с Бакстом.
Бакст все тот же, только без паричка. Нашел видение Варфоломея.[1746] А лег очень поздно.
19 X
Видел во сне Мейерхольда. С утра пошли всякие переговоры по телефону. Если так будет еще продолжаться, то, ей Богу, в охранку экзамен сдам, такая обнаружилась ловкость «агентурная». В 1/2 5-и все были в полном составе. Завтра последний разговор с «Шиповником».
Автомобильный ужас на Мытнинской, и очень поздний сон.
20 X
Не знаю, что во сне видел. С утра начались напасти. С черного хода – требования уплатить долг, совсем несуществующий. С парадного – «протяните руку помощи».
Сколько дней я ничего не делаю, ничего не читаю и не пишу!
С Блоком разговаривал по телефону: он 2 дня не пишет, так взбудоражен «Сириным». Он думает, что новое издательст<во> будет иметь огромное значение для рус. литературы и жизни литературной.[1747]
Пришел Пришвин и Бурлючка.[1748] Один другому страшно понравились. Бурлючке сон снился: появлялся и пропадал перед ней бок мохнатый из шкур лисьих.[1749]
Приходил Гржебин поздравлять с окончанием дела. Ездил провожать Р. Вас. на Никол. вокз.: Поехал в Москву к Брюсов<у>.
Лег опять очень поздно.
В трамвае встретил мальчика: глаза, как звезды.[1750]
21 Х
Во сне видел Андрея Белого. Метель метет. Сегодня нет собрания (воскресенье). Вечером ездили к Елизавете Михайловне. Разумник Васильевич, поди, уже все дела в Москве обделал.
СПб., 20-го октября 1912 г.
Многоуважаемый Разумник Васильевич,
Очень Вам благодарен за Ваше внимание и предложение занятий, но, к сожалению, я совершенно неожиданно получил предложение занять место бухгалтера на заводе и в тот день, когда Ив. Ник. Литенин[1751] сообщил мне, когда можно явиться к Вам для переговоров, я уже находился на новой службе. Еще раз благодарю Вас и остаюсь с совершенным почтением
С. Осипов.[1752]22 X. Казанск<ая>
Во сне видел Ивана Александровича, археолога костромского.[1753] Вернулся Р. В. из Москвы: Брюсов «согласен». Собрались все для обсуждения, всё, кажется, хорошо, одно плохо – с Сологубом: вздыбился старик, – давай ему полцарства! Вечером слушал «Хованщину».[1754]
23 X
Днем была Акумовна.[1755] За Акумовной прилезла m-e ***. Надо было как-нибудь избавиться от нее и ушел из дому, потом С. П. с нею принуждена была уйти. И дура и сплетница и проныра – все мелочно-гадкое собралось, да еще’и грязная. Приехал М. И., а за ним П. И. и Е. И., подошел Р. В. Речь о Сологубе. Решили так: заломается, – Бог с ним.[1756] Вечером был у Яцимирского.[1757] Начинился всякими «подленниками» <?>. А от Яцимирск<ого> домой и опять на волю – к М. И. У него Бакст и Блок. Надо было решить об обложке.[1758]
Лег очень поздно.
24 X
С. П. видела во сне Зинаиду Николаевну Гиппиус и < >[1759] Т – ую. Захворал М. И. А у Р. В. телефон испортился. Все-таки дозвонился: завтра Сологуб назначил.
С утра читаю о Ваньке-Каине.[1760] С. П. на «Хованщине».
23 окт. 1912. СПб.Многоуважаемый Федор Кузьмич,
ввиду того, что Вы желали выяснить, в каком направлении мог бы быть изменен Ваш договор с изд. «Шиповник» в случае перехода собрания Ваших сочинений изд-ву «Сирин», – я уполномочен этим последним издательством сообщить Вам три основных пункта этого предполагаемого договора:
1. Гонорар Ваш устанавливается в размере 25 % с номинальной стоимости каждой новой издающейся и старой переиздающейся книги собрания Ваших сочинений.
2. Срок договора, вместо имеющегося ныне в Вашем договоре пункта: «до продажи 30.000 экз. “Мелкого Беса”» – определяется 5-ью годами, т. е. по октябрь 1917 года.
2. Долг Ваш изд-ву «Шиповник» уменьшается до размера около 5 200 рублей (приблизительно; точную цифру сообщу), которые Вы и погашаете изд-ву «Сирин» следующим образом: из 25 % авторского гонорара Вы получаете 70 %, а 30 % идут на погашение этого долга, который таким образом может быть погашен в 2 1/2 года, при ежегодном издании 4-х книг.
Если эти условия для Вас приемлемы – изд. «Сирин» немедленно подписывает такой договор с Вами и приобретает от «Шиповника» Ваше собрание сочинений; если условия покажутся Вам неприемлемыми – то отпадает и самое приобретение издания «Шиповника».
Сроки подписи договора между «Шиповник» – «Сириным» – четверг 25 октября. Но, повторяю, договор этот будет подписан только в случае Вашего согласия на него, которое Вы закрепите соответственным письмом в «Шиповнике»; в случае Вашего отказа – изд. «Сирин» ограничится приобретением собр. соч. А. Ремизова, письменное согласие которого уже имеется.
Таким образом переход в новое издательство или оставление в старом – зависит теперь всецело от Вас, многоуважаемый Федор Кузьмич. В ожидании Вашего ответа остаюсь
с соверш. уваж.
Р. Иванов25 Х
Приезжал М. И. с П. И., потом Е. И. Р. В. о Сологубе докладывал. Нет, с ним дело не выйдет.
Ездил с Гржебиным в Думу выбирать. Вечером приходил В. В. Кузнецов.[1761]
26 Х
Захворала С. П. Никакого собрания не было. Приходил Р. В. Приезжал доктор Певзнер.[1762] К Философову на именины не ходили.[1763]
27 Х
Во сне видел и я и С. П. Сологуба. Утром был Р. В., потом заведующий Сирином Сергей Яковлевич Осипов,[1764] приехал и М. И. Сологубу отправлен отказ. А со мною кончено. За меня сегодня заплатили 1 040 рб. 23 к. «Шиповнику» и контракт мой перешел к «Сирину».
С. П. легче.
28 Х
Сон
Видел во сне, проглотил я (нет, съел) гвоздик, а дом мой (устьсысольский)[1765] разрушен – над головой, где я сплю, щель огромная. И я думаю, теперь уж лягу спать, птица выклюет мне глаза.[1766]
День тяжелый был очень.
Приезжал Философ<ов>, потом М. И. с П. И.
С Брюсовым разговор у Р. В. и М. И. в его №.[1767]
29 Х
Утром приезжал доктор Певзнер. Сначала С. П. было ничего, а после обеда опять неважно. Ездили с П. Ив. кататься на острова. Заходил Философов без нас.
30 Х
Сологуб прислал письмо М. И. Пишет, что не требования представлял он, а пожелания. На Пушкинской состоялось свидание с Брюсовым.[1768]
Утром. С. П. было плохо, после обеда еще хуже, потом ничего.
31 Х
Видел во сне, плыву по воде, по синей.
16 XI в пятницу в день Рожде<н>и<я> Блока освятили редакцию.[1769]
Переведу эти картинки и закончу дневник – основание «Сирина».[1770]
28 генваря 1915 г.
Сирин уничтожен.
Сегодня последний день.
А. Ремизов
Валерий Брюсов и журнал «Аполлон» Переписка с С. К. Маковским и Е. А. Зноско-Боровским
Конец первого десятилетия XX века в творческой биографии Валерия Брюсова – это отчетливо воспринятый им самим переломный момент, который привел к осознанию того, что большой и значительный период его литературной деятельности остался позади. По внешним параметрам такое осознание было во многом обусловлено завершением шестилетнего издания «Весов» (1904–1909) – руководимого им главного печатного органа русского символизма в период расцвета этого литературного направления.[1771] Позади оставались годы активной работы, непосредственным образом сказавшейся на изменении всей картины русской литературной жизни. Два года спустя поэт-символист Вл. Пяст в восторженно-бравурном тоне заявит: «“Весы” были тем рычагом, на котором неведомый миру Архимед перевернул художественное сознание России ‹…› сдвиг должен был произойти, – в силу назревшей исторической необходимости, – и должен был быть произведен при посредстве некоего рычага, которым мог быть только журнал. И честь служить этим рычагом выпала на долю “Весов”».[1772]
Руководитель журнала, однако, еще в годы его издания задавался мыслью о поисках нового литературного пристанища. За год до прекращения «Весов» Брюсов свел к минимуму свое участие в их редакционной подготовке; это решение было не в последнюю очередь обусловлено убежденностью в том, что возглавляемое им издание выполнило свою культурную миссию и уже не способно вести к новым художественным свершениям. «Пережиточная, отсталая проповедь “Весов” ‹…›, – писал он 31 марта 1910 г. А. А. Измайлову, – явилась следствием моего из них ухода, а не причиной».[1773] Внутреннему ощущению исчерпанности, завершенности «весовского» пути соответствовали и существенные перемены «внешние» – в общей литературной ситуации, радикально изменившейся с тех пор, как отверженные поэты-«декаденты» начинали свое общее дело в фактическом противостоянии всем остальным писательским объединениям и идейным течениям. К концу 1900-х гг. репутация Брюсова в широком литературном мире уже была непререкаемой; при всех нюансах индивидуальных вкусов и идейных разногласиях бесспорным было мнение о том, что Брюсов – наиболее характерная и значительная фигура в русском символизме. «Как выразитель и катехизатор школы, он самый представительный и самый ответственный поэт русского декаданса», – утверждал А. В. Амфитеатров;[1774] ему вторил В. М. Чернов: «Валерий Брюсов все более и более становится признанным главою современного русского “модернизма”. У него уже есть школа, к нему относятся как к “учителю”».[1775] Брюсова стали приглашать в солидные «толстые» журналы, литературные перспективы развернулись перед ним во всю ширину, и сравнительно скромные рамки «Весов» стали казаться ему слишком узкими и стеснительными, а модернистская обособленность издания уже не соответствовала его новым устремлениям. В дальнейшей своей деятельности он надеялся найти принципиально новые пути самовыражения: «Смотрю на свое прошлое исторически, еще раз “меняю кожу”, и намер<ен> появиться ‹…› в образе новом и неожиданном».[1776]
Исторический взгляд на прошлое подразумевал и существенную его переоценку: «Я не изменил своего основного взгляда на сущность искусства, но подхожу теперь к этому взгляду с совершенно новой стороны».[1777] Платформа символистской школы, в рамках которой Брюсов выступал в литературе на всем протяжении 1900-х гг., теперь представляется ему сковывающей его творческие возможности; все настойчивее он ощущает потребность в новой читательской аудитории, не довольствуясь сравнительно узким кругом приверженцев «нового» искусства. С одной стороны, Брюсов старается активно пропагандировать основные идейно-художественные принципы и критерии, которым он был привержен, с другой – сам стремится к расширению своих творческих горизонтов, к внесению коррективов в прежнюю систему собственных эстетических представлений и вкусовых пристрастий. В 1909 г. он все более и более сближается с журналом «Русская Мысль», а с сентября 1910 г. становится заведующим его литературно-критическим отделом.[1778] Из редактора боевого и сугубо корпоративного журнала Брюсов превращается в организатора одного из наиболее читаемых «толстых» ежемесячников, претендовавшего на отражение всей литературной и общественной жизни страны. «Период Sturm u<nd> Drang’а ‹…› у Вас прошел, – проницательно отмечал Д. В. Философов, характеризуя в письме к Брюсову его союз с «Русской Мыслью». – ‹…› Чуется, что Вы взяли эту тяжелую обузу, как служение самым объективным ценностям русской литературы. В Вас есть, помимо личного таланта и неисчерпаемых знаний, хорошая уравновешенность, которая, как мне кажется, прямо предназначает Вас на взятую Вами роль».[1779]
Еще до заключения союза с «Русской Мыслью» Брюсову открывалась во многом сходная перспектива, когда с октября 1909 г. в Петербурге было начато издание нового модернистского ежемесячника – журнала «Аполлон», редактором которого стал поэт, искусствовед и художественный критик Сергей Константинович Маковский (1877–1962).[1780] Подготовка к изданию этого журнала была начата еще в конце 1908 г., и в марте 1909 г. Брюсов, в ходе своего очередного приезда в Петербург встречавшийся с Маковским, уже получил определенное представление об идейно-эстетических установках будущего «Аполлона»: «…будет с осени такой журнал в Петербурге, имеющий целью отстаивать аполлонизм против дионисизма», – писал он А. В. Амфитеатрову 10/23 июня 1909 г.[1781] Обозначенные символические оппозиции действительно составляли основу эстетической программы, выдвигавшейся Маковским: «аполлонизм» вбирал в себя представления о стройном и ясном творчестве, осуществляющемся в согласии с законами и критериями строгого художественного вкуса и меры; «дионисизм» – все противоположное: безмерное, беззаконное, выходящее за пределы предустановленных эстетических рамок; тем самым «дионисизм» осмыслялся в более широком плане, чем в трактовке Вяч. Иванова, который также входил в круг лиц, определявших кредо «Аполлона».[1782]
Маковский с исключительным упорством стремился привлечь Брюсова к деятельному сотрудничеству с «Аполлоном», заявлял о верности брюсовским эстетическим заветам, однако бывший лидер «Весов» всячески уклонялся от тесного сближения с новообразованным петербургским журналом. У Брюсова были все основания заключать, что панэстетические кружковые установки «Аполлона» лишь заново воспроизводят ту идейную платформу, которую на протяжении шести лет отстаивали «Весы» и которая, по его убеждению, уже отодвинулась в прошлое. К тому же Брюсова, привыкшего за годы издания «Весов» к самовластному руководству, явно не устраивала уготованная ему в «Аполлоне» почетная роль рядового участника в консилиуме «мэтров», призванных помогать Маковскому в ведении журнала и выработке его идейно-эстетической позиции, – наряду с Вяч. Ивановым, И. Ф. Анненским, А. Н. Бенуа, поначалу А. Л. Волынским и др. «Брюсов остался в выжидательном положении», – констатировал Маковский положение дел несколько месяцев спустя после начала издания «Аполлона».[1783] Скептический отзыв о журнале содержит письмо Брюсова к Вяч. Иванову от 18 января 1910 г.: «В Петербурге у вас я не вижу никаких радующих предзнаменований. ‹…› Мне кажется, что союз “Аполлона” – вполне внешний. Его идея – привешена извне, а не возникла из глубины того сообщества, которое окружает журнал».[1784]
Зыбкие, до конца не оформившиеся отношения Брюсова с редакцией «Аполлона» были подвергнуты испытанию на прочность после появления в журнале статьи Г. И. Чулкова, дававшей общую нелицеприятную оценку деятельности «Весов» (см. п. 11–17). Хотя, по мысли Чулкова, все достославное в истории «Весов» было всецело заслугой их руководителя («По счастью, у “Весов” был хороший кормчий – Валерий Брюсов»; «Когда чувствовалось влияние Брюсова, “Весы” были “Весами”»[1785]), Брюсов, не пленившийся этими «реверансами», инициировал письмо протеста бывших ближайших сотрудников журнала с ультимативным требованием публикации письма как условием дальнейшего сотрудничества «весовцев» в «Аполлоне». Маковскому удалось избежать разрыва и склонить Брюсова к компромиссному решению – помещению в журнале объяснительного заявления «от редакции».
За этим конфликтом, возникшим по частному поводу, последовало вылившееся на страницы «Аполлона» принципиальное противостояние, обусловленное различным пониманием философско-эстетической сущности символизма его адептами – Вяч. Ивановым и А. Блоком, с одной стороны, и Брюсовым, с другой. Эти обстоятельства многократно затрагивались в историко-литературных штудиях и не нуждаются здесь в детальном освещении; достаточно привести их обобщающую характеристику в письме Брюсова к П. П. Перцову (23 марта 1910 г.): «В нашем кругу, у ех-декадентов, великий раскол: борьба “кларистов” с “мистиками”. Кларисты – это “Аполлон”, Кузмин, Маковский и др. Мистики – это московский “Музагет”, Белый, Вяч. Иванов, Серг. Соловьев и др. В сущности возобновлен дряхлый, предряхлый спор о “свободном” искусстве и тенденции. “Кларисты” защищают ясность, ясность мысли, слога, образов, но это только форма; а в сущности они защищают “поэзию, коей цель поэзия”, как сказал старик Иван Сергеевич. Мистики проповедуют “обновленный символизм”, “мифотворчество” и т. под., а в сущности хотят, чтобы поэзия служила их христианству, стала бы ancilla theologiae. ‹…› Я, как Вы догадываетесь, всей душой с “кларистами”».[1786] В статье «О “речи рабской”, в защиту поэзии», написанной как возражение на программные выступления в «Аполлоне» Иванова («Заветы символизма») и Блока («О современном состоянии русского символизма»), Брюсов вновь и вновь заявлял своим оппонентам: «Искусство автономно: у него свой метод и свои задачи. Когда же можно будет не повторять этой истины, которую давно уже пора считать азбучной! Неужели после того, как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте ему, наконец, свободу!»[1787]
Маковский, отдавший страницы «Аполлона» для деклараций Иванова и Блока, руководствуясь своими принципиальными соображениями относительно предназначения возглавляемого им печатного органа («Больше, чем когда-либо, теперь ‹…› “Аполлон” должен быть журналом, объединяющим “модернистов” разных оттенков, – а не партийным органом с узкой “кружковой” программой…», – писал он Иванову 16 августа 1910 г.[1788]), с тем большею охотой предоставил те же страницы для брюсовской отповеди, поскольку она вполне отвечала его собственным эстетическим установкам. Маковский заверял Брюсова в том, что отстаиваемую им позицию разделяет и он сам, и большинство ближайших и самых деятельных сотрудников «Аполлона» (так называемая «молодая редакция», в ведении которой в основном находился хроникальный отдел журнала: С. Ауслендер, Н. Гумилев, М. Кузмин и др.). В том, что в данном случае эти заверения не были исключительно проявлением редакторской дипломатии, свидетельствует письмо Маковского к сподвижнику по ведению журнала – секретарю Е. А. Зноско-Боровскому (3 февраля 1910 г.), в котором он раздраженно высказывался по поводу претензий и «укоров» Вяч. Иванова. Религиозно-теургический пафос и философско-культурологические покровы, набрасываемые на «новое» искусство, Маковскому представляются столь же неприемлемыми, сколь и обветшавшие «направленческие» критерии, которыми руководствовалась русская журналистика минувших десятилетий. «Ведь, положа руку на сердце, разве журнал хуже оттого, что нет в нем “идеологии”? – вопрошает Маковский. – Кому нужны эти русские вещания, эти доморощенные рацеи интеллигентного направленства? Разве искусство, хорошее, подлинное искусство, само по себе – не достаточно объединяющая идея для журнала? Символизм, нео-реализм, кларизм и т. д., все эти французско-нижегородские жупелы, право же, приелись и публике, и нам, писателям. Вкус, выбор, общий тон – вот что создает “физиономию”, о которой так беспокоится Вяч. Иванов. И эта “физиономия” у “Аполлона” есть ‹…› Но против более пространных выступлений нашего обиженного метра я, в конце концов, ничего не имею (хотя совершенно не согласен, что его уход мог бы “убить” журнал). Пусть напишет принципиальную статью, хотя бы в целый лист – в защиту символизма, что ли! Я никогда не назвал бы “молодую редакцию” безыдейной, но наша молодежь прежде всего – деловая, а не праздноболтающая о литературе, и мне чрезвычайно нравится это деловое настроение без философических эквилибристик».[1789]
При всем внешнем пиетете, который воздавался в «Аполлоне» Вяч. Иванову – бывшему при этом и фактическим руководителем «Общества ревнителей художественного слова», функционировавшего при редакции «Аполлона», – Маковскому было ясно, что формирование журнала с постоянной оглядкой на мнения и пожелания мэтра петербургских символистов привело бы к искажению его изначально заданных сугубо эстетических задач.[1790] В этом отношении мэтр московских символистов представал гораздо более отвечающей «аполлоническим» устремлениям авторитетной фигурой, однако и очевидное благорасположение редакции не соблазнило Брюсова, с головой ушедшего в работу по подготовке литературно-критического отдела «Русской Мысли» (где в основном печатались и его собственные произведения), активизировать свое сотрудничество в «Аполлоне». Оно так и осталось эпизодическим: за все время существования журнала Брюсов поместил в нем две статьи, одно стихотворение в дебютном номере «Аполлона» и еще в двух номерах (1910. № 5; 1911. № 4) – по небольшому стихотворному циклу. После 1911 г. Брюсов в «Аполлоне» не печатался. Не состоялись и планировавшиеся его выступления в «аполлоновском» «Обществе ревнителей художественного слова».
Помимо Маковского в регулярной переписке с Брюсовым состоял Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–1954), секретарь «Аполлона» в 1909–1912 гг. Выпускник Александровского лицея, офицер на фронте русско-японской войны, профессиональный шахматист, увенчанный призами на многих всероссийских и международных шахматных турнирах, автор ряда книг по шахматной игре,[1791] в начале издания «Аполлона» он только начинал свою деятельность как драматург и критик. Комедия Зноско-Боровского «Обращенный принц», поставленная в декабре 1910 г. В. Э. Мейерхольдом в «Доме интермедий», стала ярким событием театрального сезона.[1792] В «Аполлоне» Зноско-Боровский активно выступал с 1910 г. как литературный и театральный обозреватель, автор многих статей о новинках петербургской культурной жизни.[1793] По своим эстетическим предпочтениям, личным связям и характеру литературной деятельности он принадлежал к «молодой редакции» «Аполлона»; как и Маковский, солидаризировался с Брюсовым в его понимании искусства и, пользуясь протекцией Брюсова, опубликовал ряд своих статей в «Русской Мысли». В «Русской Художественной Летописи» (хроникальном приложении к «Аполлону») Зноско-Боровский поместил статью, в которой чрезвычайно высоко оценивал роль Брюсова в формировании литературно-критического отдела «Русской Мысли».[1794]
Последнюю попытку привлечь Брюсова к сотрудничеству в «Аполлоне» предпринял сменивший Зноско-Боровского на посту секретаря журнала М. Л. Лозинский: предложил бывшему учителю написать отзыв о новой книге бывшего ученика – о «Колчане» Гумилева (весьма вероятно, что по инициативе автора). 24 мая 1916 г. Лозинский писал Брюсову: «Н. С. Гумилев сообщил мне, что Вы не получили письма С. К. Маковского, которым тот просил Вас высказать на страницах “Аполлона” Ваше мнение о “Колчане”. Поэтому я позволяю себе подтвердить Вам, что редакция “Аполлона” очень хотела бы получить хотя бы небольшую по размерам заметку Вашу об этой книге. Ей особенно ценно именно Ваше мнение, не только как признанного судьи в вопросах поэзии, но и как первоучителя автора “Колчана”, и за исполнение ее просьбы она была бы Вам чрезвычайно признательна».[1795] В письме к Маковскому от 29 июня 1916 г. Лозинский приводит цитату из ответного письма Брюсова, выразившего готовность отозваться о «Колчане»: «Прошу только позволения, – говорит он, – писать более подробно, чем принято в обычных “рецензиях”. Это необходимо в интересах автора книги, иначе моя заметка была бы ограничена указаниями на недостатки сборника». «Неласковое предисловие!» – добавляет от себя Лозинский.[1796] Впрочем, и на этот раз Брюсов статью для «Аполлона» не написал.[1797]
Большинство писем В. Я. Брюсова к С. К. Маковскому и Е. А. Зноско-Боровскому, по всей вероятности, утрачено. Отчасти представление об их содержании можно составить по письмам этих его корреспондентов, сосредоточенным в архиве Брюсова и сохранившимся если не в полном объеме, то по крайней мере в преобладающей их части.
Письма В. Я. Брюсова к С. К. Маковскому печатаются по автографам, хранящимся в архивах В. Я. Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 71. Ед. хр. 56 – п. 18; РНБ. Ф. 105. Оп. 1. Ед. хр. 12 – п. 31), в архиве С. К. Маковского (ГРМ. Ф. 97. Ед. хр. 35 – п. 48) и в собрании П. Л. Вакселя (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 676 – остальные письма).
Письма В. Я. Брюсова к Е. А. Зноско-Боровскому печатаются по автографам, хранящимся в архиве В. Я. Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 71. Ед. хр. 17 – п. 22) и в собрании П. Л. Вакселя (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 673 – остальные письма).
Письма С. К. Маковского к В. Я. Брюсову печатаются по автографам, хранящимся в архиве В. Я. Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 93. Ед. хр. 27).
Письма Е. А. Зноско-Боровского к В. Я. Брюсову печатаются по автографам, хранящимся в архиве В. Я. Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 86. Ед. хр. 61).
Большинство писем Маковского и Зноско-Боровского к Брюсову написано на почтовой бумаге журнала «Аполлон».
Фрагменты из писем Маковского к Брюсову (п. 5, 6, 19, 42) опубликованы в кн.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 356, 360, 369–370, 395.
Пространные фрагменты из писем, составивших настоящую публикацию, приведены в комментарии Н. А. Богомолова и О. А. Кузнецовой к переписке В. И. Иванова с С. К. Маковским (Новое литературное обозрение. 1994. № 10: Вячеслав Иванов. Материалы и публикации / Составитель Н. В. Котрелев. С. 153–164) и в комментарии Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щербакова к переписке Брюсова с Н. С. Гумилевым (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 506–508).
1. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
7 марта 1909 г. Петербург[1798]
7 марта 1909.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Жду Вас завтра к обеду, в 6 ½ часов, непременно![1799] Я был уверен, что Вы известите меня, если не сможете приехать в назначенный день, и потому сохранил для Вас этот вечер. Разумеется, ни о каких «визитах» между нами не может быть речи, и Вам, не только в качестве «приезжего человека», я готов был бы простить полное забвение о моем существовании, если бы не ряд литературных дел, о которых мне очень надо побеседовать с Вами.
Искренно Вас уважающий и преданный Вам
Сергей Маковский.2. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
24 августа 1909 г. Петербург[1800]
24 августа 1909.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Позвольте мне напомнить Вам о нашей беседе, еще весною, относительно возможностей Вашего сотрудничества в «Аполлоне».[1801] Вы отнеслись тогда с сочувствием к нашему начинанию, но не захотели ничего обещать для первых номеров журнала… Тем не менее, мне очень хочется еще раз просить Вас дать «Аполлону» не только право упомянуть Ваше имя в числе сотрудников, но хоть что-нибудь более реальное. В первом номере будут напечат<ан>ы стихотворения многих любимых нами поэтов: Вяч. Иванова, Бальмонта, Сологуба, Волошина, Гумилева.[1802] Было бы просто непонятно, если бы между этими именами отсутствовало Ваше имя, тем более, что статья Анненского «О современном лиризме», которою мы начинаем ряд критических статей о русской поэзии, посвящена главным образом Вам.[1803] Из всех современных поэтов Вы, конечно, наиболее дороги нам (пишу от имени редакции), – вот почему моя просьба, обращенная к Вам, приобретает совсем исключительный смысл.
Я готов был бы предложить Вам, – как когда-то было с Пушкиным, – по червонцу за строчку, если бы думал, что можно оценить золотом золотую чеканку Ваших строф! Но если стихов у Вас все-таки нет, то не дадите ли Вы нам рассказ или критическую статью? У меня есть тема, которая, я уверен, должна Вас заинтересовать: «О возможностях русского стиха». Впрочем, я предоставляю Вам полную свободу выбора.
Верно ли, что Вы предполагаете переехать на эту зиму в Петербург?[1804]
Искренно уважающий Вас и преданный Вам
Сергей Маковский.
3. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
21 сентября 1909 г. Петербург
21 сентября 1909.Милостивый Государь Валерий Яковлевич. Извещаю Вас, что стихотворение Ваше «Александрийскому столпу», присланное Вами в редакцию «Аполлона», сдано в набор и на этих днях его корректурный оттиск будет отослан Вам.[1805] Пользуюсь случаем, чтобы изложить Вам основания одного начинания, внешняя организация которого поручена мне.
Уже в прошлые годы молодые поэты Петербурга собирались на частных квартирах в особых чтениях, во время которых читались доклады, посвященные вопросам формы стиха, затем разбирались новые, ненапечатанные стихотворения, с которыми их авторы знакомили тут же собрание.[1806] С этого года эти собрания решено поставить на более прочное основание и соединить с «Аполлоном», редактор которого Серг<ей> Конст<антинович> Маковский отнесся к этой идее с большим сочувствием. План этих собраний остается прежний, только будут они происходить более регулярно (предполагается – еженедельно) и, следовательно, более серьезно. И вот для чтения лекций-докладов все будущие участники собраний очень приглашают Вас, зная, что Вы в этом году намерены жить в Петербурге. Настоящим письмом я позволяю себе передать это приглашение, которое будет по Вашем приезде передано Вам мною – и не одним мною – лично, – и мы очень надеемся, что Вы не откажетесь принять участие в этом начинании, которое уже носит название «Поэтической Академии».[1807] Кроме Вас для той же цели пока приглашены гг. Вячеслав И. Иванов и Иннокентий Ф. Анненский, в числе своих слушателей Вы увидите всех молодых поэтов, живущих здесь. Главным инициатором является Н. С. Гумилев.
Если Вам нужны, я с радостью сообщу Вам все дополнительные сведения. Примите уверение в моем глубочайшем почтении и преданности.
Евгений Зноско-Боровский,секретарь редакции.4. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
20 октября 1909 г. Петербург
20 октября 1909.Многоуважаемый Валерий Яковлевич. От лица всех участников «Академии» я прошу Вас принять общую глубокую благодарность за Ваше согласие познакомить молодое общество с Вашими взглядами на свойства и особенности русского стиха, – и вместе с тем извещаю Вас, что это общество уже начало свои занятия и его заседания будут регулярно проходить в редакции ежемесячника «Аполлон».[1808]
Для того, чтобы укрепить свое положение с внешней стороны, в Градоначальство подано заявление об учреждении Общества, которое официально будет зваться «Обществом ревнителей художественного слова»,[1809] а для большей ясности в своей деятельности выработан (не на бумаге) род внутреннего устава, по которому делами Общества ведает Правление в составе 7 лиц, из которых – 4 – лекторы и учредители (Вы, Ин<нокентий> Ф<едорович> Анненский, Вяч. Иванов, Серг<ей> Конст<антинович> Маковский), а 3 будут избраны в ближайшем собрании. Вся внешняя работа (по рассылке повесток, по устройству вечеров и т. д.) падет на последних 3-х, первые же 4 дают направление работам Общества.
Общество горячо просит Вас не отклонять этого избрания, так как ему ценна Ваша деятельность, Ваше влияние, а между тем никаких определенных обязательств, которые могли бы Вас хоть сколько-нибудь стеснить, оно на Вас не налагает. Мы надеемся, что и к этой просьбе Вы отнесетесь с той же любезной обязательностью, с которой Вы согласились читать доклады.
Заканчивая это письмо выражением общей надежды на Ваш скорый и надолго приезд в Петербург, остаюсь с совершенным уважением и искренней преданностью
Евгений Зноско-Боровский,Секретарь редакции.5. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
24 ноября 1909 г. Петербург
24 ноября 1909.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Обращаюсь к Вам с двумя просьбами! Во-первых, очень прошу Вас – от лица «Об<щест>ва ревнит<елей> худ<ожественного> слова», или «Поэтической Академии», как мы говорим в просторечии, – не отказываться от звания «члена Правления» Общества.[1810] Это создало бы новые затруднения в деле утверждения устава и нарушило бы весь план Академии. По этому плану все лекторы входят в «Совет», который направляет занятия Общества и, кроме того, образует, вместе со мною и с секретарем редакции Зноско-Боровским, «Правление», ведающее административную часть. Для официального утверждения законности Общества нужны имена членов Правления – следовательно, и Ваше имя, хотя до Рождества Вы и не можете, к сожалению, начать Вашего курса лекций.
Остальные лекторы – Вяч. Иванов, Ин. Анненский, А. Блок и М. Кузмин. Из них только два первых начали свои чтения.[1811] Следовательно, Ваше положение совсем не исключительное в смысле недеятельной работы в первую пору существования Об<щест>ва. Ваше обещание прочесть 5–7 лекций по теории и истории русского стиха было встречено восторженно членами Академии, и было бы очень обидно не включить теперь же Вашего имени в число лекторов и eo ipso[1812] – членов Совета и Правления.
Вторая просьба – более личная. Мне очень хотелось бы получить от Вас что-нибудь для январьского № «Аполлона»: стихи, рассказ или статью – что хотите. Вот состав этой новогодней книжки: статьи Гумилева, Кузмина (литер<атурная> критика), моя (о монумент<альном> искусстве) и Оссовского (об «Орфее» Глюка); рассказ Ал. Толстого, стихи Ал. Блока (с иллюстр<ациями> Рериха) и Вяч. Иванова (перев<оды> Новалиса).[1813] Я уверен, что найдется материал и у Вас и Вы не захотите меня огорчить отказом.
Сердечно преданный Вам
Сергей Маковский.6. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
18 декабря 1909 г. Петербург[1814]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Благодарю Вас сердечно за милое письмо и обещания «Аполлону».[1815] Вы чрезвычайно обрадовали бы меня, если бы прислали статью к январ<скому> номеру: крайний срок – 31-ое декабря, но очень желательно получить хоть часть статьи несколькими днями раньше.[1816]
Самоопределение журнала… конечно, но оно может совершиться лишь постепенно: слишком резко-индивидуальные люди сошлись в редакции! Разноголосицы уже меньше в последнем выпуске, «Январь» будет еще цельнее… Мне хочется верить, Валерий Яковлевич, что Ваша помощь журналу, Ваше близкое участие в нем, повлияет, именно в этом смысле, самым лучшим образом на наше дело. Мне хотелось бы, чтобы Вы считали «Аполлон» своим журналом! Я вполне уверен, что Ваш взгляд на задачи современной литературы не разойдется с писательскими устремлениями ближайших сотрудников «Аполлона», из которых уже составилось ядро редакции. Присылайте Ваши стихи! Так важно было бы ими начать новый год (в «альманахе» будут: повесть гр. Ал. Н. Толстого, переводы из Ренье и стихи Блока[1817]), и это нисколько не может помешать напечатать Вашу статью в отделе критики этого же номера…
О днях Ваших лекций в «Академии» напишу Вам послезавтра, когда этот вопрос окончательно выяснится;[1818] пришлось на две недели прервать наши «академические» занятия, вследствие смерти Ин. Ф. Анненского и… болезни Вяч. Иванова.[1819]
В заключение – маленькая просьба. Ввиду прекращения «Весов»[1820] нельзя ли было бы как-нибудь использовать для «Аполлона» подписчиков «Весов»? Напр<имер>, разослать им наши проспекты на 1910 год? Для этого нужно было бы получить их адреса. Согласятся ли на эту услугу нам «Весы» – как Вы думаете?
Сердечно преданный Вам
Сергей Маковский.7. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
17 января 1910 г. Петербург
17 января 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
занятый с утра до ночи устройством выставки[1821] и выпуском №, который запаздывает, Серг<ей> Конст<антинович> Маковский очень просит Вас извинить, что он не сам и не сразу отвечает Вам.[1822] Не желая откладывать выяснение некоторых важных вопросов до того времени, как он освободится, он поручил мне, извинившись за него, написать Вам. Первое, что надо ему знать: когда и какую именно статью может он ждать от Вас? Нельзя ли рассчитывать уже иметь ее в январе (до 25-го), чтобы напечатать в февральском №?[1823]
Затем. Вы как-то писали, что готовы давать заметки в Хронику.[1824] Не согласились ли бы Вы писать их о русских переводах французских книг? Т. е. раза 3–4 в год давать краткий обзор появляющихся русских с французского переводов, как отдельными книгами, так и в журналах? Это – не обязательно в определенные №№, когда будет о чем сказать; это – не лишит Вас возможности писать о другом, – и поэтому Серг<ей> Конст<антинович> просит, если это Вас, конечно, не затруднит, взять эту работу на себя.
Наконец, с какого числа можно объявить Ваши лекции в Академии Поэтов?[1825] Заседания ее бывают теперь аккуратно по четвергам, и можно совершенно точно обозначить все дни Ваших лекций, которых все очень ждут.
С искренним уважением и глубокой преданностью
Евгений Зноско-Боровский.
Секретарь редакции.
8. БРЮСОВ – ЗНОСКО-БОРОВСКОМУ
3 февраля 1910 г. Москва
Многоуважаемый Евгений Александрович!
В вышедшем январьском № «Аполлона» моих стихов нет. Видимо, я доставил их в редакцию слишком поздно. Но прошу их поместить не позже как в февральском № и доставить мне их корректуру.[1826]
С уважением
Валерий Брюсов.3 февраля 1910.
9. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
19 февраля 1910 г. Петербург
19 февраля 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Позвольте мне сердечно поблагодарить Вас за серию Ваших стихотворений для февральской книжки «Аполлона».[1827] Эта книжка случайно запаздывает, и это дает мне возможность напечатать «Пляску смерти» на подобающем ей первом месте «Альманаха». Но почему так медлите Вы прислать обещанную Вами статью?[1828] Так хотелось бы, чтобы именно Вы сказали в «Аполлоне» о задачах русского стиха – и чем скорее, тем лучше. Я не знаю также, когда Вы собираетесь приехать в Петербург. Это очень осложняет распределение докладов в нашей «Академии» на будущие месяцы. Можно ли рассчитывать на Ваши лекции в марте? Собираемся мы по средам, но, разумеется, Вы могли бы назначить Ваши дни и, соответственно с этим, я известил бы членов «Общества ревнителей худ<ожественного> слова».[1829]
Я слышал от Вяч. Ив. Иванова, что Вас не удовлетворяет петербургская «молодежь», у которой нечему «научиться».[1830] Не происходит ли это оттого, что аполлоновская «молодежь» сама хочет учиться, а не учить? Лично я не сетую на эту скромность, глубоко убежденный в том, что именно в ней – залог успеха того нового литературного движения, которое несомненно намечается за последние годы. В «Академии» Вам придется говорить в среде учеников, а не самозванных новаторов. Это – наше новое, может быть, очень временное, но в настоящее время – так. Впрочем, я не думаю, чтобы Вы серьезно ждали учительства от тех, которые ждут Вас, как учителя… Не правда ли?
Душевно Вам преданный и уважающий Вас
Сергей Маковский.10. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
29 апреля 1910 г. Петербург
29 апреля 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
мы не только принимаем с громадным удовольствием Ваше предложение написать рецензию о книге Белого, но и особенно просим об этом, т<ак> к<ак> ничего лучшего не могли бы себе и представить.[1831] Размером ее совсем не стесняйтесь: и книга значительна, и, конечно, Вы скажете по поводу ее много поучительного и интересного и – для нас – так нужного. Если можем поставить, то лишь одно условие: 10–15 мая нам хотелось бы уже иметь Вашу заметку.
На днях я позволил себе послать Вам только что вышедшую мою книгу.[1832] Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы уделили несколько минут написать мне свое о ней мнение.
Преданный Вам Евгений Зноско-Боровский.11. БРЮСОВ – ЗНОСКО-БОРОВСКОМУ
19 мая 1910 г. Москва
Многоуважаемый Евгений Александрович!
В этом конверте Вы найдете письмо, которое, конечно, редакция «Аполлона» уже давно ожидала: протест сотрудников «Весов» против неприличной статьи г. Георгия Чулкова о «Весах».[1833] Мы, подписавшие этот протест, обсудили в нем каждое слово, считаем его составленным в выражениях весьма сдержанных и не можем согласиться ни на какие в нем изменения. Мы просим редакцию «Аполлона» напечатать этот протест, в форме «письма в редакцию», в ближайшем № «Аполлона». Добрые литературные обычаи (и даже закон) указывают, чтобы протест был напечатан в том же отделе и тем же шрифтом, как та статья, которая его вызвала. Но если это неудобно по техническим соображениям, мы на том не настаиваем. Само собой разумеется, что отказ редакции «Аполлона» напечатать наше письмо – повлечет за собою отказ всех, подписавшихся под письмом, от дальнейшего участия в «Аполлоне».
С совершенным уважением
Валерий Брюсов.19 мая 1910.
P. S. 1. Вероятно, к подписям под письмом присоединится еще имя С. Соловьева, которого сейчас нет в Москве и которому предложение подписать письмо послано.[1834]
P. S. 2. Очень извиняюсь, что в прошлом письме забыл благодарить Вас за присылку Вашей книги, которую читал с интересом.[1835]
12. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
20 мая 1910 г. Петербург[1836]
20 мая 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
сейчас Серг<ея> Конст<антиновича> Маковского нет в Петербурге, и потому я не могу дать Вам никакого определенного ответа на Ваше письмо, но надеюсь, что сотрудники «Весов» будут всячески удовлетворены. Пока я только извещаю о получении Ваших писем на имя Серг<ея> Конст<антиновича> и мое и очень прошу, в ожидании благоприятного результата конфликта, не прерывать Вашей статьи о «Символизме»,[1837] а Ликиардопуло – его хроники.[1838] Серг<ей> Конст<антинович> возвращается в начале этой (будущей, с 23/V) недели.
Не имея права входить в обсуждение текста письма, я уже теперь прошу Вас сообщить, найдете ли Вы для редакции возможным, в случае помещения письма, сопроводить его редакционным замечанием? Кроме того, мне очень кажется, что, при чтении письма, приведенные стихи Пушкина непосредственно относятся к редакции, которая через г. Чулкова не только «хулит» Весы с 1906 г., но и льстит им до этого г<ода>, точнее – Вам лично.[1839]
Впрочем, это личное мое впечатление.
Я уверен, что, после разъяснений Серг<ея> Конст<антиновича> относительно мотивов помещения статьи г. Чулкова и взгляда редакции на нее, инцидент будет вполне улажен, и помещение Вашего письма восстановит хорошие отношения.
Преданный Вам Евгений Зноско-Боровский.13. БРЮСОВ – ЗНОСКО-БОРОВСКОМУ
22 мая 1910 г. Москва[1840]
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Спешу ответить Вам на Ваше письмо. Разумеется, мы, подписавшие «протест», не можем иметь ничего против того, чтобы наше «письмо в редакцию» было сопровождено редакционным примечанием. Это – дело редакции. Но Вы сами хорошо понимаете, что может быть такого рода «примечание», которое уничтожит весь смысл письма… Думаю, что Вы имеете в виду иное.
Что до стихов Пушкина, то они, на наш взгляд, никак не могут относиться к редакции «Аполлона»… Во всем нашем письме речь идет исключительно о статье Георгия Чулкова. Во всяком случае текст нашего письма не подлежит никаким изменениям: он был выработан сообща «группою сотрудников “Весов”, которую собрать вновь было бы трудно (так как многие разъехались на лето из Москвы).
Над своей статьей о «Символизме» А. Белого я продолжаю работать, но, как я и писал Вам, – доставлю ли я ее «Аполлону», это зависит от исхода нашего с ним «конфликта».
С совершенным уважением
Валерий Брюсов.22 мая 1910.
14. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
26 мая 1910 г. Петербург[1841]
26 мая 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Ваше второе письмо огорчило меня больше первого, т<ак> к<ак> от него я жду тех неприятных последствий, которых можно было легко избежать, и они тем особенно огорчительны будут, что произойдут от такой мелочи, как сохранение двух стихов в письме.
Оговариваюсь, я пишу только свое мнение, и не знаю, как отнесется Серг<ей> Конст<антинович> ко всему делу, равно как и к моим этим письмам, но, будь я редактором, я не поместил бы письма с этими двумя стихами. Я говорил об этом с теми немногими, которые знают «Письмо в редакцию» и которых нельзя заподозрить во вражде к «Весам», – и они сами высказывают это и очень настойчиво.[1842]
Дело в том, что после указаний письма о том, что статья г. Чулкова имеет характер редакционный, – как же не к редакции относятся эти стихи? И если бы даже не так, как может редакция на своих же страницах пропечатать, что журнальная статья ее сотрудника «в самой подлости» не носит оттенка правдоподобия? И, наконец, Вы обходите совершенно тот пункт, о котором я Вам писал прошлый раз: о лести Вам. Я уверен, что, если Вы поставите себя на наше место, то и Вы не будете советовать нам печатать такие строки в журнале.
И думается, что, если можно по почте собирать подписи, то так же легко по почте предложить уничтожить инкриминируемые строки.
Может быть, Серг<ей> Конст<антинович>, приехав, будет недоволен этими моими письмами, но я счел написать Вам свои соображения, т<ак> к<ак> сейчас еще есть время внести совершенно необходимые изменения. Но, м<ожет> б<ыть>, Серг<ей> Конст<антинович> поместит письмо целиком и даже без всяких примечаний; но ведь возможно, что он еще больнее почувствует обиду стихов.
Не теряю надежды на мирное улажение конфликта.
Преданный Вам Евгений Зноско-Боровский.15. БРЮСОВ – ЗНОСКО-БОРОВСКОМУ
27 мая 1910 г. Москва[1843]
27 мая 1910.Многоуважаемый Евгений Александрович!
Вы сами пишете, что решение вопроса, печатать ли наш протест, всецело принадлежит С. К. Маковскому. Поэтому, думается мне, предварительное обсуждение этого вопроса в нашей с Вами переписке совершенно бесплодно. Простите же мне, если я оставлю без ответа многие из Ваших замечаний.
Считаю, однако, себя обязанным сообщить Вам следующее. Когда мы, авторы протеста, писали, что статья г. Георгия Чулкова «имеет все признаки, которые позволяют счесть ее редакционной»,[1844] – мы были уверены, что этот внешний вид статьи вовсе не соответствует сущности дела. Мы не сомневались, что статья появилась в журнале более или менее случайно, и что редакция «Аполлона» ни в коем случае не разделяет ее суждений. Этой нашей уверенностью объясняется весь тон нашего письма. Если же окажется, что мы ошибались, и что, действительно, в «Аполлоне» редакционные статьи пишутся личностями вроде г. Георгия Чулкова, положение дел совершенно изменится. Я, по крайней мере, немедленно должен буду заявить в газетах, что до сих пор числился среди сотрудников «Аполлона» лишь по недоразумению. Вероятно, так же поступит и Андрей Белый и все другие «москвичи».
С совершенным уважением
Валерий Брюсов.16. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
16 июня 1910 г. Петербург
16 июня 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Вы знаете, конечно, как должно было огорчить меня письмо в редакцию «Аполлона», подписанное Вами и несколькими сотрудниками «Весов».[1845] Я только что вернулся из Парижа, где устраивал русскую выставку,[1846] и весь еще – под впечатлением жизнерадостной «столицы мира»… Как невесело у нас! Русская действительность точно сплетена из недоразумений, обид, ссор… даже между людьми немногими, которые могли бы дружно беречь общее дело и защищать его от вражды и глумлений улицы… В журнальном мире я в достаточной степени человек «новый», чтобы не всегда разбираться во всех недружелюбиях, которые меня окружают. Чистосердечно сознаюсь в этом. Если бы я мог себе представить, что доставлю Вам такую неприятность, пропуская статью Г. Чулкова (если бы кто-нибудь из читавших эту статью предупредил меня), то, конечно, она бы не была напечатана.[1847] Но… Позвольте же мне, прежде всего, откровенно рассказать Вам, как случилось, что эта статья появилась в «Аполлоне» – несмотря на горячее сочувствие «Весам» со стороны сотрудников «Аполлона».
Предполагалось посвятить «Весам» ряд статей: Кузмин – проза, Сюннерберг – идейные течения,[1848] Гумилев – стихи, бар<он> Врангель[1849] – худож<ественные> иллюстрации. Эти статьи должны были появиться одновременно после выхода последней, 12-ой, книжки «Весов». Я совершенно уверен, что между этими статьями заметка Чулкова не показалась бы Вам каким-то односторонне-недоброжелательным попреком со стороны «Аполлона», а только – личным мнением Чулкова (как это и есть на самом деле), испытавшего на себе всю тяжесть полемической страстности, характеризующей, по его мнению, «Весы» 2-го периода. Давая право Чулкову высказаться о «Весах» наравне с другими (как постоянному сотруднику), я не мог помешать ему коснуться и этого явления, которое он называет в конце концов невинным словом «истерика» (а параллель с кн<язем> Мышкиным еще смягчает это выражение).[1850] Я мог только настаивать на том, чтобы никто из его бывших «обидчиков» не был назван. И действительно, он никого не назвал, хотя укоры его очевидно направлены против Ант<она> Крайнего,[1851] А. Белого и др., жестоко расправлявшихся с ним несколько лет назад. Избрав метафорический способ изложения – чтобы не называть имен, – Г. И. не удержался и от других, уже совсем добродушных, намеков. Собирательный тип «стихотворца конца XIX века», конечно, должен напоминать о Вашем влиянии, Валерий Яковлевич, на молодое поколение поэтов; «салонный оккультизм» – относится к Волошину, «не рыцарь» – к Ант<ону> Крайнему и т. д.[1852] Разумеется, весь этот метафоризм, проникнутый quand même et malgré tout[1853] глубоким преклонением перед Вами, не есть оскорбление, нанесенное «Весам», за которое надо меня казнить! Мои намерения всегда были и останутся самыми лучшими по отношению к «Весам». Не моя вина, если в мое отсутствие никто из авторов обещанных статей не доставил к сроку (они появятся только осенью),[1854] и была напечатана одна статья Чулкова. Я очень скорблю об этом, очень! Однако, вся ответственность в случившемся – на мне: могу ли я дать место в журнале письму, где один из сотрудников называется косвенно «льстецом» (кому?) и не косвенно «хулителем»,[1855] когда я сам допустил его статью к печати? Согласитесь, Валерий Яковлевич, что, с этической точки зрения, это… невозможно. Вы знаете, как я дорожу Вашим участием в «Аполлоне»; это участие на будущий 1911 год представлялось мне особенно деятельным, т<ак> к<ак>, по моему глубокому убеждению, именно Вы и только Вы могли бы дать «Аполлону» то, чего ему пока не достает… И все же поступить не по-товарищески с писателем, вверившим мне свою рукопись, воля Ваша, я не в силах. Позвольте же мне думать, что, приняв во внимание мое длинное и покаянное объяснение, Вы примете за «удовлетворение» со стороны «Аполлона», если в след<ующем> № появится заметка от редакции, в которой будет еще раз подчеркнуто, что о «Весах» будет напечатан в «Аполлоне» ряд статей и что редакция, признавая выдающиеся заслуги «Весов», не хотела бы, чтобы статья Чулкова, случайно появившаяся первой, была понята, как оценка «Аполлона». Я пишу это письмо наспех, но точную формулировку этой оговорки <?> я пришлю Вам.[1856]
Я надеюсь, Валерий Яковлевич, что все это недоразумение, в котором я один чувствую себя без вины виноватым и ответственность за которое я, во всяком случае, несу на себе, окончится миром, потому что верю, что Вы захотите войти в мое положение, действительно – очень трудное, и помочь мне.
Искренно Вас уважающий и преданный Вам
Сергей Маковский.17. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
Вторая половина июня 1910 г. Петербург
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
в ответ на Вашу открытку,[1857] имею честь сообщить, что Серг<еем> Константиновичем уже давно написано Вам заказное письмо,[1858] – а сегодня я послал Вам телеграмму, т<ак> к<ак> № 8 на днях выходит.
Сейчас я сообщаю Вам тот текст, который предполагается поместить в № 8, буде Вы согласны вообще на помещение подобного редакционного заявления:
Подтверждая еще раз свое сделанно<е> в № 2 заявление, что ни одна статья не является редакционной, покуда это не оговорено, Редакция считает долгом отметить, что и статья Георгия Чулкова, помещенная в № 7 и посвященная журналу «Весы», должна рассматриваться только как личная названного автора попытка характеристики одной из сторон деятельности этого журнала. Признавая громадное значение «Весов» и питая к ним глубокое уважение, редакция в ближайших же №№ осуществит свое, высказанное в том же № 7 намерение осветить в ряде статей всесторонне всю незабываемую и ценную их деятельность.[1859]
С полным уваже<нием> Евгений Зноско-Боровский.18. БРЮСОВ – МАКОВСКОМУ
Вторая половина июня 1910 г. Москва[1860]
М<ногоуважаемый> С<ергей> К<онстантинович>
Я прочел то замечание от ред<акции>, кот<орое> Вы наш<ли> возм<ожным> напис<ать>.[1861] Если признаться откровенно <?>, оно меня ниск<олько> не удовлетворило. Из того, что стать<я> Чул<кова> «не ред<акционная>», еще ника<к> не следует, что ред<акция> с ней не согласна.
Я должен сказ<ать>, что вообще мое полож<ение> в «Ап<оллоне>» дов<ольно> двусмысл<енно>. С од<ной> сторо<ны>, нек<оторые> из сотруд<ников>, по-видимому, ко мне расположенные <?>, сравн<ивают> в св<оих> стать<ях> ме<ня> с П<етром> В<еликим>3 (что более комично<?>, чем почетно). С друг<ой>, все серьез<ные> руководящие <?> стать<и> жур<нала> решительно<?> напр<а>вл<ены> прот<ив> ме<ня> (я счит<аю> таков<ыми> ст<атьи> Аннен<ского>, Чулков<а>, Ива<но>в<а>[1862]).
Мое сотрудничество в «Аполлоне» возможно двояко. Во-первых, я могу «числиться» среди сотрудников как не лишенное ценности имя и от времени до времени давать в журнал стихи или безобидные статьи. Таково было мое положение до сих пор.
Если «Аполлон» хочет, чтобы такое положение продолжалось и впредь, я, в конце концов, могу на то согласиться. Я должен буду потребовать только одно зав<ерение?>, чтобы в журнале статьи, подобные Чулкову, то есть явно отрицающие значение лично мое и всего сделанного <?> мною, в журнале не печатались. <нрзб>.
Во-вторых, я могу принять участие в журнале как самостоятельная величина, высказывать <?> свои определенные идеи. Именно так вы приглашали меня. Но теперь я более чем когда-либо затрудняюсь ответить на это приглашение, потому что вижу, что руководящие статьи журнала так резко расходятся с моими взглядами.
Если бы вы повторили мне свое предложение, я должен бы прежде всего написать решительный протест против статьи В. Иванова, напечатанной <?> в последнем <?> №. Вы знаете, что многое из вошедшего в эту статью он читал у нас в Москве в «Свободной Эстетике». Тогда же я возражал ему, и очень резко.[1863] Кое-что он в своих выражениях сменил <?>, может быть, не без влияния моих возражений, но основной взгляд<?>, конечно <?>, остался – взгляд, который я считаю губительным для судеб русского искусства. Статья же Блока только подчеркивает взгляды Иванова <?>.[1864]
19. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
30 июля 1910 г. Веселые Терны
30 июля 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
К сожалению, я – не в Петербурге, а на отдыхе, в Екатеринославской губернии,[1865] а потому – немного вдали от «Аполлона». Вашей статьи я еще не прочел…[1866] Но, получив Ваше письмо (вчера),[1867] я немедленно телеграфировал секретарю редакции, прося его заменить, если еще возможно, одну из предназначавшихся к № 9 статей – Вашим «ответом» В. Иванову. Верьте мне – не из простой любезности или из признания за Вами «права голоса», на страницах «Аполлона», в интересном и волнующем вопросе, поднятом В. Ивановым, но – потому, что именно Ваше мнение о роли поэта и символизма мне кажется, в данном случае, особенно ценным. Совсем независимо даже от мнения В. Иванова и А. Блока… Об этом, посколько я знаю, я несколько раз писал Вам… я писал о том, что группа молодых писателей, составляющая теперь редакцию «Аполлона», тяготеет именно к тому литературному credo, которое закреплено Вашим авторитетом… Это настолько так, что, когда была уверенность в Вашем приезде в Петербург прошедшей зимой, предполагалось обратиться к Вам с просьбой взять на себя руководство литературным отделом «Аполлона». И это предположение, в форме совета мне, я слышал из уст самого В. Иванова. Вы видите, насколько отношение «Аполлона» к Вам было и остается более, чем… дружеским. С моей стороны, я только горячо бы приветствовал бы такое решение вопроса, если бы Вы на него согласились, так как (повторяю в который раз?) все симпатии молодой редакции на стороне тех взглядов на поэзию и литературу, которые Вы высказываете. Так было и при чтении В. Ивановым последнего реферата о судьбах символизма…[1868] И все-таки, оставаясь беспристрастным до конца, я напечатал и реферат В. Иванова, и доклад А. Блока! Впрочем, не только из редакторского беспристрастия, а и по той простой причине, что в России всего два-три писателя, с мнением которых о поэзии приходится считаться, и если кто-нибудь из этих писателей, хотя бы наиболее близких редакции, не дает статей журналу, то журнал не имеет возможности отклонять статей других писателей, хотя бы они шли вразрез с мнением первого. Иначе – можно остаться совсем без статей и сотрудников. Место – всегда тем, которые работают. Фатально – так. Если бы Вы знали, каких сил мне стоило побуждать к работе (в области литературной критики) «аполлоновскую» молодежь. Мне кажется, что я могу себя поздравить с известным успехом… хотя бы в отношении к Гумилеву или Кузмину… Но этого, я сознаю, мало. Нужна серьезная, направляющая критика – строго-художественная, не сектантская и не «теургическая». Ее нет. Отсюда те недоразумения, которые преследуют «Аполлон» со времени его зачатия. Что касается меня лично, то у меня никогда не было претензий сделаться «руководителем» в вопросах стиха и прозы; с меня достаточно моей области – пластических искусств…
В настоящую минуту мне особенно приятно говорить с Вами об этих общих, программных вопросах журнала, т<ак> к<ак> именно теперь окончательно выяснился вопрос о его дальнейшем материальном существовании. Журнал обеспечен еще на два-три года во всяком случае, а в случае минимального прогрессивного успеха – и на дальнейший срок.[1869] Следовательно, приходится думать о многолетнем существовании «Аполлона». Это, конечно, большая, очень большая задача…
Хотите, Валерий Яковлевич, помочь мне разрешить ее? Не знаю, виноват ли я в «горьком тоне» Вашего письма, но знаю, что Вы не можете сомневаться в искренности моих слов.
Преданный Вам
Сергей Маковский.20. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
6 августа 1910 г. Веселые Терны
6 августа 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Только что получил присланную мне из Петербурга корректуру Вашего «ответа»[1870] и спешу отправить ее Вам, хотя не знаю, успеет ли редакция внести Ваши исправления, т<ак> к<ак> статья пойдет в следующем же № 9. Я очень рад, что удалось так устроить. Ваш ответ я готов подписать обеими руками: я нахожу только, что в его тоне звучит пренебрежительность, на которую В. Иванов может обидеться… Впрочем, это Ваше дело. Я боюсь одного: В. Иванов захочет продолжать спор, и… получится немножко семейная полемика, мало «доступная» читателю.[1871]
С нетерпением жду ответа на мое недавнее письмо.
Искренно преданный Вам
Сергей Маковский.21. БРЮСОВ – МАКОВСКОМУ
Август 1910 г. Москва[1872]
Многоуважаемый Сергей Константинович!
За хлопотами по переезду в Москву из деревни и в Москве из одного дома в другой,[1873] – я не имел возможности написать Вам то письмо, которое обещал. Очень прошу извинить мою неаккуратность в переписке, и надеюсь, что в будущем мне удастся ее избежать.
Я вполне с Вами согласен, что направление придает журналу прежде всего тот, кто хочет в нем работать. Согласен также и с тем, что статьи Иванова и Блока должно было напечатать: кого же иначе печатать «Аполлону»! Но, может быть, согласитесь со мною и Вы, что «Аполлон» за все время своего существования менее всего служил тому принципу, который заключается в его имени. Статьи Анненского, Чулкова, Иванова, Блока[1874] – проповедовали все, что хотите, но не то, что было возвещено программой журнала. Поскольку есть в том моя вина, постараюсь ее исправить, т. е. постараюсь эту зиму быть более деятельным сотрудником «журнала». Посколько дело зависит от других, я надеюсь на Ваше влияние и Ваши заботы. По совести, мне хотелось бы (и я считаю это нужным), чтоб «Аполлон» был «Аполлоном»!
Очень надеюсь, что проездом из Веселых Тернов (верно ли я читаю это имя?) Вы будете в Москве. Тогда очень прошу не забыть меня. Мы могли бы лично переговорить о многих других вопросах, частью затронутых в Вашем письме, частью из него вытекающих. Обо всем писать трудно, и очень многого в письме никак не изъяснить и не разложить. Я всегда могу быть дома, если Вы известите меня о своем приезде хотя бы за несколько часов.
Для следующего № «Аполлона» я пришлю давно обещанный разбор книги Белого «Символизм».[1875]
Преданный Вам Валерий Брюсов.22. БРЮСОВ – ЗНОСКО-БОРОВСКОМУ
Август 1910 г. Москва[1876]
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Позвольте просить Вас об услуге: переслать прилагаемое письмо М. А. Кузмину, адреса которого я сейчас не знаю.[1877] Исполнением этой маленькой просьбы Вы весьма обяжете
уважающего Вас
Вал. Брюсова.1910, авг<уст>.
23. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
6 сентября 1910 г. Ярославль[1878]
6 сентября 1910. Гусев пер., 6.[1879]Многоуважаемый Валерий Яковлевич,К сожалению, Ваше письмо настигло меня уже много дней после того, как я оставил «Терны», и наша встреча в Москве опять не могла состояться. Но я надеюсь, что еще осенью мне удастся побывать у Вас на «Цветном», т<ак> к<ак> я собираюсь в Москву непременно.[1880] Конечно, лучше всего устно поговорить о всех волнующих меня вопросах «Аполлона», к которым, я вижу с радостью, и Вы относитесь не безразлично. Да, надо, чтобы «Аполлон» сделался совсем «Аполлоном». Это – моя мечта. Только мне не хотелось проводить ее редакторским насилием; я предпочел ждать живых сил, которые бы выявили эту мечту, подчиняясь самим требованиям литературной жизни. Поэтому я и смотрел на первый год «Аполлона», как на переходный. Не надо забывать, что Петербург еще недавно был очагом «Дионисийства», самого бесшабашного порою, и что мне пришлось, – хотя, может быть, это и не так заметно, – выдержать очень упорную борьбу. Однако, согласитесь сами, что теперь журнал ближе к цели, чем в начале; это – главное. Остается только укрепить позиции, с тою же постепенностью. И в этом смысле Ваша роль может быть огромной. Я жду с нетерпением статьи Вашей о «Символизме» Андрея Белого и жалею, что ее не успеть напечатать в следующем, 10 номере. Что касается 11-го, который выйдет 15 октября, то для него все статьи должны быть в редакции не позже 25 сентября… Но можно ли мне рассчитывать и на другие Ваши работы? Я бы так хотел начать новый год издания (1<-й> № выйдет 15 декабря этого года) Вашей большой принципиальной статьей, о которой давно мечтаю. Это – независимо от стихов и рассказов, не менее желанных. Этот первый номер выйдет, мне думается, вполне «аполлоничным». Предполагаются: две монографии – о творчестве Головина (моя) и Курбэ (Мейер-Грэфе), статьи о Глюковском «Орфее» (Оссовского) и о легенде Орфея (Кузмина); в беллетристическом отделе – начало романа Ал. Толстого.[1881] Было бы большой радостью – знать, что за Вами статья литературно-критическая.
Искренно Вам преданный
Сергей Маковский.24. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
1 октября 1910 г. Петербург
1 октября 1910.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
получив Ваше письмо, я немедленно распорядился о высылке Вам гонорара и о посылке телеграммы, надеюсь, что все это до Вас уже дошло, и что мы на днях получим Вашу статью.[1882]
Сейчас я Вам пересылаю статью Андрея Белого в ответ на Вашу статью в № 9.[1883] Нам кажется, что этот спор, который уже – достояние общей печати (в только что вышедшей книге «Вестн<ика> Евр<опы>» есть посвященная ему статья С. Адрианова[1884]), заслуживает всестороннего освещения. Разрешите Вы нам вставить в прожект будущего года Вашу статью «Должна ли поэзия быть глуповатой»?[1885] Или Вы предпочли бы дать другую статью? Но на какую-нибудь мы непременно хотим рассчитывать!
У нас есть еще одна просьба. В будущем году нам удается осуществить нашу старую идею – выпускать самостоятельными книжками «Литературные Альманахи». Первую из них предположено выпустить в феврале – марте.[1886] Мы просим Вашего участия в этом издании и очень хотим надеяться, что Вы нам дадите рассказ, – если не его, то цикл стихов. Мы потому на первое место ставим рассказ, что объявленные к выходу альманахи разных издательств обещают, кажется, только стихи.
Серг<ей> Конст<антинович> просит Вас принять его искреннее приветствие.
С полным уважением
Евгений Зноско-Боровский.25. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
20 октября 1910 г. Петербург
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
для меня совершенной неожиданностью было узнать, что Вы играете в шахматы и до сих пор ими интересуюсь <так!>. Я с особенным удовольствием посылаю Вам свою книжку о гамбите Муцио, к которой присоединяю и другую, недавно вышедшую брошюру мою под названием «Пути развития шахматной игры»,[1887] и очень бы желал, чтобы, если Вы ее прочтете, не со скукой читали Вы ее.
С совершенным уважением и преданностью
Евгений Зноско-Боровский.26. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
23 октября 1910 г. Петербург
Октября 23 1910 г.Многоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич,
Прежде всего – горячо благодарю Вас за обещанный «цикл стихов» (или поэму?) для нашего первого Альманаха.[1888] Мне бы так хотелось начать его этим циклом, вообще – дать «тон» всему сборнику Вашими стихами. Вот почему очень прошу Вас не откладывать исполнения обещанного и прислать стихи как можно скорее… С тою же просьбой хотелось бы мне обратиться к Вам и касательно статьи «Должна ли поэзия быть глуповата».[1889] Январьский № «Аполлона» выйдет совсем реорганизованным – проясненным и в художественном, и в литературном отношении. Начать с Вашей статьи опять-таки значило бы – начать хорошо, – так, как надо. В прошлом году мы неудачно начали статьями Бенуа и Анненского,[1890] и это отразилось на всем годе. Но «Аполлон», как Вы писали мне, должен сделаться «Аполлоном»… Итак, можно рассчитывать на Вас? Я знаю, как Вы заняты теперь с «Русской Мыслью»,[1891] и не хочу быть редактором слишком навязчивым, но, исполнив эту мою просьбу (что, я думаю, для Вас – вопрос нескольких дней, т<ак> к<ак> статья эта давно задумана Вами), Вы действительно окажете большую услугу журналу.
С моей стороны, я непременно напишу для «Русской Мысли» мою «американскую» статью: спасибо за предложение![1892] Что касается издания Вашего курса лекций для О<бщест>ва Р<евнителей> Х<удожественного> С<лова>,[1893] то в принципе я, конечно, согласен, относительно отдельного издания этого курса «Аполлоном», мне кажется, не может быть сомнений… но позвольте обо всем этом переговорить с Вами лично не позже, чем через две недели, когда я буду в Москве.
Крепко жму Вашу руку.
Искренно Ваш Сергей Маковский.27. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
6 ноября 1910 г. Петербург[1894]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
не знаю, как Вас благодарить за Вашу любезную присылку книги и особенно за надпись, которая меня очень и радостно тронула.[1895]
Сегодня прочитал отзыв о «Алмазе», помещенный в «Русской Мысли»:[1896] если и им я обязан Вам, я горячо благодарю Вас. С отзывом я почти безусловно согласен: влияние Метерлинка (и Чехова?) почти умышленно,[1897] ибо хотелось создать то же впечатление, но в ультра-реалистической обстановке, создать символ, не прибегая к символическим фокусам <?> (один дым на горизонте внешне[1898] – ничто в сравнении с каким-нибудь козленком, но внутренне – для меня больше значит); растянутость начальных сцен первого действия сознаю,[1899] но считал необходимым сохранить, чтобы хоть таким путем ввести читателя в круг интересов, теперь совсем позабытых.
Нам очень хотелось бы получить Вашу статью «Должна ли поэзия быть глуповатой» для № 1 (т. е. к началу декабря).[1900] Можем мы на это рассчитывать? Нам это необходимо знать, т<ак> к<ак> теперь составляется план всех №№-ов 1911 года. Если никак нельзя, то мы могли бы сохранить ей твердое место в № 3 (1 март) или № 4 (1 апрель). Что могли бы мы считать за верное? – <нрзб>
С полным уважением Евгений Зноско-Боровский.28. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
12 декабря 1910 г. Москва
12 декабря – 1910. Национальная гост<иница> № 413. Москва.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Напишите мне, пожалуйста, когда бы я мог застать Вас на этих днях. Я приехал в Москву сегодня и уже в четверг[1901] думаю возвращаться. Ваше письмо (и рукопись)[1902] я получил за час до отъезда из Петербурга. Позвольте мне ответить Вам при свидании – надеюсь, скоро.
Искренно Вам преданный
Сергей Маковский.29. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
18 января 1911 г. Петербург[1903]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
мы подготовляем в скором времени выпуск 1-го Альманаха «Аполлона»,[1904] для которого Вы обещали Серг<ею> Конст<антинович>у цикл стихотворений. Серг<ей> Конст<антинович> не хочет приступать к печати «Альманаха», покуда он не будет иметь этих Ваших стихов. Очень прошу Вас быть так любезным и в скором времени прислать нам эти стихи. Мы ждем их с большим нетерпением.
С полным уважением Евгений Зноско-Боровский.30. БРЮСОВ – ЗНОСКО-БОРОВСКОМУ
24 января 1911 г. Москва[1905]
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Я мог бы предложить альманаху «Аполлона», вместо цикла стихов, небольшую повесть, из «первобытной» жизни, листа в 1½ (вероятно, меньше) «аполлоновского» формата. Узнайте, пожалуйста, представляет ли это интерес для ред<акции> альманаха.[1906] Зная, что альманах не может иметь большого распространения, я удовольствовался бы гонораром в 125 р. с листа. К сожалению, не могу удовольствоваться меньшим (в «Русс<кой> Мысли» я получаю бóльший гонорар). Повесть я мог бы доставить в течение 2–3 недель, но, конечно, если дело не спешное, предпочел бы иметь в своем распоряжении времени больше. – Если это предложение по чему-либо для альманаха не подходит, я доставлю несколько стихотворений, – также дней через 10–12.
С уважением
Валерий Брюсов.31. БРЮСОВ – МАКОВСКОМУ
3 апреля 1911 г. Москва
3 апреля 1911.Дорогой и многоуважаемый Сергей Константинович!
Возвращая Вам корректуру стихов, извиняюсь, что нашел нужным несколько переделать последнее стихотворение.[1907] В нем есть что-то недоговоренное. Кажется, даже после поправок мысль моя не вполне ясна.
Весьма сожалею, что не мог предложить «Аполлону» ничего более существенного. Редакторская работа совсем меня поглотила. А то немногое, что мне удается написать, мне естественно приходится раньше всего предлагать «Русской Мысли». Я помню, однако, свое обещание – написать для «Аполлона» теоретическую статью, на тему о назначении поэзии, и надеюсь на летние месяцы, когда будет у меня больше свободных часов, чтобы это обещание исполнить.[1908]
«Аполлон» очень интересен. Смело утверждаю, что это превосходный журнал. «Хроника» гораздо более подлежит критике, и прежде всего она не полна, и иногда не столько субъективна (это не порок), сколько произвольна. Все хочу присылать Вам различные замечания о литературных и художественных событиях дня. В голову они приходят, да записывать некогда!
Душевно Ваш Валерий Брюсов.32. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
18 апреля 1911 г. Царское Село
18 апреля 1911.Дорогой и многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Благодарю Вас сердечно за похвалы «Аполлону» и обещание написать летом давно ожидаемую нами статью о поэзии.[1909] Я думаю, не нужно повторять Вам, с какой радостью печатали бы мы и те мелкие «замечания о литературных и художественных событиях», о которых Вы пишете. Позвольте мне надеяться, что и эта данная вскользь «надежда» когда-нибудь осуществится. Об отношении к Вашей деятельности «Аполлона» Вы можете судить по многим статьям; докажите же на деле Ваше желание поддержать молодой и все еще не вполне определившийся журнал! Кстати, что разумеете Вы под «произвольностью» Хроники? Относится ли это ко всему напечатанному петитом, или только к «Летописи»?[1910] Зная Ваше хорошее мнение об «Аполлоне», я могу рассчитывать на полную откровенность, – не правда ли? Хроника, разумеется, самый трудный отдел. Чтобы сделаться полной, она должна была бы вырасти по крайней мере в три раза, но сделать ее не произвольной – обязанность редакции, и потому откровенные указания в этом смысле – глубоко важны.
Простите, что отвечаю Вам не тотчас, но на праздниках[1911] я хворал и не брал пера в руки.
Душевно Ваш Сергей Маковский.33. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
Апрель – начало мая 1911 г. Петербург
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
позволяю себе обратиться к Вам с одним вопросом, чтобы, в случае определенного ответа, сделать Вам одно предложение.
Есть у Вас в «Русской Мысли» какая-нибудь статья об «Эдипе» Рейнгардта или нет?[1912] Если нет, и если Вы предполагали бы дать об этом спектакле отзыв, то не мог ли бы я прислать Вам для прочтения свою статью, над которой я сейчас работаю и которую кончу на днях?
Т<ак> к<ак> в «Аполлоне» об «Эдипе» уже 3 раза говорено,[1913] то я свою работу туда не могу предлагать, а между тем мне было бы приятно ее напечатать, т<ак> к<ак> я не читал нигде отзывов, которые были бы близки моим мнениям.
Я осуждаю «Эдипа», как спектакль, во-первых, а во-вторых – как попытку воссоздания античной трагедии, ибо драматизация хора кажется мне варварством, особенно в применении Софокла, а драматизация вестников кажется мне противоречащим архитектонике трагедии. А ведь в создании хора и вестников и лежит главная трудность греческого театра.
Но я рассматриваю спектакль с точки зрения народного театра и нахожу, что для какого-то «пятитысячного» жителя – в этом спектакле найден принцип верной постановки. Теперь уже будет лишь практическое применение принципа, и надо будет найти соотношение, которое должно удовлетворить грубость и дальность зрителя из толпы и изысканность и интимность ближайшего зрителя. Здесь сходятся пути исканий театра-цирка с камерными спектаклями.
Словом – статья (не большая) чисто театральная.
Если Вы предполагаете печатать статью об «Эдипе» (который в Москве, судя по газетам, не пойдет); если у Вас нет еще статьи о нем; если Вам не кажутся совершенно неприемлемыми или неверными основоположения моей работы, – Вы, м<ожет> б<ыть>, позволите мне прислать Вам ее хотя бы для прочтения.
Преданный Вам Евг. Зноско-Боровский.34. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
15 мая 1911 г. Петербург[1914]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
мне очень совестно, что, сам вызвавшись прислать Вам статью об Эдипе, до сих пор не сделал этого. Но я был совсем отвлечен от работы спектаклем «Интермедии»[1915] и срочной статьей для «Аполлона».[1916] Теперь я статью об «Эдипе» переписываю и вышлю ее Вам во вторник.[1917] Надеюсь, что она не опоздает, и Вы будете иметь возможность поступить с ней так, как она сама заслуживает, а не под влиянием внешних обстоятельств.
Ваш Евг. Зн. – Б.35. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
Около 17 мая 1911 г. Петербург
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
сегодня заказной бандеролью я высылаю Вам статью об «Эдипе» и очень прошу Вас быть к ней снисходительным, хотя я буду Вам только благодарен, если Вы, в случае ее неудовлетворительности, не напечатаете ее. Мне не совсем, по-моему, удался ее конец, но снова переделывать его – значило бы отложить посылку еще на несколько дней. И вот я очень прошу Вас: если статья не понравится Вам, быть столь любезным вернуть мне ее; если в ней понадобятся мелкие исправления, сделать их по Вашему усмотрению; если же исправления нужны более значительные, то не откажите мне о них сообщить, и я сделаю их в один день. И еще был бы я Вам очень благодарен, если бы Вы – в том благоприятном для меня случае, что статья будет принята, – прислали мне корректуру: я ее не задержу.
Остаюсь с совершенным уважением
Евгений Зноско-Боровский.36. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
29 мая 1911 г. Петербург[1918]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
я Вам очень благодарен за Ваше письмо и был бы страшно рад, если бы нашлось для моей статьи место в июльской книжке.[1919] Изменение конца мне и самому кажется нужным, т<ак> к<ак> я начинаю придавать некоторое значение тому «дурному примеру», который заключен в постановке Рейнгардта.[1920]
Я пишу это потому, что понимаю Ваше письмо буквально, так, как оно написано; а может быть, я ошибаюсь?
Мы очень ждем от Вас осенью Вашей статьи для «Аполлона»: «Должна ли поэзия быть глуповатой?».[1921] Или, м<ожет> б<ыть>, другая статья больше заняла бы Вас? Статья, во всяком случае, была бы очень нужна.
Всего лучшего. С полным уважением
Ваш Евгений Зноско-Боровский.37. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
26 июля 1911 г. Петербург
26 июля 1911 г.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
вернувшись только что в Петербург и раскрыв последнюю книжку «Русской Мысли», я с большой радостью увидел там свою статью, на появление которой я, не получая ни корректуры, ни извещений, уже перестал и надеяться.[1922] Тем сильнее была моя радость и с тем большим жаром хочу я Вас поблагодарить за помещение статьи, которое для меня имеет очень важное значение. Я хотел бы надеяться, что она и журналу не причинит огорчения.
Если в «Русской Мысли» полагаются оттиски, м<ожет> б<ыть>, Вы будете так любезны распорядиться о присылке мне их, так же как и моей рукописи, которая мне нужна, как документ в той части, которая сокращена.
Еще раз – благодарю Вас.
Всего лучшего.
Ваш Евгений Зноско-Боровский.38. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
6 сентября 1911 г. Петербург
6 сентября 1911.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Н. С. Гумилев передавал редакции «Аполлона» о том, что у Вас есть готовая трагедия, которую, может быть, можно было бы получить из «Русской Мысли» для нашего Альманаха.[1923] Нечего и говорить, что мы ее очень хотим и были бы Вам горячо благодарны, если бы Вы нам ее прислали, и очень просим Вас приложить все усилия, чтобы «Русская Мысль» передала ее нам.
С совершенным уважением
Евгений Зноско-Боровский.39. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
1 ноября 1911 г. Петербург[1924]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
как жаль, что Ваши стихи пришли в воскресение![1925] Приди они хотя двумя днями раньше, я еще сумел бы как-нибудь им найти место, а теперь это невозможно: уже отпечатаны 2 листа, пагинация установлена окончательно, и сделать ничего нельзя.[1926]
Т<ак> к<ак> Серг<ея> Конст<антинович>а сейчас нет в Петербурге, я пересылаю ему Ваши стихи, что<бы> он, прочитав их, предложил Вам, печатать ли их в № 10 или в следующий Альманах. Однако, он еще неизвестно, когда выйдет.
Очень неприятно, что так не случилось.
Всего лучшего. Ваш Евгений Зноско-Боровский.40. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
28 ноября 1911 г. Петербург[1927]
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
мы получили посланный Вами рассказ г-жи Корено<?> «Сафо», но воспользоваться им не могли, т<ак> к<ак> он уже прежде был у нас и не очень понравился.[1928]
Что касается Вашего прошлого письма, то я потому не отвечал, что хотел не выйти из роли простого передатчика и посредника, каким я в этом деле являюсь, и переслал как стихи Ваши, так и письмо Сер<гею> Конст<антинович>у.[1929]
С совершенным уважением Евгений Зноско-Боровский.
41. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
2 февраля 1912 г. Царское Село
2 февр<аля> 1912. Царское Село. Новая ул. 2.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Мне хотелось бы приложить все старания к тому, чтобы при печатании нашего следующего «Альманаха» не повторилось то досадное опоздание Вашей рукописи, о котором Вы упоминаете в Вашем письме к Зноско-Боровскому.[1930] Поэтому очень прошу Вас прислать ее, не ожидая крайнего срока! К тому же я бы хотел, – конечно, если Вы – не против, – приложить к «Протесилаю Умершему» графический рисунок, т<ак> к<ак> «Альманах» будет иллюстрированный.[1931] Для этого тоже необходимо время. Гонорар, о котором Вы пишете, мог бы быть уплачен Вам вперед, по получении рукописи…
«Альманах» выйдет, во всяком случае, не позже октября 1912 г., но, м<ожет> б<ыть>, и на месяц раньше, а печатать его (ввиду технических сложностей, в связи с иллюстрациями) думаю летом, в месяцы отдыха от журнала. Мне чрезвычайно досадно, что Ваши стихи не начали серии аполлоновских «Альманахов»; я на это очень рассчитывал, и теперь сожалею, что поручил другим ведение переговоров с сотрудниками. Отсюда – все недоразумения и оплошности. Как редактор журнала, Вы должны понимать меня и посочувствовать мне… Кроме драмы, я надеюсь, что Вы пришлете еще несколько лирических стихотворений: ими я бы начал книгу.
Будете ли в Петербурге? посетите ли французскую выставку?[1932] Лишнее говорить Вам, что я занят до потери сознания этим огромным делом и потому прошу снисходительности за растерзанность этого письма.
Крепко жму Вашу руку.
Искренно Вас чтущий
Ваш Сергей Маковский.42. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
18 февраля 1912 г. Царское Село
18 февр<аля> 1912. Царское С<ело>. Новая, 2.Дорогой Валерий Яковлевич,
Может быть, до Вас уже дошел слух о том, что литературный Петербург собирается чествовать Бальмонта по случаю двадцатипятилетия его литературной деятельности. Форма чествования – торжественное заседание Нео-филологического О<бщест>ва[1933] с речами, адресами, приветствиями и другими «юбилейными» атрибутами. Характер же предполагается – самый широкий, с представителями, по возможности, от всех лагерей, даже от… «Русского Богатства».[1934] Идея этой всеобщности принадлежит Вячеславу Иванову, но в конце концов все участники (Зелинский, Батюшков, Аничков, Блок, гр. Толстой, редакция «Аполлона»)[1935] согласились с тем, что «Бальмонту» прошла достаточная давность для объединения всех на его имени… Только сегодня выяснился день: 11 марта, днем, в зале Земского собрания, на Кабинетской.[1936] Как видите, времени остается чрезвычайно мало, а хотелось бы вспомнить Бальмонта так, как он этого заслуживает! Пишу Вам по просьбе Комитета, чтобы горячо настаивать (хотя и знаю, как Вы заняты!) на Вашем ближайшем участии в осуществлении нашего проекта – в качестве друга Бальмонта и лучшего представителя литературы русской в Москве! Сейчас мне трудно было бы даже сказать, что мы ждем от Вас… но я не представляю себе чествования К. Д. без Вашего появления на нем, без Вашей хотя бы краткой речи, – наконец, без Вашего покровительства этому делу в Москве. Ведь я не заблуждаюсь? Простите за почерк. Очень тороплюсь, уже начались «устроительские хлопоты»; не оставляйте нас без Вашего ободряющего слова. С нетерпением буду ждать ответа.
Сердечно Вам преданный
Сергей Маковский.43. БРЮСОВ – МАКОВСКОМУ
25 февраля 1912 г. Москва[1937]
Москва, 25-го февраля, 1912 г.Дорогой Сергей Константинович,
Мне бы очень хотелось приехать на «праздник Бальмонта», но я поистине не принадлежу себе. Бывают недели, когда я не могу отнять у очередной работы не только несколько дней, но даже 2–3 часа. Во всяком случае, обещаю Вам, что сделаю все возможное, чтобы освободиться к указанному Вами дню и приехать в Петербург. Окончательно о своем решении извещу Вас заблаговременно.[1938]
Ваш Валерий Брюсов.P. S. Всё те же неотложные дела не позволяют мне закончить некоторые поправки в моей трагедии «Протесилай», без которых ее нельзя и переписывать. Думаю, что все-таки в скором будущем доставлю ее Вам.[1939]
44. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
13 мая 1912 г. Царское Село
Мая 13 1912. Царское Село, Новая ул., 2.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Не сетуйте на меня слишком за долгий неответ на Ваше письмо:[1940] я менее виноват, чем Вы думаете. Вы адресовали это письмо на Гусев пер., 6,[1941] где я не живу около трех лет уже; оттуда оно попало на квартиру моей матери, которой не было в Петербурге, и я был далек от мысли, что оно ожидает меня там. В результате я получил его только на днях. Благодарю Вас очень за «Протесилая Умершего» и радуюсь мысли, что, наконец, в «Альманахе» «Аполлона» будет Ваше большое произведение. С удовольствием исполнил бы свое предложение об уплате гонорара немедленно, но очень прошу Вас разрешить мне маленькую отсрочку относительно всей суммы. Я распоряжусь об отправке Вам 150 рублей завтра же, а вторую половину – позвольте мне отложить до конца июня, т<ак> к<ак> в настоящее время, перед летним всеобщим разъездом, у нашего издательства расходы неимоверные! Но, конечно, если это для Вас вопрос существенный, то я сейчас же дошлю остальные 150 рублей. Корректуру Вы получите в середине июля.
Еще раз извиняюсь за мою невольную неаккуратность и прошу Вас верить в мою искреннюю преданность и уважение.
Ваш Сергей Маковский.45. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
12 июня 1912 г. Хоста
Хоста Черноморской губ. Имение г. Картавцева.12 VI 1912.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
уехав в конце апреля до середины июля из Петербурга, я только что кончил небольшую статью о спектаклях «Старинного Театра».[1942] Не видав двух последних книжек «Русской Мысли» и не зная, была ли помещена там чья-нибудь заметка об этих спектаклях, я позволяю себе просить у Вас разрешения прислать ее Вам для прочтения и, если пригодится, для помещения в «Русской Мысли». Отношение мое к «Старинному Театру» таково. Считая, что театр есть не только пьеса, я нахожу весьма удачной мысль ставить старые пьесы в современной им обстановке, однако, вижу полную невозможность сколько-нибудь точной реставрации. Признавая, таким образом, необходимость «фантазировать», я утверждаю, что «Ст<аринный> Т<еатр>» забавлялся разными сценическими мелочами, пренебрегая характером Испании и ее театра, и не придерживался того, что вполне определенно известно, напр<имер>, искажал и сокращал текст.
Я буду Вам очень благодарен, если Вы ответите мне на это письмо сюда, где я буду до 1-го июля. Если в «Русск<ой> Мысли» уже была статья о «Ст<аринном> Т<еатре>», я вполне пойму невозможность помещения второй, но если моя статья будет найдена Вами годной к печати, я буду просить Вас не отказать в любезности ее внимательно проредактировать и прокорректировать (вполне предоставляя изменить ее), т<ак> к<ак>, не имея здесь пишущей машины, я несколько затруднен в окончательной отделке ее.
Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.
Евгений Зноско-Боровский.
46. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
10 июля 1912 г. Петербург
Звенигородская ул. 20. СПб.Вторник 10 VII 1912.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
случилось так, что я экстренно был принужден уехать с Кавказа, а потому Ваше письмо нашло меня уже в СПб.[1943] Отсюда – маленькая задержка в отсылке статьи.[1944] Я тороплюсь послать ее сегодня же и для этого оставляю у себя еще самый конец (ровно 1½ стр.) для некоторых исправлений, – иначе я опоздаю на поезд.
Если Вы найдете возможным напечатать статью, очень прошу Вас подвергнуть ее жесточайшей корректуре и каким угодно исправлениям (если бы Вы могли мне прислать корректуру, был бы Вам очень признателен), – если она не пойдет, не откажите вернуть рукопись. Примите уверение в моем совершенном уважении.
Тороплюсь,
Ваш Евгений Зноско-Боровский.47. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ – БРЮСОВУ
24 августа 1912 г. Петербург
24/VIII 1912.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
сегодня в объявлении об августовской книжке «Русской Мысли» я прочитал, что в ней помещена статья моя о Старинном Театре,[1945] и это дает мне смелость, после горячей благодарности Вам за Вашу снисходительную любезность, обратиться к Вам с настоящим письмом.
Передав ведение театрального отдела «Аполлона» вернувшемуся в СПб. Серг<ею> Абр<амовичу> Ауслендеру,[1946] я освободился от скучной обязанности рецензировать каждый спектакль, но в то же время лишился постоянного места для печатания своих статей. Вместе с тем я отказался и от обязанностей секретаря редакции этого журнала и, таким образом, получил довольно много свободного времени.[1947]
Все эти обстоятельства и побуждают меня предложить Вам свое сотрудничество для ведения более или менее регулярных театральных писем из СПб. Я не хочу вовсе писать обо всякой постановке; не думаю так же делать это с педантическою аккуратностью; не претендую на то, чтобы никто, кроме меня, не смел давать всех рецензий о театрах СПб., – но, если мои взгляды, вкусы, манера писать Вам не кажутся для «Рус<ской> Мысли» вовсе неподходящими, то мне было бы приятно иметь возможность на страницах этого журнала излагать свои впечатления от важнейших событий грядущего театрального сезона.
Когда принципиально Вы не отвергнете моего предложения, я позволю себе просить Ваших указаний относительно разных подробностей в его осуществлении.[1948]
Примите уверение в моем уважении и преданности.
Евгений Зноско-Боровский.48. БРЮСОВ – МАКОВСКОМУ
9 января 1913 г. Москва
9 января 1913.Многоуважаемый Сергей Константинович!
С большой неохотой, но по совершенной необходимости, я принужден тревожить Вас запросом о судьбе моей драмы «Протесилай Умерший», находящейся в Вашем распоряжении уже свыше года.[1949] Она включена в один из томов собрания моих сочинений, издаваемого к<нигоиздательст>вом «Сирин»,[1950] и потому для меня важно напеча<та>ть ее в журнале с таким расчетом, чтобы отдельное изд<ание> драмы не появилось тотчас вслед. Между тем в объявлениях «Аполлона» нет даже указаний на подготовление к печати его 2-го альманаха, для которого, если не ошибаюсь, моя драма предназначалась.
Не будете ли Вы так любезны – сообщить мне, имеете ли Вы в виду издать этот альманах и когда именно. Если же издание альманаха отложено на неопределенное будущее, не лучше ли будет мне взять свою драму обратно? Я тогда постараюсь ее поместить в каком-либо другом изд<ании>, причем, конечно, сочту своей обязанностью вернуть Вам полученный мною аванс.
Еще раз извиняюсь, что затрудняю Вас такой просьбой, которая самому мне крайне неприятна. Но, может быть, Ваши предположения относительно издания альманаха изменились, – и в таком случае предлагаемое мною решение судьбы моей драмы будет удобно и для Вас. Если же Ваш альманах должен появиться к определенному сроку, я, конечно, оставляю «Протесилая» в Вашем распоряжении.
Дружественно Вам преданный
Валерий Брюсов.49. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
12 февраля 1913 г. Петербург[1951]
12 февраля 1913.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Мне очень, очень досадно, но все же обстоятельства вынуждают меня согласиться на Ваше предложение и отдать Вам «Протесилая Умершего»…[1952] Дело в том, что я совершенно не могу сказать, когда выйдет следующий «Альманах» «Аполлона».[1953] В этот сезон (до лета) срок уже пропущен, но и насчет осени я не уверен, так как при нынешней литературной «конъюнктуре» составить интересный сборник – дело совсем не легкое… Вообще многому, в области издательской, о чем я думал год назад, по-видимому, не суждено осуществиться – отчасти вследствие огромных убытков французской выставки «Аполлона»,[1954] отчасти в связи с общим унынием книжного рынка. Я очень виноват перед Вами и очень извиняюсь за «Протесилая». Давно уже я хотел принести Вам «повинную», но все надеялся на изменение к лучшему издательских обстоятельств. Теперь Вы сами разрешили вопрос, и я вижу, что дальнейшие отсрочки невозможны.
Будете ли скоро в Петербурге? Все мы счастливы были узнать, что Вы не покидаете «Русскую Мысль»,[1955] а следовательно, есть надежда увидеть Вас в «Аполлоне».
Крепко жму Вашу руку.
Преданный Вам искренно
Ваш Сергей Маковский.50. МАКОВСКИЙ – БРЮСОВУ
1 апреля 1914 г. Москва
1 апреля 1914. Национальная гост<иница>. Тел. 194 – 31.Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Позвольте мне, – в качестве устроителя русского художественного отдела на выставке «книги и графики» в Лейпциге,[1956] – обратиться к Вам с большой просьбой. Не согласились ли бы Вы одолжить для этой выставки один – два из принадлежащих Вам рисунков Судейкина?[1957] Мне удалось собрать очень интересные работы многих художников, но нет Судейкина, а, по его словам, лучшие из его графических произведений находятся у Вас.
Если бы Вы могли уделить мне, сегодня вечером около десяти, четверть часа, то я бы с удовольствием заехал к Вам, чтобы взять эти рисунки и поблагодарить Вас лично. В Петербург я возвращаюсь уже завтра.
Искренно уважающий Вас и преданный
Сергей Маковский.Библиографическая справка
Некоторые работы, включенные в настоящее издание, печатаются с более или менее пространными дополнениями и уточнениями по сравнению с указываемыми здесь первоначальными публикациями.
«Чаю и чую». Личность и поэзия Ивана Коневского. – Коневской Иван. Стихотворения и поэмы / Составление, подготовка текста и примечания А. В. Лаврова. СПб.; М.: ДНК – Прогресс-Плеяда, 2008. С. 5 – 66 («Новая Библиотека поэта»).
Иван Коневской: перспективы освоения творческого наследия. – Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VII. Новая серия. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. C. 192–207.
Иван Коневской – полемист. – Русская литература. 2008. № 1. С. 211–221.
Ранний Метерлинк в ранних российских толкованиях: Иван Коневской. – Вестник истории, литературы, искусства. Т. 6. М.: Собрание, 2009. С. 408–423.
Валерий Брюсов и Людмила Вилькина. – Лица: Биографический альманах. Вып. 10. СПб.: Феникс – Дмитрий Буланин, 2004. С. 279–290 (Предисловие к публикации: Валерий Брюсов и Людмила Вилькина. Переписка / Подготовка текста А. Н. Демьяновой, Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова. Публикация и комментарии Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова).
Валерий Брюсов и Нина Петровская: биографическая канва к переписке. – Валерий Брюсов – Нина Петровская. 1904–1913 / Вступительные статьи, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 5 – 41.
«Санаторная встреча» (Мария Вульфарт в жизни и стихах Валерия Брюсова). – «Радость ждет сокровенного слова…» Сборник научных статей в честь профессора Латвийского университета Людмилы Васильевны Спроге. Рига: Изд-во Латвийского университета, 2013. С. 151–157.
Эдгар По в Петербурге: контуры легенды. – От слов к телу. Сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 129–143.
Юрий Сидоров: на подступах к литературной жизни. – A Century’s Perspective. Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes (Stanford Slavic Studies. Vol. 32). Stanford, 2006. P. 38–62.
Вячеслав Иванов и Александра Чеботаревская. – Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 238–255 (Вступительная статья к публикации А. В. Лаврова «Письма Вячеслава Иванова к Александре Чеботаревской»).
Французская выставка под знаком «Аполлона». – Западный сборник. В честь 80-летия Петра Романовича Заборова. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2011. С. 221–238.
О «шотландском» мотиве в поэзии Георгия Иванова. – Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. С. 280–286.
«Взвихрённая Русь» Алексея Ремизова: символистский роман-коллаж. – Ремизов А. М. Собрание сочинений. <Т. 5>. Взвихрённая Русь. М.: Русская книга, 2000. С. 544–557.
Вслед Тименчику. Несколько заметок на полях прочитанного. – Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М.: Водолей Publishers, 2005. С. 202–214.
Поэт Иван Бездомный и его литературное окружение. – Varietas et Concordia. Essays in Honour of Professor Pekka Pesonen. On the Occasion of His 60-th Birthday (Slavica Helsingiensia. 31). Helsinki, 2007. P. 388–397.
Андрей Белый и «кольцо возврата» в «Защите Лужина». – The Real Life of Pierre Delalande. Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin. Part 2 (Stanford Slavic Studies. Vol. 34). Stanford, 2007. C. 539–554.
Владимир Набоков в поисках утраченного времени: «Забытый поэт». – Авангард и остальное. Сборник статей к 75-летию Александра Ефимовича Парниса. М.: Три квадрата, 2013. С. 511–522.
«Судьбы скрещенья». Теснота коммуникативного ряда в «Докторе Живаго». – Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 241–255.
К истории журнала «Новый Путь»: официальные документы. – «Габриэлиада». К 65-летию Г. Г. Суперфина.
Голос с «Башни»: «Венок из фиговых листьев» Максимилиана Волошина. – Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб.: Филологический факультет С. – Петербургского гос. ун-та, 2006. С. 74–84.
Вячеслав Иванов и Максимилиан Волошин в 1907 году (Эпистолярные иллюстрации). – Donum homini universalis. Сборник статей в честь 70-летия Н. В. Котрелева. М.: ОГИ, 2011. С. 143–161.
Дружеские послания Вячеслава Иванова и Юрия Верховского. – Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура. Материалы международной научной конференции 9 – 11 сентября 2002 г. Томск; М.: Водолей Publishers, 2003. С. 194–219.
Леонид Семенов – корреспондент Андрея Белого. – Россия и Запад. Сборник статей в честь 70-летия К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 226–247.
«Прекрасный рыцарь Парсифаль»: М. И. Сизов – корреспондент Андрея Белого. – Параболы. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad. Frankfurt am Main: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011. C. 65–99.
Андрей Белый – путешественник по Средиземноморью (Новые материалы). – Laurea Lorae. Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 381–388.
Андрей Белый и Эллис о задачах «Мусагета». – Russian Literature. 2005. Vol. LVIII–I/II. C. 93 – 107.
Книга Эллиса «Vigilemus!» и раскол в «Мусагете». – Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты: Исследования и материалы. М.: РГГУ, 2014. С. 13–33.
Лейб Яффе и «Еврейская антология». К истории издания. – Художественный перевод и сравнительное изучение культур (Памяти Ю. Д. Левина). СПб.: Наука, 2010. С. 120–138.
Автобиографии А. А. Кондратьева. – ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М.: Индрик, 1998. С. 770–787.
В. А. Мануйлов – ученик Вячеслава Иванова. – Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2010. С. 620–669.
Владимир Щировский – корреспондент Максимилиана Волошина. – Озерная школа. Труды пятой Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской обл., 2009. С. 68–76.
Штрихи к биографии Андрея Белого и К. Н. Бугаевой (По материалам архива Д. Е. Максимова). – Литература как миропонимание. Literature as a World View. Festschrift in honour of Magnus Ljunggren. Göteborg: University of Gothenburg, 2009. C. 179–204.
Письма Д. С. Мережковского к С. Я. Надсону. – Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 174–192.
«Сирин» – дневниковая тетрадь А. М. Ремизова. – Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб.; Салерно: Europa Orientalis, 2003. C. 229–248.
Валерий Брюсов и журнал «Аполлон». Переписка с С. К. Маковским и Е. А. Зноско-Боровским. – Печатается впервые.
Список сокращений
ГЛМ – Отдел рукописей Государственного литературного музея (Москва).
ГРМ – Сектор рукописей Государственного Русского музея (С. – Петербург).
ИМЛИ – Рукописный отдел Института мировой литературы им. М. Горького (Москва).
ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (С. – Петербург).
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
РГИА – Российский государственный исторический архив (С. – Петербург).
РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С. – Петербург).
ЦГАЛИ СПб. – Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга.
ЦГИА СПб. – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
ЦГИАМ – Центральный государственный исторический архив Москвы.
Сноски
1
Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин, 1923. С. 10.
(обратно)2
Паперный З. Блоковская конференция в Тарту // Вопросы литературы. 1975. № 9. С. 309. Работа З. Г. Минц о Коневском, представлявшая собой общий обзор его жизни и творчества, к сожалению, не была оформлена автором в текст статьи и доведена до печати.
(обратно)3
Бобров С. О лирической теме // Труды и Дни на 1913 год. Тетрадь 1 и 2. С. 135.
(обратно)4
Наиболее развернутый обзор сведений об этом представлен в обстоятельной статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 151–178).
(обратно)5
В частности, в новейшем издании Института мировой литературы РАН «Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов)» (Кн. 1–2. М., 2000–2001) нет даже краткой общей характеристики творчества Коневского, а имя поэта упоминается лишь попутно.
(обратно)6
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 180.
(обратно)7
Памяти Ивана Ивановича Ореуса (1830–1909) / По воспоминаниям друзей и почитателей составил М. Будагов. СПб., 1910. С. 3.
(обратно)8
Приведено в предисловии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса к публикации переписки В. Я. Брюсова с И. И. Ореусом-отцом (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 532). См. также полный послужной список И. И. Ореуса (1896) (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 33204. Л. 6 – 13).
(обратно)9
Перечень литературных трудов И. И. Ореуса приведен в приложении к указанной выше книжке «Памяти Ивана Ивановича Ореуса».
(обратно)10
Памяти Ивана Ивановича Ореуса. С. 7.
(обратно)11
Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. VII.
(обратно)12
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 3.
(обратно)13
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 2–1 об. См. также извлечения из биографии Авизова и другие записи из «словаря» Росамунтии в кн.: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 221–222.
(обратно)14
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 6. 119 лл.
(обратно)15
Там же. Ед. хр. 1. 145 лл.
(обратно)16
Там же. Л. 3.
(обратно)17
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 5.
(обратно)18
Там же. Ед. хр. 1. Л. 3.
(обратно)19
См. статью Л. Ф. Гучковой об И. А. Панаеве в кн.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 519–520.
(обратно)20
См.: Воспоминания Ипполита Панаева / Публикация С. Рейсера // Литературное наследство. Т. 49–50. Н. А. Некрасов. I. М., 1946. С. 535–548.
(обратно)21
Разыскатели истины / Составил Ипполит Панаев. СПб., 1878. Т. 1. С. V–VI.
(обратно)22
Коневской И. Записная книжка № 4. 1896–1897 // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 59 об. В тетради, озаглавленной «Дума, сердце и размахи. Некоторые размышления» («Начато 27 августа 1893 г., в гимназии. Писано в продолжении зимы 1893 – 94 гг.»), Коневской также называет указанную книгу Гейне как один из источников почерпнутых сведений о философии Канта (Там же. Ед. хр. 2. Л. 1).
(обратно)23
Ср. его рассуждения, вынесенные под рубрику «Мысли»: «Высшая перед всеми прочими религиозными учениями спасительность и благотворность христианского учения, по-истинне бесконечная и неисчерпаемая, открывается в том, что оно одно обусловливает непрерывный и бесконечный нравственный прогресс, рост, движение вперед человечества, происходящий от вечно неудовлетворенного стремления к идеалу нравственного совершенства, поставленного нам Христом, как единственное руководство нашего нравственного поведения, вечной погони за ним; но в этой вечной неудовлетворенности христианина степенью своего нравственного совершенства, в этом вечном отсутствии в нем полного довольства собою лежит высший залог или признак жизненности и благотворности учения, которое он исповедует, потому что эта вечная неудовлетворенность вечно и беспрестанно же мешает развиться в христианине косности, нравственному усыплению и происходящему отсюда нравственному застою или даже нравственной беспечности, вечно она держит христианина в бдительном состоянии, так сказать, настороже над своею душой, не дает ему ни одной минуты, так сказать, прикорнуть над своим нравственным совершенством», и т. д. (Коневской И. Записная книжка № 1. 1893–1895 // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 14 об. – 15).
(обратно)24
В его гимназическом деле имеется прошение Ореуса-отца директору 1-й гимназии (август 1890 г.) разрешить сыну «держать вступительный экзамен в последних числах текущего месяца», поскольку он «находится при матери, серьезная болезнь которой препятствует ее возвращению с юга России ранее конца августа» (ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 7784. Л. 10–10 об.).
(обратно)25
Там же. Л. 1.
(обратно)26
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 4 об.
(обратно)27
Коневской Иван. Стихи и проза. С. VIII.
(обратно)28
Там же. С. VIII–IX.
(обратно)29
Синакевич О. В. Жили-были. Воспоминания. Тетрадь 10-я. Ч. III. Юность 1894–1900 гг. Зима 1896 – 97 // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 20–20 об.
(обратно)30
Фотография поднесена О. В. Яфе, текст записан рукой А. Я. Билибина: «Радушной и мудросердой настоятельнице братства Св. Захария и Елисаветы от синклита беснующихся. Декабрь 1899». Подписи: «Ив. Билибин. Иван Ореус. А. Билибин. Florestan absens» (последний – А. Ф. Каль) (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 521). Употребленное обозначение имело хождение в их дружеской среде; ср. письмо А. Я. Билибина к И. С. Шохор-Троцкой от 8 января 1900 г.: «Из всего “синклита беснующихся” в Питере в настоящую минуту обретаюсь один я ‹…› оба, т. е. мой брат и Гермагор, находятся в Москве» (Гермагор – прозвище Коневского); подпись под письмом: «один из цикла беснующихся Асканий» (Там же. Ед. хр. 490).
(обратно)31
Яфа-Синакевич О. В. <Захарьевские собрания>. Зима 1896–1897 гг. // Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Редактор-составитель С. В. Голынец. Л., 1970. С. 130. Исправлено по автографу: РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 22 об.
(обратно)32
Коневской Иван. Стихи и проза. С. IX.
(обратно)33
В статье «Иван Коневской. Поэт мысли» Н. Л. Степанов сообщает, что архив Коневского был передан И. И. Ореусом-отцом В. Я. Брюсову и Н. М. Соколову «за исключением чистовых альбомов со стихами» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 188).
(обратно)34
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1.
(обратно)35
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 33204. Л. 22, 23, 29, 30, 44.
(обратно)36
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 183.
(обратно)37
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 63 об. – 64.
(обратно)38
См. об этом в указанной статье Н. Л. Степанова (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 184). Ср. фрагмент из письма Н. М. Соколова, друга Коневского и товарища по «Литературно-мыслительному кружку», к И. И. Ореусу-отцу: «18-летним юношей он будил в других такое же уважение к себе, какого иной не удостоивается и в 30 лет. Но его не только уважали, его любили, любили крепко, беззаветно за его живую душу. Он не только честно, серьезно относился к своим идеям, но и давал им плоть и кровь. ‹…› Идеалист во всем – он не считал того, что давал» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 535).
(обратно)39
Маковский Сергей. Портреты современников. М., 2000. С. 410, 412–413.
(обратно)40
См.: Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 89 – 149.
(обратно)41
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. 63 лл. Рукописи этих статей Коневской раздавал знакомым для прочтения (ср. его письмо к Вл. В. Гиппиусу от 29 мая 1898 г.: «С сегодняшнего вечера при мне будет мой очерк о “Современных французских лириках” (первые две части: Лафорг, Вергэрен), так что, если хотите, зайдите на этих днях ко мне <на> квартиру и возьмите его с собой на все лето. А “Современных русских лириков” я от Лаппо-Данилевского не достал» (ИРЛИ. Ф. 77. Ед. хр. 217). Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1918) – историк, археограф, академик (с 1899 г.); секретарь Исторического общества при Петербургском университете).
(обратно)42
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 19 об.
(обратно)43
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 8.
(обратно)44
В воспоминаниях Вл. В. Гиппиуса о Коневском, записанных в 1930-е гг. Н. Л. Степановым, сообщается: «Ореус был гегельянцем. Над его кроватью висело изображение Гегеля (вырезал его портрет из коллекции гравюр)» (приведено в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» в кн.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 176). Мы не располагаем, однако, ни прямыми авторскими указаниями, ни косвенными аргументами, которые свидетельствовали бы о том, что Коневской выделял этого немецкого философа из ряда многих им воспринятых как главного властителя своих дум. О круге философских интересов Коневского см.: Grossman Joan Delaney. Neo-Kantianism, Pantheism, and the Ego: Symbolist Debates in the 1890’s // Studies in East European Thought. 1995. Vol. 47. № 3/4. Р. 183–188.
(обратно)45
Жюль Эрнест Навиль (1816–1909) – швейцарский писатель, реформатский богослов; автор книг «Вечная жизнь» («La vie éternelle», 1861), «Отец небесный» («Le père céleste», 1865), «Проблема зла» («Le problème du mal», 1868) и др.
(обратно)46
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 14.
(обратно)47
В автографе описка: «явился».
(обратно)48
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 25–25 об. Год рождения К. Д. Бальмонта указан неверно; в действительности – 1867.
(обратно)49
ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 302.
(обратно)50
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 413.
(обратно)51
Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М., 2002. С. 188.
(обратно)52
См.: Иван Коневской. Письма к Вл. Гиппиусу / Публикация И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 79–98.
(обратно)53
РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 328. Л. 5.
(обратно)54
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 410. Одно из документальных свидетельств об этих собраниях – записка Коневского к Вл. Гиппиусу (6 марта 1899 г.): «Прошу Вас, милый Владимир Васильевич, не отказать мне в посещении в этот вторник вечером. Быть может, будет и Сологуб, и другие лица» (ИРЛИ. Ф. 77. Ед. хр. 217). Среди начинающих поэтов, приобретших впоследствии литературную известность, в числе знакомых Коневского был и Ю. Н. Верховский (в 1898–1902 гг. – студент историко-филологического факультета Петербургского университета); ср. замечание в письме Н. М. Соколова к В. Н. Верховскому (брату поэта) от 30 мая 1901 г.: «Юрию Никандровичу передайте, что Ореус скрывается где-то в Павловске, но где – неизвестно ‹…›» (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2087).
(обратно)55
Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 57.
(обратно)56
Подробнее см. в нашей статье «Брюсов и Иван Коневской» (Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 81 – 108), а также: Переписка <В. Я. Брюсова> с Ив. Коневским (1898–1901). Вступ. статья А. В. Лаврова. Публикация и комментарии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 424–532. Благодаря Брюсову стихи Коневского высоко оценили в кругу символистского издательства «Скорпион», а близкий друг юности Брюсова поэт А. А. Ланг (А. Л. Миропольский) вступил с их автором в деятельную переписку. 12 октября 1899 г. он признавался Коневскому: «Из нашего краткого знакомства я вынес самое теплое чувство к Вам», – а в письме от 20 февраля 1900 г. давал чрезвычайно высокую оценку его творчеству: «Я вижу по Вашим стихотворениям, что Вам предстоит широкий художественный путь. Ваша поэзия – поэзия великого чаяния, поэзия духа человека, и я первый зажигаю перед образом Вашего творчества священные лампады. ‹…› Вы завоевываете у Вечности территории и безвозмездно отдаете их слепым людям» (Ямпольский И. Г. Письма А. Миропольского к И. Коневскому // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С. 23, 25).
(обратно)57
См.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 185.
(обратно)58
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 54 об.; Ед. хр. 18. Л. 29 об.
(обратно)59
Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 464.
(обратно)60
Писатели символистского круга. С. 177. Иван Езерский, герой незаконченной поэмы Пушкина, привлекал внимание Коневского своей «варяжской» родословной: «…мой Езерский // Происходил от тех вождей, // Чей дух воинственный и зверский // Был древле ужасом морей» («Езерский», строфа II).
(обратно)61
Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 483 («Иван Коневской (1877–1901 гг.)», 1916). В этой же статье Брюсов сообщает, что поэт воспользовался псевдонимом по требованию отца: «…он не позволил сыну выступать в литературе под своим именем ‹…› Даже после безвременной кончины юноши Коневского генерал Ореус не разрешил назвать в печати настоящее имя поэта. Оно стало общеизвестно лишь по смерти генерала» (Там же. С. 485). Требование «не пропечатывать настоящей фамилии Вани» было выдвинуто в письме Ореуса-отца к Брюсову от 22 июля 1903 г. (см.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 546–547).
(обратно)62
Коневской Иван. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания А. В. Лаврова. СПб.; М., 2008. С. 94 («Новая Библиотека поэта»). Далее ссылки на это издание приводятся сокращенно в тексте – указанием в скобках номера страницы.
(обратно)63
Если один из рецензентов, поэт и филолог-классик Д. П. Шестаков, признавал, что в стихах Коневского «проглядывает иногда зачинающийся, но страшно невыработанный и недисциплинированный талант» (Литературное приложение к «Торгово-Промышленной Газете». 1900. № 5. 30 января. С. 4), то Вл. В. Гиппиус в своем приговоре был беспощаден: «До тех пор, пока Ив. Коневской не научится писать грамотнее, все, что бы он ни написал, останется вне литературы. “Мечты и думы” нельзя оценивать, потому что такие стихи и такую прозу невозможно читать; по крайней мере для этого требуется большое усилие, а усвоивать их содержание – даже труд. В чем же ручательство, что труд окупится глубоким смыслом их?» (Мир Искусства. 1900. № 5/6. С. 107. Подпись: В.).
(обратно)64
См.: Летопись литературных событий в России конца XIX – начала XX в. (1891 – октябрь 1917). Вып. 1. 1891–1900 / Редактор-составитель М. Г. Петрова. М., 2002. С. 406. Брюсов в очерке о Коневском отмечал, что газетная критика «Книги раздумий» поэта ни в малой мере не раздосадовала: «…он уверял даже, что приятно “попасть на зубок” уличному гаеру, ибо такова неизбежная стадия, через которую проходят все истинные таланты» (Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 487).
(обратно)65
Письмо к А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. // Писатели символистского круга. С. 177.
(обратно)66
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 9. 236 лл. В очерке «Иван Коневской» Брюсов сообщает о покойном поэте, что тот – «вероятно, в 1896-м или 1897 г.» – «писал во Францию своим любимым поэтам, Верхарну, Анри де Ренье и Фр. Вьеле-Гриффену, прося их сообщить некоторые подробности их биографии и рекомендуя себя как русского писателя, намеревающегося ознакомить, в переводах, русскую литературу с творчеством французских символистов. Я видел ответные письма, и, судя по ним, вопрос был составлен в выражениях, не оставляющих сомнения, что автор имеет все возможности исполнить свое намерение. Вероятно, французским поэтам не могло прийти в голову, что им пишет гимназист, не печатавший ни одной строки. ‹…› Позднее Коневской не раз говорил, как его смущает и тревожит, что он “все еще” не исполнил обещаний, данных Верхарну и др.» (Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 486–487). Никаких следов этой переписки в сохранившейся части архива Коневского не обнаружено. Из цикла переводов Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 9) на сегодняшний день опубликованы «Гимн к ночи» Новалиса (Золотое перо: Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах. 1812–1970 / Сост. Г. Г. Ратгауз. М., 1973. С. 394–399) и переводы из Ницше (Ф. Ницше в переводах И. Коневского / Предисловие и публикация А. В. Лаврова // Musenalmanach. В честь 80-летия Ростислава Юрьевича Данилевского. СПб., 2013. С. 161–199).
(обратно)67
Руководитель «Скорпиона» С. А. Поляков в письме к нему от 23 августа 1900 г. сообщал: «К сожалению, наше издательство не сможет воспользоваться Вашим предложением вполне и вот по каким причинам. У нас имеется намерение издать ряд небольших томиков переводов из новых поэтов, но так, чтобы каждый томик был посвящен одному писателю. Мы полагаем, что это будет иметь больший успех, чем тот род хрестоматии, который Вы предлагаете. Одним из таких томиков должен быть уже обещанный в наших объявлениях Verhaeren в переводе Валерия Яковлевича. Кроме того, в этот же ряд войдет третий том Эдгара По в переводе К. Д. Бальмонта. Если бы Вы могли представить нам целый томик переводов из Свинбёрна или Россетти, мы могли бы напечатать в виде одной из частей предполагаемого ряда» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 95).
(обратно)68
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 29 об. То же словосочетание Коневской использует в статье «Мистическое чувство в русской лирике» (1900), характеризуя «настроения сокровенные» у Тютчева: «…это – настроения непостижимые и восторгающие, чувства предвидения, предвкушения, предсказания, прозрения и прорицания, минуты ожидания и гадания, чаяния и чуяния ‹…›» (Коневской Иван. Стихи и проза. С. 202).
(обратно)69
Там же. С. XIII.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
См.: Кобринский А. А. «Жил на свете рыцарь бедный…» (Александр Добролюбов: слово и молчание) // Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 444–445 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)72
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 414.
(обратно)73
Коневской Иван. Стихи и проза. С. X.
(обратно)74
Цитируется по копии, восходящей к собранию Н. Л. Степанова.
(обратно)75
См. предисловие И. Г. Ямпольского к публикации писем Коневского к Вл. В. Гиппиусу (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. С. 82–83).
(обратно)76
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 1.
(обратно)77
Там же. Ед. хр. 25. Л. 17–18; Коневской Иван. Стихи и проза. С. 190–191.
(обратно)78
РГАЛИ. Ф. 259. Ед. хр. 18. Л. 25 об. – 26 об.; Мечты и Думы Ивана Коневского. СПб., 1900. С. 93.
(обратно)79
См.: Мечты и Думы Ивана Коневского. С. 136–139; РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 19 об. – 27 об.
(обратно)80
Мечты и Думы Ивана Коневского. С. 138–139.
(обратно)81
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 32 об.
(обратно)82
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 26. Л. 1а.
(обратно)83
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 26. Л. 2.
(обратно)84
Грякалов А. А., Дорохов Ю. Ю. От структурализма к деконструкции (Западные эстетические теории 70 – 80-х годов XX века) // Русская литература. 1990. № 1. С. 244.
(обратно)85
Северные Цветы на 1902 год. М., 1902. С. 195. В этой посмертной публикации статья «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины» дана в сокращении, полный ее текст – в архиве Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16).
(обратно)86
Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1963. Т. 2. С. 88. Приводя слова небесных духов из «Дон Жуана» Толстого, О. Ронен справедливо указывает, что историко-литературное значение этой драматической поэмы «определяется не ее генезисом, а ролью, которую она сыграла в поэзии позднейшего времени», и проводит непосредственные параллели с Вл. Соловьевым и Вяч. Ивановым (Ронен Омри. Литературно-историческое значение драмы гр. А. К. Толстого «Дон Жуан» // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М., 2005. С. 385–386).
(обратно)87
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 31.
(обратно)88
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 3 об.
(обратно)89
Там же. Ед. хр. 15. Л. 26.
(обратно)90
Коневской Иван. Стихи и проза. С. 199, 203, 204.
(обратно)91
См.: Гудзий Н. К. Тютчев в поэтической культуре русского символизма // Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1930. Т. III. № 2. С. 480–488. См. также: Grossman Joan Delaney. Ivan Konevskoi’s Tiutchevan Pilgrimage // O Rus! Studia litteraria slavica in honorem Hugh McLean. Berkeley Slavic Specialties. 1995. P. 398–405.
(обратно)92
Коневской И. Судьбы Баратынского в истории русской поэзии // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 9 об.
(обратно)93
Там же. Л. 33.
(обратно)94
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 192.
(обратно)95
Коневской Иван. Стихи и проза. С. 226–227.
(обратно)96
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 21.
(обратно)97
Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб., 2002. С. 202 («Велимир Хлебников», 1935).
(обратно)98
Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 483.
(обратно)99
Коневской Иван. Стихи и проза. С. 197.
(обратно)100
Письмо от 7 июня 1901 г. // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 509.
(обратно)101
Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 520.
(обратно)102
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 43 об.
(обратно)103
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 18 об., 67.
(обратно)104
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 30.
(обратно)105
Крымский С. Неизвестный поэт // Семья. 1904. № 6, 8 февраля. С. 10, 11. Убедительно предположение о том, что под этим псевдонимом выступал журналист С. Г. Кара-Мурза (см.: Мордерер В. Я. Блок и Иван Коневской // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 174).
(обратно)106
См.: Мордерер В. Я. Блок и Иван Коневской. С. 192–194.
(обратно)107
Мир Искусства. 1900. Т. III. Отд. II. С. 242.
(обратно)108
Литературный Вестник. 1901. Т. I. Кн. IV. С. 451.
(обратно)109
Русская Мысль. 1904. № 6. Отд. III. С. 172. Без подписи.
(обратно)110
Образование. 1904. № 3. Отд. III. С. 137.
(обратно)111
Коневской Иван. Стихи и проза. С. IX–X.
(обратно)112
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 248. Ср. зафиксированные И. Н. Розановым слова И. М. Брюсовой о Коневском: «Что поражало особенно в Коневском, это его разговорный язык, вполне совпадающий с языком его литературы» (Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар (Летейская библиотека. II. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века). М., 2013. С. 319).
(обратно)113
Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 494.
(обратно)114
Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия. С. 105 (Предисловие к антологии «Русская лирика», 1924).
(обратно)115
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 412.
(обратно)116
Смирнов А. Поэт бесплотия // Мир Искусства. 1904. № 4. С. 82.
(обратно)117
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 198.
(обратно)118
Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 488. Цитируется 5-е стихотворение из цикла «Волнения» (С. 122).
(обратно)119
Ср.: «…был еще эпизод в моей жизни, давший несколько глубоко волнующих и возбуждающих минут, но совершенно загадочных последствий. Не знаю, последний ли это отзвук, или отзвук нового. Я сам вызвал его, и, конечно, именно в виду этой же неизвестности результатов. Известной тебе дриаде, А. Н. Г., я отправил письмо. В нем означалось, “что перед тем, чтобы окончательно отречься от личного с ней общения, не могу не высказать ей несколько прощальных слов”. Далее мотивировалось такое заявление тем, что мне слишком тяжело являться перед открытой, звонкой силой ее души, тела, когда те же самые мысли и чувства, которые высказывались в стихах, ей посвященных, и в письме, их сопровождающем, из быстрых, прозрачных, играющих на свете солнца струй обратились в необъятные мутные дымки, и это – несмотря на то, что они не перестают носиться в моей душе такими смутными, светлыми облаками. Потом выражалось, что ей предстоит большая бурная борьба в широкие дни и яркие ночи. Это – борьба, конечно, за новые ощущения жизни, за расширение каждого мгновения в бесконечность, против Времени и всякой ограниченности. ‹…› В эти слова вплетались некоторые общие мысли о существенных направлениях борьбы с личной ограниченностью и разграниченностью предметов (то есть с Пространством и с Временем). Заканчивалось письмо выражением надежды на то, что она не откажется всегда считать меня своим другом. На это письмо последовал ответ, замечательный по цельности мировоззрения и отчетливой явственности его выражения. Моим мыслям о вмещении всего частного, что было и есть в жизни личности, в одном миге (преодолении времени вдоль) и перевоплощении личности во все окружающее (преодоление времени поперек) противопоставлялось учение о познании вечного и единого во всем множестве частных изменений, одностороннее, но всегда, конечно, великое. Изложение этих мыслей сопровождалось выражением неприятного удивления перед моим решением отречься от личного с ней общения и надеждой на дружеское с ее стороны расположение: “Это противоречие – объясните” ‹…› В ответ на это письмо я распространился в самых обстоятельных рассуждениях о своем мировоззрении – совмещении всех противоположностей мышления. ‹…› В заключение я указывал на настоятельную, несмотря на все, необходимость отстраниться от личного знакомства: ссылаясь на прекрасное замечание ее: “поймите, какая огромная разница – понимать и переживать”, я говорил: быть может, мы оба слишком далеки от переживания того, что мы понимаем; и нам слишком стыдно за свое настоящее перед обетованиями будущего» (цитируется по копии, восходящей к собранию Н. Л. Степанова).
(обратно)120
Смирнов А. Поэт бесплотия. С. 82, 83.
(обратно)121
Формулировка из фрагмента «Ильменау и дух зрелого Гёте» (Мечты и Думы Ивана Коневского. С. 112).
(обратно)122
Письмо Н. О. Лернера к В. Я. Брюсову от 8 мая 1904 г.; приведено в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 173).
(обратно)123
Параллели между двумя поэтами устанавливает Дж. Д. Гроссман, сопоставившая, в частности, стихотворение Коневского «Призыв» с «Метаморфозами» Заболоцкого (Grossman Joan Delaney. The Transformation Myth in Russian Modernism: Ivan Konevskoi and Nikolai Zabolotsky // Metamorphoses in Russian Modernism / Ed. by Peter I. Barta. Central European University Press, 2000. P. 41–60).
(обратно)124
Писатели символистского круга. С. 184. Ср.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…» М., 1987. С. 139–140.
(обратно)125
Коневской И. Стихотворная лирика в современной французской поэзии // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 13, 14, 15 об.
(обратно)126
Письмо Коневского к В. Я. Брюсову от 6 января 1899 г. // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 450.
(обратно)127
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 9–9 об.
(обратно)128
Письмо к В. Я. Брюсову от 24 октября 1899 г. // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 472.
(обратно)129
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1 об.
(обратно)130
Запись от 3 сентября 1896 г. // Там же. Ед. хр. 16. Л. 40.
(обратно)131
Письмо к А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. // Писатели символистского круга. С. 175.
(обратно)132
Подробнее см.: Grossman Joan Delaney. 1) Ivan Konevskoi’s Metaphisical Journey to Finland // Studia Slavica Finlandensia. T. XVI / 2. Школа органического искусства в русском модернизме. Сб. статей. Helsinki, 1999. P. 104–119; 2) From the Finland Station: Ivan Konevskoi // Twentieth-Century Russian Literature. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies. New York, 2000. P. 6 – 15; Hellman Ben. On Ivan Konevskoi’s Finnish Roots // Aspekteja. Slavica Tamperensia. V. Tampere, 1996. P. 95 – 100.
(обратно)133
Ямпольский И. Г. Письма А. Миропольского к И. Коневскому // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. С. 22.
(обратно)134
Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 534.
(обратно)135
Коневской Иван. Стихи и проза. С. X–XI.
(обратно)136
Синакевич О. В. Жили-были. Воспоминания. Тетрадь 10-я. Ч. III. Юность 1894–1900 гг. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 26 об. – 27. В другом фрагменте своих воспоминаний Яфа-Синакевич приводит сведения о Коневском, взятые из письма В. Ф. Штейн: «Помню еще, что когда Ореус пропал без вести, Дьяконов поехал разыскивать его – и узнал его только по зубам и особому строению его лба, настолько уже было сильно разложение, когда его выкопали из земли» (Там же. Ед. хр. 355. Л. 84).
(обратно)137
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 426. Ср. письмо Н. М. Минского к Л. Н. Вилькиной (Берлин, 19 октября 1901 г.): «Меня глубоко поразила смерть Ореуса. Помнишь последние строки его поэмы, кот<орая> кончается словами “И живы пращуры мои”? Он как будто пророчески предвидел свою смерть. Утонул он или утопился? Где? Когда?» (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 884. Подразумеваются строки из стихотворения «Дебри»: «Влечет болотистый ручей // В меня студеные струи…»). Миф о самоубийстве оказался живучим: более чем сто лет спустя можно встретить упоминание о «ритуальном самоубийстве» Коневского (Пискарев В. А. А. Блок и европейское средневековье. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Иваново, 2007. С. 10).
(обратно)138
Например, в воспоминаниях О. В. Яфы-Синакевич излагается (со слов А. Я. Билибина) такой эпизод: «…за границей Ив<ан> Ив<анович> в гостинице писал ночью стихи при раскрытом окне, причем свечу поставил так, что загорелись тюлевые занавески, чего он, в пылу вдохновения, не замечал, несмотря на крики толпы под окном, пока пожарный не влез через окно к нему прямо на стол, за которым он сидел…» (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 21).
(обратно)139
Литературный Вестник. 1901. Т. II. Кн. VIII. С. 380.
(обратно)140
РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 27 об.
(обратно)141
См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 536.
(обратно)142
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 352.
(обратно)143
Мир Искусства. 1901. № 8/9. С. 136–139.
(обратно)144
См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 534.
(обратно)145
ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 42.
(обратно)146
Там же.
(обратно)147
Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 664–665 / Публикация Э. С. Литвин.
(обратно)148
Русская Мысль. 1904. № 6. Отд. III. С. 172.
(обратно)149
Образование. 1904. № 3. Отд. III. С. 137.
(обратно)150
Русский Вестник. 1904. № 6. С. 740, 742.
(обратно)151
Мир Искусства. 1904. № 4. С. 81–82.
(обратно)152
Там же. С. 83.
(обратно)153
Семья. 1904. № 6, 8 февраля. С. 11.
(обратно)154
См.: Лернер Н. Ив. Коневской // Книга о русских поэтах последнего десятилетия: Очерки. Стихотворения. Автографы / Под ред. Модеста Гофмана. СПб.; М., <1909>. С. 109–124.
(обратно)155
Брюсов Валерий. Дневники. С. 121.
(обратно)156
Семья. 1904. № 6, 8 февраля. С. 11.
(обратно)157
Письмо к В. Я. Брюсову от 19 февраля / 3 марта 1904 г. // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 447.
(обратно)158
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 198. В одном из писем к Коневскому (середина марта 1900 г.) Брюсов называет Балтрушайтиса в числе «почитателей и полупочитателей» его поэзии (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 487).
(обратно)159
Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2003. Т. 7. С. 184, 399–404 (комментарии Е. А. Дьяковой).
(обратно)160
Затрагиваемая тема с доскональной подробностью раскрыта в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 151–178).
(обратно)161
Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 24.
(обратно)162
Пяст Вл. Ограда. Книга стихов. <СПб.; М.>, 1909. С. 43.
(обратно)163
Бестужев Вл. Возвращение. СПб., 1912. С. 41.
(обратно)164
Томление духа. Вольные сонеты Вл. Нелединского. Пг., 1916. С. не нум. (Сонет LXIX).
(обратно)165
См. письма И. И. Ореуса к Брюсову от 28 октября 1902 г. и 22 июля 1903 г. (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 545, 547).
(обратно)166
См.: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публикация Э. Гарэтто // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 42–43. См. также: Парнис А., Тименчик Р. Эпизод из жизни Валерия Брюсова // Даугава. 1983. № 5. С. 113–116.
(обратно)167
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 63–64.
(обратно)168
Саддукей <Кара-Мурза С. Г.>. Декаденты первого призыва (10-летие «Грифа») // Московская Газета. 1913. № 245. 1 апреля. С. 2.
(обратно)169
Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 240.
(обратно)170
См. интерпретацию эпиграммы Гумилева «У папы Юлия Второго…» (с упоминанием Коневского) в указанной статье В. Я. Мордерер (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 156) и в заметке Н. А. Богомолова «Источник эпиграммы Гумилева» (Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 451–455).
(обратно)171
См. о нем: Тименчик Р. Д. Заметки на полях именных указателей // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 157.
(обратно)172
Молодяков Василий. Неизвестные поэты // Новый журнал. Кн. 240. Нью-Йорк, 2005. С. 217.
(обратно)173
РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 354. Л. 11 об. – 12.
(обратно)174
Там же. Ед. хр. 355. Л. 52 об.
(обратно)175
Адамович Георгий. Комментарии. Washington, 1967. C. 16.
(обратно)176
Родник. 1987. № 10. С. 38.
(обратно)177
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 411.
(обратно)178
Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб., 2002. С. 29.
(обратно)179
См.: Иван Коневской. Поэт мысли. Из статьи Н. Л. Степанова / Предисловие, публикация и комментарии А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 179–202.
(обратно)180
См.: Коневской (Ореус) Иван. Мечты и думы: Стихотворения и проза / Предисловие, составление, комментарии Е. И. Нечепорука. Томск, 2000.
(обратно)181
См.: Коневской Иван. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания А. В. Лаврова. СПб.; М., 2008 («Новая Библиотека поэта»). Исследования творчества Коневского, предпринимавшиеся на протяжении ряда лет Дж. Д. Гроссман, ныне суммированы в монографии: Grossman Joan Delaney. Ivan Konevskoi, «Wise Child» of Russian Symbolism. Boston: Academic Studies Press, 2010 (в русском переводе Н. Мовниной и К. Федоровой: Гроссман Джоан. Иван Коневской, «мудрое дитя» русского символизма. СПб., 2014).
(обратно)182
Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 485.
(обратно)183
Переписка <В. Я. Брюсова> с И. И. Ореусом-отцом / Публикация А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. М., 1991. С. 538, 548.
(обратно)184
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 60.
(обратно)185
См.: Из архива Ивана Коневского / Предисловие, публикация и комментарии А. В. Лаврова // Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 167–174.
(обратно)186
См. письмо Брюсова к И. И. Ореусу-отцу от 4 или 5 октября 1901 г. и ответное письмо от 6 октября (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 537, 539).
(обратно)187
См.: Северные цветы на 1902 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902. С. 194–214; Коневской (Ореус) Иван. Мечты и Думы: Стихотворения и проза. С. 302–318.
(обратно)188
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 7 – 20 об.
(обратно)189
в его превосходном очерке: «Античный мир в поэзии Майкова», читанном на вечере, посвященном памяти Майкова, Фета и Тютчева (осенью 1898 г.). (Примеч. Коневского).
(обратно)190
Статья филолога-классика, истолкователя античной культуры Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944) «Античный мир в поэзии А. Н. Майкова» была опубликована в «Русском Вестнике» (1899. Т. 262. Июль. С. 138–157).
(обратно)191
Подразумевается стихотворение «Пан» («Он спит, он спит…», 1869). См.: Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 137–139 («Библиотека поэта». Большая серия).
(обратно)192
Заключительные строки стихотворения «Узник» («Черные стены суровой темницы…», 1851). См.: Щербина Н. Ф. Избранные произведения. Л., 1970. С. 157 («Библиотека поэта». Большая серия). Выше в статье Коневской приводит текст этого стихотворения без первых двух четверостиший (Коневской (Ореус) Иван. Мечты и Думы: Стихотворения и проза. С. 314).
(обратно)193
«Сладко на солнце дремлю я…» – первая строка стихотворения «Весенний гимн» (1851). См.: Щербина Н. Ф. Избранные произведения. С. 172. Коневской в статье приводит весь текст стихотворения непосредственно перед данным фрагментом (Коневской (Ореус) Иван. Мечты и Думы: Стихотворения и проза. С. 318).
(обратно)194
В статье о Майкове Зелинский, выделяя эпохи первого, романского возрождения и второго, германского возрождения, вопрошает: «…взоры людей обращены на восток: кто будет поэтом третьего, славянского возрождения?» – замечая следом: «Не был им, конечно, тот талантливый и симпатичный поэт, которому посвящается настоящий очерк» (Русский Вестник. 1899. Т. 262. Июль. С. 140).
(обратно)195
в неотдаленном поколении с отцовской стороны – польского происхождения. (Niecki). (Примеч. Коневского).
(обратно)196
Упоминается книга Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). Говоря о «вакхизме александринских барельефов, красивых и сладострастных», Зелинский добавляет: «…это, пожалуй, и есть та почва, на которой произойдет слияние между греческим и славянским духом; недаром полуславянин Фр. Ницче первый ее открыл и возвестил о ней в своей дивной, поистине вакхической, книге о “рождении трагедии”» (Русский Вестник. 1899. Т. 262. Июль. С. 144–145).
(обратно)197
Обыгрываются строки стихотворения «Предсмертное чувство» (1843–1844): «И отстаю я от хора людей // В этом вакхическом беге, средь кликов, // Плясок и песен…» (Щербина Н. Ф. Избранные произведения. С. 155). Стихотворение цитируется выше в тексте статьи (Коневской (Ореус) Иван. Мечты и Думы: Стихотворения и проза. С. 315).
(обратно)198
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 18 об. – 20 об.
(обратно)199
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 64.
(обратно)200
Таков по крайней мере стиль главных публичных зданий: университета, сената, рейхстага, архива, банка, почтамта. Стиль частных зданий гораздо пестрее. (Примеч. Коневского).
(обратно)201
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2–4.
(обратно)202
См., например, письмо Коневского к А. Я. Билибину от 5 июня 1900 г. (Писатели символистского круга. С. 183–184).
(обратно)203
См.: Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. 190–195, 220–232.
(обратно)204
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 2 об.
(обратно)205
Там же. Л. 8 об. – 11.
(обратно)206
Надписан вариант: отдают
(обратно)207
Далее в автографе пробел (предполагалось вписать дополнительные характеристики).
(обратно)208
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 5 об. – 6.
(обратно)209
От франц. goguenard (насмешливый, зубоскал).
(обратно)210
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1–4.
(обратно)211
Слово «солдат» (нем. Soldat) восходит к итальянскому soldato от soldare – «нанимать» (Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1987. Т. 3. С. 709).
(обратно)212
«За Бога, Царя и Отечество» (нем.).
(обратно)213
Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала XX века // Книга. Исследования и материалы. Сб. III. М., 1960. С. 308–309.
(обратно)214
Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1901. С. .
(обратно)215
Письмо к К. И. Чуковскому от 16 октября 1906 г. // Чуковский Корней. Из воспоминаний. М., 1959. С. 437; Переписка В. Я. Брюсова и К. И. Чуковского / Вступ. заметка, публикация и комментарии А. В. Лаврова // Контекст – 2008. Историко-литературные и теоретические исследования. М., 2009. С. 303.
(обратно)216
Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902. С. .
(обратно)217
Северные цветы на 1901 год. С. 168.
(обратно)218
См.: Переписка <В. Я. Брюсова> с Ив. Коневским (1898–1901) / Вступ. статья А. В. Лаврова. Публикация и комментарии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 424–532.
(обратно)219
Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 76.
(обратно)220
Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М., 2002. С. 188.
(обратно)221
Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. С. 189.
(обратно)222
Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 87.
(обратно)223
Северные цветы на 1901 год. С. 181, 188. Статья переиздана в кн.: Коневской (Ореус) Иван. Мечты и думы. Стихотворения и проза / Предисловие, составление, комментарии Е. И. Нечепорука. Томск, 2000. С. 295–301.
(обратно)224
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 525. Брюсов неточно процитировал письмо Перцова от 17 февраля 1901 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 7).
(обратно)225
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 525. Статья «Предводящий протест новых поэтических движений (Стихи Лафорга)» была впервые опубликована в кн.: Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. 170–189.
(обратно)226
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 527.
(обратно)227
Там же. С. 529.
(обратно)228
Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30.
(обратно)229
Там же. С. 31.
(обратно)230
См.: Сапожков С. В. Поэзия и судьба Николая Минского // Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 61–62 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)231
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 489, 491.
(обратно)232
См. письмо Брюсова к Коневскому (середина октября 1900 г.) // Там же. С. 514.
(обратно)233
Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 91.
(обратно)234
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 519.
(обратно)235
Впервые опубликована в примечаниях к цитированному письму (Там же. С. 520).
(обратно)236
Меткие слова; лозунговые выражения (нем.).
(обратно)237
«Новые стихотворения. 1891–1895» (СПб., 1896) – книга Д. С. Мережковского.
(обратно)238
В статье «“Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского» З. Гиппиус пишет: «Альма, – героиня, – не живая еще, не живет сама для себя, – потому что она только душа, Психея Минского. Она и живет, как душа, с ним, в нем, а не одна, потому что у нее нет своего тела. ‹…› И если мы будем требовать от Альмы жизни и трепета – мы дальше не пойдем и не узнаем, как живет Психея автора, его по-своему живая душа, которую он ведет по мытарствам» (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 88).
(обратно)239
В той же статье Гиппиус утверждает, что в «Альме» Минский пишет «о важном и вечном»: «Минский думает и говорит о самом важном, единственном, о чем следует думать и говорить, – то есть о человеке и о Боге, о жизни внутренней и внешней в их возможном (или невозможном) соединении, о воплощении духа, об одухотворении плоти, – о смысле и цели жизни ‹…›» (Там же).
(обратно)240
Статья Гиппиус открывается общими ламентациями относительно современного состояния русской литературы: «…теперешняя “как бы” литература, в которой не могут родиться ни гении, ни таланты, потому что малое не может родить великое, – разве случайно, – и потому что ни гении, ни таланты такой литературе совсем не нужны», и т. д. (Там же. С. 85).
(обратно)241
Образ из программного стихотворения Минского «Как сон, пройдут дела и помыслы людей…» (1887): «…всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли // Какой-то новый мир мерещился вдали – // Несуществующий и вечный». См.: Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 153 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)242
Образы из стихотворения Минского «Песня песен» («Нет многих песен, – есть одна…», 1896): «Под эту песню мир возник // И возникает каждый миг, ‹…› Неиссякаем и велик // Стремленьем вечным к жертве» (Там же. С. 188). Коневской цитирует и интерпретирует это стихотворение в статье «Стихотворная лирика в современной России» (1897). См.: Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 95.
(обратно)243
Формулы из стихотворения З. Н. Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею…», 1893; первая публикация: Северный Вестник. 1895. № 12. С. 206): «О, пусть будет то, чего не бывает»; «Мне нужно то, чего нет на свете». См.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 75 («Новая Библиотека поэта»). В статье «Об отпевании новой русской поэзии» Коневской писал о Гиппиус: «Нет более страшных памятников этого чистого отрицания в нашей поэзии, чем ее Песня: “Мне нужно то, чего я не знаю… чего не бывает… чего нет на свете”» (Северные цветы на 1901 год. С. 185).
(обратно)244
Подразумевается утверждение Гиппиус в заключительной части статьи об «Альме»: «…мы знаем, что нужны новые формы жизни, нужна обновленная религия нашему обновленному сознанию, и ищем новых форм, новой смерти и нового воскресения. Нам нужна и свобода перед Богом, – но не как стояние перед Ним, а как вечное движение к Нему. А движение к Нему может быть только если мы примем и поймем жизнь, полюбим ее так же, совершенно так же, как смерть. Мы любим явления, потому что это в природе человека, как и любовь к Богу. Но мы не знаем и не можем познать своей прямой любви к Богу. Мы только можем любить явления и знать, что любим их для Бога. И только любя формы, воплощения, – можно их возвышать и обновлять. Смерть не для смерти, а для воскресения… как воскресение для новой смерти и нового воскресения» (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 94). // ХЛЕСТКИЙ И ЗАПАЛЬЧИВЫЙ ОТВЕТ // PRO DOMO SUA (Букв.: в защиту моего дома (лат.) – в смысле: в свою защиту. – Ред.) // З. Н. Гиппиус не унимается. На страницах того же «Мира Искусства», который показывает себя через то уже совсем отпевающим себя и отпетым замыслом, она затеяла, видимо, целую экспедицию поносных выходок против тех литературных явлений, которых, по ее же словам, – нет, но которые все-таки оказываются тут как тут, и жужжат под носом. Никак отрицанием их бытия не возьмешь; неотступно дают о себе знать, и вот по-прежнему критик старается удушить их зловонием того скверного слова, которым смердят уста всех обозначенных им же прозвищем: «люди-цветы» и «люди-звери». (В статье «Критика любви. Декаденты-поэты» З. Гиппиус пишет: «Есть, конечно, люди до такой степени бессознательные, что они и не начали быть недовольными и как будто ничего не ищут. Люди-цветы, люди-звери. Их душа еще спит. Но она проснется, не в них – так в их детях, а дорога одна, все та же» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 29).) Сквернословие это – «декадентство», а «люди-цветы» и «люди-звери» – это название не менее кощунственное для зверей и цветов, когда оно применяется к тем «людям-куклам», «людям-болванчикам» и вообще «людишкам» (что гораздо хуже «зверей» и «цветов»), из которых составляется поголовно состав нынешней русской журнальной литературы, с Бурениным, Михайловским и Андреевичем во главе. Между тем, пусть вспомнит З. Н., что «декадентов» все-таки нет. (Остроумно тоже, нечего сказать, словопроизводство «декадент», измышленное мудролюбцем Вашего же почтенного журнала, г. Философовым. (Имеется в виду фрагмент из статьи критика и публициста Дмитрия Владимировича Философова (1872–1940) «Национализм и декадентство»: «Публика считает слово “декадент” бранным, вроде того, как прежде бранились “нигилистом”, и производит это слово от испорченного латинского глагола “decadere”, что значит ниспадать. Словопроизводство довольно сомнительное. Пожалуй, правильнее было бы переводить decadere не “ниспадать”, а “отпадать”» (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 209).) Не мешало бы ему посидеть еще на гимназической парте. А он, «зная довольно по латыне, чтобы эпиграфы разбирать», (Обыгрываются строки из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа VI).) указывает на латинский глагол «decadere» (падать от и ниспадать), какового в словаре не имеется: есть же в этом смысле глагол «decidere». Да и существительного «decadentia» по латыне не существует: все это очевидно позднейшие французские образования.) Этот тезис торжественно повторяется с ее стороны даже курсивом. (Подразумевается утверждение в статье «Критика любви»: «Скажем лучше для многих уже ясную правду: никаких декадентов нет. Есть только люди, менее других сильные, менее способные высказать себя ‹…›» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30).) Чего же более для убеждения, что почтенный критик сражается не то что даже с ветряными мельницами, а просто – с ветром, иными словами – с «видимым» миром, который по Платону – «и есть и не есть», а то, если верить З. Н., так, пожалуй, и с самой божественной сущностью, которая тоже, как оказывается из ее критики на «Альму», есть и Все, и Ничто. Ergo декаденты = видимому миру = божественной сущности. Вот какие с первых же слов получаются чудеса при исследовании тезисов у З. Н. Гиппиус. К этому надо прибавить, что лучшее, самое милое в затеянном г-жою Гиппиус предприятии есть его заглавие, доводящее иронию до пределов возможности: «Критика любви»! Оно очевидно проистекает из древнего изречения: Кого люблю, того и бью! – а то, быть может, ради богатейшей рифмы, и «гублю». Что ж, это известная форма любодеяния, которая у пошлецов давно слывет первым признаком «декадентства»!
(обратно)245
Цитаты из стихотворений А. М. Добролюбова «Всем» («В вечности счастья течет творенье…») и «На вечеринку уединенную…», входящих в его «Собрание стихов» (М., 1900). См.: Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. С. 502. Гиппиус приводит эти цитаты в «Критике любви»; по поводу первой из них она замечает: «Что это за странные слова! Кто может это понять? А между тем о крови и плоти говорилось людям много веков назад. Дан был завет освящать ее в глубоком любовном общении»; по поводу второй: «Вот именно то, чего мы все хотим, теперь, как всегда, теперь более сознательно, чем всегда: освятить и мелочь» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 33).
(обратно)246
Это предисловие Коневского («К исследованию личности Александра Добролюбова») открывает «Собрание стихов» Александра Добролюбова.
(обратно)247
У меня не было с ним никогда личного знакомства.
(обратно)248
«О, закрой свои бледные ноги» – однострочное стихотворение Брюсова, впервые опубликованное в сборнике «Русские символисты» (Вып. 3. М., 1895). В «Критике любви» Гиппиус пишет о Добролюбове: «Фраза этого “доморощенного декадента” – “закрой мои белые нози” – известна была одно время всем, кому было известно слово “декадент”» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30).
(обратно)249
Предисловие Коневского охарактеризовано в «Критике любви» одной фразой: «По этому предисловию, мучительному, уродливому – но и детски-жалкому, совершенно непонятному, – узнаю в Коневском духовного брата Добролюбова, такого же бедного человека наших дней, который хочет и не может высказать себя, человека в отчаянии, погибающего, одного из тех, кого не слышат» (Там же. С. 31).
(обратно)250
Сумароков. Неточная цитата из авторского предисловия к трагедии «Димитрий Самозванец» (1771). См.: Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе… Александра Петровича Сумарокова. М., 1787. Ч. IV. С. 64.
(обратно)251
Подразумевается статья «Об отпевании новой русской поэзии».
(обратно)252
Не примите за уголовное обвинение: я хочу только сказать, что Вы добираетесь даже не до тела поэтов, а только до того очень, положим, важного их имущества, которое они носят при себе в одежде.
(обратно)253
Асканий – дружеское прозвище Александра Яковлевича Билибина (1879–1935), студента физико-математического факультета Петербургского университета (впоследствии математик, профессор Политехнического института и других петроградских вузов), наиболее близкого друга Коневского. Речь идет о шуточно-пародийном стихотворении «Роковой совет новых душ. Краткая поэма Ив. Коневского и друга его Аскания» (1900); в рукописи, хранящейся в архиве Коневского, – карандашная помета: «к ответу З. Н. Гиппиус» (опубликовано в кн.: Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 521). 20 ноября 1900 г. Коневской писал Брюсову: «Как Вам понравился Роковой Совет новых Душ? “Друг мой Асканий” (А. Я. Билибин – математик) и я, которых участие распределяется в этой поэме с полной равномерностью, справедливо гордимся этим импровизированным синтезом всех душевных явлений нашего времени» (Там же. С. 520).
(обратно)254
доступным (лат.). – Ред.
(обратно)255
А. Э. Смесь. Из общественной и литературной хроники Запада // Вестник Иностранной Литературы. 1891. Октябрь. С. 359. Автор этой корреспонденции – Анна Николаевна Энгельгардт (1838–1903), переводчик, литературный критик, издатель; с января 1891 г. редактор «Вестника Иностранной Литературы». См.: Мазовецкая Э. Анна Энгельгардт (Санкт-Петербург II половины XIX века). СПб., 2001. С. 149–168 (раздел «Анна Энгельгардт и журнал “Вестник Иностранной Литературы” (1891–1893 гг.)»).
(обратно)256
Артист. 1892. № 19. Январь. С. 202.
(обратно)257
Там же. С. 204. Видимо, именно многозначность смыслов «Семи принцесс» побудила ее русского переводчика (подписавшегося криптонимом: Г. Ж.) предпослать тексту Метерлинка свой «Опыт комментария к фантастической пьесе того же заглавия» (Северный Вестник. 1893. № 4. Отд. I. С. 187–193).
(обратно)258
Артист. 1892. № 19. Январь. С. 205.
(обратно)259
Артист. 1892. № 20. Февраль. С. 170.
(обратно)260
См.: Артист. 1892. № 28. Март. Приложения. С. 6 – 13. Переводчица в примечании поясняла выбор ею русского заглавия: «Желая наивозможно точнее и одним словом передать название пьесы, я прибегнула, хотя и к малоупотребительному, но зато единственно характерному слову. (Смотри словарь В. И. Даля)» (С. 6).
(обратно)261
Артист. 1893. № 28. Март. С. 64.
(обратно)262
Там же. С. 67, 66.
(обратно)263
Сементковский Р. И. Что нового в литературе? // Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1896 г. Т. I. № 1. Стб. 164. В аналогичном ключе была выдержана статья поэта С. А. Сафонова «Декадентство и символизм. “Тайны души” Метерлинка», полностью развенчивавшая «Шекспира марионеток»: «… писать драмы для марионеток, упразднять освященные опытом формы искусства, манерничать, изображая из себя младенца, пренебрегать действительностью и искать призраков, заменять богатейшие шекспировские характеристики и монологи эпилептическим бормотанием, – все это ‹…› немногого стоит. ‹…› Метерлинк дерзко, непонятно, ненужно-дерзко нарушил самые основные законы драматического творчества» (Новости и Биржевая Газета. 1895. № 333. 3 декабря. С. 3. Подпись: Срг. Печорин).
(обратно)264
Краснов Пл. Что такое декаденты? Сочинения Мориса Метерлинка и Стефана Малларме // Труд. 1893. Т. XIX. № 9. С. 631, 632.
(обратно)265
В частности, признавая, что впечатление от постановки «Втируши» «действительно сильное», обозреватель добавлял, что «зрителей охватило прямо какое-то оцепенение ужаса» (Артист. 1894. № 37. Май. С. 196). Ю. Н. Говоруха-Отрок допускал, что интерес к пьесам Метерлинка может объясняться лишь «некоторым физиологическим воздействием на нервы зрителей» (Николаев Ю. <Говоруха-Отрок Ю. Н.>. Литературные заметки. Драма Метерлинка // Московские Ведомости. 1895. № 135. 18 мая. С. 3; Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? Литературная критика и религиозно-философская публицистика / Издание подготовили А. П. Дмитриев и Е. В. Иванова. Т. II. СПб., 2012. С. 777). Ему вторил анонимный критик: «Пьесы Метерлинка не производят глубокого впечатления; но их таинственное содержание, сгущение черных красок на предметах и самая музыка коротких фраз приводят читателя в настроение какого-то несознанного ужаса, по миновании которого остается одно холодное недоумение» (Книжки Недели. 1894. Июнь. С. 269). Впрочем, такое воздействие явно не было универсальным, что подтверждается зафиксированной в печати зрительской реакцией на постановку «Тайн души»: «Драма Метерлинка возбуждает большой интерес в публике, но вместе с тем и протест, выражающийся в непонятном и неуместном шиканье» (П. П. Петербургские письма. Театр Литературно-артистического кружка // Театрал. 1895. № 50. Декабрь. С. 50).
(обратно)266
А. Б. Критические заметки // Мир Божий. 1895. № 10. С. 197.
(обратно)267
Русское Богатство. 1897. № 5. Отд. II. С. 35–36. Без подписи.
(обратно)268
Нордау Макс. Вырождение. Современные французы. М., 1995. С. 162, 168, 170. Перевод Р. И. Сементковского.
(обратно)269
Михайловский Ник. Литература и жизнь // Русская Мысль. 1893. № 1. Отд. II. С. 168.
(обратно)270
Иванов И. Метерлинк и его драмы // Артист. 1893. № 28. Март. С. 65. Свое изложение беседы Жюля Гюре с Метерлинком опубликовал и П. Д. Боборыкин (см.: Боборыкин П. Литературный театр. (Письмо третье) // Артист. 1893. № 26. Январь. С. 36–37). О несогласии некоторых русских критиков с суждениями Нордау о Метерлинке сообщает М. А. Мыслякова в краткой обзорной статье «Метерлинк в России (К постановке проблемы)» (Проблемы взаимодействия литератур: Межвузовский сб. научных трудов. Душанбе, 1982. С. 119–120).
(обратно)271
См.: Новое Время. 1895. № 6890. 6 мая. Приложение № 225. С. 2–4, 6.
(обратно)272
Новое Время. 1895. № 6889. 5 мая. С. 2. Это выступление Суворина вызвало ироническую реакцию в упомянутой выше статье С. А. Сафонова «Декадентство и символизм», в которой редактор-издатель «Нового Времени» причислялся к «любителям, которые с редкостным энтузиазмом стараются усыпать розами путь шествующего к нам “Шекспира марионеток”, как называют Метерлинка» (Новости и Биржевая Газета. 1895. № 333. 3 декабря. С. 3).
(обратно)273
См.: Тайны души. Драма Мориса Метерлинка. Перевод и предисловие А. С. Суворина. СПб.: изд. А. С. Суворина, <1895> (Дешевая библиотека. № 120).
(обратно)274
См.: Слепцы. Тайны души. Семь принцесс. Смерть Тентажиля. Вторжение смерти: Пять драм сочинения Мориса Метерлинка. М.: тип. т-ва А. И. Мамонтова, 1896 (цензурное разрешение 24 января 1896 г.).
(обратно)275
Там же. С. .
(обратно)276
Северный Вестник. 1894. № 5. Отд. I. С. 229–230.
(обратно)277
Волынский А. Литературные заметки // Северный Вестник. 1896. № 1. Отд. I. С. 315.
(обратно)278
Артист. 1893. № 28. Март. С. 66.
(обратно)279
З. В. Новости иностранной литературы // Вестник Европы. 1895. № 3. С. 409–410.
(обратно)280
Переложение стихотворения «Ожидание» («Attente») под заглавием «Из М. Метерлинка» («Сердце, полное унынием…») и с датировкой «Зима 92–93 года» было опубликовано в сборнике «Русские символисты» (Вып. 1. Валерий Брюсов и А. Л. Миропольский. М., 1894. С. 12). Эпиграф из входящего в «Теплицы» стихотворения «Речь» («Oraison») А. Добролюбов предпослал своему стихотворению «Набегают сумраки…» (Добролюбов Александр. Natura naturans. Natura naturata. СПб., 1895. С. 77).
(обратно)281
См.: Ладыженский Вл. Из Мориса Мэтерлинка («Ты знаешь, я, Творец, бессилен пред тобой…») // Мир Божий. 1893. № 1. С. 32; Алоэ А. На мотив Матерлинка («Почему, отчего…»); Из М. Матерлинка («В разлившемся потоке прозы…») // Театральные Известия. 1895. № 95. 24 января. С. 2 (под псевдонимом А. Алоэ А. Н. Емельянов-Коханский опубликовал переводы, выполненные Брюсовым; см.: Щербаков Р. Л. Неопознанные произведения В. Я. Брюсова // Брюсовские чтения 2002 года. Ереван, 2004. С. 387–388); Уманец С. Из Мориса Метерлинка. I. Молитва (Oraison) («Ты сердца немощи внемли…»). II. Отражения (Reflets) («Под волною сновидений…») (Всемирная Иллюстрация. 1895. № 1383. Т. LIV. № 5. 29 июля. С. 83). Следует отметить, что в большинстве этих переводов образный строй Метерлинка адаптировался до расхожей поэтической фразеологии, употребительной в России последней трети XIX века; ср., например, начальные строфы стихотворения «Тоска (Из Мориса Мэтерлинка)» в переложении С. Уманца (Живописное Обозрение. 1893. Т. I. № 26. 27 июня. С. 622): // Я всё песни пою невеселые, // Я про страсти пою улетевшие, // Воспеваю сердца наболевшие, // Вспоминаю свиданья тяжелые… // И мне слышатся, мраком навеяны, // Чьи-то речи, во тьме непонятные – // И томятся надежды невнятные, // Словно розы, теплом невзлелеяны…
(обратно)282
См.: Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. XII–XVIII.
(обратно)283
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 5 об.
(обратно)284
Там же. Л. 14.
(обратно)285
Там же. Л. 78.
(обратно)286
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 12.
(обратно)287
Там же. Ед. хр. 1.
(обратно)288
Там же. Ед. хр. 9. Л. 50а – 116.
(обратно)289
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 4 об. В автографе плана раздел III записан после раздела V.
(обратно)290
Заглавие в автографе: «Морис Мэтерлинк»; однако в последующем тексте повсеместно употребляется написание «Метерлинк», что является основанием для соответствующего исправления в заглавии. Ранее на очерк Коневского о Метерлинке было обращено внимание и приведены отдельные цитаты из него в статье: Марусяк Н. В. Морис Метерлинк в России 90-х гг. XIX – начала XX в. (к проблеме литературной рецепции) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2000. № 3. С. 99 – 100.
(обратно)291
Род. в 1862 году в Генте. (Примеч. автора).
(обратно)292
Из немцев можно отметить отчасти Гауптмана, с большим правом – Лориса (Лорис (также – Лорис Меликов) – псевдоним, под которым публиковал (с 1890 г.) свои юношеские произведения австрийский драматург, поэт и прозаик Гуго фон Гофмансталь (1874–1929); выбран он был по воспоминанию о кончине в 1888 г. российского государственного деятеля М. Т. Лорис-Меликова, широко освещавшейся в печати.) и особенно – пишущего по-немецки поляка Пржибышевского (прямых наследников Ибсена в Германии, да, впрочем, и в скандинавских странах, кроме шведа Стриндберга, нет), из французов – весьма многообещающих поэтов Вьелэ-Гриффена и де Ренье, романиста Поля Адана и драматурга-философа Пеладана, из русских – отчасти Льва Толстого и двух-трех стихотворцев. (Примеч. автора).
(обратно)293
Декадентство второй половины столетия подготовлялось во всей Европе с начала столетия. Корень его – плотские и разгульные элементы романтизма, особенно яркие, разумеется, в романтизме французском, благодаря чему и декадентство самую богатую почву нашло во Франции (отчасти – Мюссэ, отчасти Бальзак, в значительной степени – Жорж Занд, наконец особенно – Стендаль, Сент-Бёв и Готье, из которых последний уже непосредственно связан с декадентством близостью своей к Бодлэру), гораздо более слабые в немецком романтизме (Фридрих Шлегель, Граббе, Гоффман) и наконец еле заметные – в английском (некоторые течения в творчестве Байрона); второй фактор, непосредственно содействовавший возникновению декадентства, – беспощадное развитие точных наук, сразу разрушивших все романтические иллюзии. (Примеч. автора).
(обратно)294
Ошибочное указание. Год выхода этой книги – 1889.
(обратно)295
Над строкой вписан незачеркнутый вариант: заколдованном кругу
(обратно)296
«Взгляды», «Прикосновения» (Maeterlinck Maurice. Serres chaudes. Bruxelles, 1895. P. 71–74, 83–87).
(обратно)297
Над строкой вписан незачеркнутый вариант: по манию
(обратно)298
Быть может, это свойство непосредственной фантазии Метерлинка, которое мы довольно неточно назвали «гибкостью», в глубочайшей основе своей сводится к удивительно развитой сердечной памяти, благодаря которой мельчайшие впечатления и ощущения жизни неизгладимо зароняются, запечатлеваются в сознании поэта, и ежеминутно, при всяком охватывающем его настроении, мало-мальски однородном, аналогичном с ними, готовы мгновенно, целым роем всплыть в его сознании в виде почти одновременных, до того быстрых ассоциаций идей. (Примеч. автора).
(обратно)299
Последующий текст (до конца предложения) заключен в скобки (синим карандашом).
(обратно)300
Затрудняемся передать другим словом это столь многозначительно и упорно повторяющееся в «Serres chaudes» Метерлинка слово «tiède». (Tiède (франц.) – тепловатый; вялый, безразличный.) Впрочем, в разных местах его приходится переводить разно. Смысл его в высшей степени глубок и включает в себя тончайшие оттенки, доступные только непосредственному ощущению. Немецкое слово «lau» (Lau (нем.) – тепловатый, теплый; равнодушный, безразличный.) почти вполне покрывает его как своим прямым, так и более духовным значением. Свойство этой «tièdeur» (Tièdeur (франц.) – тепловатость; безразличие, отсутствие интереса.) – это самое коренное томительное свойство этой земной среды, давящей поэта. «Tièdeur» – это ощущение ровного, посредственного, относительного, будничного земного довольства; русское слово «теплый» в ироническом выражении «тепленькое местечко» подходит к метерлинковскому значению слова «tiède». «Tièdeur» боится всех захватывающих напряженных ощущений, в которых человек выходит из пределов своего существа, в которых «все берега сходятся» – холода или жара, которые оба приводят человека на какой-то рубеж земного бытия, исполняют его леденящим и упоительным чувством великой бездны. Есть еще в Апокалипсисе одно место, где слово «теплый» употребляется в чисто метерлинковском смысле. Дух говорит церквам: «И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: “О, если бы ты был холоден или горяч! Но потому что ты тепел, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст Моих”» (Откр. Ио. III, 15–16). (Примеч. автора).
(обратно)301
Приписано на полях: («la passe un chasseur d’élans, devenu infirmier!») (Неточно приведена строка из стихотворения «Теплица» («Serre chaude») (Maeterlinck Maurice. Serres chaudes. P. 8).
(обратно)302
Над строкой вписан незачеркнутый вариант: во время голодовки
(обратно)303
Страшный образ, снова в несколько иной форме всплывающий у Метерлинка в виде целой драмы «Семь принцесс»! (Примеч. автора).
(обратно)304
Строка из стихотворения «Прикосновения» («Attouchements») (Ibid. P. 83).
(обратно)305
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 306.
(обратно)306
Опубликованы в комментариях В. Э. Молодякова в кн.: Брюсов Валерий. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 222–223.
(обратно)307
Опыт характеристики этих особенностей творческого облика Вилькиной предпринят Е. В. Тырышкиной в ее статьях: 1) «Жизнетворчество» Л. Н. Вилькиной // Женский вопрос в контексте национальной культуры. Из истории женского движения в России: Сб. научных трудов. Вып. 3. СПб., 1999. С. 52–60; 2) В поисках собственного образа: Людмила Вилькина в своем дневнике и переписке (1890-е – 1900-е гг.) // Models of Self. Russian Women’s Autobiographical Texts. Helsinki, 2000. P. 141–154 (Kikimora Publications. Ser. B: 18). См. также: Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: От декаданса к авангарду. Новосибирск, 2002. С. 123–138.
(обратно)308
В текстах присутствуют разные варианты написания имени: Белла, Бела, Бэла.
(обратно)309
Любопытно в связи с этим недатированное письмо З. Венгеровой к Вилькиной, наглядно иллюстрирующее нетривиальный характер взаимоотношений между ними: // Напрасно ты думаешь, что я стою на твоем пути ‹…› я искренно желаю, чтобы Ник<олай> Макс<имович> женился на тебе. Я думала, что это устроится само собой – без моего явного участия. Но теперь я вижу, что тут нужно мое содействие, и являюсь к тебе как союзница. Напрасно ты думаешь, что я дурно к тебе отношусь, ревнуя к тебе Н<иколая> М<аксимовича>. Даю тебе честное слово, что не имею ни малейшего основания к этому. Твоя любовь мне кажется настолько красивой, что все мои симпатии за тебя ‹…›. Конечно, дело не во мне одной, но ведь ты уверена в хороших к тебе отношениях Н<иколая> М<аксимовича>. – Если же ты боишься его дружбы со мной, то представляю тебе полную гарантию: я не буду с ним видаться, чтобы не огорчать тебя. Ведь это достаточное условие для того, чтобы ты была счастлива. Ответь мне, Бела, хочешь ли ты в этих условиях выйти замуж за Н<иколая> М<аксимовича>. – Делаю тебе за него формальное предложение – поверь мне, что я имею на это право, и предоставь мне действовать. // (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 837). // О дальнейшем можно судить по другому недатированному письму Венгеровой к Вилькиной: // Милая Бела, // Все устроено. Решено, что ты и Н<иколай> М<аксимович> поселитесь вместе. Он просил не сообщать об этом пока другим. Береги свое здоровье и будь теперь совершенно спокойна и бодра. Целую тебя и от души желаю полной счастливой жизни. Зина. // (Там же).
(обратно)310
ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 807.
(обратно)311
28 декабря 1892 г. З. А. Венгерова писала из Петербурга своей приятельнице С. Г. Балаховской-Пети: «Сюда приехала Белла Вилькина из Москвы, где она готовится в Сары Бернар. Она удивительно красива и счастлива сознанием своего влияния на людей»; 29 декабря 1894 г. сообщала ей же об увиденном накануне спектакле по пьесе Э. Моро и В. Сарду «Мадам Сан-Жен»: «Интерес заключался в том, чтобы посмотреть, как выглядит со сцены Бэла; именно выглядит, потому что она пока на выходных ролях. Но костюмы прачки и субретки ей очень к лицу, и она положительно очень хороша и эффектна» (Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети / Publ., comment., et notes de Rosina Neginsky // Revue des études slaves. 1995. T. 67. Fasc. l. P. 205, 234). 21 сентября 1895 г. Венгерова сообщала Балаховской-Пети о том, что Вилькина «играет на клубной сцене» (Ibid. Fasc. 2/3. Р. 458). Ср. сведения в автобиографии Вилькиной: «После гимназии поехала в Москву, где пробыла два года в театральной императорской школе, но сценического таланта в себе не открыла. За это время определилось мое отношение к искусству и жизни» (ИРЛИ. Ф. 377 (1-е собр. автобиографий С. А. Венгерова). № 715). См. также автобиографию Вилькиной в собрании Ан. Н. Чеботаревской (Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 426–427 / Публикация О.А. Кузнецовой).
(обратно)312
Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети // Revue des études slaves. 1995. Т. 67. Fasc. 2/3. P. 458, 462.
(обратно)313
Ibid. Р. 466.
(обратно)314
Ibid. Р. 498–499.
(обратно)315
См.: «Мы не чужие друг другу…»: Письма К. Д. Бальмонта к Л. Вилькиной / Публикация и комментарии П. В. Куприяновского, М. М. Павловой. Предисловие М. М. Павловой // Лица. Биографический альманах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 251–278; Письма К. Д. Бальмонта к Л. Н. Вилькиной / Публикация, вступ. статья, примечания П. В. Куприяновского, Н. А. Молчановой // Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. К. Д. Бальмонт и его литературное окружение. Воронеж, 2004. С. 162–173.
(обратно)316
См.: Письма Д. С. Мережковского к Л. Н. Вилькиной / Публикация В. Н. Быстрова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 209–225.
(обратно)317
См.: Лавров А. В. А. А. Смирнов – корреспондент Людмилы Вилькиной // Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья. Сб. статей и материалов. Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения. СПб., 2010. С. 10–26; Письма А. А. Смирнова к Л. Н. Вилькиной / Публикация и комментарии Джона Малмстада // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб., 2012. С. 309–355.
(обратно)318
Вилькина (Минская) Л. Мой сад. М., 1906. С. 6, 5.
(обратно)319
Там же. С. 42, 52, 19.
(обратно)320
Письма Д. С. Мережковского к Л. Н. Вилькиной. С. 215, 220, 225.
(обратно)321
Приведено в предисловии В. Н. Быстрова (Там же. С. 210).
(обратно)322
ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 791. Несколько писем из этой тетради опубликовано: Тырышкина Е. В поисках собственного образа… Р. 147–149); при этом одно из писем («Вот видите – я не пишу Вам, не зову Вас ‹…›» (Р. 147)), обращенное к Баксту (в тетради адресат обозначен «Б – с – у». – ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 791. Л. 2 об.), ошибочно атрибутировано публикатором как письмо к Брюсову.
(обратно)323
РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 27.
(обратно)324
«Распоясанные письма» В. Розанова / Вступ. статья, публикация и примечания М. Павловой // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 68–69. Там же (С. 69) опубликованы (с неточностями) два сохранившихся письма Розанова к Вилькиной (автографы см.: ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 913).
(обратно)325
8/21 января 1907 г. она писала Брюсову: // …много ли у Людмилы – Белы ваших, более или менее пламенных, писем? Она занимается последнее время экспозицией этого материала, утоляя свое славолюбие (счет знаменитых «разожженных плотей») – неутоленное напечатанием книжки. Обнародование ваших писем, каких бы то ни было, конечно, вам лишь честь, но не так давно некий неосторожный («знаменитый» тоже) обладатель такой «разожженной плоти», обладатель, по несчастью, и ревнивой жены, прибег даже к моей протекции, и я должна была, при посредстве ее мужа, усмирить коварную прельстительницу. // (Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Философова с В. Я. Брюсовым (1906–1909) / Публикация М. В. Толмачева // Литературоведческий журнал. 2001. № 15. С. 158).
(обратно)326
Письма к А. А. Шестеркиной. 1900–1913 / Публикация В. Г. Дмитриева // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 627. См. также более подробную запись об этой встрече: Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 95.
(обратно)327
Брюсов Валерий. Дневники. С. 125.
(обратно)328
Переписка с С. А. Поляковым (1899–1921) / Публикация Н. В. Котрелева, Л. К. Кувановой и И. П. Якир // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М„1994. Кн. 2. С. 65.
(обратно)329
РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 2.
(обратно)330
Там же. Ед. хр. 3. И. М. Брюсова, однако, была не на шутку встревожена этими признаниями. В связи с этим Брюсов писал ее сестре Марии Матвеевне Рунт, бывшей также его возлюбленной (авторская датировка: «1902»; написано, видимо, в декабре): «Жанна на меня что-то очень сердится. Подите к ней. Успокойте ее. Уверьте ее, что я ее очень люблю. Ведь оно так и есть. Она мне жена, самая настоящая, самая желанная, и иной я не хочу на всю жизнь. Вы мне брались быть другом. Будьте. Я неосторожно описывал ей, как ухаживал здесь за г-жой Минской. Только потому и описывал, что для меня это было забавой. Я никогда, например, не сказал бы ей (и не говорил) о том вечере, на берегу озера, в Петр<овско>-Раз<умовском>, не сказал бы о том, как всегда, когда я вижу Вас, мне хочется Вас ласкать, – потому не сказал бы, что это из души, от сердца, что в этом есть обида ей, есть измена. А во всех моих ухаживаниях за Минской и Образцовой ничего нет ‹…›. Если б даже я был возлюбленным г-жи Минской (чего вовсе нет и не будет), и тогда это не было бы изменой. Ах, почему для женщин это не ясно» (РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 18).
(обратно)331
Там же. Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 26 об.
(обратно)332
Впервые опубликовано в «Альманахе книгоиздательства “Гриф”» (М., 1903), вошло в книгу стихов Брюсова «Urbi et orbi» (М., 1903). См.: Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 322–323. К Вилькиной обращен также стихотворный экспромт «Я путешественник случайный…» (ноябрь 1902 г.), надписанный на подаренной ей Брюсовым книге его стихов (Там же. М., 1974. Т. 3. С. 275, 599).
(обратно)333
Валерий Брюсов и Людмила Вилькина. Переписка / Предисловие А. В. Лаврова. Подготовка текста А. Н. Демьяновой, Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова. Публикация и комментарии Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова // Лица. Биографический альманах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 323–324.
(обратно)334
Там же. С. 328–329.
(обратно)335
Там же. С. 338.
(обратно)336
Там же. С. 351.
(обратно)337
Валерий Брюсов и Людмила Вилькина. С. 335.
(обратно)338
Переписка В. Я. Брюсова и К. И. Чуковского / Вступ. заметка, публикация и комментарии А. В. Лаврова // Контекст – 2008. Историко-литературные и теоретические исследования. М., 2009. С. 331. Ср. письмо Брюсова к А. А. Блоку от 16 февраля 1907 г.: «…меня упрекают за мои рецензии в № 1, но, клянусь, я писал именно то, что думал. Не мог я по чести хвалить деревяшки Людм<илы> Ник<олаевны>, выдаваемые ею за сонеты, не мог, не мог, не мог!..» (см.: Переписка <Блока> с В. Я. Брюсовым (1903–1919) / Публикация Ю. П. Благоволиной // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 500).
(обратно)339
Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924. Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев; вступит статья и коммент. Н. А. Богомолова. М., 1990. С. 222. Ср. во многом сходную оценку «Моего сада» в рецензии Л. М. Василевского: «Этот “сад” насильственно изолирован не только от “города”, но и от “жизни” вообще, которой автор не понимает, потому что не любит и не чувствует ‹…› это – пассивное и безжизненное самоотьединение ради спокойного созерцания сонных грез» (Современный Мир. 1907. № 2. Отд. II. С. 76. Подпись: «Л. В-ий»).
(обратно)340
17 декабря 1906 г. Минский сообщал Вилькиной из Парижа: «Только что были у меня Андрей Белый и Маковский. Белому передал твои стихи – и он обещал написать о них»; по выходе рецензии Белого – ей же: «Ура! Только что получил “Перевал”. Боже, как я рад! Милый Белый! Как я счастлив, что мне удалось победить влияние З. Н. <Гиппиус. – Ред.> Ты не знаешь, сколько мне это стоило» (11 февраля 1907 г.); «…этот отзыв в твоей литературной жизни – событие! После него ты сразу заняла выдающееся место среди новых поэтов» (14 февраля 1907 г. // ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 884).
(обратно)341
26 февраля 1907 г. Минский заверял Вилькину: «В одном тебе клянусь: отольются Брюсову твои слезы». Накануне, 25 февраля, он пытался приглушить ее впечатления множеством доводов: «Дитя любимое, Брюсов написал о тебе то, что – запомни мое слово – он через месяц, когда выйдут мои стихи, напишет обо мне. Тут ничего не поделаешь. Он – душа мелкая, недобросовестная – и под шум полемики сам себя не слышит. Он ошалел от соперничества с Грифом. ‹…› А пока не огорчайся его критикой, а воспользуйся ею. Упреки его могут быть приложены и к Пушкину, и к Лермонтову, – но в них все-таки есть доля правды, к которой надо прислушаться. Мы вступаем в период стихотворного виртуозничества – когда эпитеты должны сверкать – и все слова должны быть и уместны и неожиданны. Во всяком случае, об этом надо думать. Придирки Брюсова к стилю твоих стихов не стоят гроша и повредить тебе не могут. Что же касается того, что ты берешь декадентские темы, то, конечно, ты сама этого отрицать не станешь – и в этом что же обидного. Да, ты – декадентка, как и мы все. Из круга декадентских тем никто из нас не выходит. Поверь, друг мой, моей опытности и спокойно плюнь на критику Брюсова. От журнала, где душой является Мережк<овский> и Гиппиус, ни ты, ни я добра ждать не можем. Это надо знать заранее – и относиться к такому факту с величайшим и презрительнейшим спокойствием» (Там же).
(обратно)342
Опубл.: Русский сборник. Париж, 1920. С. 180.
(обратно)343
Из письма к А. С. Суворину от 21 октября 1895 г. // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 85.
(обратно)344
РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 3. Ед. хр. 5. Завещательное распоряжение Брюсова исполнено много лет спустя после смерти поименованных им лиц. См.: Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913 / Вступ. статьи, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова. М., 2004.
(обратно)345
Ср.: «Она представляет собой определенный интерес как личность, всецело принадлежавшая своей эпохе, – Петровская, если угодно, была ее законченным произведением» (Тырышкина Елена. Жизнь в пространстве декаданса (Н. Петровская) // Studia Slavica Hung. 2002. T. 47. № 1/2. С. 135).
(обратно)346
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 7, 8.
(обратно)347
Там же. С. 8–9. В экземпляре мемуарной книги «Некрополь», который принадлежал В. В. Вейдле, Ходасевич отметил на полях, что Петровская была невестой В. А. Маклакова, видного юриста, впоследствии крупного деятеля кадетской партии (см. комментарии Н. А. Богомолова в кн.: Ходасевич Владислав. Некрополь. М.: Вагриус, 2001. С. 392). О профессии, полученной ею в ранней юности, Петровская вспомнила в письме к Ю. И. Айхенвальду (Париж, 29 июня 1927 г.) – в надежде изыскать средства для существования: «Сознаюсь Вам: я по профессии еще зубной врач. Из ложного стыда потом это тщательно таила от всех… даже самой это хотелось забыть. Но сейчас время суровое, – не до жеманства. Конечно, и диплом я потеряла давно и практиковать не собираюсь, но остались у меня некие знания, которые можно утилизировать с другой стороны. В зубоврачевании огромную роль играет применение всевозможных технических приспособлений, и при каждом кабинете непременно находится лаборатория, где делают искусственные зубы по новейш<им> системам. Это дело мне знакомо во всех его основах и, я даже бы сказала, – нравится. Конечно, прошли годы и годы и техника в этой области страшно шагнула вперед. Нужно поучиться. И если интенсивно, то в какой-ниб<удь> частной мастерской мне нужно пробыть не больше 3-х, 4-х месяцев. (Конечно, у французов). Тогда заработок обеспечен, и заработок верный ‹…›» (РГАЛИ. Ф. 1175. Оп. 2. Ед. хр. 14). Опубликовано в сокращении Э. Гарэтто: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 133–134).
(обратно)348
Петровская написала их сразу после смерти Брюсова, осенью 1924 г.; 23 ноября 1924 г. она сообщала М. Горькому: «Была у меня надежда на мою книгу – “Воспоминания”. Собственно о Валерии Брюсове и эпохе с ним связанной, личные и литературно-общественные. Давно вела переговоры с К<нигоиздательст>вом “Петрополис”. Прочли, пожелали печатать сейчас же, но без аванса, на проценты с экземпляра. Это для меня невозможно» (Garetto Elda. Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina Petrovskaja con V. F. Chodasevič e M. Gor’kij // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 140). Горький предполагал опубликовать «Воспоминания» Петровской в берлинской «Беседе», но издание журнала было прекращено в мае 1925 г., затем рекомендовал поместить их в журнале «Русский современник» (см. его письмо к А. Н. Тихонову от 9 августа 1925 г. // Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2012. Т. 15. С. 240–241, 676 – примечания Л. В. Суматохиной), но его издание после выхода в свет в конце декабря 1924 г. 4-го номера не было возобновлено (см.: Примочкина Н. Н. М. Горький и журнал «Русский современник» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 368–369; Примочкина Н. Н. М. Горький в судьбе Нины Петровской // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 2002. Т. 61. № 2. С. 7 – 15; Примочкина Н. Н. Женщина, достойная помощи и внимания (Н. Петровская) // Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003. С. 207–224). Впоследствии «Воспоминания» Петровской были подготовлены к печати в составе тома «Русские символисты» (в серии «Летописи Государственного Литературного Музея») под редакцией Н. С. Ашукина (см.: Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 691), но это издание не было осуществлено. Фрагменты «Воспоминаний» Петровской были впервые опубликованы Ю. А. Красовским (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 773–789), в полном объеме они напечатаны в составе публикации Эльды Гарэтто «Жизнь и смерть Нины Петровской» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 17–90).
(обратно)349
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 18, 19.
(обратно)350
Почти полный свод литературных произведений Петровской представлен в кн.: Петровская Нина. Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика / Составление М.В. Михайловой. Вступ. статья М.В. Михайловой и О. Велавичюте. Комментарии М.В. Михайловой и О. Велавичюте, при участии Е.А. Глуховской. М., 2014.
(обратно)351
Ср., например, отзыв С. М. Соловьева об «Альманахе “Гриф”» (М., 1904) в письме к А. Блоку от 18 февраля 1904 г.: «Почти весь альманах хочется положить в печку. “Последняя ночь” Нины Ивановны очень симпатично, но окончательно бездарно» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 364).
(обратно)352
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 12.
(обратно)353
Ср., например, сообщение в письме С. А. Соколова к Андрею Белому от 14 августа 1903 г. об А. С. Рославлеве, поэте из круга «Грифа»: «…он ‹…› оказался распространителем и автором гнусных и грязных слухов насчет меня и Нины. ‹…› Мне только и осталось порвать с ним, что я и сделал» (РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 2). О тех же слухах, распространявшихся Рославлевым и Виктором Гофманом, упоминает и Петровская в «Воспоминаниях» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 37). Подробнее см.: Лавров А. В. Виктор Гофман: между Москвой и Петербургом // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 352–353.
(обратно)354
Белый Андрей. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 43.
(обратно)355
Подробнее см.: Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 159–162, 167; Письма Андрея Белого к Н. И. Петровской / Публикация А. В. Лаврова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 198–214.
(обратно)356
См.: Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 131. Помимо принадлежности к модернистскому литературному сообществу, Брюсова с Соколовым связывал и живой интерес к спиритизму (письма Соколова к Брюсову за 1904 г. содержат приглашения на спиритические сеансы; см.: Богомолов Н. А. Заметки к тексту переписки // Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913. С. 48). Петровская описала в мемуарном очерке сеанс польского медиума Яна Гузика в московском особняке А. С. Хомякова с участием восьми человек, в том числе Соколова и Брюсова (Петровская Нина. Что это было? (На сеансах Яна Гузика) // Московская газета. 1911. № 130. 12 октября. С. 1; Петровская Нина. Разбитое зеркало. С. 402–406).
(обратно)357
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 22.
(обратно)358
Так, в конце 1903 г., когда возник конфликт между Брюсовым, требовавшим от сотрудников «Скорпиона» и журнала «Весы» неучастия в изданиях «Грифа», и Андреем Белым, отстаивавшим свое право печататься в «Грифе», первый сообщал П. П. Перцову (5 декабря 1903 г.), что Белый «не хочет участвовать в “Весах”. Началось, конечно, с наущений Бальмонта. Это понятно: Бальмонту важна Грифиха с ее медведицей для лизания (З. Н. <Гиппиус> знает, о чем речь). А. Белый мягок, аки воск пасхальной свечи, и из него можно лепить что угодно: медведиц, дьяволенков и ангелочков. ‹…› Я уже начинаю подумывать, не дает ли Грифиха и ему свою медведицу, хотя (или “ибо”) он и очень невинен» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 23). В неотправленном варианте письма к Андрею Белому, датированного тем же днем, Брюсов, увещевая строптивого автора, прибегал к тем же аргументам: «Как не видите Вы, чтó такое Соколов. У Бальмонта есть специальные причины благоволить Соколову, но при чем тут Вы? Ведь не начали же и Вы лизать соляную медведицу Нины Петровской? Мне страшно писать это. Нельзя же не видеть, что Соколов пустой балаганный шут, неумело-бездарный шарлатан, в устах которого все слова, самые истинные, становятся фиглярством и пошлостью! С ним можно пить мадеру, может быть вести процесс, но нельзя делать дело, истинное и большое, как издательство наших книг» (РГБ. Ф. 386. Карт. 70. Ед. хр. 11. Ср. отправленный адресату вариант текста письма: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 371–374).
(обратно)359
РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Ср. сообщение в письме Брюсова к М. А. Волошину от 29 марта / 11 апреля 1904 г.: «Андрей Белый соблазнен Грифихой, т. е. Ниной Петровской, и услан матерью, спасаться, в Нижний Новгород» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 331).
(обратно)360
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 14.
(обратно)361
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 67.
(обратно)362
Там же. С. 69. Видимо, к ранней поре общения с Брюсовым относится недатированное письмо Петровской к Андрею Белому, подчеркнуто «внешнее» по стилистике и сугубо деловое (РГБ. Ф. 25. Карт. 35. Ед. хр. 37): // Дорогой Борис Николаевич, сегодня именно в 7 часов меня просил увидаться с ним В. Я. К 9 ½ я вернусь непременно и буду ждать Вас. Может быть, ничего для Вас эта перемена часа, и Вы зайдете? // Письмо передала вчера же в 6 ч. веч<ера>. Ваша Н. Петровская.
(обратно)363
РГБ. О. Р. Карт. 128. Ед. хр. 13. Опубликовано под заглавием «Молния» в составе авторского цикла «В провалах» (Северные цветы ассирийские. Альманах IV книгоиздательства «Скорпион». М., 1905. С. 31); печатается с датировкой: 17 ноября 1904.
(обратно)364
Лица. Биографический альманах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 359. Публикация Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова.
(обратно)365
Письмо к М. М. Рунт // РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 18.
(обратно)366
Брюсов Валерий. Дневники. С. 136.
(обратно)367
Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913. С. 69.
(обратно)368
Там же. С. 77–78.
(обратно)369
Там же. С. 82.
(обратно)370
Ашукин Николай. Заметки о виденном и слышанном / Публикация и комментарий Е. А. Муравьевой // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 194. В той же записи рассказов со слов Полякова Н. С. Ашукин зафиксировал: «Кажется, в 1904 году или в 1905, Брюсов написал духовное завещание, которое передал Полякову, назначив его своим душеприказчиком. Завещание было написано потому, что Брюсов ждал близкой смерти; Сергей Александрович слышал от него что-то, что заставило его предположить о двойном самоубийстве Брюсова и Н<ины> Петровской» (Там же). Текст упоминаемого документа нам неизвестен (не исключено, что имеется в виду вариант письма, обращенного к С. А. Соколову, которое приведено выше); предположение же о «двойном самоубийстве» как финальной точке взаимоотношений нельзя считать безосновательным, зная о характере и общей картине их развития.
(обратно)371
Документ опубликован в комментарии В. Э. Молодякова в кн.: Брюсов Валерий. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 222–223.
(обратно)372
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 56.
(обратно)373
См.: Переписка <В. Брюсова> с Андреем Белым. 1902–1912 / Вступ. статья С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 332–339; Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Wiener slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 79 – 107; Bd. 2. S. 73–96 (рец.: Бахрах Александр. Венские слависты // Русская мысль. 1978. № 3236. 28 декабря. С. 8); То же // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 530–589; То же // Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 6 – 62; Бенькович М. А. «Огненный Ангел» Валерия Брюсова (этап интеллектуальной дуэли) // Из истории русской литературы и литературной критики. Кишинев, 1984. С. 18–36; Мирза-Авакян М. Л. Образ Нины Петровской в творческой судьбе В. Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 223–234; Минц З. Г. Граф Генрих фон Оттергейм и «московский ренессанс». Символист Андрей Белый в «Огненном Ангеле» В. Брюсова // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 215–240; Grossman Joan Delaney. Valery Briusov and Nina Petrovskaia: Clashing Models of Life in Art // Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, California, 1994. P. 122–150, 256–265; Klimowicz Tadeusz. Nawiedzone (Baszkircewa – Piotrowska – Lwowa) // Studia Rossica Posnaniensia. 1993. Vol. XXIV. Str. 88–94.
(обратно)374
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 56.
(обратно)375
Брюсов Валерий. Повести и рассказы. М., 1988. С. 112, 111.
(обратно)376
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 400–401. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно: римскими цифрами обозначается том, арабскими – страница.
(обратно)377
Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 311–312.
(обратно)378
См.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 387.
(обратно)379
См.: Паперно Ирина. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 36–39. Свояченица Брюсова Б. М. Рунт (Погорелова) свидетельствует, что, подразумевая заключительные строки брюсовского «Антония»: // О, дай мне жребий тот же вынуть, // И в час, когда не кончен бой, // Как беглецу, корабль свой кинуть // Вслед за египетской кормой! // (I, 393), – // Петровскую «с легкой руки едкого и остроумного В. Ходасевича ‹…› в нашем интимном кругу прозвали “Египетской Кормой”» (Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение // Новый журнал. Кн. 33. Нью-Йорк, 1953. С. 184).
(обратно)380
Белый Андрей. Начало века. С. 308. Из стихотворений, относящихся к ранней поре взаимоотношений Брюсова и Петровской, за пределами книги «Stephanos» осталось шуточное «Девочка Ниночка…» (1905): // Девочка Ниночка, // Ты – паутиночка // В утренней мгле, // Девочка Ниночка, // Ты – как былиночка // Никнешь к земле, // и т. д. // (Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное. М., 1998. С. 18, 279 – комментарий В. Молодякова).
(обратно)381
Выразительный в этом отношении документ – письмо И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой (сестре поэта) от 29 сентября 1905 г.: «…была лекция Мережковского. Входим мы с Броней <Б. М. Рунт, сестра И. М. Брюсовой. – Ред.>, а Валя уже, как в прошлый год, с Грифихой. Но, увидавши меня, по-детски испугался и бросился ко мне. Весь вечер В<аля> был печален, но не отходил от меня. Бальмонт со всеми Грифами и Ходасевичами смотрел насмешливо заносчиво. Зиночка <З. Н. Гиппиус. – Ред.> была очень мила. ‹…› Я ее водила по клубу – по залам. Сели мы в одной гостиной и мимо проходит вся ненавистная компания, а Зиночка говорит: “Это Грифиха, какая она с виду грубая женщина”. Я обрадовалась. Да, она очень грубая женщина! Как только я это сказала, я поняла, ведь литературные сплетни в Москве и Петербурге одни. И, конечно, хитрая Зина неспроста так говорила. ‹…› Я пришла домой и плакала. Валя очень печалился, что не остался ужинать, а когда Бальм<онт> его звал, то он сказал, нам нельзя быть с вами» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 34).
(обратно)382
Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение // Новый журнал. Кн. 33. С. 184.
(обратно)383
Тимофеев А. Sanctus Amor. Критический этюд // Руль. 1908. № 117. 9 июня. С. 5. Излишне, видимо, добавлять, что «бесстрастность», отмеченная Тимофеевым, могла быть в данном случае лишь формой «внешнего» поведения, утрированного публичного этикета.
(обратно)384
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии (1907–1917) / Публикация Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15. М.; СПб., 1994. С. 40.
(обратно)385
Гиппиус З. Зверобог // Образование. 1908. № 8. Отд. III. С. 26; Гиппиус З. Собр. соч.: Мы и они. Литературный дневник. Публицистика 1899–1916 гг. М., 2003. С. 331.
(обратно)386
Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 315. См.: Тырышкина Е. В. «Sanctus Amor» Н. Петровской в восприятии А. Белого // Literatura Rosyjska w nowych interpretacjach (Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicah. № 1539). Katowice, 1995. Str. 30–40.
(обратно)387
Костаньян П. Нина Петровская и Петр Пильский // Руль. 1908. № 41. 27 февраля. С. 2.
(обратно)388
Петровская Нина. Sanctus Amor: Рассказы. М.: Гриф, 1908. С. 62.
(обратно)389
Петровская Нина. О творчестве Осипа Дымова // Перевал. 1907. № 4. Февраль. С. 45.
(обратно)390
См.: Михайлова М. В. Нина Петровская – литературный критик журнала «Весы» // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века: Межвузовский сб. научных трудов. Вып. 4. Иваново, 1999. С. 226–239.
(обратно)391
Ср., например, фрагмент из ее рецензии на «Рассказы. Т. I» М. П. Арцыбашева: «В статье “Ключи тайн” Валерий Брюсов говорит: “Искусство, – это приотворенная дверь в Вечность”. И через эту “приотворенную дверь” художник должен показать нам непривычные, потрясающие душу образы на плане жизни видимой и реальной. Тогда сливаются две перспективы, – внутреннее и внешнее становится одним таинственным целым. Тогда является последняя творческая свобода, далекая от всяких тенденций, от служения каким бы то ни было реальным целям» (Искусство. 1905. № 8. С. 76).
(обратно)392
В «Русской Мысли» были опубликованы две рецензии Петровской (1910. № 11), ее рассказ «Предутренние тени» (1911. № 9) и переведенные ею с французского роман Люси Деларю-Мардрюс «Шеридан» (1911. № 2–7) и «Роман в письмах» Альфреда де Мюссе (1911. № 11).
(обратно)393
РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 18.
(обратно)394
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 15–16. Ср. суждения о Петровской в письмах С. Соколова к Ходасевичу: «Нина меня приводит в совершенное отчаяние, – не хочет никуда двигаться: образ жизни ведет обычный: днем плачет и лежит на диване, вечером – в клубе. Я, обессиленный, ‹…› когда навещаю Нину, то прихожу только в еще большее отчаяние» (10 мая 1906 г.); «Нина – мрачна невероятно» (30 июня 1906 г.); «Не удается никак исцелить рану моей души – Нину. Ни с какого боку не приладишь ее к жизни. ‹…› Человек она – неуравновешенный, издерганный вконец и почти невменяемый. Убеждаю уехать отдышаться куда-нибудь. Не хочет. Хоть бы Вы ее заманили на неделю. Я прямо с ней духом пал» (7 июня 1907 г.) (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 78).
(обратно)395
Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 694 (публикация А. Н. Дубовикова). Инцидент описан также тремя мемуаристами – с существенными различиями в реконструкции его обстоятельств (см.: Белый Андрей. Начало века. С. 315; Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 14–15; Рындина Лидия. Ушедшее // Мосты. 1961. № 8. С. 301; То же // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 418–419).
(обратно)396
См.: Ауслендер Сергей. Золотые яблоки: Рассказы. М.: Гриф, 1908. С. 167–189; Ауслендер Сергей. Петербургские апокрифы: Роман, повести и рассказы. СПб., 2005. С. 241–250.
(обратно)397
См. письма Петровской к Е. Л. Янтареву из Италии (Богомолов Николай. Итальянские письма Нины Петровской // Русско-итальянский архив / Составители Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. С. 150–155).
(обратно)398
Героиня романа Ауслендера – о которой говорят, что она «не то куртизанка XVIII века, не то московская Клеопатра», – наделена, помимо очевидного психологического сходства, и характерными чертами внешнего облика Петровской: «…маленькая, чернявенькая, только глаза и видно» (слова кучера); «…большие черные глаза, красивые губы и зачесанные гладко на уши черные пряди волос»; «На ней было черное шелковое платье с длинным трэном, черная огромная шляпа с белыми перьями и только одна нитка жемчуга на шее, как четки, спускающаяся на грудь розовым коралловым крестом». Особенности взаимоотношений Петровской и Брюсова прослеживаются и у ауслендеровских персонажей – Агатовой и влиятельного литератора Полуяркова; Агатова говорит о нем Гавриилову (главный герой, alter ego автора): «…я дошла до последнего ужаса. Я не могу терпеть больше его колдовской власти над телом, над душой, а уйти некуда. Пустота, кругом пустота… Всё в нем, вся жизнь, а вынести этого больше нельзя!» (Ауслендер С. Последний спутник: Роман в трех частях. М., 1913. С. 89, 3, 25–26, 19, 13).
(обратно)399
Петровская Нина. Мертвый город (От нашего корреспондента) (Письмо из Венеции) // Утро (Харьков). 1908. № 465. 15 июня. С. 4–5.
(обратно)400
Белый Андрей. Начало века. С. 308.
(обратно)401
Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное. С. 21.
(обратно)402
Ср. записи Н. С. Ашукина: «Иоанна Матвеевна с большой горечью сказала мне, что у нее недобрая память о Нине Петровской: – “Это она приучила В<алерия> Я<ковлевича> к морфию”. Морфий, несомненно, расшатал здоровье Брюсова. По словам Полякова, к морфию, хотя и редко, Брюсов прибегал, вероятно, и в последнее время» (9 октября 1924 г.); «И<оанна> Матв<еевна> долго и подробно рассказывала мне о морфинизме Брюсова. К морфию, – по ее словам, – приучила его Нина Петровская – “злой гений В<алерия> Я<ковлеви>ча; он называл ее жрицей любви”, она “учила его всем наслаждениям”» (Ашукин Николай. Заметки о виденном и слышанном / Публикация и комментарий Е. А. Муравьевой // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 187–188; № 33. С. 247). О том же пишет в «Повести об одном десятилетии» К. Г. Локс: «Ж<анна> М<атвеевна> утверждала, что Нина погубила его. Она, по ее мнению, приучила В<алерия> Я<ковлевича> к морфию» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15. С. 41).
(обратно)403
Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное. С. 25.
(обратно)404
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15. С. 41.
(обратно)405
Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913. С. 722.
(обратно)406
Из переписки Н. И. Петровской / Публикация Р. Л. Щербакова и Е. А. Муравьевой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 14. М.; СПб., 1993. С. 391.
(обратно)407
Приведено Р. Л. Щербаковым и Е. А. Муравьевой (Там же. С. 386–387).
(обратно)408
Раздел под таким заглавием в составе четырех стихотворений («И снова» («И снова я, простерши руки…»), «Прощаю все…» («Прощаю все, – и то, что ты лгала мне…»), «После ночи…» («После ночи свиданья любовного…»), «Близ моря» («Засыпать под ропот моря…»); в «Зеркале теней» третье из этих стихотворений помещено в разделе «Жизни мгновения», четвертое – в разделе «Милое воспоминание») с посвящением Петровской («Посв. Н. П.») вошел в трехтомное собрание стихотворений, подготовленное Брюсовым незадолго до смерти. См.: Брюсов Валерий. Избранные произведения. Т. II. Стихотворения 1905–1912. М.; Л., 1926. С. 133–135.
(обратно)409
Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное. С. 144, 301 (комментарий В. Молодякова).
(обратно)410
РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 35. Встречи Брюсова с Петровской продолжались и в последующие недели. 16 октября 1911 г. И. М. Брюсова писала Н. Я. Брюсовой: «…вызывал по телеф<ону> Валю Владя <В. Ф. Ходасевич. – Ред.> и приглашал его в кружок. Оказывается, как мне сам В<аля> рассказал, Владя только подставное лицо, а приглашала его эта злосчастная m Гриф. К этой особе я теперь испытываю чувство отвращения, как к мокрице какой-нибудь, не больше» (Там же).
(обратно)411
Ср. сообщение в письме И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой от 6 ноября 1911 г.: «У m-me Гриф крупозное воспаление легких. Генрих очень старается лечить ее, по его словам здесь в России ей не выжить, и он с ней хочет ехать за границу. Морфий она бросила»; в письме, датированном 8 ноября (видимо, ошибочно; на самом деле – 9 ноября), она писала ей же: «Сегодня уехала la belle Nina за границу. Генрих взял отпуск и поехал вместе» (Там же).
(обратно)412
В письме к М. В. Вишняку от 16 февраля 1925 г. Ходасевич просил вставить в корректуру его очерка о Брюсове «в том месте, где описываются проводы N на вокзале», точную дату – 9 ноября 1911 года: «Мне, по ряду обстоятельств, необходимо закрепить эту дату, которую восстановил только несколько дней тому назад, получив письмо от самой N» (Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 484–485). Ср., однако, фразу в письме Петровской к Ходасевичу от 9 февраля 1925 г.: «Мой “дом” развалился разом 11 ноября 1911 – и мне “все равно”» (Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. С. 129. Публикация Эльды Гарэтто). В предисловии к «Воспоминаниям» Петровская писала: «9-ого ноября 1911 я выехала из России, из Москвы, с твердым решением остаться за границей навсегда. Мотивы сложные и чисто интимные привели меня к этому решению» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 17).
(обратно)413
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 28.
(обратно)414
См.: III, 83. Предположение В. Молодякова (см.: Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное. С. 301) о том, что стихи Брюсова об Ариадне – «Жалоба Фессея» (1917), «Ариадна» (1918), «Ариадне» (1923) (см.: III, 27–29, 199) – связаны с образом Петровской, убедительными аргументами не подкреплено.
(обратно)415
См. раздел «Рассказы из периодики» в кн.: Петровская Нина. Разбитое зеркало. С. 88 – 241.
(обратно)416
Среди них отметим статью «Между музыкой и поэзией» – отзыв на «Собрание стихов» Поля Верлена в переводе Брюсова (М.: Скорпион, 1911). Петровская славит Брюсова за «тщательный, любовно обдуманный труд», который «вышел после семнадцати лет с того дня, когда он был начат еще поэтом-юношей»: «В этой книге В. Брюсов насколько было возможно приблизился к тому совершенству работы, которое было доступно поэту-переводчику вообще. ‹…› В. Брюсов мастерски передал изысканную оригинальность верлэновского стиха ‹…› в этот таинственный и непостижимый мир поэтической души дано заглянуть до глубины, как в родную стихию, лишь брату-поэту» (Утро России. 1911. № 75. 2 апреля. С. 7).
(обратно)417
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 16. Согласно А. Н. Толстому, причина хромоты Петровской другая: «…будто Нина Ивановна бросилась под автомобиль в Мюнхене» (Гуль Роман. Я унес Россию. Апология эмиграции: В 3 т. Т. 1. Россия в Германии. М., 2001. С. 257).
(обратно)418
РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 16.
(обратно)419
РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 2.
(обратно)420
Письмо из Рима от 19 июля 1922 г. // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. С. 123. Публикация Эльды Гарэтто.
(обратно)421
Там же. С. 123, 124. Обыгрывается двустишие из сказки Андерсена «Старый дом»: «Да, позолота-то сотрется, // Свиная ж кожа остается!» (Перевод А. В. Ганзен).
(обратно)422
Сульпассо Бьянка. Неизвестное письмо Нины Петровской к папе Бенедикту XV // Параболы. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad. Frankfurt am Main; Wien, 2011. C. 198.
(обратно)423
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 16. Свою жизнь в Италии Петровская описывала в цитированном письме к Ходасевичу от 19 июля 1922 г.: «Прихлопнул голод, да какой! Опять до смертного часа. Выкрутилась и выкрутила сестру, – она со мной. Одним словом, не умерли, но началась жизнь <нрзб> тюрьмы. Работала. Все делала. Буквально все. Давала уроки, шила (!!), переводила, писала для одной большой актрисы синематографические драмы, а она, платя мне хорошо, поставила условием, чтобы имя было ее. Наплевать! Зато обедали и даже ужинали. И так живя в материальном, как в Вашей Совдепии, докатилась до сегодня» (Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. С. 123).
(обратно)424
Письмо от 2 сентября 1926 г. // Там же. С. 147. Публикация Эльды Гарэтто. См. также: Сульпассо Бьянка. Италия в жизни и творчестве Нины Петровской // Россия и Италия. Вып. 5. Русская эмиграция в Италии в XX веке. М., 2003. С. 121–132; Алякринская Н. Р. Итальянские очерки Нины Петровской // Там же. С. 133–149.
(обратно)425
См.: Петровский Мирон. Книги нашего детства. М., 1986. С. 152–159; Толстая Елена. Ключи счастья: Алексей Толстой и литературный Петербург. М., 2013. С. 417–420.
(обратно)426
Свое пребывание в Берлине Петровская подробно характеризует в письмах к О. И. Ресневич-Синьорелли 1922–1925 гг., опубликованных Эльдой Гарэтто (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 92 – 133; Русско-итальянский архив IX. Ольга Ресневич-Синьорелли и русская эмиграция: Переписка / Составители и редакторы Эльда Гаретто, Антонелла д’Амелия, Ксения Кумпан, Даниела Рицци. Т. II. Салерно, 2012. С. 151–209). См. также: Linthe Maja. Nina Petrovskaja – Autorinnenschaft zwischen Symbolismus und Emigration // Wiener slawistischer Almanach. 1998. Bd. 42. S. 75–98.
(обратно)427
Гуль Роман. Я унес Россию. Апология эмиграции: В 3 т. Т. 1. С. 255–256.
(обратно)428
Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 204–205. Письмо Петровской к Брюсову, о котором здесь сообщается, нам не известно.
(обратно)429
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 105. Ср.: Русско-итальянский архив IX. С. 184–185.
(обратно)430
Письмо к О. И. Ресневич-Синьорелли от 3 февраля 1924 г. // Там же. С. 208.
(обратно)431
Петровская Нина. Валерий Брюсов // Накануне. 1923. № 507. 16 декабря (Литературная неделя). С. 8.
(обратно)432
Гуль Роман. Я унес Россию. Апология эмиграции: В 3 т. Т. 1. С. 261.
(обратно)433
Письмо от 9 февраля 1925 г. // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. С. 127–128.
(обратно)434
Письмо от 26 февраля 1925 г. // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. С. 131.
(обратно)435
См. письма Петровской к Ю. И. Айхенвальду 1927–1928 гг. (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 133–138. Публикация Эльды Гарэтто) и ее письма к В. Ф. Ходасевичу и А. П. Шполянскому (Дону Аминадо) за тот же период («Все или ничего». Последние письма Н. И. Петровской / Предисловие, публикация и комментарии Джона Малмстада // Тыняновский сборник. Вып. 13: XII–XIII–XIV Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2009. С. 454–473).
(обратно)436
Письмо к Ю. И. Айхенвальду от 22 марта 1928 г. // Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 509.
(обратно)437
Недатированное письмо Петровской к Е. В. Выставкиной-Галлоп // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 14. С. 395. Публикация Р. Л. Щербакова и Е. А. Муравьевой.
(обратно)438
«Все или ничего». Последние письма Н. И. Петровской. С. 472.
(обратно)439
Газетные сообщения об этом приведены в комментариях Р. Л. Щербакова и Е. А. Муравьевой (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 14. С. 396). Ср. запись Ходасевича от 26 февраля 1928 г.: «Похороны Нины Петровской (Зайцевы, В. Бунина, Осоргина, Воротников, П. А. Соколов, П. К. Иванов, М. Головина, М. Зеркенау)» (Ходасевич Владислав. Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 119). Из старых московских знакомых покойной, кроме Ходасевича, в похоронах участвовали Б. К. и В. А. Зайцевы, В. Н. Бунина, а также П. К. Иванов, секретарь Московского литературно-художественного кружка, где Петровская постоянно бывала в годы романа с Брюсовым.
(обратно)440
Дни. 1928. № 1340. 25 февраля. С. 2. О самоубийстве Петровской как завершающем избранную судьбу символическом акте см.: Демидова Ольга. Метаморфозы в изгнании. Литературный быт русского зарубежья. СПб., 2003. С. 128–130. Ныне анализу личности Петровской посвящены две монографии: Kern Liliana. Der feurige Engel. Das Leben der Nina Petrovskaja. Berlin, 2006; Sulpasso Bianca. Lo specchio infranto. Il percorso letterario di Nina Petrovskaja. Roma, 2008.
(обратно)441
См.: Ашукин Николай, Щербаков Рем. Брюсов. М., 2006. С. 400–406; Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 199–208.
(обратно)442
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 33.
(обратно)443
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 567 (примечания М. В. Васильева, М. Л. Гаспарова, В. Ф. Земскова, А. А. Козловского, Р. Л. Щербакова).
(обратно)444
См.: Даугава. 1986. № 5. С. 112–114.
(обратно)445
Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. С. 203.
(обратно)446
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 139.
(обратно)447
См.: Молодяков Василий. Валерий Брюсов. Биография. СПб., 2010. С. 464–468; Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар (Летейская библиотека. II. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века). М., 2013. С. 70–78. В плане ненаписанных воспоминаний Брюсов указал и Марию Вульфарт – в части VI («Уклон») следом за записью «Надя» (т. е. Н. Г. Львова) следует: «Маня» (Коншина Е. Н. Творческое наследие В Я. Брюсова в его архиве // Записки Отдела рукописей <Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина>. Вып. 25. М., 1962. С. 86).
(обратно)448
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. С. 309.
(обратно)449
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 101.
(обратно)450
См.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 620 (комментарии Т. Г. Динесман).
(обратно)451
Брюсова И. М. Материалы к биографии Валерия Брюсова // Брюсов Валерий. Избранные стихи. М.; Л.: Academia, 1933. С. 138.
(обратно)452
В. Э. Молодяков пишет о предыстории этих отношений: «Весной 1913 года, когда ей было всего 15 лет, Мария начала засыпать поэта нервно-восторженными письмами ‹…›» (Молодяков Василий. Валерий Брюсов. С. 464–465). Между тем лишь одно письмо Вульфарт к Брюсову с датировкой «Эдельсгоф. Понедельник 28-го октября 1913 г.» из сохранившихся в его архиве предшествует времени их встречи в декабре 1913 г. Всего в архивной раскладке за 1913 г. – только два письма Вульфарт к Брюсову, причем одно из них отнесено к 1913 г. ошибочно, благодаря описке в авторской датировке («Рига, 3 марта 1913»), тогда как правильная датировка устанавливается по почтовому штемпелю на конверте (Рига. 3 III 1914; штемпель получения: Москва. 5 III 1914); о том, что письмо датируется 1914 годом, свидетельствует и его интимная стилистика: «Валерий нехороший! Где же ваше письмо? ждала так долго – и в конце концов не дождалась!» (РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 16). Видимо, именно этот казус побудил исследователя отнести предысторию взаимоотношений корреспондентов к весне 1913 г. Более осторожен в этом отношении А. Л. Соболев: «Знакомство ее с Брюсовым произошло не позже 1913 года при обстоятельствах, которые нам покамест неизвестны; инициатива, вероятно, исходила от нее ‹…›» (Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает… С. 71).
(обратно)453
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. С. 134. Впрочем, определенными чертами личности и облика Вульфарт могла для Брюсова ассоциироваться с Львовой. В записи неизвестного сохранились суждения И. М. Брюсовой (6 февраля 1937 г.): «Вульферт <так!> была сильно похожа лицом на Н. Львову ‹…› страдала эротич<еским> помешат<ельством>» (Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает… С. 71).
(обратно)454
РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 17.
(обратно)455
Там же.
(обратно)456
РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 17.
(обратно)457
Цит. по кн.: Молодяков Василий. Валерий Брюсов. С. 466.
(обратно)458
РГБ. Ф. 386. Карт. 73. Ед. хр. 11.
(обратно)459
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. С. 136.
(обратно)460
См.: Там же. С. 133–134.
(обратно)461
Там же. С. 204.
(обратно)462
См.: Там же. С. 63–64.
(обратно)463
См. ее факсимильное воспроизведение в кн.: Молодяков Василий. Валерий Брюсов. С. 467.
(обратно)464
РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 17.
(обратно)465
РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 17.
(обратно)466
См.: Чудецкая Е. В. Из переписки Брюсова 1914–1915 годов // Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 1976. С. 437–447.
(обратно)467
Подразумевается Нина Петровская – возлюбленная Брюсова в 1904–1911 гг., приучившая его к наркотикам.
(обратно)468
РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 18.
(обратно)469
Там же. Ед. хр. 20.
(обратно)470
Там же. Ед. хр. 18.
(обратно)471
РГБ. Ф. 386. Карт. 81. Ед. хр. 20.
(обратно)472
В цитированной книге В. Молодякова «Валерий Брюсов» говорится без указания на источник сообщаемого: «Есть основания предполагать, что Мария осталась в Варшаве, занималась музыкой, вышла замуж и умерла не ранее 1933 года» (С. 468). Согласно разысканиям А. Л. Соболева, Мария Вульфарт вышла замуж за некоего Августа Шротера; значится в списках лиц, лишенных между 1933 и 1945 гг. немецкого гражданства, как уроженка Риги Marya Maryla Mia Sara Schröter (девичья фамилия Wulffahrt) (Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает… С. 71, 77).
(обратно)473
Энциклопедический словарь. Т. XXIV а: Полярные сияния – Прая. СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон, 1898. С. 830.
(обратно)474
Poe Edgar Allan. The Complete Works. 17 vols. New York, 1902. Vol. l. P. 345; Гроссман Джоан Делани. Эдгар По в России. Легенда и литературное влияние. СПб., 1998. С. 17–18, 173. Ср.: Николюкин А. Н. Жизнь и творчество Эдгара Аллана По (1809–1849) // По Эдгар Аллан. Полное собрание рассказов / Издание подготовили А. А. Елистратова, А. Н. Николюкин. М., 1970. С. 693–694 («Литературные памятники»).
(обратно)475
Любопытно, что петербургский эпизод в изложении Бодлера («Почему встречаем мы его вдруг в Петербурге, без паспорта, скомпрометированного и замешанного в какое-то дело, принужденного просить помощи у американского посланника Генри Мидлетона, чтобы избежать тюрьмы и возвратиться домой, – неизвестно» – Бодлер Шарль. Эдгар По. Жизнь и творчество / Пер. Льва Когана. Одесса, 1910. С. 15) был осторожно обойден в первых русских переводах статьи. В одном из них упоминание о Петербурге опущено, сохранена лишь фраза: «К его (По. – А. Л.) счастию помощь американского консула Генриха Миддлетона послужила к его спасению» – загадочная, поскольку ей предшествует сообщение об отъезде По в Грецию («Эдгар Эллен-Поэ. Североамериканский поэт». Статья Шарля Боделера // Пантеон. 1852. Т. V. Кн. 9. Отд. IV. С. 10). В другом переводе (Эдгар Поэ, современный американский писатель. Его жизнь и сочинения // Сын Отечества. 1856. № 14. Июль) излагается весь эпизод и упоминается Миддлтон, но события перенесены в Вену и указано на строгость австрийских законов (см.: Гроссман Джоан Делани. Эдгар Аллан По в России. С. 23–24).
(обратно)476
Заграничный Вестник. 1866. Т. 9. Январь. С. 68.
(обратно)477
Андреевский С. Ворон. Поэма Эдгара Поэ // Вестник Европы. 1878. Т. II. № 3. С. 108.
(обратно)478
Комаров А. Эдгар Аллан Поэ, его жизнь и творения // Еженедельное Новое Время. 1880. Т. V. № 62. 6 марта. Стб. 626.
(обратно)479
См.: Аллен Герви. Эдгар По. М., 1987. С. 83.
(обратно)480
См.: Там же. С. 104, 285.
(обратно)481
Геннекен Эмиль. Жизнь Эдгара Аллэна По // По Эдгар. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. М.: Изд. В. Н. Маракуева, 1885. С. XII–XIII.
(обратно)482
Клепацкий Г. Эдгар Аллен По (Биографический очерк) // Полное собрание сочинений Эдгара Аллена По / Пер. с англ. Г. Клепацкого. Вып. 1. Кишинев, 1895. С. XX, XXI.
(обратно)483
Бальмонт К. Предисловие // По Эдгар. Баллады и Фантазии / Пер. с англ. К. Бальмонта. М., 1895. С. IV.
(обратно)484
Эдгар По (Биографический очерк) // Эдгар По (Poe) в лучших русских переводах под редакцией Н. Новича. СПб.: Стелла, 1911. С. 4.
(обратно)485
Эдгар Аллан По (Биографический очерк) // Собрание сочинений Эдгара Аллана По. СПб.: Изд. «Вестника Иностранной Литературы», <1912>. Т. 1. С. V–VI.
(обратно)486
Энгельгардт М. Эдгар По. Его жизнь и произведения // Полное собрание сочинений Эдгара По. Пер. с англ. М. А. Энгельгардта. Кн. I. Т. I. СПб., 1914. С. ХVI – ХVII.
(обратно)487
Книжки Недели. 1899. Октябрь. С. 227. Ср.: Ковалев Ю. В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л., 1984. С. 284.
(обратно)488
Семья. 1899. № 42. Октябрь. С. 6. Подпись: С. Т – в. См.: Гроссман Джоан Дилани. Эдгар Аллан По в России. С. 61–62.
(обратно)489
Исторический Вестник. 1897. Т. LXХ. Октябрь. С. 326.
(обратно)490
Исторический Вестник. 1907. Т. СХ. Октябрь. С. 326.
(обратно)491
Бразоленко Борис. Эдгар По (1809–1849 – 1909) // Вестник Знания. 1909. № 3. С. 348.
(обратно)492
35 биографий известных русских и иностранных писателей. СПб.: Просвещение, <1913>. С. 59.
(обратно)493
Собрание сочинений Эдгара По в переводе с английского К. Д. Бальмонта. Т. 5. М.: Скорпион, 1912. С. 27–28. Примечательно, что в принадлежавшем ему экземпляре этого тома А. Блок отчеркнул на полях приведенный абзац (Библиотека Пушкинского Дома, шифр 94 1/1165; Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 2 / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Бовина. Л., 1985. С. 195).
(обратно)494
Собрание сочинений Эдгара По в переводе с английского К. Д. Бальмонта. Т. 5. С. 28.
(обратно)495
Аполлон. 1912. № 6. С. 49–50.
(обратно)496
По Эдгар Аллан. Полное собрание рассказов. С. 66.
(обратно)497
Энциклопедический словарь. Т. XXIV а. С. 830–831.
(обратно)498
Достоевский Ф. М. <Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»>, 1861 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1979. Т. 19. С. 88.
(обратно)499
З. В. Новости иностранной литературы // Вестник Европы. 1898. № 7. С. 422.
(обратно)500
Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 189. Весьма репрезентативный комментарий Р. Тименчика к этому фрагменту воспоминаний Пяста (С. 385–386) послужил во многом стимулирующим началом для наших разысканий.
(обратно)501
Харджиев Н. И. О том, как Пушкин встретился с Эдгаром По // Харджиев Н. И. Статьи об авангарде: В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 349. Харджиев приводит и источник фразы, вложенной в уста Эдгара По, – очерк Маяковского «Мое открытие Америки» (1926): «…Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну “порядочную” гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями» (Маяковский Владимир. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 7. С. 329).
(обратно)502
См.: Тоддес Е. А. Неосуществленные замыслы Тынянова // Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения (г. Резекне, май 1982). Рига, 1984. С. 28–30.
(обратно)503
См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е, доп. и перераб. Л., 1988. С. 61.
(обратно)504
Известно, что Пушкин кутил в загородном ресторане «Красный кабачок» в компании П. В. Нащокина и его приятелей в 1819–1820 гг. (Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Сост. М. А. Цявловский. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 194).
(обратно)505
Катаев Валентин. Время, вперед! М., 1932. С. 284, 285.
(обратно)506
См.: Гнозис (Нью-Йорк). 1979. № 5/6. С. 22–23. Сам Газданов в «Заметках об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» (1929), упоминая о пребывании По в России и в Петербурге, где он был «замешан в чрезвычайно темном и скверном деле», ссылается на французскую биографию писателя, написанную Альфонсом Сэшэ (Séché). См.: Газданов Гайто. Собр. соч.: В 5 т. М., 2009. Т. 1. С. 706–707.
(обратно)507
Там же. С. 684.
(обратно)508
Там же. С. 679, 687.
(обратно)509
Там же. С. 682, 686.
(обратно)510
Там же. С. 687.
(обратно)511
«А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым ‹…›?» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 113).
(обратно)512
Газданов Гайто. Собр. соч. В 5 т. Т. 1. С. 680.
(обратно)513
Там же. С. 688.
(обратно)514
По Эдгар. Стихотворения. Проза. М., 1976. С. 807. Перевод Г. Злобина.
(обратно)515
Нарциссов Борис. Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы. М., 2009. С. 223–224.
(обратно)516
Эллинский секрет. Л., 1966. С. 383.
(обратно)517
Там же. С. 365.
(обратно)518
Там же. С. 371.
(обратно)519
Набоков Владимир. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1997. <Т. 2>. Лолита. Смех в темноте. С. 57.
(обратно)520
Гроссман Джоан Делани. Эдгар По в России. С. 144–145.
(обратно)521
См., в частности: Проффер Карл. Ключи к «Лолите». СПб., 2000. С. 67–85; Леденев А. В. Эдгар По в художественном сознании русского «серебряного века» // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия. Материалы Третьих Герцыковских чтений в г. Судаке 12–15 сентября 2003 года. М.; Симферополь; Судак, 2005. С. 85–91.
(обратно)522
Набоков Владимир. Собр. соч. американского периода: В 5 т. <Т. 2>. С. 57.
(обратно)523
Проффер Карл. Ключи к «Лолите». С. 256.
(обратно)524
Ходасевич Владислав. Собр. соч. / Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Т. 2. Статьи и рецензии 1905–1926. Ann Arbor, 1990. C. 132.
(обратно)525
См.: Турчинский Л. М. Русские поэты XX века. Материалы для библиографии. М., 2007. С. 486.
(обратно)526
Сидоров Юрий. Стихотворения. М.: Альциона, 1910. С. 5.
(обратно)527
Белый Андрей. Дорогой памяти Ю. А. Сидорова // Там же. С. 12.
(обратно)528
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии (1907–1917) / Публикация Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15. М.; СПб., 1994. С. 44.
(обратно)529
Нива. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения. 1910. № 11. Стб. 497–498. Без подписи.
(обратно)530
Современный Мир. 1910. № 11. Отд. II. С. 161.
(обратно)531
Утро России. 1910. № 246. 11 сентября. С. 5. Подпись: Е. Я – в.
(обратно)532
Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 328. (Впервые: Русская Мысль. 1910. № 10).
(обратно)533
Там же.
(обратно)534
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 113. (Впервые: Аполлон. 1910. № 10).
(обратно)535
Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 88, 63.
(обратно)536
Соловьев Сергей. Юрий Сидоров // Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 16.
(обратно)537
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии. С. 33. То же «египетское» начало в облике и личности Сидорова живописует Б. Садовской в стихотворении «Посвящение», опубликованном в первой книге автора «Позднее утро. Стихотворения. 1904–1908» (М., 1909): // Твой дух парит над вечным Нилом. // Ты друг Египта с давних пор. // Каким непобедимым пылом // Исполнен твой далекий взор! // Жрец желтоликий, темноокий, // С обритой мудро головой, // Ты светоч радости высокой, // Не зная сам, зажег собой. // (Садовской Борис. Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы. («Новая Библиотека поэта». Малая серия). СПб., 2001. С. 37, 351–353 – примечания С. В. Шумихина). «Юношей с желтым египетским профилем» называет Сидорова Б. Садовской в своих мемуарных «Записках» (Российский архив. Вып. I. М., 1991. С. 136. Публикация С. В. Шумихина). См. также: Панова Л.Г. Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина. М., 2006. С. 262, 275, 298–299, 453–454.
(обратно)538
Садовской Борис. Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916. С. 163.
(обратно)539
Хризопрас. Художественно-литературный сборник издательства «Самоцвет». М., 1906–1907. С. 27–28.
(обратно)540
Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 31, 46.
(обратно)541
См.: Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. С. 113.
(обратно)542
Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 36.
(обратно)543
Садовской Борис. Ледоход. С. 157.
(обратно)544
Русская Мысль. 1909. № 1. Отд. III. С. 6, 8.
(обратно)545
В заметке «Дорогой памяти Ю. А. Сидорова» Белый сообщает: «Я познакомился с Ю. А. всего за год до его кончины» (Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 12), – однако в позднейших автобиографических записях относит это знакомство к октябрю 1905 г.: «… встреча у С. М. Соловьева с покойным поэтом Ю. А. Сидоровым и Виноградовым (будущим “знаменитым” по доносам “музейным деятелем”») (Белый Андрей. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 30 об.; упоминается еще один друг Сидорова, студент историко-филологического факультета Московского университета Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946), впоследствии исторический романист и историк литературы, в первой половине 1920-х гг. директор Библиотеки Румянцевского музея, см. о нем: Шумихин С. Москва, 1938-й. Delirium persecutio А. К. Виноградова // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 264–300; Сотрудники Российской государственной библиотеки: Биобиблиографический словарь. Московский публичный и Румянцевский музей. 1862–1917 / Сост. Л. М. Коваль, А. В. Теплицкая. М., 2003. С. 53–55). В «Воспоминаниях о Блоке» (1922) Белый относит свое знакомство «на вечерах Соловьева» с Сидоровым и Виноградовым к концу 1907 г. (см.: Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 306). Достоверным следует признать последнее из этих свидетельств; в 1905 г. Сидоров еще не жил в Москве, Сергей Соловьев датирует свое знакомство с ним осенью 1907 г. (см.: Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 18). 28 декабря 1907 г. Садовской писал Сидорову из Нижнего Новгорода: «Тебя мне очень хвалил Белый перед отъездом моим, в “Весах”» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 40); ответный отклик Сидорова (Калуга, 9 января 1908 г.): «Конечно, не скрою, то, что ты написал мне об отношении и отзыве Белого обо мне, мне было узнать очень приятно» (Там же. Ед. хр. 191). 28 февраля 1908 г. Сидоров сообщал Садовскому из Москвы: «С. Соловьева и Белого встречал и виделся с ними несколько раз» (Там же).
(обратно)546
Садовской Борис. Ледоход. С. 159.
(обратно)547
Там же. С. 157.
(обратно)548
Соловьев Сергей. Памяти Ю. А. Сидорова // Богословский Вестник. 1914. Т. I. Январь. С. 223, 224.
(обратно)549
Садовской Борис. Ледоход. С. 158.
(обратно)550
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии. С. 38–39.
(обратно)551
Садовской Борис. Памяти друга // Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 13.
(обратно)552
Садовской имел прямое отношение к подготовке этой книги в издательстве «Самоцвет», о чем можно судить по письму Сидорова к нему от 30 декабря 1906 г., отправленному в Нижний Новгород: «Стоило только тебе уехать домой, как в “Самоцвете” начались свои порядки. Как я не взывал и не грозил именем твоим, – все было напрасно – “Вот де 2-ой № будет уж всецело под редакцией Бориса Александровича, а этот… уж Бог с ним”» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 191. Планировавшийся второй «художественно-литературный сборник» в издательстве «Самоцвет» не состоялся).
(обратно)553
Исправлено карандашом: «Кемийские и Озирис».
(обратно)554
РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 191. Л. 3.
(обратно)555
РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 191.
(обратно)556
РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 191.
(обратно)557
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии. С. 36.
(обратно)558
РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 191.
(обратно)559
Там же. Упоминается издание: Погорельский Антоний. Сочинения. Т. 1–2. СПб., 1853. Более поздних изданий этого писателя к 1908 г. не было осуществлено; единственная обобщающая работа о нем, опубликованная к тому времени, – статья А. И. Кирпичникова «Былые знаменитости русской литературы. Антоний Погорельский (А. А. Перовский)» (Исторический Вестник. 1890. № 10; Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы. СПб., 1896. С. 76 – 120; изд. 2-е – Т. 1. М., 1903).
(обратно)560
Соловьев Сергей. Юрий Сидоров // Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 20. Ср. дневниковые записи Сидорова, относящиеся к началу января 1909 г.: «В постели читал и окончил “Эдинбургскую Темницу” (из нее сюжет “Кап<итанской> дочки”). До слез не раз доходил, хотя вещь и слабее многого у В. Скотта. Уж очень пленительна невеста пастора – Джен»; «Кончил “Легенду о Монтрозе” и “Черного Карлика” прочитал. Мало впечатления. ‹…› Читал часа 1½ В. Скотта “Вудсток” – опять не по сердцу, что-то повторяющееся и тягучее»; «4 и 5 янв<аря> ‹…› Зачитался “Вудстоком” ‹…› Читал “Вудсток” до 3 ночи. Тоже одна из книжек за монархизм» (РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1381. Л. 20–22). См. также: Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 292–293.
(обратно)561
РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1381.
(обратно)562
Афанасий Афанасьевич Астапов (1840–1918) – библиофил, букинист; псевдоним: Старый букинист (Библиографические Записки. 1892. № 3, 7, 10). В записях А. П. Бахрушина о нем сообщается: «Он резко отличается от всех прочих антиквариев-продавцов, так как в то же время и страстный любитель редких книг (а толк в них он знает хорошо), он ни за что никому не продаст такую книгу, вследствие чего у него за тридцатилетнюю его практику набралось множество крайне редких и ценных книг…» (Коллекционеры и библиофилы // Столица и Усадьба. 1917. № 80. 30 апреля. С. 18).
(обратно)563
Тот же фрагмент из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа XX) приводит, описывая чтение Сидоровым Пушкина, в «Повести об одном десятилетии» К. Локс (С. 37). «Коппелия, или Девушка с голубыми глазами» (1870) – балет-пантомима в двух актах французского композитора Лео Делиба (по мотивам фантастической повести Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек»); был поставлен в Москве в 1905 г. в Большом театре (балетмейстер А. А. Горский).
(обратно)564
РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1380.
(обратно)565
Там же. Ед. хр. 1381.
(обратно)566
Там же. Л. 16–19 об.
(обратно)567
Дневниковая запись Сидорова о Соловьеве от 1 января 1909 г., навеянная этим чтением: «Как я люблю его. Теперь – больше всех остальных учителей моих. С трепетом и волнением перечел “Повесть об Антихристе”. Все истинны, и Иоанн, и Паули, и Петр. Да, такое и будет соединение» (Там же. Л. 20).
(обратно)568
РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1380.
(обратно)569
Там же. Ед. хр. 1061.
(обратно)570
Впервые опубликовано в кн.: Белый Андрей. Урна. Стихотворения. М.: Гриф, 1909. С. 107–108.
(обратно)571
Соловьев Сергей. Апрель. Вторая книга стихов. 1906–1909. М.: Мусагет, 1910. С. 162.
(обратно)572
См.: РГБ. Ф. 190. Карт. 42. Ед. хр. 1. Л. 2, 3.
(обратно)573
РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1380. В том же письме М. Сидорова приводит стихотворение А. К. Виноградова («Я смирился и Богу покорен…»), посвященное памяти Сидорова, а также стихи на его смерть «молодого же, совсем неизвестного поэта».
(обратно)574
Утро России. 1910. № 246. 11 сентября. С. 5.
(обратно)575
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии. С. 36–37.
(обратно)576
См.: Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 20.
(обратно)577
Богословский Вестник. 1914. Т. I. Январь. С. 223, 225.
(обратно)578
РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1381. Л. 21 об.
(обратно)579
Стихотворение Сидорова «Посещение» («Давно бессмертного поэта…»), навеянное образом Гоголя, подробно проанализировано Л. А. Сугай; ею же сообщены основные биографические сведения о поэте. См.: Сугай Л. А. Гоголь и символисты. Banská Bystrica, 2011. С. 113–121.
(обратно)580
См. его статьи «Стихия и культура» (1909) и «Горький о Мессине» (1909) (Блок А. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 90–96, 108–111).
(обратно)581
Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 1962. С. 143.
(обратно)582
Аскольдов С. А. Письма к родным / Публ. А. Сергеева // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 11. Paris, 1991. С. 319. (Письмо к сестре от 7 июля 1934 г.).
(обратно)583
Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин, 1923. С. 43.
(обратно)584
Бердяев Н. Собр. соч. Т. 1. Самопознание (опыт философской автобиографии). Paris, 1989. С. 176–177, 178.
(обратно)585
См.: Shishkin A. Le banquet platonicien et soufi à la «Tour» pétersbourgeoise: Berdjaev et Vjačeslav Ivanov // Cahiers du Monde russe. 1994. Vol. 35 (1–2). (Un maître de sagesse au XXe siècle: Vjačeslav Ivanov et son temps). P. 15–79; Шишкин A. Симпосион на петербургской Башне в 1905–1906 гг. // Русские пиры. СПб., 1998. С. 273–352 (Альманах «Канун»; Вып. 3); Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты // Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 67–98.
(обратно)586
См.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 823–825.
(обратно)587
Под таким домашним именем она, в частности, упоминается в письмах Ан. Н. Чеботаревской к О. Н. Черносвитовой за 1897 г. (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 8).
(обратно)588
Кузмин М. Дневник 1934 года / Под ред., со вступ. статьей и примечаниями Глеба Морева. СПб., 1998. С. 68.
(обратно)589
Письма и дарственные надписи Блока Александре Чеботаревской / Публ. Д. Е. Максимова // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 549. Ср. свидетельства о Чеботаревской в мемуарных «снах» А. М. Ремизова «Петербург. 1908–1909»: «Она была в стае Вяч. Иванова, или как ее называли “мироносицей” Вяч. Иванова, у него были такие верные, вот она и Марья Михайловна Замятина <так!>, верные до самопожертвования» (Pyman Avril. Petersburg Dreams // Aleksej Remizov: Approaches to a Protean Writer / Ed. by Greta N. Slobin. (UCLA Slavic Studies. Vol. 16). Columbus, Ohio, 1986. P. 73). Сведения об Александре Чеботаревской в связи с ее взаимоотношениями с Вяч. Ивановым см. также в комментариях О. Дешарт (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 724–726) и К. Ю. Лаппо-Данилевского (Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., <1995>. С. 125–127).
(обратно)590
См. черновые наброски к биографии Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 1. Л. 6).
(обратно)591
РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 63. Л. 1–2. В архиве Чеботаревской сохранилось свидетельство о полученном ею звании домашней учительницы французского языка от 28 мая 1887 г. (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 223).
(обратно)592
Современный исследователь, отмечая в этом переводе «досадные отклонения» от оригинала, признает его «живость, разговорность, непосредственность», а также указывает, что переводчица «местами несколько архаизирует текст, стремясь создать колорит русского языка конца XVIII в.» (Буачидзе Г. С. Ретиф де ла Бретон в России // Ретиф де ла Бретон Н. – Э. Совращенный поселянин. Жизнь отца моего. М., 1972. С. 633).
(обратно)593
РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 63. Л. 3.
(обратно)594
Русская Мысль. 1903. № 5. Отд. II. С. 137.
(обратно)595
См.: Иванов Вячеслав. Прозрачность. Вторая книга лирики. М., 1904. С. 116.
(обратно)596
Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым / Сост. и подгот. текстов В. А. Дымшица и К. Ю. Лаппо-Данилевского; Статья и комментарии К. Ю. Лаппо-Данилевского. СПб., <1995>. С. 98–99.
(обратно)597
РГБ. Ф. 109. Карт. 2. Ед. хр. 43. Текст записки приведен в примечаниях Р. Е. Помирчего в кн.: Иванов Вячеслав. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Кн. 2. С. 292 («Новая Библиотека поэта»). В автографе стихотворения предварительные варианты строк – ст. 6: «Ковчег сжигая, мнят, что жгут в нем Бога, – »; ст. 8: «Но ты блюди елей твой у чертога».
(обратно)598
ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 202. Л. 1.
(обратно)599
Там же. Л. 2; Иванов Вячеслав. Прозрачность. С. 75.
(обратно)600
Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 99 – 100.
(обратно)601
Иванов Вячеслав. Cor Ardens. M., 1911. Ч. 1. С. 133. Автограф стихотворения (без заглавия и посвящения) – в альбоме Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 202. Л. 3).
(обратно)602
Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 100.
(обратно)603
В архиве Чеботаревской сохранились оттиски публикаций Иванова с надписями: «Дорогой Александре Николаевне от неизменно преданного автора» («Эллинская религия страдающего бога». Введение, гл. 1 // Новый Путь. 1904. № 1), «Дорогому другу Кассандре Вяч. Ив.» (Стихотворения // Вопросы Жизни. 1905. № 2), «Сибилле Кассандре Вяч. Ив.» («Из Бодлэра» // Вопросы жизни. 1905. № 3), «Другу Кассандре Николаевне на память об Октябре 1905. СПб. 21. X. Вяч. Ив.» («Кризис индивидуализма» // Вопросы Жизни. 1905. № 9), «Дорогому другу Кассандре во имя общих заветов и Лидии Вяч. Иванов» (Речь, произнесенная на чествовании памяти В. Ф. Коммиссаржевской 7 марта 1910 г. // Ежегодник императорских театров. 1910. Вып. 2), «Кассандре – о нас – с нашей любовью. Вяч. Ив.» (Венок сонетов. Из книги «Любовь и Смерть» // Аполлон. 1910. № 5), «Кассандре, сердечному другу Вяч. Иванов» (О границах искусства // Труды и Дни. 1914. № 7), «Кассандре мистической В. И.» (Мой дом. Мистический цикл // Русская Мысль. 1916. № 9) (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 244), «Дорогой Александре Николаевне Чеботаревской Вяч. Иванов» (Чурлянис и проблема синтеза искусств // Аполлон. 1914. № 3) (Там же. Ед. хр. 235); в собрании М. С. Лесмана – книга Иванова «Родное и Вселенское. Статьи (1914–1916)» (М., 1917) с надписью: «Дорогой Александре Николаевне Чеботаревской в радостный день нового свидания. С любовью Вяч. Иванов. 14/27. III. 18» (Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. Публикации. М., 1989. С. 102).
(обратно)604
Фрагменты из этих писем Чеботаревской к Иванову вошли, в частности, в подборку «Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898–1921)» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования М., 1982. Кн. 3. С. 409–410, 413, 417–418, 427–429).
(обратно)605
РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 20.
(обратно)606
Письмо к Иванову от 5 января 1904 г. (Там же). Рукопись статьи Чеботаревской «Поэт настроений (По поводу сборников стихотворений К. Д. Бальмонта)» хранится в ее архиве (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 9).
(обратно)607
Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 100.
(обратно)608
Первые письма М. О. Гершензона к Чеботаревской относятся к 1902 г. (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 79). Ср. характеристику Чеботаревской в воспоминаниях дочери Гершензона: «Это была умная женщина, обладавшая литературным талантом. Хорошо известны ее превосходные переводы сочинений Мопассана. Внешне она была несколько чопорной и строгой. ‹…› Она была очень близка с семьей Вяч. Иванова и, как мне позже говорила мама, принадлежала к числу тех многих женщин, которые были в него влюблены» (Гершензон-Чегодаева Н. М. Первые шаги жизненного пути. М., 2000. С. 24–25)
(обратно)609
РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 20.
(обратно)610
См., например, дневниковые записи Иванова от 15 и 17 августа 1906 г. (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 752, 754).
(обратно)611
24 октября 1907 г. Чеботаревская отправила Иванову телеграмму соболезнования: «Всеми мыслями, всею душою с вами в общем ужасном горе. Чеботаревская»; из телеграммы к нему же от 5 ноября выясняется, что Чеботаревская предлагала Иванову после похорон пожить со всей семьей у нее в Москве: «Еду сегодня, понедельник, в шесть часов тридцать, намереваясь увезти вас всех к себе. Чеботаревская» (РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 20).
(обратно)612
Герцык Евгения. Лики и образы / Предисловие, составление, комментарии, именной указатель Т. Н. Жуковской. М., 2007. С. 305.
(обратно)613
См.: Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., 1999. С. 53 – 109.
(обратно)614
Следы этих встреч зафиксированы в дневниковых записях Иванова – например, в записи от 7 сентября 1909 г., в которой упоминаются его неосуществленные творческие замыслы: «Болтал с Кассандрой. Рассказал ей и проект комедии, и проект романа, из чего увидел, что этот новорожденный проект в самом деле и строен, и осуществим» (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 803).
(обратно)615
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1186. Алехан – А. Н. Толстой.
(обратно)616
РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 20.
(обратно)617
ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 48. Значительная часть знаков препинания, отсутствующих в автографе, восстановлена нами по смыслу.
(обратно)618
Там же.
(обратно)619
ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 2. Л. 21.
(обратно)620
См.: Богомолов Н. А. К одному темному эпизоду в биографии Кузмина //Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 166–169; Азадовский К. Эпизоды // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 123–129; Кобринский А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 327–364.
(обратно)621
РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 29. Ср. признание Чеботаревской в письме к М. О. Гершензону от 6 февраля 1913 г. об Иванове: «Мое отношение к последнему, после всей боли, в кот<орой> я дошла до конца, и ввиду новых некоторых открывшихся тут обстоятельств как-то стало совсем спокойным и уверенным» (РГБ. Ф. 746. Карт. 43. Ед. хр. 23).
(обратно)622
ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 13. Вероятно, последние приведенные здесь фразы Чеботаревская записала, уже зная об ивановском намерении перевести на русский язык трагедии Эсхила и о его конкретной договоренности об этом в 1911 г. с издательством М. и С. Сабашниковых (см.: Котрелев Н. В. Материалы к истории серии «Памятники мировой литературы» издательства М. и С. Сабашниковых (переводы Вяч. Иванова из древнегреческих лириков, Эсхила, Петрарки) // Книга в системе международных культурных связей: Сб. научных трудов. М., 1990. С. 133–137; Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила // Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 497–502).
(обратно)623
В библиотеке ИРЛИ (шифр: 106 4/31) сохранился один из томов этого издания (Т. 21. «Хорля» и другие рассказы) с зачеркнутой надписью: «Вячеславу Ивановичу Иванову с чувством неизменной преданности Кассандра. 1911 г. Каннука».
(обратно)624
См., например: Мопассан Г. де. Избранные произведения: В 2 т. М., 1954. Т. 2; Мопассан Г. де. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 2 (в переводе Чеботаревской – роман «Жизнь» и сборники новелл «Мадемуазель Фифи», «Рассказы вальдшнепа»).
(обратно)625
Выбор произведения был, видимо, сделан Ивановым, ранее цитировавшим «Серафиту» и другую «мистико-романтическую», по его определению, повесть Бальзака «Луи Ламбер» в статье «Две стихии в современном символизме» (1908). См.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 548. В рассказе Г. И. Чулкова «Полунощный свет» (1909) «книжка в зеленой обложке – “Séraphita” Бальзака» лежит на столе у писателя Сергея Савинова, прообразом которого послужил Иванов (см.: Чулков Г. Годы странствий. М„1999. С. 451).
(обратно)626
Белый Андрей. Символизм: Книга статей. М.: Мусагет, 1910. С. 640. Объявления о «Серафите» появились и в других книгах «Мусагета» и издательства «Альциона».
(обратно)627
Среди писем Чеботаревской к Иванову сохранился следующий документ: «Заявляю Вячеславу Ивановичу Иванову, что для томов Бальзака, издаваемых под его редакцией, обязуюсь перевести поэму “Серафита”, часть которой представлю к 15 июля, а остальное к 15 августа 1910 года. Александра Чеботаревская. 1910. Июня 19-го» (РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 21). Работа над переводом, однако, затянулась; в письме к Иванову от 30 августа 1910 г., отправленном в Рим, Чеботаревская извещала о встрече с секретарем «Мусагета» А. М. Кожебаткиным: «Он согласен, чтобы я представила перевод Бальзака в октябре после Вашего возвращения» (Там же). Ср. дневниковую запись Чеботаревской от 6 июля (видимо, 1910 г.): «Вечером читала [“Séraphita”] “Философские поэмы” Бальзака. Какая красота!» (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 2. Л. 7).
(обратно)628
17 августа 1910 г. Э. К. Метнер писал А. М. Кожебаткину: «Узнайте, начала ли переводить “Серафиту” Чеботаревская. Если она ответит, что еще не начинала, то напишите ей, что мы откладываем печатание этой вещи и чтобы она пока не принималась за работу; если же она начала, то пусть продолжает. Дело в том, что я, познакомившись с этою вещью, рекомендованной В. И<ванов>ым, очень разочарован. – Я бы не желал ее» (РГБ. Ф. 167. Карт. 24. Ед. хр. 13). Последнее по времени упоминание об этой работе – в письме Чеботаревской к Иванову от 27 января 1912 г.: «Прошу Вас не считать за мною ту часть работы по переводу для “Орфея” книги Бальзака, которая за мною числилась, и располагать ею по Вашему усмотрению» (РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 22).
(обратно)629
ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 27. 41 лл. В архиве Чеботаревской хранится также выполненный ею перевод (машинопись с рукописными вставками и правкой) пьесы французского драматурга Мигеля Замакоиса (Zamaçois; 1866–1939) «Шуты» («Les buffons», 1907) – стихотворной историко-романтической комедии в традиции Э. Ростана (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 243. 425 лл.). Согласно исходному архивному описанию этого текста, перевод был подготовлен Чеботаревской совместно с Вяч. Ивановым; однако в нем ни одна автографическая вставка и ни одно исправление не сделаны рукой Иванова, что позволяет усомниться в правильности такой атрибуции. Перевод не был опубликован, возможно, потому, что ко времени его завершения пьеса Замакоиса «Шуты» уже была известна в двух русских переводах – А. Фронти (М., 1908) и Lо1о (Л. Г. Мунштейна) (М.: Чайка, 1908).
(обратно)630
Один из нереализованных замыслов Иванова – перевод романа Флобера «Саламбо»; его он предложил осуществить (в письме к М. Горькому от 16 января 1906 г.) для издательского товарищества «Знание»: «…за “Саламбо”, например, взялся бы охотно; смотрю на такой перевод, как на привлекательный, хотя и трудный подвиг в области стиля ‹…›» (Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1999. Т. 5. С. 408. Комментарий Н. В. Котрелева). Горький к этой идее отнесся сочувственно (см.: Там же. С. 136–137; Корецкая И. В. Горький и Вячеслав Иванов // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. Вып. 1. М., 1989. С. 171).
(обратно)631
Об этом издательском проекте (в 1913–1915 гг. вышло в свет пять томов, издание осталось незаконченным) см. в мемуарном очерке Б. К. Зайцева «Флобер в Москве» (Зайцев Б. К. Соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 401).
(обратно)632
16 февраля 1910 г. Чеботаревская сообщила М. О. Гершензону: «…меня впрягли в новую срочную работу – 1-й том полного собр<ания> сочин<ений> Флобера (“Г<оспо>жа Бовари”), кот<орый> я должна кончить к началу марта ‹…›»; первоначально определенный срок завершения работы оказался нереальным, и год спустя (22 февраля 1911 г.) Чеботаревская вновь коснулась той же темы в письме к Гершензону: «“Бовари” перевожу с восторгом. Уж очень хорошо, и переводить ее приятнее даже, чем читать, – лучше вникаешь. ‹…› “Бовари” обещается просмотр<еть>, если буд<ет> время (изд<атели> торопят страшно), В<ячеслав> Ив<анович>. Думаю, что это будет на пользу переводу» (РГБ. Ф. 746. Карт. 43. Ед. хр. 23). 30 августа 1910 г. Чеботаревская писала Иванову: «Гржебин меня замучил – хочет печатать “Бовари” тотчас же ‹…› Я так втянулась в Флобера, что теперь ничего после него не могу переводить: все кажется пошлым после его трагического стиля. Когда я перечитывала недавно конец, то форменно расплакалась… Поистине это единственный роман, и больше нет…». 2 октября того же года Чеботаревская известила Иванова, что Гржебин выплатил ей гонорар за перевод (РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 21).
(обратно)633
Приписка на письме Л. В. Ивановой к В. А. Мануйлову от 12 ноября 1925 г. (Частное собрание). Ср. признание Чеботаревской в письме к Гершензону от 16 декабря 1911 г.: «Грустно еще, что моя “Бовари” (в которой осталось только проредактировать по рукописи 80 стр.!) так и застыла с лета; боюсь, что издатели совсем не станут ее издавать…» (РГБ. Ф. 746. Карт. 43. Ед. хр. 23).
(обратно)634
Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце / Подгот. текста и коммент. Джона Мальмстада. Paris, 1990. С. 49–50. О своей работе над «цельным трудом» Чеботаревской Иванов писал 3. И. Гржебину 7 января 1911 г.: «…редактор более интенсивно, более сосредоточенно проделал художественную часть труда, не входившую непосредственно и во всем объеме в задачу переводчицы» (РГАЛИ. Ф. 225. Оп. 1. Ед. хр. 30).
(обратно)635
РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 22. Ср. письмо Чеботаревской к Иванову от 14 декабря 1913 г.: «Вчера “Госпожа Бовари” ‹…› появилась, наконец, в свет ‹…› В тексте же самого романа, свято и ненарушимо прокорректированного мною 4 раза, согласно рукописи, – нет ни одной опечатки. Вообще, слава Богу, текст русской Бовари, кажется, безусловно образцовый, по отзывам всех, видевших его!» (Там же. Ед. хр. 23).
(обратно)636
Флобер Г. Полн. собр. соч. Новые переводы с последнего (юбилейного) издания. Т. 1. Госпожа Бовари / Пер. Александры Чеботаревской под редакцией Вячеслава Иванова. СПб.: Шиповник, <1913>. С. 69.
(обратно)637
Там же. С. 243–244.
(обратно)638
Там же. С. 368.
(обратно)639
См.: Обатнин Г. В. Из материалов Вячеслава Иванова в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 29–31. Эта работа, а также осуществленная Г. В. Обатниным публикация неизвестных стихотворений Иванова (Наше наследие. 1992. № 25. С. 79–81) включает новонайденные ивановские тексты, сохраненные Чеботаревской. Ср. свидетельство в письме Чеботаревской к А. С. Ященко от 17 марта 1924 г.: «…в прошлом году, когда в Москве была ликвидирована квартира Вячеслава Ивановича, то кроме вещей, оставленных в Москве, прислали и мне в Питер, с просьбою похранить до его приезда, часть его библиотеки и кое-какие из вещей» (Флейшман Л„Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин 1921–1923: По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris, 1983. С. 295).
(обратно)640
См.: Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 98–99. 27 июля 1921 г. М. О. Гершензон сообщал В. А. Меркурьевой: «Вяч. Ив. в Баку ‹…› Несколько дней назад Александра Никол<аевна> (Чеботаревская) уехала туда, решив совершенно произвольно, что ему надо вернуться сюда, – поехала вывозить его оттуда. Он писал изредка; читает много лекций и пьет вино, запивая баранину; стихов не писал совсем за весь год. ‹…› Бумаги Вячеслава Ивановича разбирала Александра Николаевна» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 45). Ср. сведения об Иванове в письме Чеботаревской из Баку к Гершензону от 15 декабря 1921 г.: «…оправился от своих болезней ‹…› К концу ноября он начал читать лекции. ‹…› Он читает 14 часов лекций и имеет 2 семинария, выступая и публично в вечерах, посвященных памяти А. Блока, Некрасова и др. В общем живется ему здесь не худо. Его любят и в городе и в университетском кругу» (РГБ. Ф. 746. Карт. 43. Ед хр. 23).
(обратно)641
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 149. Необходимо, однако, отметить, что отношения Иванова с Чеботаревской во время ее бакинского пребывания зачастую принимали конфликтный характер. Е. А. Миллиор, в частности, вспоминает: «Характер у В. Ив. был тяжелый, с “Кассандрой” он бывал порой резок и чуть ли не груб, и даже при нас, студентах. Она – всегда терпелива и заботлива и с ним и с детьми. Говорили, что она любила В. Ив-ча» (Вестник Удмуртского университета. 1995. Специальный выпуск. С. 22). Аналогичные свидетельства – в дневниковых записях М. С. Альтмана от 9 января и 7 июля 1922 г. (Альтман М. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 240, 256).
(обратно)642
Среди писем Д. В. Иванова к Чеботаревской сохранились его первые стихотворные опыты – в частности, стихотворение (датированное 24 июля 1923 г.), написанное, как вспоминает автор, под впечатлением подслушанной тайком в Бакинском университете лекции профессора Е. И. Байкова о Французской революции и казни Людовика XVI (см.: Иванов Д. В. Из воспоминаний // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М„1996. С. 41–42); вместе с собственным текстом Д. В. Иванов привел и поэтический отклик отца на него (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 93. Л. 14–14 об.): // Фантазия, сочиненная на «Площ<ади> Своб<оды>» // Рукой взмахнул // И все сокрылось. // Вдвоем они остались // К нему тихонько прислонилась // Перед мужчиной женщина склонилась // И с уст его чуть слышное // Прости… слетело // И оба вышли // Рука с платком уже склонилась // И тихо гильотина опустилась. // В молчанье гробовом. // Папин ответ // Какою страшною картиной // Воображенье увлеклось! // Да, много жертв под гильотиной // На площадях Свободы мнимой // Во гроб кровавый улеглось. // 24. VII. В. И.
(обратно)643
См: Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть (1919–1929): Неизвестные материалы // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 306–313; Неизвестное письмо Вяч. Ив. Иванова академику С. Ф. Ольденбургу / Публ. Г. Бонгард-Левина // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 253–256; Бонгард-Левин Г. «Я еду в Рим, чтобы там жить и умереть»: Из переписки Вячеслава Иванова // Русская мысль. 2000. № 4301. 20–26 января. С. 18.
(обратно)644
Вопросы литературы. 1994. Вып. 3. С. 301. Публикация В. Сапова.
(обратно)645
См.: Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 122; Из дарственных надписей В. И. Иванова / Публ. И. В. Корецкой // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. С. 149. С заботами об этом связано одно из последних писем Чеботаревской к Иванову (от 26 июля 1924 г.): «…я получила ‹…› приглашение вывезти 14 ящиков Вашей библиотеки и архива из дома в Афанасьевском пер. – ввиду ремонта подвального этажа. В связи с последним убедительно прошу Вас позвонить П. С. Когану и получить от него разрешение ‹…› на помещение – временное – Ваших книг в одном из складочных или подвальных мест (только не сыром) Академии Художественных наук ‹…› Я слышала, что это возможно устроить. Перевозка близкая и не обойдется дорого. Если Вы не будете говорить сами, то дайте разрешение мне или М. О. Гершензону обратиться с этою просьбою к П. С. Когану» (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 47. П. С. Коган с 1921 г. был президентом Гос. Академии Художественных Наук). Согласно другим документам, библиотека Иванова (о ее дальнейшей судьбе достоверных сведений нет) была передана в Гос. Театральный музей имени А. А. Бахрушина (Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть. С. 327).
(обратно)646
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 1303.
(обратно)647
Примечания О. Дешарт в кн.: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. С. 725–726. Несколько иную картину происходящего дает («со слов советского писателя») В. Ф. Ходасевич в книге «Некрополь» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 184).
(обратно)648
Инициатором этого замысла был Г. И. Чулков. 25 мая 1925 г. сестра покойной, Татьяна Чеботаревская, сообщала Ф. Сологубу: «Относительно книжки в память Сани пока движения никакого нет, и Георгий Иванович, которому принадлежит эта мысль, кажется, никаких шагов не предпринимает» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 727).
(обратно)649
В этом письме (4 января 1925 г.) Чеботаревская сообщала: «Болезни мои ‹…›, хотя и имеют вид физических, но скорее исходят из другой области. Сейчас все они кончились, осталось только небольшое расширение сердца ‹…›» (Римский архив Вяч. Иванова).
(обратно)650
Переписка Вячеслава Иванова с Ольгой Шор / Публикация А. А. Конрюриной, Л. Н. Ивановой, Д. Рицци и А. Б. Шишкина // Русско-итальянский архив III: Вячеслав Иванов – новые материалы. Салерно, 2001. С. 191–192.
(обратно)651
См.: Толмачёв В. М. Русский европеец. О жизни и творчестве С. К. Маковского // Маковский С. Силуэты русских художников. М., 1999. С. 328–346.
(обратно)652
Общие сведения о нем приводятся в нашей статье в кн.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 479–482.
(обратно)653
В новейшее время вышли в свет несколько книг барона Н. Н. Врангеля: Старые усадьбы: Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 1999 (С. 310–318 – библиография трудов автора); Свойства века: Статьи по истории русского искусства / Составление, комментарии и подготовка текста И. А. Лаврухиной. СПб., 2001 (С. 247–274 – «Краткая летопись жизни и творчества Н. Н. Врангеля»); Дни скорби. Дневник 1914–1915 гг. / Публикация, составление, комментарии А. А. Мурашева. СПб., 2001; Помещичья Россия. СПб., 2007. Статьи о Врангеле и его вкладе в историю русской культуры объединены в кн.: Венок Врангелю. Пг., 1916. См. также: Барон и Муза: Николай Врангель. Паллада Богданова-Бельская / Сост. А.А. Мурашев, А.Ю. Скаков. СПб., 2001.
(обратно)654
Выставка французских художников (Беседа с художником Г. К. Лукомским) // Вечернее Время. 1911. № 5. 1 декабря. С. 4.
(обратно)655
Подразумевается Люксембургский музей, старейший в Париже (открыт в 1750 г. в восточной галерее Люксембургского дворца); в 1887 г. было создано специальное помещение (нынешнее здание), которое служило в течение следующих пятидесяти лет первым музеем современного искусства.
(обратно)656
РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 1006.
(обратно)657
Цит. по кн.: Лебедева Т. В. Сергей Маковский. Страницы жизни и творчества. Воронеж, 2004. С. 120–121.
(обратно)658
ИРЛИ. № 6819.
(обратно)659
ИРЛИ. № 6819.
(обратно)660
РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 1006.
(обратно)661
См.: Свойства века: Статьи по истории русского искусства барона Николая Николаевича Врангеля. С. 263.
(обратно)662
См. фрагмент из его письма к П. Д. Эттингеру от 11 октября 1911 г. (Эттингер П. Д. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников. М., 1989. С. 127).
(обратно)663
См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 годы. СПб., 2010. С. 445–449.
(обратно)664
См. письма к Волошину Бланш Ори-Робен – художницы, работавшей в области прикладного искусства (декоративные вышивки, ковры из веревок и т. п.), которая выразила готовность участвовать в выставке, – и Алексиса Меродак-Жано – живописца, скульптора, графика, обещавшего представить для выставки скульптурные работы Пьера-Жана Давида д’Анже (Из писем деятелей французского искусства к М. А. Волошину / Публикация П. Р. Заборова // Русская литература и зарубежное искусство: Сб. исследований и материалов. Л., 1986. С. 351–356). На петербургской выставке экспонировались 14 работ Бланш Ори-Робен (см.: Выставка «Сто лет французской живописи (1812–1912)», устроенная журналом «Аполлон» и Institut Français de St. – Pétersbourg. Каталог. <СПб., 1912>. С. 110–111), Давид д’Анже представлен не был.
(обратно)665
ИРЛИ. № 6819.
(обратно)666
Эттингер П. Д. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников. С. 128.
(обратно)667
См.: Аполлон. 1912. № 5. С. 5.
(обратно)668
Речь. 1911. № 321. 22 ноября. С. 5.
(обратно)669
Там же. № 338. 9 декабря. С. 5. Ср.: Петербургская газета. 1911. № 336. 7 декабря. С. 3.
(обратно)670
Французское искусство от Наполеона до наших дней // Биржевые Ведомости. Веч. вып. 1911. № 12661. 30 ноября. С. 6.
(обратно)671
Вечернее Время. 1911. № 5. 1 декабря. С. 4.
(обратно)672
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 годы. С. 444.
(обратно)673
Речь. 1911. № 338. 9 декабря. С. 5.
(обратно)674
См.: Новое Время. 1912. № 12877. 17 января. С. 1. Изложение основных положений лекций Бенедита см. в статье М. Тальского «Французская живопись XIX века» (Россия. 1912. № 1899. 27 января. С. 5).
(обратно)675
Аполлон. 1912. № 5. С. 5.
(обратно)676
В печатном тексте участие Чудовского не обозначено; сведения восходят к письму Н. Н. Врангеля к С. К. Маковскому от 2 декабря 1911 г.: «Чудовский очень желает помогать, и я сдаю ему составление и перевод каталога» (ГРМ. Ф. 97. Ед. хр. 53). См.: Выставка «Сто лет французской живописи (1812–1912)», устроенная журналом «Аполлон» и Institut Français de St. – Pétersbourg. Каталог. Вступление бар. Н. Врангеля и Сергея Маковского, предисловие Arsène Alexandre’а. <СПб., 1912> (2-е изд., с дополнением предисловия Loys Delteil’а – <СПб., 1912>). См. также: Выставка «Сто лет французской живописи: 1812–1912». Предисловие, статьи кн. А. К. Шервашидзе, Arsène Alexandre’а и Александра Бенуа. 87 воспроизведений на отдельных листах. <СПб., 1912>.
(обратно)677
Выставка «Сто лет французской живописи (1812–1912)»… Каталог. С. 13.
(обратно)678
См.: Открытие французской выставки // С. – Петербургские Ведомости. 1912. № 13. 17 января. С. 4.
(обратно)679
Меценат. Выставка французских художников // Петербургская газета. 1912. № 15. 16 января. С. 2.
(обратно)680
Брешко-Брешковский Н. Сто лет французской живописи // Биржевые Ведомости. Веч. вып. 1912. № 12741. 18 января. С. 5–6.
(обратно)681
Магула Г. Выставка французской живописи за сто лет // Новое Время. 1912. № 12879. 19 января. С. 5–6.
(обратно)682
Ростиславов А. Сто лет французской живописи // Речь. 1912. № 16. 17 января. С. 3.
(обратно)683
Бенуа Александр. Художественные письма. Выставка-музей // Речь. 1912. № 19. 20 января. С. 2.
(обратно)684
Левинсон Андрей. «Сто лет французской живописи». (По поводу французской выставки в С. – Петербурге) // Современный Мир. 1912. № 4. С. 220.
(обратно)685
Левинсон Андрей. «Сто лет французской живописи». (По поводу французской выставки в С. – Петербурге) // Современный Мир. 1912. № 4. С. 224.
(обратно)686
Шервашидзе А. К., кн. Сто лет французской живописи // Аполлон. 1912. № 5. С. 10.
(обратно)687
Там же. С. 24.
(обратно)688
См. анонимный биографический очерк «Сергей Константинович Маковский» в кн.: Маковский Сергей. Requiem: Девятая книга стихов. Париж, 1963. С. 9 – 10.
(обратно)689
Марков Владимир. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб., 1994. С. 220–221, 226. (Впервые: То Honor Roman Jakobson. Vol. П. The Hague; Paris, 1967).
(обратно)690
Тименчик P. Д. Георгий Иванов как объект и субъект // Новое литературное обозрение. 1995. № 16. С. 343.
(обратно)691
См.: Иванов Георгий. Стихотворения / Вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания А. Ю. Арьева. СПб., 2005 («Новая Библиотека поэта»). Цитаты из стихотворений Георгия Иванова приводятся далее по этому изданию в тексте с указанием в скобках номера страницы.
(обратно)692
Марков Владимир. О свободе в поэзии. С. 228. Примечательно, что именно это стихотворение, обилием цитатных образов и ассоциаций приближающееся к классическому центону, автор (в книге «1943–1958. Стихи», 1958) сопроводил посвящением: Владимиру Маркову. О характере взаимоотношений поэта и его интерпретатора можно судить по их переписке: Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien, 1994. См. также письма Г. Иванова к Маркову в кн.: Марков Владимир. О русском «Чучеле совы». Новосибирск, 2012. С. 326–410.
(обратно)693
Марков Владимир. О русском «Чучеле совы». С. 391. Фрагмент из этого письма В. Ф. Марков приводит в статье «Русские цитатные поэты» (Марков Владимир. О свободе в поэзии. С. 232).
(обратно)694
См.: Арьев А. Ю. Пока догорала свеча (О лирике Георгия Иванова) // Иванов Георгий. Стихотворения. С. 20.
(обратно)695
См.: Тоддес Е. А. Наблюдения над текстами Мандельштама // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 300–305.
(обратно)696
См.: Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Конец ХVШ – первая треть XIX века. Л., 1980.
(обратно)697
Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 77.
(обратно)698
Рубинс Мария. «Пластическая радость красоты». Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб., 2003. С. 269.
(обратно)699
Сидоров Юрий. Стихотворения / Вступ. статьи Андрея Белого, Бориса Садовского, Сергея Соловьева. М.: Альциона, 1910. С. 35. Подробно о Ю. Сидорове см. в наст. изд. (С. 204–225).
(обратно)700
Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 21.
(обратно)701
Там же. С. 28, 31, 34.
(обратно)702
Иванов Георгий. Стихотворения. С. 637 (примечания А. Ю. Арьева).
(обратно)703
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 113.
(обратно)704
См.: Сидоров Юрий. Стихотворения. С. 20; Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 292–293.
(обратно)705
Соловьев Сергей. Апрель. Вторая книга стихов. 1906–1909. М.: Мусагет, 1910. С. 162.
(обратно)706
Русская поэзия «серебряного века». 1890–1917. Антология. М., 1993. С. 388.
(обратно)707
Андреев Вадим. История одного путешествия. Повести. М., 1974. С. 303.
(обратно)708
Версты. 1928. № 3. С. 155.
(обратно)709
Мочульский К. Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты / Сост. С. Р. Федякин. Томск, 1999. С. 282–283. Впервые: Звено. 1927. № 219. 10 апреля.
(обратно)710
Современные Записки. 1927. Кн. 31. С. 453. Подпись: Мих. Ос.
(обратно)711
Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 304.
(обратно)712
См.: Горюнова Р. М. «Взвихренная Русь» (О жанровом новаторстве Алексея Ремизова) // Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник. Вып. 1 (58). Симферополь, 1993. С. 58–70.
(обратно)713
Впервые в полном объеме «Временник» был напечатан в XIII томе «Русской Исторической Библиотеки» в 1891 г.; Ремизов, скорее всего, пользовался изданием: Временник дьяка Ивана Тимофеева. СПб., 1907. Позднейшее научно подготовленное издание: Временник Ивана Тимофеева / Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951 (Серия «Литературные памятники»).
(обратно)714
Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 4: Плачужная канава. М., 2001. С. 236. Ср.: Слобин Грета Н. Проза Ремизова 1900–1921. СПб., 1997. С. 120–121.
(обратно)715
Мочульский К. Кризис воображения. С. 283.
(обратно)716
См.: Sinany-MacLeod Hélène. Структурная композиция «Взвихренной Руси» // Aieksej Remizov: Approaches to a Protean Writer / Ed. by Greta N. Slobin (UCLA Slavic Studies. Vol. 16). Columbus, Ohio, 1986. P. 237–244.
(обратно)717
Ремизов Алексей. Дневник 1917–1921 / Подготовка текста А. М. Грачевой, Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и комментарий А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб., 1994. С. 417; Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 5: Взвихренная Русь. М., 2000. С. 423.
(обратно)718
Современные Записки. 1927. Кн. 31. С. 453–454.
(обратно)719
Хлебников Велимир. Творения / Общ. ред. и вступ. статья М. Я. Полякова. Составление, подготовка текста и комментарии В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1986. С. 473.
(обратно)720
См.: Калафатич Жужанна. «Неугасимые огни горят над Россией». Проблема времени и памяти в романе Ремизова «Взвихренная Русь» // Русская литература между Востоком и Западом: Сб. статей. Будапешт, 1999. С. 84–86.
(обратно)721
См.: Иванов Вяч. Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в. // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988. С. 119–148.
(обратно)722
Цивьян Т. В. О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в России: Избранные страницы. М., 1993. С. 304.
(обратно)723
Яновский В. С. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С. 203.
(обратно)724
Философов Д. В. Старое и новое: Сб. статей по вопросам искусства и литературы. М., 1912. С. 27.
(обратно)725
См.: Bibliographie des œuvres de Alexis Remizov. Etablie per Hélène Sinany / Sous la direction de T. Ossorguine. Paris, 1978. P. 66–69.
(обратно)726
См.: Lampl Horst. Political Satire of Rеmizov and Zаmiatin on the Pages of Prostaia Gazeta // Aleksej Remizov: Approaches to a Protean Writer. P. 245–259.
(обратно)727
См.: Обатнина Е. А. Ремизов. «Вонючая торжествующая обезъяна…» // Новое литературное обозрение. 1995. № 11. С. 142–153.
(обратно)728
Кодрянская Наталья. Алексей Ремизов. Париж, <1959>. С. 129.
(обратно)729
Измайлов А. Пестрые знамена: Литературные портреты безвременья. М., 1913. С. 91.
(обратно)730
Параллели между этими произведениями подробно прослеживаются в кн.: Слобин Грета Н. Проза Ремизова 1900–1921. С. 149–151.
(обратно)731
Сосинский Вл. Конурка (Об Алексее Ремизове, Александре Алехине, братьях Модильяни и других) / Публикация С. Сосинского-Семихата // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 173.
(обратно)732
Эткинд Е. Г. «Демократия, опоясанная бурей»: Композиция поэмы А. Блока «Двенадцать» // Эткинд Е. Там внутри. О русской поэзии XX века: Очерки. СПб., 1996. С. 114.
(обратно)733
Кодрянская Наталья. Алексей Ремизов. С. 302.
(обратно)734
См.: Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 39 («Уединенное»).
(обратно)735
См.: Маркадэ И. Ремизовские письмена // Aleksej Remizov: Approaches to Protean Writer. P. 121–134; Грачева А. Писец и изограф Алексей Ремизов // Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб., 1992. С. 7 – 10; Фридман Ю. От текста и изображения к звуку: альбом «Марун» как пример синтетического творчества А. Ремизова // Алексей Ремизов. Исследования и материалы / Отв. ред. А. М. Грачева и А. д’Амелия. СПб.; Салерно, 2003. С. 203–228; Ремизов А. М. Рукописные книги: Из разных моих книг и на разные случаи. Гаданье данное людям от Бурхана-Мандзышира. Как научиться писать. СПб., 2008.
(обратно)736
Подробнее см.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000.
(обратно)737
Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. М., 1959. Т. 6. С. 62–63 («Курс лекций по источниковедению»).
(обратно)738
Гераклит Ефесский. Фрагменты / Перевод Владимира Нилендера. М.: Мусагет, 1910. С. 7, 9. Как следует из новейшего исследования (Безродный М. Об источниках книги Ремизова «Электрон» // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 154–156), первоисточником для ремизовского переложения текстов Гераклита послужило именно это издание.
(обратно)739
Белый Андрей. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. 2-е изд., испр. и доп. Издание подготовил Л. К. Долгополов. СПб., 2004. С. 119 (Серия «Литературные памятники»).
(обратно)740
Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Статья I // Труды по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 414). Тарту, 1977. С. 85–86.
(обратно)741
Белый Андрей. Петербург. С. 633 (примечания С. С. Гречишкина, Л. К. Долгополова, А. В. Лаврова). Та же путаница произошла при публикации статьи Андрея Белого «О пессимизме» в «литературно-философском сборнике» «Свободная совесть» (Кн. 1. М., 1906), вышедшем в свет осенью 1905 г. 25 сентября 1905 г. П. И. Астров писал Белому: «Не откажи поскорее сообщить мне, на какой странице вкралась опечатка в Твою статью 1-й книги (“Конт” вместо “Кант”)» (РГБ. Ф. 25. Карт. 8. Ед. хр. 17). Имеется в виду фраза из упомянутой статьи, напечатанная в сборнике таким образом: «Но переходя в область чистого мышления, мы лишаем согласно Вундту, Конту , Рилю и др. основной принцип мышления всякой субстанциональности» (С. 174).
(обратно)742
См. письмо Андрея Белого к В. Я. Брюсову, относящееся к октябрю 1907 г. (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 411).
(обратно)743
Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания. М., 1994. С. 599.
(обратно)744
См.: Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 231.
(обратно)745
Гранитов. Пестрые заметки // Голос Москвы. 1909. № 272. 27 ноября. С. 3. В той же статье критик отдельно затронул вопрос о генезисе философской эрудиции Белого: «Нам неизвестно, где и при каких условиях получил Андрей Белый свое философское образование, но все знания, какие ему приходилось проявить и в лекциях, и в диспутах, и в статьях, имеют запах пива мюнхенских кабачков. С давних пор в Мюнхене, среди студенчества, и местного, и пришлого, имеются кружки, занимающиеся философией. Местом сборища для них являются “биргалки”. За кружками пива обсуждаются разные философские системы и даже создаются новые. Знания, которые приобретаются в этих кружках, имеют по отношению к философии такое же значение, какое имеет пена к пиву, на поверхности которого она клубится. Очень возможно, что Андрей Белый никогда и не был в Мюнхене. Тем не менее, он всею своею духовною фигурой являет яркий тип студента мюнхенской “биргалки”». Неизвестно, лукавил ли в данном случае автор или действительно не знал о пребывании Андрея Белого в Мюнхене осенью 1906 г., но последнего, безусловно, должны были особенно задеть эти ассоциации: свое пребывание в баварской столице он описал в двух очерках – «Письмо из Мюнхена» (Золотое Руно. 1906. № 11/12. С. 115–118; позднее под заглавием «Мюнхен» – в книге статей Андрея Белого «Арабески», 1911) и «Мюнхен вечером» (Киевские Вести. 1908. № 165. 22 июня. С. 3), – где, в частности, воспел уютную и задушевную атмосферу мюнхенских пивных.
(обратно)746
Голос Москвы. 1909. № 272. 27 ноября. С. 3.
(обратно)747
См.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников. Антология. СПб., 2004. С. 32, 120–122; Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 341; Белый Андрей. Между двух революций. М., 1990. С. 178; Клягина М. Е. Тэффи и Андрей Белый // Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века. М., 1999. С. 260–279.
(обратно)748
Бурнакин Анат. От Сциллы к Харибде и оттуда… в пролет двух стульев // Белый Камень. Альманах первый. М., 1907. С. 104; Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 561 («Библиотека поэта». Большая серия).
(обратно)749
Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публикация, предисловие и комментарий Джона Малмстада. Подготовка текста Е. М. Варенцовой и Джона Малмстада. СПб., 2001. С. 154.
(обратно)750
Ср.: «Роберт Майер, выпуская свою знаменитую брошюру в 1842 году, держался дуалистического взгляда на отношение между энергией и материей»; «Определение механического эквивалента теплоты возможно; Роберт Майер и Джоуль работали в этом направлении» (Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 530, 534).
(обратно)751
Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 133. Публикация Д. М. Фельдмана.
(обратно)752
Замятин Е. Роберт Майер. Берлин; Пб.: изд-во З. И. Гржебина, 1921. С. 45.
(обратно)753
Замятин Е. Роберт Майер. Берлин; Пб.: изд-во З. И. Гржебина, 1921. С. 46, 49.
(обратно)754
Белый Андрей. Москва под ударом. Вторая часть романа «Москва». <М.>: Круг, 1926. С. 235, 237.
(обратно)755
Там же. С. 236, 237.
(обратно)756
Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публикация, вступ. статья и комментарии А. В. Лаврова и Джона Мальмстада. Подготовка текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова и Джона Мальмстада. СПб., 1998. С. 265.
(обратно)757
Там же. С. 300.
(обратно)758
Белый Андрей. Москва под ударом. С. 235.
(обратно)759
Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1973. С. 288 («Библиотека поэта». Большая серия).
(обратно)760
Мандельштам Осип. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 507–508. Комментарий П. М. Нерлера. Ср. комментарий А. Г. Меца в кн.: Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 597.
(обратно)761
См.: Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 8. С. 380–382. Ранее «Годиву» Теннисона перевели на русский язык Д. Д. Минаев (см.: Минаев Д. Д. Песни и сатиры и комедия «Либерал». СПб., 1878. С. 186–189) и М. Л. Михайлов; его перевод, впервые опубликованный в журнале «Современник» в 1859 г., был включен в антологию Н. В. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах» (СПб., 1875), см.: Михайлов М. Л. Собрание стихотворений. Л., 1969. С. 177–179 («Библиотека поэта». Большая серия). Знакомство Мандельштама с этими переводами вполне вероятно; маловероятно – с еще одним переводом «Годивы», напечатанным в книге С. Геммельмана «Стихи» (М., 1897).
(обратно)762
Грин А. Джесси и Моргиана. Роман. <Л.>: Прибой, 1929. С. 20–21.
(обратно)763
См.: Долинин Александр. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб., 2004. С. 46–56; Букс Нора. Эшафот в хрустальном дворце: о русских романах Владимира Набокова. М., 1998. С. 40–56; Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 697–705. Примечания В. Б. Полищук.
(обратно)764
По Эдгар Аллан. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 482 (Серия «Литературные памятники»). Перевод З. Е. Александровой.
(обратно)765
Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 2. С. 136. Далее цитаты из романа «Король, дама, валет» приводятся по этому изданию с указанием в тексте (в скобках) номера страницы.
(обратно)766
Ср.: Аверин Борис. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб., 2003. С. 279–281.
(обратно)767
Ср. авторитетное свидетельство: «…была такая манера у петербургской интеллигенции в двойных названиях или двойных фамилиях оставлять только одно слово, которое было в форме прилагательного: “Римский”, “Лебединое”, “Спящая”, “Пиковая” и т. д. ‹…›» (Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 129).
(обратно)768
Ср.: Кушлина О., Смирнов Ю. Некоторые вопросы поэтики романа «Мастер и Маргарита» // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. Сб. статей. М., 1988. С. 300.
(обратно)769
См.: Лесскис Г. А. Триптих М. А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия». «Записки покойника». «Мастер и Маргарита». Комментарии. М., 1999. С. 251.
(обратно)770
См.: Турчинский Л. М. Русские поэты XX века. Материалы для библиографии. М., 2007. С. 62.
(обратно)771
См.: Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 33; Кузякина Н. Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. С. 392.
(обратно)772
Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». С. 33–34. Выдвигался еще один аргумент в подкрепление этой ассоциации: «В редакции “Мастера и Маргариты” 1929 г. упоминался памятник “знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933 году осетриной” ‹…› Учитывая, что Безыменский был родом из Житомира, намек здесь был еще прозрачнее, чем в окончательном тексте, где комсомольский поэт остался связан лишь с образом Ивана Бездомного» (Соколов Борис. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003. С. 233). Однако в упомянутой ранней редакции текста Иван Бездомный, чаще именуемый Иванушкой Безродным, с лицом, увековеченным в памятнике, не идентифицируется (см.: Булгаков М. Собр. соч.: В 8 т. М., 2004. Т. 7. С. 83, 86, 89).
(обратно)773
Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 272.
(обратно)774
Алфавитный перечень произведений М. А. Булгакова. Материалы к библиографии (Составитель Б. С. Мягков) // Творчество Михаила Булгакова. Исследования. Материалы. Библиография. Кн. 1. Л., 1991. С. 439–440.
(обратно)775
Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Вопросы литературы. 1976. № 1. С. 220–221.
(обратно)776
Никандров Николай. Путь к женщине / Составитель М. В. Михайлова. СПб., 2004. С. 214.
(обратно)777
Булгаков М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 89–91, 93, 96, 101–102.
(обратно)778
См.: Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М. А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1977. М., 1977. С. 95. Совпадение в данном случае с Антоном Безродным, псевдонимом уральского писателя Савелия Григорьевича Уткова (1875–1922), вероятно, имеет случайный характер.
(обратно)779
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 61.
(обратно)780
См. обзор этих отзывов в комментариях М. В. Михайловой в кн.: Никандров Николай. Путь к женщине. С. 494–498. Общие сведения о Никандрове см. в ее же словарной статье о нем в кн.: Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 294–296, – а также в статьях А. В. Храбровицкого в кн.: Никандров Н. Повести и рассказы. М., 1958. С. 462–464; Никандров Н. Береговой ветер. М., 1964. С. 471–476.
(обратно)781
На литературном посту. 1927. № 5/6. С. 98. Подпись: Н. Н.
(обратно)782
Лежнев А. «Новый мир» за 1927 год (Кн. I–XII) // Революция и культура. 1928. № 2. С. 79.
(обратно)783
Красная газета. Веч. вып. 1927. № 240. 6 сентября. С. 6. Подпись: П. Р.
(обратно)784
Звезда. 1927. № 10. С. 140.
(обратно)785
Октябрь. 1927. № 8. С. 187.
(обратно)786
На литературном посту. 1927. № 13. С. 57. Подпись: Н. Н.
(обратно)787
Там же. С. 56. Подразумевается статья Ж. Эльсберга «Булгаков и МХАТ» (На литературном посту. 1927. № 3. С. 44–49).
(обратно)788
На литературном посту. 1927. № 13. С. 58.
(обратно)789
См.: Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». С. 224.
(обратно)790
Ср. дневниковую запись Булгакова от 26 декабря 1924 г.: «Только что вернулся с вечера у Ангарского – редактора “Недр”. Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на нее, “разговоры о писательской правде” и “лжи”. Был Вересаев, Козырев, Никандров, Кириллов, Зайцев (П. Н.), Ляшко и Львов-Рогачевский» (Булгаков М. Дневник. Письма. 1914–1940. М., 1997. С. 78).
(обратно)791
Никандров Николай. Путь к женщине. С. 196.
(обратно)792
См.: Булгаков М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 92, 99.
(обратно)793
Никандров Николай. Путь к женщине. С. 200–201.
(обратно)794
Там же. С. 203.
(обратно)795
Никандров Николай. Путь к женщине. С. 209–210.
(обратно)796
Там же. С. 250.
(обратно)797
Красная газета. Веч. вып. 1927. № 240. 6 сентября. С. 6. Подпись: П. Р.
(обратно)798
Никандров Николай. Путь к женщине. С. 285.
(обратно)799
Там же. С. 276.
(обратно)800
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 11.
(обратно)801
См.: Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». С. 220; Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». С. 78.
(обратно)802
Булгаков М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 103, 326, 357, 726.
(обратно)803
Никандров Николай. Путь к женщине. С. 315.
(обратно)804
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 47.
(обратно)805
The Nabokov – Wilson Letters. 1940–1971 / Ed. by Simon Karlinsky. New York, 1979. P. 220; Владимир Набоков. Из переписки с Эдмундом Уилсоном // Звезда. 1996. № 11. С. 125. Перевод Сергея Таска.
(обратно)806
Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 4. С. 258.
(обратно)807
Там же. СПб., 1999. Т. 1. С. 32, 33.
(обратно)808
Набоков Владимир. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 458.
(обратно)809
См.: Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. М.; СПб., 2001. С. 180–183. В «Даре» Набоков свое увлечение систематикой ритмических «фигур» по методу Белого переадресовал Яше Чернышевскому: «…о, эти Яшины тетради, полные ритмических ходов, – треугольников и трапеций!» (Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 224, 645–646 – комментарий А. А. Долинина), – а также и своему alter ego Годунову-Чердынцеву, признававшему, что «монументальное исследование Андрея Белого» не только «загипнотизировало» его своей системой, но и побудило в собственных поэтических опытах добиваться «как можно более сложных и богатых» ритмических схем (Там же. С. 332–333). В том же романе не только с «Гласными» А. Рембо, но и, по-видимому, со звуковым мифотворчеством Белого соотносятся цветовые ассоциации Годунова-Чердынцева: «мое розовое фланелевое “м”», «цвет гуттаперчевого “ч”», «мое сияющее “с”» (Там же. С. 259); в «Глоссолалии», задавшись целью указать на «дикую истину звука», Белый обосновывает свою интуитивную семантическую теософию цветов; ср. его определения цветов, упомянутых набоковским героем: «“si” – сиять; “sise” – севы сияний»; «“М” – мистический, кровный, плотяный, но жидкий звук жизни во влаге: в нем тайна животности»; «Свист, огонь, блеск, рассеянье, диссоциация, луч, песок, ослепительность, – “C”»; «“Ч” – проекция темноты на материю, черное: уголь, сухой порошок, порох, взрывчатость» (Белый Андрей. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин, 1922. С. 37, 59, 83, 107, 109). Негативному определению буквы «ы» Годуновым-Чердынцевым («столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее» – Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 259) у Белого соответствуют сходные эмоциональные оценки в «Петербурге»: звук «ы» – «что-то тупое и склизкое»; «Все слова на еры тривиальны до безобразия ‹…›» (Белый Андрей. Петербург. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2004. С. 42 («Литературные памятники»)). // Попутно укажем на не отмеченный А. А. Долининым в его исключительно тщательном и богатом ценными наблюдениями комментарии к «Дару» вероятный отзвук из Белого – в описании Годуновым-Чердынцевым своей работы по систематизации рифм: «Были и редкие экземпляры ‹…› вроде “аметистовый”, к которому я не сразу подыскал “перелистывай” и совершенно неприменимого неистового пристава» (Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 334). Последний «неприменимый» образ нашел применение в стихотворении Белого «Опять он здесь, в рядах бойцов…»: // Вот позвонят, взломают дверь. // В слепом усердии неистов, // Команду рявкнет, будто зверь, – // Войдет с отрядом лютый пристав. // (Факелы. Кн. 1. М., 1906. С. 33–34; Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. Т. 2. СПб.; М., 2006. С. 453 («Новая Библиотека поэта»)).
(обратно)810
Набоков Владимир. Собр. соч. американского периода. СПб., 1997. Т. 3. С. 558; Nabokov V. Strong Opinions. New York, 1973. P. 57. Ср.: «Если взглянуть на примечательно короткий список прозаиков, которых признавал Набоков, мы обнаружим в нем такие имена, как Шатобриан, Гоголь, Белый, Джойс и Пруст ‹…›» (Проффер Карл. Ключи к «Лолите». СПб., 2000. С. 182–183).
(обратно)811
За отсутствием таковых имеют существенное значение высказывания Набокова по поводу «замечательных статей» Ходасевича о Белом в «Возрождении» – в письме к нему от 26 апреля 1934 г.: «Я читал “Петербург” раза четыре – в упоении – но давно. (“Кубовый куб кареты”, “барон – борона”, какое-то очень хорошее красное пятно – кажется от маскарадного плаща, – не помню точно; фразы на дактилических рессорах; тикание бомбы в сортире…). А из стихов – чудные строки из “Первого Свиданья”, – полон рот звуков: “Как далай-лама молодой”» (Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925–1938) / Публикация Джона Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 3. Paris, 1987. C. 278). Апеллируя к «Петербургу», Набоков допускает контаминацию образов из различных фрагментов романа; см. об этом в статье А. А. Долинина «Из комментария к словарю Набокова. Кубовый цвет» (Долинин Александр. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб., 2004. С. 339–340).
(обратно)812
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М., 2000. С. 183. (Впервые: Россия и Славянство. 1930. № 77. 17 мая. С. 3).
(обратно)813
Струве Глеб. Русская литература в изгнании. Изд. 3-е, испр. и доп. Париж; М., 1996. С. 192.
(обратно)814
В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1997. С. 290. (Впервые: Новый журнал. Кн. 57. Нью-Йорк, 1959).
(обратно)815
Johnson D. Barton. Belyj & Nabokov: A Comparative Overview // Russian Literature. 1981. Vol. IX–IV. P. 379–402.
(обратно)816
Johnson D. Barton. Belyj & Nabokov. P. 394. Ср. пересказ положений Джонсона в статье: Пило Бойл Ч. Набоков и русский символизм (История проблемы) // В. В. Набоков: pro et contra. Материалы и исследования о жизни и творчестве В. В. Набокова. Антология. Т. 2. СПб., 2001. С. 545–546.
(обратно)817
Alexandrov Vladimir E. Nabokov’s Otherworld. Princeton, New Jersey, 1991. P. 218–224; Alexandrov Vladimir. Nabokov and Belyj // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by Vl. Alexandrov. New York; London, 1995; Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / Пер. с англ. Н. А. Анастасьева под ред. Б. В. Аверина и Т. Ю. Смирновой. СПб., 1999. С. 260–266.
(обратно)818
Впервые опубликована в «Литературном обозрении» (1994. № 7/8. С. 38–44). См.: В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. С. 667–696.
(обратно)819
Долинин Александр. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 12–13.
(обратно)820
Отметим лишь предпринятое Норой Букс исследование структуры романа Набокова «Король, дама, валет», организованной, согласно предложенной концепции, по музыкальной модели; этот «роман-вальс», по мнению автора, «является своеобразным продолжением опыта, осуществленного в русской литературе Андреем Белым, его четырьмя Симфониями, эпическим повествованием, написанным по принципу музыкального контрапункта» (Букс Нора. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. М., 1998. С. 41); впрочем, конкретные текстовые параллели между «симфониями» Белого и романом Набокова в работе не выявляются.
(обратно)821
Долинин Александр. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 33, 177.
(обратно)822
Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. С. 89.
(обратно)823
Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. С. 377. Авторизованный перевод Галины Лапиной.
(обратно)824
Классик без ретуши. С. 184.
(обратно)825
Белый Андрей. Симфонии. Л., 1991. С. 214–215.
(обратно)826
Набоков Владимир. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 389. Далее цитаты из «Защиты Лужина» приводятся по этому изданию, в тексте в скобках указываются номера страниц.
(обратно)827
Белый Андрей. Симфонии. С. 209.
(обратно)828
В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. С. 52. Перевод Марии Маликовой.
(обратно)829
Ср. интерпретацию «отнятия имени» у Лужина как формы «насильственного отчуждения личности от мира» в статье: Радько Е. В. В. Набоков. «Защита Лужина»: Ситуация метафизического поиска // Набоковский вестник. Вып. 6. В. В. Набоков и Серебряный век. СПб., 2001. С. 168–171. Имя и отчество Лужина дают основание для соотнесения его с Александром Ивановичем Дудкиным, сходящим с ума героем «Петербурга»; на это обратил внимание Э. Найман, указав и на другие параллели между «Защитой Лужина» и романом Белого (см.: Найман Эрик. Литландия: аллегорическая поэтика «Защиты Лужина» // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 188–189).
(обратно)830
Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. С. 97.
(обратно)831
Старик-шахматист появляется у тети Лужина неизменно с цветами – с фиалками, ландышами, сиренью, во время игры «благоухание овевало доску» (С. 334). У Белого старик, напутствуя ребенка, держит в руках «венок алых роз»; в финале он же, радуясь «возвратной встрече» с ребенком, держит «венок белых роз» (Белый Андрей. Симфонии. С. 209, 251). «Старик с цветами» вновь возникает в заключительных строках романа – его голос, наряду с голосами других персонажей, слышится Лужину в последние мгновения его жизни (С. 465).
(обратно)832
Ницше Фридрих. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 166–169. Перевод Ю. М. Антоновского.
(обратно)833
Белый Андрей. Симфонии. С. 222, 245, 250, 220.
(обратно)834
Там же. С. 220.
(обратно)835
См.: Найман Эрик. Литландия: аллегорическая поэтика «Защиты Лужина». С. 167. Этот же мотив, объединяющий орнаментальную поэтику Андрея Белого с конструктивными принципами набоковской прозы, прослеживается путем параллельного анализа «Котика Летаева» и «Других берегов» (а также «Подвига») в статье Маши Левиной-Паркер «Повторение. Répétition. Репетиция? Об одной повествовательной стратегии у Набокова и Белого» (Империя N. Набоков и наследники. Сб. статей / Редакторы-составители Юрий Левинг, Евгений Сошкин. М., 2006. С. 482–505).
(обратно)836
Белый Андрей. Симфонии. С. 249.
(обратно)837
См.: Долинин Александр. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 177.
(обратно)838
Белый Андрей. Симфонии. С. 211, 250.
(обратно)839
См.: Найман Эрик. Литландия: аллегорическая поэтика «Защиты Лужина». С. 172–173.
(обратно)840
Белый Андрей. Симфонии. С. 240, 248.
(обратно)841
Там же. С. 248, 250.
(обратно)842
Там же. С. 248, 250.
(обратно)843
Классик без ретуши. С. 183–184.
(обратно)844
Бойд Брайан. Владимир Набоков. Американские годы. Биография. М.; СПб., 2004. С. 86.
(обратно)845
Набоков Владимир. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1997. Т. 3. С. 184, 183. Перевод С. Ильина. Далее отсылки на этот том приводятся в тексте: в скобках указывается номер страницы. Рассказ «A Forgotten Poet» в английском оригинале: Nabokov Vladimir. Nabokov’s Dozen: Thirteen Stories. London; Melbourne; Toronto: Heinemann, 1959. P. 31–48.
(обратно)846
См. комментарии А. Люксембурга и С. Ильина (С. 640).
(обратно)847
Название юношеской поэмы Перова «Грузинские ночи» отсылает к фрагментам романтической трагедии А. С. Грибоедова «Грузинская ночь», два других заглавия его произведений – «Цыган» и «Нетопырь» («The Bat») – ассоциируются с тем же поэтическим ареалом: Пушкин и пушкинская плеяда («Цыган» – самоочевидная параллель с поэмой Пушкина, «Нетопырь» – образ, интегрирующий «ночные», демонические мотивы русской романтической поэзии). Анализ вводимых в текст рассказа цитат из стихотворений Перова позволяет, однако, предположить, что «забытый поэт» «по видимости, является представителем несуществующего течения в русской поэзии второй половине XIX в.» (Ронен Омри. Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 261). Ср. суждения М. Э. Маликовой об «эклектичности» стиля, придуманного Набоковым для Перова (Маликова М. Забытый поэт // Набоков В. В. Стихотворения. СПб., 2002. С. 35 («Новая Библиотека поэта»)).
(обратно)848
См. письмо Набокова к В. В. Рудневу от 16 августа 1937 г. (Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. М.; СПб., 2001. С. 514–515). Руднев со своей стороны решительно порицал Набокова (в письме к М. В. и М. А. Вишняк от 21 августа 1937 г.): «… главное огорчение – это Сирин!: в ответ на мои почти до унизительности просительные письма – гордый отказ, несогласие пойти на какой бы то ни было компромисс а priori, и определенное заявление, что он вообще снимает весь роман в “С<овременных> З<аписках>”» («Современные Записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. Т. 1. М., 2011. С. 839. Публикация М. Шрубы).
(обратно)849
Бойд Брайан. Владимир Набоков. Американские годы. С. 87.
(обратно)850
См.: Давыдов Сергей. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб., 2004. С. 8–9.
(обратно)851
Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М., 1904. С. X–XI. Те же подробности сообщает В. Брюсов в очерке «Иван Коневской» (Русская литература XX века (1890–1915) / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. III. М., 1916. С. 150–163). См.: Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 489.
(обратно)852
Ср.: «Разрыв обошелся без внешнего надлома. ‹…› Старик все же сделал несколько попыток “остеречь” юношу, вернуть его на “правый” путь, но встретил решительный отпор» (Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 485).
(обратно)853
Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 489.
(обратно)854
Там же.
(обратно)855
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 352. Ср.: Парнис А., Тименчик Р. Эпизод из жизни Валерия Брюсова // Даугава. 1983. № 5. С. 113–116.
(обратно)856
Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Изд-во И. П. Ладыжникова, 1923. С. 10. Ср. статью «“Чаю и чую”. Личность и поэзия Ивана Коневского» в наст. изд. (С. 7 – 72).
(обратно)857
Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб., 2002. С. 105 (Предисловие к антологии «Русская лирика», 1924).
(обратно)858
Аничков Е. Новая русская поэзия. С. 10–11.
(обратно)859
Коневской Иван. Стихи и проза. С. VIII.
(обратно)860
Сконечная О. Набоков в Тенишевском училище // Наше наследие. 1991. № 1. С. 112.
(обратно)861
Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 240. См. также: Мец А. Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. С. 31–32.
(обратно)862
Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Т. 2. С. 238, 239.
(обратно)863
Там же. С. 255.
(обратно)864
Мандельштам Надежда. Вторая книга. М., 1990. С. 31.
(обратно)865
Набоков Владимир. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 5. С. 265. См. также: Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. С. 139–143.
(обратно)866
Аничков Е. Новая русская поэзия. С. 9.
(обратно)867
См.: Русская литература XX века (1890–1915) / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. I. М., 1914. С. 272–287.
(обратно)868
Nabokov Vladimir. Nabokov’s Dozen. P. 38–39.
(обратно)869
Подстрочный перевод А. А. Долинина. Ср. стихотворные переводы этого фрагмента, выполненные Г. Барабтарло (Новый журнал. Кн. 200. Нью-Йорк, 1995. С. 38) и С. Ильиным (С. 180–181). К символистской поэтической культуре отсылает и другой «перовский» фрагмент. Как подметил О. Ронен, единственная цитата из стихов Перова, приводимая в рассказе по-русски: «Сибирских пихт угрюмый шорох с подземной сносится рудой» – восходит к черновому наброску из поэмы А. Блока «Возмездие», впервые опубликованному в 1933 г.: «Сибирских рек полночный ход, // Подземных руд глухое пенье, // Святая хмурость вечеров» (Блок Александр. Собр соч. Т. 5. Изд-во Писателей в Ленинграде, 1933. С. 196; ср.: Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 5. С. 189). См.: Ронен Омри. Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий. С. 261. Не исключена также ассоциация с заключительными строфами стихотворения Блока «Новая Америка» (1913): «Черный уголь – подземный мессия», «И железная воет руда…» (Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 182). Мотив «подземных руд» мог ассоциироваться у Блока со стихотворением Г. Ибсена «Рудокоп» (1850), которое перевел Коневской, однако этот перевод обнародован лишь в новейшее время (см.: Коневской Иван. Стихотворения и поэмы. СПб., М.: 2008. С. 174 («Новая Библиотека поэта»)).
(обратно)870
Ср. в позднейшем романе Набокова «Смотри на арлекинов!» (1974) воображаемый эпизод: «Где-то в Абиссинии пьяный Рембо читал удивленному русскому путешественнику стихотворение “Le Tramway ivre” (“…En blouse rouge, à face en pis de vache, le bourreau me trancha la tête aussi…”)» (Набоков Владимир. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 5. С.307. Перевод С. Ильина). В приводимом названии («Пьяный трамвай») контаминированы заглавия двух знаковых произведений французской и русской поэзии – «Пьяный корабль» («Le Bateau ivre», 1871) Рембо и «Заблудившийся трамвай» (1917) Н. Гумилева, цитируемый в точном французском переводе («…В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне…»).
(обратно)871
Игра с уподоблением и сращением подлинных собственных имен – одна из опознаваемых примет набоковского письма. Ср., например, в 16-й (опущенной) главе автобиографии Набокова «Убедительное доказательство» («Conclusive Evidence»): «Томаса Манна он помещает в подсемейство Жюля-Ромена-Роллана-Галсворти, где-то между Эптоном и Льюисом: “Ромен, – как он неуважительно выражается, – математически равен Синклеру”» (цит. по: Маликова Мария. В. Набоков. Авто-био-графия. СПб., 2002. С. 231. Перевод С. Ильина). Многосоставную субстанцию здесь образуют мало чтимые Набоковым Жюль Ромен, Ромен Роллан, Джон Голсуорси, Эптон Синклер и Синклер Льюис.
(обратно)872
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 391.
(обратно)873
Набоков В. В. Стихотворения. СПб., 2002. С. 209–210 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)874
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 298.
(обратно)875
Степун Ф. Б. Л. Пастернак // Степун Ф. Встречи. М., 1998. С. 230.
(обратно)876
Каверин В. Эпилог: Мемуары. М., 1997. С. 383.
(обратно)877
А. Эфрон Б. Пастернаку. Письма из ссылки (1948–1957). Paris, 1982. С. 29. С этим суждением соотносятся слова самого Пастернака, которые сохранил в памяти и сообщил нам Вяч. Вс. Иванов: «Вся моя жизнь состоит из совпадений, чудесным образом устроенных».
(обратно)878
При цитировании «Доктора Живаго» и отсылках к тексту в скобках римскими цифрами указывается часть, арабскими – глава.
(обратно)879
По всей вероятности, кошмары Памфила непосредственно навеяны «мальчиками кровавыми в глазах» в монологе пушкинского Бориса Годунова.
(обратно)880
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 66–67.
(обратно)881
Пастернак Борис. Полн. собр. соч. с приложениями: В 11 т. М., 2005. Т. 9. С. 603.
(обратно)882
Письмо к Л. И. Волконской от 3 мая 1865 г. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 61. С. 80.
(обратно)883
Пастернак Борис. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 541. О взаимообусловленности «поэтики совпадений» в «Докторе Живаго» и преднамеренной авторской установки дать в нем «типичный образец “демократического” лубочного романа» со всеми его необходимыми атрибутами (любовь, ревность, самоубийство, роковые злодеи, предчувствия, таинственные знаки и т. п.) убедительно говорит Борис Гаспаров в статье «Временной контрапункт как формообразующий принцип романа Пастернака “Доктор Живаго”» (Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 241–273).
(обратно)884
Честертон Г. Диккенс. Л., 1929. С. 216.
(обратно)885
Когда нам довелось выступать на первых Пастернаковских чтениях (Москва, 31 мая 1987 г.) с этими наблюдениями, Е. Б. Пастернак подтвердил, что Пастернак неоднократно в разговорах упоминал «Повесть о двух городах» Диккенса как одно из наиболее ценимых им произведений. Н. Н. Вильмонт свидетельствует, что в 1922–1923 гг. в Берлине Пастернак, по его словам, «почти все время проводил за чтением Диккенса» (Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М., 1989. С. 112). Параллели между «Доктором Живаго» и «Повестью о двух городах» подробно прослежены Кристофером Барнсом в работе «Пастернак, Диккенс и повествовательная традиция» (доклад на эту тему прочитан в июле 1990 г. в Оксфорде на юбилейной Пастернаковской конференции; см.: Barnes Christopher J. Pasternak, Dickens and the novel tradition // Forum for Modern Languages Studies 26. № 4. 1990. Р. 326–341), а также в новейшей монографии С. Г. Бурова о «Докторе Живаго», где анализу многообразных тематических и сюжетных линий сходства с «Повестью о двух городах» посвящена отдельная глава («“Повесть о двух городах” Диккенса в революционной России»). См.: Буров С. Г. Игры смыслов у Пастернака. М., 2011. С. 548–615.
(обратно)886
Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1960. Т. 22. С. 416. Перевод С. П. Боброва и М. П. Богословской. В романе Диккенса достаточно явственно звучат мотивы возможного повторения описываемых революционных катаклизмов («Попробуйте еще раз сокрушить народ таким беспощадным молотом, и он превратится в такую же уродливую массу. Посейте опять те же семена хищного произвола и деспотизма, и они принесут такие же плоды». – Там же. С. 443), что не могло не быть особо отмечено Пастернаком – тем более и потому, что параллель между деятельностью большевиков после октябрьского переворота и якобинским террором напрашивалась сама собою и настойчиво акцентировалась самими большевиками.
(обратно)887
Пастернак Борис. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 757.
(обратно)888
Там же. Т. 9. С. 472.
(обратно)889
Шкловский В. О теории прозы. М.; Л., 1925. С. 130.
(обратно)890
См.: Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. М.; Л., 1965. С. 437.
(обратно)891
Из письма Пастернака к О. Г. Петровской-Силловой от 22 февраля 1935 г. // Пастернак Борис. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 14.
(обратно)892
Иммерман К. Мюнхгаузен: История в арабесках. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 123.
(обратно)893
Примечательна также параллель, которую прослеживает Ежи Фарыно, между Евграфом и Юрием, с одной стороны, и библейскими близнецами Иаковом и Исавом (Бытие, 25: 24–37, 27: 15–46). См.: Faryno Jerzy. Княгиня Столбунова-Энрици и ее сын Евграф (Археопоэтика «Доктора Живаго». I) // Studia Filologiczne. Bydgoszcz, 1990. Zeszyt 31 (12). Filologia Rosyjska. S. 169–171.
(обратно)894
Пастернак Борис. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 57.
(обратно)895
См., например: Чегодаева М. А. Тайна последнего романа Диккенса: опыт реконструкции // Мастера классического искусства Запада: Сб. статей. М., 1983. С. 281.
(обратно)896
Смерть героя, выскочившего из остановившегося трамвая, актуализирует еще одно совпадение, замыкающее этот предфинальный эпизод романа в «рифмующуюся» пару с одним из начальных, – с эпизодом гибели отца Живаго и последовавшей остановкой курьерского поезда. Подробнее см.: Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. С. 245–246, 257–259.
(обратно)897
Ср. замечания А. Д. Синявского в статье «Некоторые аспекты поздней прозы Пастернака»: «Случай, в сущности, здесь это несколько обытовленное и ослабленное “чудо” – на самом обыденном, житейском уровне. Подобного рода “случайность” призвана воспроизвести непрерывно катящуюся и сталкивающую персонажей жизнь, а также нечто сказочное, провиденциальное в их странных и разодранных социальными катастрофами судьбах» (Boris Pasternak and His Times / Ed. by Lazar Fleishman. Berkeley, 1989. P. 363).
(обратно)898
Пастернак Борис. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 522–524. Когда наша работа уже была подготовлена к печати, вышла в свет статья Юрия Щеглова «О некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака (Авантюрно-мелодраматическая техника в “Докторе Живаго”», в которой развиваются многие положения, содержащиеся и в наших наблюдениях: указано на зависимость сюжетосложения в романе Пастернака от повествовательных приемов западных авторов; дано толкование случайных совпадений как «проявлений высокой организованности мира, в котором все события, образующие судьбы героев, предопределены, рассчитаны и скоординированы неким централизованным разумом»; прослежены коннотации чуда и предопределения в связи с представлением о некоем высшем центре, координирующем связи индивидуальных судеб, и т. д. (см.: Борис Пастернак. 1890–1990. Под ред. Льва Лосева. Нортфилд, Вермонт, 1991. С. 190–216; Щеглов Ю. К. Проза / Поэзия. Поэтика: Избранные работы / Сост. А. К. Жолковский и В. А. Щеглова. М., 2012. С. 471–497).
(обратно)899
Мемуарные свидетельства Н. Муравиной и Т. В. Ивановой (Борисов В. М., Пастернак Е. Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Новый мир. 1988. № 6. С. 220, 229).
(обратно)900
Карлайл О. Три визита к Борису Пастернаку // Воспоминания о Борисе Пастернаке / Составление, подготовка текста, комментарии Е. В. Пастернак, М. И. Фейнберг. М., 1993. С. 657, 658.
(обратно)901
См.: Пастернак Борис. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 2004. С. 120–208.
(обратно)902
Из письма Пастернака к П. П. Сувчинскому от 11 сентября 1959 г. // Там же. Т. 10. С. 527.
(обратно)903
Максимов Д. «Новый Путь» // Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. Издательство Писателей в Ленинграде, 1930. С. 129–254; Корецкая И. В. «Новый Путь». «Вопросы Жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. 1890–1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 179–233.
(обратно)904
Максимов Д. Валерий Брюсов и «Новый Путь» // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 276–298; Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Вступ. заметка, подготовка текста и примечания М. М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124–159; 1992. № 1. С. 134–157.
(обратно)905
Максимов Д. «Новый Путь». С. 244.
(обратно)906
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542.
(обратно)907
РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 136.
(обратно)908
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 1–1 об.
(обратно)909
Там же. Л. 5–5 об. Упомянутый в тексте Николай Васильевич Клейгельс (1850–1911) – в 1899–1902 гг. петербургский градоначальник.
(обратно)910
См. об этом отдельную главу в кн.: Перцов П. П. Литературные воспоминания 1890–1902 гг. М., 2002. С. 119–129.
(обратно)911
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 8–8 об. В тексте упоминается трактат Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», напечатанный в Берлине в издательстве Августа Дейбнера в 1894 г. Произведения под названием «Тулон» в творческом наследии Толстого не имеется; видимо, в данном случае мы встречаемся с нередкой для агентурных донесений порчей текста, его неправильным прочтением или дезинформацией.
(обратно)912
См.: Максимов Д. «Новый Путь». С. 149.
(обратно)913
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 14, 40.
(обратно)914
РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 136. Л. 1.
(обратно)915
См.: Максимов Д. «Новый Путь». С. 243–244.
(обратно)916
Русская литература. 1992. № 1. С. 136.
(обратно)917
РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 136. Л. 21.
(обратно)918
Перцов П. П. Литературные воспоминания 1890–1902 гг. С. 280. На прошении Перцова от 30 октября 1902 г. в С. – Петербургский Цензурный Комитет о назначении для «Нового Пути» цензора наложена резолюция: Е. С. Савенкову (РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 136. Л. 3).
(обратно)919
См.: РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 136. Л. 46–50 об.
(обратно)920
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 27 об.
(обратно)921
Комментарии З. Г. Минц в кн.: Мережковский Д. Христос и Антихрист: Трилогия. Т. 4. Антихрист (Петр и Алексей). М., 1996. С. 612. См. библиографический обзор документальных материалов, относящихся ко времени Петра Великого, в кн.: Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 2, кн. 3. СПб., 2013. С. 431–435.
(обратно)922
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 28–28 об.
(обратно)923
Там же. Л. 29.
(обратно)924
См.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. Т. 5. С. 163–165, 168.
(обратно)925
РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 136. Л. 52.
(обратно)926
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 15, 20а – 23. Указанная публикация появилась в двух номерах «Нового Пути» (1903. № 1. С. 150–153; № 2. С. 153–155).
(обратно)927
РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34. Ср. мемуарное свидетельство И. И. Колышко: «Журнал Мережковского, Гиппиус и Перцова “Новый Путь” был выхлопотан мною. А журнал этот спутал немало умов и разворошил немало совестей» (Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 330).
(обратно)928
См.: Новый Путь. 1903. № 2. С. 215–226.
(обратно)929
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 24.
(обратно)930
Там же. Л. 26–26 об.
(обратно)931
См. предисловие М. М. Павловой к публикации писем З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову (Русская литература. 1991. № 4. С. 126).
(обратно)932
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 30. Там же (Л. 32–33) – формулярный список Философова, состоявшего с 1900 г. в Публичной библиотеке младшим помощником библиотекаря. См. статью о нем Ц.И. Грин в кн.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1. Императорская публичная библиотека. 1795–1917. СПб., 1995. С. 541–545.
(обратно)933
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 38, 39.
(обратно)934
Там же. Л. 43.
(обратно)935
Там же. Л. 48–48 об.
(обратно)936
Там же. Л. 50–55. Доклад Е. С. Савенкова с заключением «за уважительность ходатайства» и резолюцией от 10 ноября 1904 г. – РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Ед. хр. 136. Л. 38–41.
(обратно)937
РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1542. Л. 56а.
(обратно)938
Там же. Л. 57.
(обратно)939
Там же. Л. 58.
(обратно)940
См.: Колеров М. «Вопросы Жизни»: история и содержание // Логос. 1991. Вып. 2. С. 264–283.
(обратно)941
Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб., 2002. С. 106. К тому времени Вяч. Иванова связывали с А. В. Гольштейн уже сравнительно давние отношения; начало их переписки относится к 1897 г. См.: Переписка Вяч. Иванова с А. В. Гольштейн / Публикация, вступ. статья и комментарий М. Вахтеля и О. А. Кузнецовой // Studia Slavica Hung. 1996. Vol. 41. С. 335–376.
(обратно)942
Письмо Волошина к М. В. Сабашниковой от 21 июля / 3 августа – 25 июля / 7 августа 1904 г. // Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2013. Т. 11, кн. 1. С. 107.
(обратно)943
См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2006. Т. 7, кн. 1. С. 160–172.
(обратно)944
Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2010. Т. 9. С. 139.
(обратно)945
Там же. С. 142.
(обратно)946
Максимилиан Волошин в Петербурге: осень 1906. Письма к М. В. Сабашниковой / Публикация В. П. Купченко // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 21. М.; СПб., 1997. С. 301; Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. С. 163.
(обратно)947
Там же. С. 163; Максимилиан Волошин в Петербурге: осень 1906. С. 303–304.
(обратно)948
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 271.
(обратно)949
Экземпляр верстки несостоявшегося издания этой книги хранится в Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле. Другой экземпляр верстки (в самодельном бумажном переплете, под заглавием «Странник»), подаренный Волошиным Б. А. Леману (Диксу), – в коллекции А. М. Луценко. См.: Луценко Арк. 45 любимых книг (о некоторых раритетах моей библиотеки). СПб., 2004. С. 80–81.
(обратно)950
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 271.
(обратно)951
См. прежде всего: Shishkin A. Le banquet platonicien et soufi à la «Tour» pétersbourgeoise. Berdjaev et Vjačeslav Ivanov // Cahiers du Monde russe. 1994. Vol. XXXV (1–2). (Un Maître de sagesse au XXe siècle. Vjačeslav Ivanov et son temps). P. 15–79; Шишкин A. Симпосион на петербургской Башне в 1905–1906 гг. // Русские пиры (Альманах «Канун». Вып. 3). СПб., 1998. С. 273–352; Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты // Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 67–98. См. также сборник статей, приуроченных к 100-летнему юбилею собраний в квартире Вяч. Иванова: Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006.
(обратно)952
См.: Малмстад Джон. Бани, проституты и секс-клуб: восприятие «Крыльев» М. Кузмина // Эротизм без берегов. М., 2004. С. 122–144.
(обратно)953
Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. III. Кн. 8. М., <1918>. С. 97–98, 99.
(обратно)954
Цит. по: Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. С. 95.
(обратно)955
См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2008. Т. 6, кн. 2. С. 208–235.
(обратно)956
Там же. С. 834.
(обратно)957
Весы. 1907. № 1. С. 16.
(обратно)958
У Амфитеатрова именно так: не испанский король, которым возомнил себя герой гоголевских «Записок сумасшедшего».
(обратно)959
Амфитеатров Александр. Цветы невинности // Русь. 1907. № 24, 24 января. С. 3–4.
(обратно)960
См.: Переписка А. В. Амфитеатрова и М. А. Волошина / Публикация Н. Ю. Грякаловой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 22. СПб., 1997. С. 377–387.
(обратно)961
Воспоминания о Максимилиане Волошине / Составление и комментарии В. П. Купченко, 3. Д. Давыдова. М., 1990. С. 133.
(обратно)962
Опубликована в газете «Русь» 22 декабря 1906 г. См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2007. Т. 6, кн. 1. С. 22–30.
(обратно)963
Кузмин М. Дневник 1905–1907 / Предисловие, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2000. С. 314.
(обратно)964
Там же. С. 318.
(обратно)965
Там же. С. 324.
(обратно)966
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 1 – 22.
(обратно)967
Там же. Л. 23–29.
(обратно)968
Там же. Ед. хр. 208. К гранкам присоединены три листа машинописного текста (Л. 2–4), соответствующего фрагменту, не вошедшему в окончательный машинописный текст «Путей Эроса» (см. выше, примеч. 16), с рукописной вставкой, содержащей краткое изложение сюжета «Тридцати трех уродов».
(обратно)969
Там же. Ед. хр. 209; Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 6, кн. 2. С. 198–207. Последующие цитаты из статьи «Венок из фиговых листьев» приводятся по этому тексту.
(обратно)970
См.: Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. С. 165; Кузмин М. Дневник 1905–1907. С. 249.
(обратно)971
По всей вероятности, Евгений Васильевич Аничков (1866–1937) – историк литературы, фольклорист, литературный критик; друг Вяч. Иванова.
(обратно)972
См… например: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. С. 764–767 (примечания О. Дешарт); Купченко Владимир. Странствие Максимилиана Волошина. Документальное повествование. СПб., 1996. С. 96 – 105.
(обратно)973
Некоторые свидетельства об этих встречах приведены в статье «Голос с “Башни”: “Венок из фиговых листьев” Максимилиана Волошина” (С. 363–374 наст. изд.).
(обратно)974
Максимилиан Волошин в Петербурге: осень 1906. Письма к М. В. Сабашниковой / Публикация В. П. Купченко // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 21. М.; СПб., 1997. С. 303, 305.
(обратно)975
Приводимые здесь и ниже хронологические сведения восходят к составленным В. П. Купченко сводам «Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916» (СПб., 2002) и «Летопись жизни и творчества Маргариты Васильевны Сабашниковой» (Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2000. Т. III. № 3. С. 360–387).
(обратно)976
См.: Богомолов Н. А. …И другие действующие лица // Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка 1894–1903. М., 2009. Т. 1. С. 43.
(обратно)977
Волошина Маргарита (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея: История одной жизни / Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М., 1993. С. 152.
(обратно)978
Примечания О. Дешарт в кн.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. С. 756.
(обратно)979
См.: Богомолов Н. А. «Мы – два грозой зажженные ствола». Эротика в русской поэзии – от символистов до обэриутов // Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 241–242; Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 199–200.
(обратно)980
См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2008. Т. 6, кн. 2. С. 208–235, 825–837.
(обратно)981
Цит. по: Богомолов Н. А. «Мы – два грозой зажженные ствола». С. 243.
(обратно)982
Там же.
(обратно)983
Волошина Маргарита (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея. С. 161.
(обратно)984
См.: Купченко В. П. Маргарита Сабашникова: вечное ученичество // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2000. Т. III. № 3. С. 354–355.
(обратно)985
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 385.
(обратно)986
10 сентября 1907 г. М. Сабашникова сообщала Иванову: «Макс просил передать Тебе относительно книги своей, что он совсем раздумал издавать свои стих<отворения> и спрашивает, сколько нужно заплатить за набор» (РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 9. Ср. другой вариант текста этого письма, опубликованный в кн.: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 230–231). Об этом несостоявшемся издании см. с. 365–366 наст. изд. Книга состояла из четырех разделов («Странник», «Stella Amara», «Орфей», «Мистическая Роза»), включавших 27 стихотворений. Стихотворению «Кровь» («В моей крови – слепой Двойник…»), входившему в раздел «Stella Amara», предпослано посвящение Вячеславу Иванову. Ср.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2003. Т. 1. С. 77, 458–459 (Комментарии В. П. Купченко).
(обратно)987
Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2006. Т. 7, кн. 1. С. 261.
(обратно)988
Кузмин М. Дневник 1905–1907 / Предисловие, подготовка текста и комментарий Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2000. С. 333.
(обратно)989
Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2010. Т. 9. С. 290–291. Письмо получено в Петербурге 23 марта 1907 г.
(обратно)990
Впервые опубликовано в журнале «Золотое Руно» (1907. № 4) в составе цикла «Terre antique», в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» (М.: Гриф, 1910) – в составе цикла «Киммерийские сумерки». В опубликованном тексте – с делением на два четверостишия; вариант ст. 5: «Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор»; ст. 7 отсутствует; вариант ст. 8: «Обовью я чобром, мятой и полынью свою главу…». См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 89.
(обратно)991
Стихотворение «Полынь» («Костер мой догорал на берегу пустыни…», декабрь 1906 г.) было впервые опубликовано под заглавием «Коктебель» в иллюстрированном приложении к газете «Русь» 6 февраля 1907 г.; в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» – первое в цикле «Киммерийские сумерки». См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 88.
(обратно)992
Эта открытка, по всей вероятности, не сохранилась.
(обратно)993
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 292–293.
(обратно)994
Гимнософисты – греческое слово, употребляемое при описаниях встречи Александра Македонского с индийскими философами в Пенджабе; подразумеваются брамины, ходившие почти нагими и ведшие аскетический образ жизни.
(обратно)995
Имеются в виду поэт, прозаик и критик, теоретик «мистического анархизма» Г. И. Чулков (1879–1939) и комплектовавшийся им «петербургский альманах» «Белые ночи» (СПб., 1907); в дневниковой записи М. Кузмина от 13 марта 1907 г. этот альманах упоминается под предварительным заглавием «Нева» (Кузмин М. Дневник 1905–1907. С. 333). В альманах «Белые ночи» (вышедший в свет в июне 1907 г.) сонет «Диана де Пуатье» не был включен, впервые опубликован в журнале «Русская Мысль» (1907. № 6).
(обратно)996
А. Р. Минцлова (1866–1910?) – деятель теософского движения, переводчица; в середине 1900-х гг. оказывала исключительно сильное духовное воздействие на Волошина и Сабашникову, а позднее и на Вяч. Иванова. Волошин подразумевает ее письмо, полученное в Коктебеле 24 марта. О получении рукописи от Вяч. Иванова Минцлова сообщила Волошину в письме из Москвы от 25 марта (Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. С. 178, 179).
(обратно)997
М. Сабашникова-Волошина оставалась в Царском Селе до 29 марта.
(обратно)998
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 293–294. Текст – на открытке, полученной в Петербурге 6 апреля 1907 г.
(обратно)999
Впервые опубликовано в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб., 1907), в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» – в составе цикла «Киммерийские сумерки». Варианты опубликованного текста: ст. 5–7 – «Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец // В зеленых сумерках таинственно печален. // Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален?»; ст. 13 – «И лики темные отвергнутых богов». См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 90.
(обратно)1000
Привет! (др. – греч.).
(обратно)1001
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 299–300. Получено в Петербурге 19 апреля 1907 г. Напечатано по приводимому автографу в кн.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 275 (Публикация К. М. Азадовского и А. В. Лаврова). Варианты автографа, отправленного М. В. Сабашниковой 17 апреля 1907 г.: ст. 3 – «Здесь моря вещего глаголящий простор»; ст. 6 – «Восходит древний бог на жертвенный костер»; ст. 9 – 10 – «Там брызнул Константин певучих саламандр, // Там снежный хмель взрастил и розлил Александр» (Волошин Максимилиан. Собр. соч. М., 2004. Т. 2. С. 398).
(обратно)1002
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 300–301.
(обратно)1003
В «Цветнике Ор» эти стихотворения не были помещены. «Гностический гимн Деве Марии» («Славься, Мария!..») был впервые опубликован в «Вестнике Теософии» (1908. № 2) под заглавием «Гностический гимн»; в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» это стихотворение напечатано с посвящением Вячеславу Иванову. Цикл из семи стихотворений «Руанский собор» был впервые опубликован в полном объеме в журнале «Перевал» (1907. № 8/9). См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 81–87.
(обратно)1004
Сонет «Одиссей в Киммерии» («Уж много дней рекою Океаном…») – заключительный в цикле «Киммерийские сумерки». Сонет (впервые опубликованный в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910») посвящен Лидии Дм. Зиновьевой-Аннибал и датирован днем ее кончины – 17 октября 1907 г. См.: Там же. С. 95–96.
(обратно)1005
Первоначальная редакция сонета «Равнина вод колышется широко…», входящего в цикл «Киммерийские сумерки» и впервые опубликованного в «Золотом Руне» (1907. № 4) в составе цикла «Terre antique». Варианты автографа первоначальной редакции в творческой тетради Волошина: ст. 7 – «Мутится мыс, зубчатою стеной»; ст. 10–13 – «Когда в горах златится перламутр // И чуткий дым встает со дна долины, // Ручьи журчат, и каждый тихий звук // Звенит струной, и солнце, как паук» (Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 391).
(обратно)1006
Комедия Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел. Сатирический маскарад в четырех ночах» (вариации на темы «Сна в летнюю ночь» Шекспира с многочисленными прообразами и аллюзиями, указующими на Иванова и его окружение и на обстоятельства «башенной» жизни) впервые опубликована в полном объеме Н. А. Богомоловым в журнале «Театр» (1993. № 5). См. также: Зиновьева-Аннибал Лидия. Тридцать три урода. М., 1999. С. 319–398.
(обратно)1007
Инициатива издания в Петербурге журнала под эгидой Вяч. Иванова тогда осталась нереализованной.
(обратно)1008
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 303–304.
(обратно)1009
Сонет впервые опубликован в «Вестнике Теософии» (1908. № 3), вошел в книгу Волошина «Стихотворения. 1900–1910». Вариант заключительной строки в опубликованном тексте: «Что темным языком лепечет в венах глухо» (Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 78).
(обратно)1010
В доме Никиты Александровича Милорадовича располагалась квартира родителей М. Сабашниковой.
(обратно)1011
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 581. Опубликовано Г. В. Обатниным в кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 155–156.
(обратно)1012
Подразумевается легендарно-исторический эпизод, относящийся к взятию Александром Македонским фригийского города Гордия: «…Александр увидел знаменитую колесницу, дышло которой было скреплено с ярмом кизиловой корою, и услышал предание ‹…›, будто тому, кто развяжет узел, закреплявший ярмо, суждено стать царем всего мира <..> узел был столь запутанным, а концы так искусно спрятаны, что Александр не сумел его развязать и разрубил мечом» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. М., 1963. Т. II. С. 407. Перевод М. Н. Ботвинника и И. А. Перельмутера).
(обратно)1013
Затруднение от избытка (франц.).
(обратно)1014
Под этим общим заглавием в «Цветнике Ор» были напечатаны сонеты Волошина «Старинным золотом и желчью напитал…» и «Здесь был священный лес. Божественный гонец…» (С. 45–48). Вскоре Волошин опубликовал под тем же общим заглавием, данным Вяч. Ивановым, еще два сонета – «Над темной рябью вод встает из глубины…» и «Запал багровый свет. Над тусклою водой…» (Русская Мысль. 1907. № 9), а в сборнике «Стихотворения. 1900–1910» объединил в цикл под заглавием «Киммерийские сумерки» 14 стихотворений.
(обратно)1015
Подразумеваются слова Ангела из «Комедии о Евдокии из Гелиополя» М. Кузмина (впервые опубликованной в «Цветнике Ор»): «Хозяин опытный всегда // В конце лишь прибыли считает» (Кузмин М. Театр. В четырех томах (в двух книгах). I–III / Сост. А. Тимофеев. Под ред. В. Маркова и Ж. Шерона. Berkeley Slavic Specialties, 1994. С. 26).
(обратно)1016
Цикл из 17 сонетов «Золотые Завесы» Вяч. Иванова был впервые опубликован в «Цветнике Ор».
(обратно)1017
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 305.
(обратно)1018
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 5. Ед. хр. 76.
(обратно)1019
Волошина Маргарита (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея. С. 164. Об этом объяснении с матерью, состоявшемся 3 мая, Сабашникова рассказала на следующий день в письме к Зиновьевой-Аннибал: «…мы остались вдвоем, и она спросила меня про Макса, отчего я не хочу быть его женой и что с ним; почему он уезжал. А потом прибавила, что она всегда все про меня знает вперед; и я знала, что она знает, тогда я сказала, что люблю В<ячеслава>. Она сказала: ты этого слова и произносить не смеешь, потому что не знаешь, что оно значит. Раньше ты была очень строга в словах, а этот последний год вы с Максом черт знает сколько говорите и все это ложь. Ты тоже говорила, что любишь его; ты всегда омраченная; стоишь с закрытыми глазами и воображаешь, что видишь, всегда поглощена каким-то вихрем своей фантазии, всегда все стихийно, напролом, рассудочна, когда не нужно, и безрассудна, и всегда самоуверенна. Меня и отца, кот<орый> тебя обожает, ты всегда швыряешь для своих прихотей. Твое отношение к Максу было позорно, не было у тебя никогда любви к нему и т. д. Потом она спросила, как В<ячеслав> относится ко мне. Я сказала: он меня любит и Лид<ию> Дим<итриевну>. Я почти ничего не говорила, говорила она. “В вас смирения нет перед Богом, ты только себя слушаешь, а не Бога; и он, если думает все вместить, гордый и несмиренный человек; вы боги, конечно, и разобьешь ты их жизнь, свою жизнь и Макса, и нас топчешь”. Конечно, речь только о платон<ической> любви» (РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 12).
(обратно)1020
РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 9.
(обратно)1021
Там же. См. также письма Сабашниковой к Иванову, относящиеся к маю 1907 г., в кн.: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 202–203.
(обратно)1022
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 313. Фрагмент письма был опубликован (с неточностями) в примечаниях О. Дешарт в кн.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 809.
(обратно)1023
3 Цар 3: 16–28.
(обратно)1024
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 314.
(обратно)1025
Подразумеваются как приведенное выше недатированное письмо Волошина, так и письма к Иванову Сабашниковой.
(обратно)1026
В письме к Волошину от 12 мая Зиновьева-Аннибал сообщала, что Г. Чулков просит у него «стихов для альманаха “Белые ночи” ‹…› Можно ли напечатать “Седой кристалл” и “Как млечный путь”» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 587). Указанные стихотворения – «Луна» («Седой кристалл магических заклятий…»; первоначальная редакция магистрала венка сонетов «Lunaria») и «Как Млечный Путь, любовь твоя…» – были опубликованы в «петербургском альманахе» «Белые ночи» (С. 193–194). См.: Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 1. С. 406–407, 73.
(обратно)1027
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 5. Ед. хр. 76. Переписка между Зиновьевой-Аннибал и Сабашниковой, относящаяся к этому периоду, частично опубликована в кн.: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 208–218.
(обратно)1028
РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 9.
(обратно)1029
Волошин Максимилиан. Собр. соч. Т. 9. С. 319–320. Отправлено из Отуз 18 августа, получено в Загорье 20 августа. Фрагмент письма был опубликован (с неточностями) в примечаниях О. Дешарт в кн.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 808–809.
(обратно)1030
Еси – Е1, надпись на дверях храма Аполлона в Дельфах. Статья Вяч. Иванова «Ты еси» была опубликована в «Золотом Руне» в 1907 г. (№ 7/9).
(обратно)1031
М. М. Замятнина (1862–1919) – ближайшая подруга Зиновьевой-Аннибал, воспитательница ее детей; Вера Константиновна Шварсалон (1889–1920) и Константин Константинович Шварсалон (1892–1917 или 1918?) – дети Зиновьевой-Аннибал от первого брака; Лидия Вячеславовна Иванова (1896–1985) – дочь Иванова и Зиновьевой-Аннибал, впоследствии композитор.
(обратно)1032
РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 4.
(обратно)1033
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. М., 2001. С. 270–271. О связях этого стихотворения с темами переписки Блока и Белого см.: Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А.Блока. <М., 1997>. С. 111–130.
(обратно)1034
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 298.
(обратно)1035
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 1.
(обратно)1036
Белый Андрей. Урна. Стихотворения. М., 1909. С. 126–127.
(обратно)1037
Соловьев Сергей. Апрель. Вторая книга стихов. М., 1910. С. 165.
(обратно)1038
См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М„1991. Кн. 1. С. 128, 131–132, 155, 156, 172, 176–177. Подготовка текстов А. А. Нинова.
(обратно)1039
Письмо к П. П. Перцову от 12 декабря 1903 г. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 42.
(обратно)1040
Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 266–267. Публикация С. Н. Тяпкова.
(обратно)1041
Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 209–210. См. также раздел стихотворных посланий в кн.: «Арзамас». Сб. в двух книгах. М., 1994. Кн. 2. С. 197–342.
(обратно)1042
Иванов-Разумник. Творчество и критика. Статьи критические. 1908–1922. Пб., 1922. С. 187, 188.
(обратно)1043
Слово. 1908. № 633. 27 ноября. С. 5. Подпись: А. В. В библиографической справке о Верховском в словаре «Писатели современной эпохи» (1928), составленной по материалам, представленным им самим, в перечне отзывов о поэте значится: «А. Тыркова. “Поэт старого склада”. («Речь». 1908 г.)» (см.: Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. Редакция Б. П. Козьмина. М., 1992. С. 70). Поскольку в данном случае явно подразумевается цитируемая статья (место публикации, столь же явно, указано неверно – по памяти), ее автором правомерно признать А. В. Тыркову-Вильямс.
(обратно)1044
Новая Жизнь. 1911. № 4. Март. Стб. 259.
(обратно)1045
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 80 (Рецензия на «Разные стихотворения»).
(обратно)1046
Ходасевич Владислав. Собр. соч. / Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Ann Arbor, 1990. Т. 2. С. 76. (Рецензия на «Идиллии и элегии»).
(обратно)1047
Письмо к матери от 20 января 1931 г., приведено в комментарии Е. А. Муравьевой к «Заметкам о виденном и слышанном» Ник. Ашукина // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 236.
(обратно)1048
См.: Из материалов к биографии Ю. Н. Верховского: переписка с А. Н. Веселовским 1900–1904 гг. / Публикация Т. В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2009–2010 годы. СПб., 2011. С. 615–632.
(обратно)1049
Поэты пушкинской поры. Сб. стихов. Под редакцией и со вступ. статьей Ю. Н. Верховского. М., 1919. С. 3, 4. На экземпляре этой книги, принадлежавшем Вс. А. Рождественскому и хранящемся ныне в библиотеке Пушкинского Дома (С. – Петербург), имеется стихотворное посвящение, во многом иллюстрирующее отношение Верховского к содержанию подготовленной им антологии («язык богов») и к собственным поэтическим опытам в этой связи: // Всеволоду Рождественскому // Простится ли простосердечью, – // Но я кощунственно готов // Своей коснеющею речью // Сопровождать язык богов. // Любовь отметит книгу этуВо имя Пушкина и Муз – // На память стройному поэту: // Не порван сладостный союз. // Юрий Верховский // 2/15 V<1>923.
(обратно)1050
Гофман М. Л. Петербургские воспоминания // Новый журнал. Кн. 43. Нью-Йорк, 1955. С. 127. В автобиографии (1926) Верховский отмечает: «Примерно к 1906 году относится начало дорогих мне отношений ‹…› c Вячеславом Ивановым (вскоре после его приезда из-за границы) ‹…› Целая половина жизни связана с “башней” Вяч. Иванова и покойной Зиновьевой-Аннибал» (Верховский Юрий. Струны: Собрание сочинений / Составление, подготовка текста, статья и комментарии В. Калмыковой. М., 2008. С. 735).
(обратно)1051
Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 495.
(обратно)1052
Разные стихотворения Юрия Верховского. М., 1908. С. 35, 71.
(обратно)1053
Идиллии и элегии Юрия Верховского. СПб., <1910>. С. 14. То же стихотворение – в кн.: Стихотворения Юрия Верховского. Т. I. Сельские эпиграммы. Идиллии… Элегии. М., 1917. С. 65. В архиве Вяч. Иванова сохранился также автограф посвященного ему сонета Верховского (РГБ. Ф. 109. Карт. 42. Ед. хр. 23. Л. 4): // Вячеславу Иванову // Пускай мое ленивое перо, // Едва бродя по белизне страницы, // Твердит о том, что уж давно старо, // Бывалые разводит небылицы. // Иным не взять у них живой водицы, // Но для певца – всё благо, всё добро; // Меня влекут истлевшие царицы, // Владычицы Ронсара и Маро. // Весны приход, любовные тревоги // В их простоте, как повелели боги, // Они поют. И мой таков же вкус. // Я ль виноват, что изо всяких штилей // Без лишних слов и тягостных усилий // Лишь средний мне пожалован от муз? // Ю.В.
(обратно)1054
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С.566; Т. IV. Брюссель, 1987. С. 24, 39.
(обратно)1055
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 334.
(обратно)1056
Там же. С. 335. 12 августа 1909 г. Иванов записал в дневнике: «От Юрия Верховского сонет без рифм, кот<орый> я прочел без труда, а Кузмин долго с трудом склеивал. Вечером написал ему ответ, кот<орый> хотелось бы поместить в “Пристрастия”» (Там же. С. 788–789). Фрагмент письма Верховского к Иванову с текстом исходного сонета опубликован в кн.: Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. С. 519–520 (комментарии А. Лаврова и Р. Тименчика). На те же разгаданные рифмы написал «Ответный сонет» («Ау, мой друг, припомни вместе с «башней»…») М. Кузмин. См.: Кузмин М. Стихотворения. СПб., 1996. С. 188, 716 (примечания Н. А. Богомолова) («Новая Библиотека поэта»). Подробно эти сонеты на загаданные рифмы проанализированы в работе Андрея Шишкина «Вяч. Иванов и сонет серебряного века» (Europa Orientalis. XVIII. 1999: 2. С. 246–251).
(обратно)1057
Стихотворения Юрия Верховского. Т. 1. Сельские эпиграммы. Идиллии. Элегии. С. 36. Из многочисленных стихотворных посланий Верховского, адресованных разным лицам, на сегодняшний день доступны читателю послания к Федору Сологубу – в составе публикации писем Верховского к Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской, подготовленной Т. В. Мисникевич (Русская литература. 2003. № 2. С. 138–140); см. также ряд стихотворных посланий-посвящений в разделе «Стихотворения разных лет» в кн.: Верховский Юрий. Струны. С. 481–660. Вяч. Иванов имел опыт сочинения стихотворных посланий с самой ранней поры своего творчества; его дружеские послания в стихах к А. М. Дмитревскому относятся к 1887–1893 гг. (см.: Кузнецова О. А. Стихотворные послания Вяч. Иванова к А. М. Дмитревскому // Гумилевские чтения: Материалы международной конференции филологов-славистов. СПб., 1996. С. 239–253).
(обратно)1058
Гинзбург Лидия. П. А. Вяземский // Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 8, 9 («Библиотека поэта». Большая серия).
(обратно)1059
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 333. В редакции, отправленной Верховскому, стихотворение опубликовано Д. В. Ивановым и А. Б. Шишкиным по беловому автографу, сохранившемуся в архиве Иванова (Русско-итальянский архив III. Вячеслав Иванов. Новые материалы / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Салерно, 2001. С. 25–26). См. также: Калмыкова Вера. «Тихая судьба» Юрия Верховского // Верховский Юрий. Струны. С. 783–785.
(обратно)1060
См.: Франс Анатоль. Собр. соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 2. С. 700–705.
(обратно)1061
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 334.
(обратно)1062
Разные стихотворения Юрия Верховского. С. 94. Ср.: Шишкин Андрей. Вяч. Иванов и сонет Серебряного века. С. 228–229.
(обратно)1063
См.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. Ш. С. 55–58. Упомянутый в «Послании на Кавказ» не названный по имени посетитель Иванова («…из птенцов юнейших Мусагета // Идеолóг и филолог, забредщий // Разведчиком астральным из Москвы») вызвал у Р. В. Дуганова предположение о том, что в данном случае мог подразумеваться В. Хлебников (Дуганов Р. В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М„1988. С. 34), – предположение убедительно оспоренное (см.: Парнис А. Е. Вячеслав Иванов и Хлебников. К проблеме диалога и о ницшевском подтексте «Зверинца» // De Visu. 1992. № О. С. 44). Ныне на основании дневниковой записи М. Кузмина от 20 марта 1912 г., характеризующей описываемый в «Послании на Кавказ» день на «башне», Н. А. Богомолов доказал, что ивановский «идеолог и филолог» (цитата – строка из «Послания Дельвигу» Пушкина, т. е. еще одна апелляция к пушкинской эпохе «дружеских посланий») – В. О. Нилендер (см.: Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 437–440).
(обратно)1064
См.: «Несмотря на все, жить прекрасно…» (Письма А. А. Блока к Ю. Н. Верховскому) / Публикация К. Н. Суворовой // Встречи с прошлым. Вып. 4. М., 1982. С. 123.
(обратно)1065
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. IV. С. 11.
(обратно)1066
Тодд III Уильям Миллз. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994. С. 88.
(обратно)1067
Larva (лат.) – злой дух, привидение.
(обратно)1068
Аничков Е. В. (1866–1937) – критик, историк литературы, фольклорист, прозаик; друг Верховского и Иванова.
(обратно)1069
Адрес Верховского: Малая Посадская ул., д. 19.
(обратно)1070
Обращено к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.
(обратно)1071
Ироническая реминисценция начала поэмы Пушкина «Домик в Коломне» (1830), написанной октавой: «Четырехстопный ямб мне надоел».
(обратно)1072
Журя – журавлиный птенец, описанный в одноименном рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, входящем в ее книгу «Трагический зверинец» (СПб.: Оры, 1907; вышла в свет в начале мая 1907 г.). См.: Зиновьева-Аннибал Лидия. Тридцать три урода. М., 1999. С. 55–60.
(обратно)1073
Черт возьми! (исп.).
(обратно)1074
Вадим Никандрович Верховский (1873–1947), химик; один из инициаторов издания «Зеленого сборника стихов и прозы» (СПб., 1905). См.: Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар (Летейская библиотека, II. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века). М., 2013. С. 95, 102–110.
(обратно)1075
Ответное послание – стихотворение Иванова «Выздоровление» (см. примеч. 27 к статье).
(обратно)1076
Отправлено из Осташкова 13 августа 1908 г. (дата на почтовом штемпеле) по адресу: Судак, дача Герцык; получено 16 августа 1908 г. (дата на почтовом штемпеле).
(обратно)1077
Эпиграф из стихотворения В. А. Жуковского «II. Preambule» («На этой почте всё в стихах…», 1814), входящего в цикл «Два послания. К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину».
(обратно)1078
Боратынский.
(обратно)1079
См. в Сочинениях А. С. Пушкина
(обратно)1080
Из сонета М. Кузмина.
(обратно)1081
Баратынский бывал в Казани (у тестя, Л. Н. Энгельгардта) неоднократно: летом 1831 г., зимой 1831–1832 гг., в июне 1832 г. и позднее. Подробнее см.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 425.
(обратно)1082
Изречение относится, быть может, к Рязани.
(обратно)1083
«Умеренность и аккуратность» – два «таланта», в которых признается Молчалин Чацкому у Грибоедова («Горе от ума», действие III, явление 3).
(обратно)1084
Дамба, ведущая к Житному монастырю в г. Осташкове, известная красотой местоположения.
(обратно)1085
Отправлено из Тифлиса 8 ноября 1911 г., получено в Петербурге 13 ноября 1911 г. (датировки почтовых штемпелей).
(обратно)1086
Последующий текст («первое тифлисское стихотворение») – на второй половине того же листа со сгибом.
(обратно)1087
Отправлено из Тифлиса 5 апреля 1912 г., получено в Петербурге 10 апреля 1912 г. (датировки почтовых штемпелей). Ответ на «Послание на Кавказ» Иванова (см. примеч. 31 к статье).
(обратно)1088
Сын Верховского и его жены, Александры Павловны Верховской (род. в 1903? г.).
(обратно)1089
Контаминация строк из стихотворений Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (1829) и «Ты песен Грузии печальной» («Не пой, красавица, при мне…», 1828).
(обратно)1090
Подобное излечивается подобным (лат.). Источник выражения – эпиграф к труду основателя гомеопатической медицины немецкого врача Самуэля Ганемана (Hahnemann; 1755–1843) «Органон врачебного искусства».
(обратно)1091
Имеется в виду статья Иванова «Мысли о символизме», опубликованная в № 1 журнала «Труды и Дни издательства “Мусагет”», вышедшего в свет в середине марта 1912 г.
(обратно)1092
Вера Константиновна Шварсалон (1889–1920), дочь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака, падчерица, с 1912 г. жена Иванова, и Мария Михайловна Замятнина (1862–1919), близкая подруга Зиновьевой-Аннибал.
(обратно)1093
Отправлено из Тифлиса 10/23 февраля 1913 г., получено в Риме 17 февраля / 2 марта 1913 г. (даты установлены по почтовым штемпелям).
(обратно)1094
Имеется в виду полученная в подарок от Иванова его книга стихов «Нежная тайна. Λέπτα» (СПб.: Оры, 1912), вышедшая в свет в начале последней декады декабря 1912 г. (в письме к Иванову от 22 декабря 1912 г. А. Д. Скалдин сообщал об отправке ему в Рим 30 экземпляров: «Книги, надписав, можете послать мне обратно. Я их разошлю, кому надо» // РГБ. Ф. 109. Карт. 34. Ед. хр. 38).
(обратно)1095
Ответное послание Иванова Верховскому («Милый, довольно двух слов от тебя, чтоб опять содрогнулся…», Рим, 22 февраля / 7 марта 1913 г.) было впервые опубликовано по рукописной копии в Римском архиве Иванова (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. IV. С. 11–12).
(обратно)1096
Отправлено из Бобровки, близ станции Оленино, 22 августа 1913 г. в Москву по адресу издательства «Мусагет» (Пречистенский бульвар, 31, кв. 9), куда доставлено 23 августа 1913 г. (даты установлены по почтовым штемпелям). Опубликовано (без post-scriptum’a) в журнале «Дневники писателей» (1914. № 3/4. С. 4–5); автограф был выслан Ф. Сологубу из Тифлиса вместе с письмом от 30 марта – 5 апреля 1914 г. (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 7. Ед. хр. 9; Письма Ю. Н. Верховского к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской / Публикация Т. В. Мисникевич // Русская литература. 2003. № 2. С. 129).
(обратно)1097
Подразумевается послание Иванова к Верховскому «Милый, довольно двух слов от тебя, чтоб опять содрогнулся…», в котором упоминается о работе автора над переводом Эсхила: «Так мной владеет Эсхила стоустого вызванный демон; // Голосом вторить живым нудит он пленный язык // Смолкнувшим древним глаголом, – и в ужасе сладостном сердце // С сердцем пророческим в лад, тесное, биться должно…» (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. IV. С. 11). См.: Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила // Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 497–522 («Литературные памятники»).
(обратно)1098
Почти одновременно с этим посланием было написано обращенное к Верховскому стихотворное «Письмо из черноземной деревни» («Я для раздолий черноземных…»), датированное в автографе: «На 25 авг. 1913. Петропавловское» (Иванов Вячеслав. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Кн. 2. С. 209, 358 (примечания Р. Е. Помирчего) («Новая Библиотека поэта»)); опубликовано в составе стихотворного цикла Иванова «Деревенские гостины» в «Альманахе “Гриф”. 1903–1913» (М., 1914). См.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. IV. С. 13.
(обратно)1099
Автограф на корректурном листе журнала «Вестник Европы» (1913. № 12. С. 27) с текстом стихотворения Верховского «Летом» («Мне было так просто, так весело с ним…»).
(обратно)1100
Отклик на выход в свет книги: Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914 («Памятники мировой литературы»).
(обратно)1101
Опубликовано: Русская Мысль. 1916. № 2. Отд. I. С. 1 (без обозначения места и даты). Переиздано: Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993. С. 110–111; Верховский Юрий. Струны: Собрание сочинений / Составление, подготовка текста, статья и комментарии В. Калмыковой. М., 2008. С. 509. Ответное послание Иванова Верховскому – сонет «Молчал я, брат мой, долго; и теперь…» (19 ноября 1914 г.), опубликованный в журнале «Аполлон» (1914. № 10) под заглавием «Другу поэту». См.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. T. IV. С. 24.
(обратно)1102
Гиппиус З. Н. Чего не было и что было: Неизвестная проза 1926–1930 годов. СПб., 2002. С. 515.
(обратно)1103
Азадовский К. М. Александр Блок и Мария Добролюбова // Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сборник. VIII (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 813). Тарту, 1988. С. 35. Общие сведения о Л. Д. Семенове и статьях и публикациях, ему посвященных, см. в комментариях К. М. Азадовского к кн.: Клюев Николай. Письма к Александру Блоку. 1907–1915. М., 2003. С. 118–120, – а также в энциклопедической статье В. С. Баевского (Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. Т. 5. М., 2007. С. 553–555).
(обратно)1104
См.: Баевский В. С. Жизнестроитель и поэт // Семенов Леонид. Стихотворения. Проза / Издание подготовил В. С. Баевский. М., 2007. С. 457 («Литературные памятники»).
(обратно)1105
Семенов-Тян-Шанский В. П. То, что прошло: В 2 т. / Издание подготовил М. А. Семенов-Тян-Шанский. М., 2009. Т. 2. С. 431.
(обратно)1106
См.: Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 221.
(обратно)1107
Семенов Леонид. Стихотворения. Проза. С. 338, 252–253.
(обратно)1108
См.: Громов А. А. В студенческие годы // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 402–403.
(обратно)1109
Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 40.
(обратно)1110
Белый Андрей. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 38 об.
(обратно)1111
Там же. Л. 39.
(обратно)1112
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 18 об.
(обратно)1113
Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 278–279. В ходе встреч Белый и Семенов не только дискутировали на идеологические темы, но и знакомили друг друга с плодами своего художественного творчества. Свидетельство этого – процитированная в письме Белого к А. С. Петровскому от 18 августа 1903 г. первая строфа стихотворения Семенова «Свеча» (см.: Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка. 1902–1932. М., 2007. С. 67), опубликованного позднее – в ноябрьском номере «Нового Пути» за 1903 г. О чтении Семеновым этого стихотворения Белому в Москве свидетельствует в своих воспоминаниях Н. И. Петровская (см.: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публикация Э. Гарэтто // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 38).
(обратно)1114
Цит. по: Баевский В. С. Жизнестроитель и поэт. С. 451. Ср. наблюдения Ф. Ф. Зелинского в некрологической статье «Памяти Л. Д. Семенова» (1918): «При всей своей простоте это была натура властная; чувствовалось, однако, что эта властность имела не личный характер, а была обусловлена, наоборот, подчинением собственной личности идее» (Кто дошел до Оптинских врат. Неизвестные материалы о Л. Семенове / Публикация В. С. Баевского // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 1. С. 57–58).
(обратно)1115
Контаминация строк из стихотворений К. Д. Бальмонта «Я не могу понять, как можно ненавидеть…» и «Слепец» («Пожалейте, люди добрые, меня…»). См.: Бальмонт К. Д. Будем как Солнце: Книга Символов. М.: Скорпион, 1903. С. 199, 212.
(обратно)1116
Фрагменты из стихотворения «Слепец» (Там же. С. 212).
(обратно)1117
Обыгрываются строки из стихотворения В. Брюсова «In hac lacrimarum valle» («Весь долгий путь свершив, по высям и низинам…», 1902), впервые опубликованного в «Северных Цветах. III альманахе книгоиздательства “Скорпион”» (М., 1903) и вошедшего затем в его книгу «Urbi et Orbi»: «Мы натешимся с козой, // Где лужайку сжали стены» (Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 307).
(обратно)1118
«Петербургский Листок» – выходившая с 1864 г. ежедневная газета, популярная в малообразованных слоях населения; выражала ретроградные эстетические взгляды.
(обратно)1119
Намек на стихотворение Бальмонта «Арум» («Тропический цветок, багряно-пышный арум!..») (Бальмонт К. Д. Будем как Солнце. С. 146).
(обратно)1120
«Я сумрачный, я гордый паладин» – заключительная строка сонета Бальмонта «Крестоносец» («Ни ревности, ни скуке, ни злословью…») (Там же. С. 136).
(обратно)1121
В неизвестном нам письме Белый противопоставлял А. А. Фета – сына помещика А. Н. Шеншина, т. е. частное лицо, Фету-поэту. Стихотворение Фета «С бородою седою верховный я жрец…» (1884) Белый неточно цитирует в «Симфонии (2-й, драматической)» (1901). См.: Белый Андрей. Симфонии. Л., 1991. С. 157–158.
(обратно)1122
Имеется в виду первая строка стихотворения «Я полюбил свое беспутство…» (Бальмонт К. Д. Будем как Солнце. С. 76).
(обратно)1123
Первая строка стихотворения (Там же. С. 70).
(обратно)1124
Непосвященной толпой (лат.).
(обратно)1125
Епископ Антоний (в миру Михаил Флоренсов; 1847–1918) – духовный наставник Андрея Белого в 1903–1904 гг. (см. о нем в письме А. С. Петровского к Э. К. Метнеру от 5 октября 1903 г., приводимом в статье Джона Малмстада «“Мой вечный спутник по жизни”. Переписка Андрея Белого и А. С. Петровского: Хроника дружбы» в кн.: Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка 1902–1932. С. 22–23; также: Андроник, иеромонах. Епископ Антоний (Флоренсов) – духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 9. С. 71–77; № 10. С. 65–73). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый приводит слова Семенова об Антонии (произнесенные, безусловно, в более позднее время): «Я не знаю, кто больше – Толстой, или этот епископ» (Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 77).
(обратно)1126
Подразумеваются попытки Белого найти себе место службы или постоянный источник доходов – актуальные после окончания Московского университета и смерти отца. 6 июля 1903 г. он писал Брюсову: «В погоне за средствами строю различные фантастические проекты, вроде чтения публичных лекций по разным городам России и т. д.» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 358). В автобиографических записях об октябре 1903 г. Белый свидетельствует: «…профессор Лахтин ‹…› уведомляет меня, что мне приготовлено место преподавателя естествознания в женском Александровском Институте; но я уже вновь передумал ‹…›» (Белый Андрей. Материал к биографии. Л. 40 об.).
(обратно)1127
РГБ. Ф. 25. Карт. 22. Ед. хр. 23. Приводимые далее письма Семенова к Белому хранятся под этим шифром.
(обратно)1128
Фраза из развернутой рецензии Брюсова на книгу Бальмонта «Будем как Солнце» (Мир Искусства. 1903. № 7/8. С. 29–36). См.: Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 79.
(обратно)1129
Намерение Брюсова уехать на длительный срок за границу тогда не было осуществлено.
(обратно)1130
«Северная симфония (1-я, героическая)» Андрея Белого (М.: Скорпион, 1904) вышла в свет в середине октября 1903 г. В это же время в издательстве «Скорпион» готовилась к печати книга стихов и лирической прозы Белого «Золото в лазури», появившаяся в конце марта 1904 г.
(обратно)1131
Поярков Ник. Поэты наших дней (Критические этюды). М., 1907. С. 131. // В архиве Андрея Белого сохранился беловой автограф стихотворения Семенова, в переработанной редакции под заглавием «Глас к заутрени» вошедшего в «Собрание стихотворений» (см.: Семенов Леонид. Стихотворения. Проза. С. 17–18). Приводим его текст по автографу (РГБ. Ф. 25. Карт. 32. Ед. хр. 9): // Премудрость // Σοφια // В одеждах ярких и пунцовых // Пройду я мимо темных братий, // О, не для них, всегда суровых, // Бездумность девственных объятий! // Сестры, Невесты и Царицы // Я жезл безлиственный несу. // Да будут старцев власяницы // Как листья прошлые в лесу. // В божнице явно ставлю свечи, // Готовлю ткани и венок, // Слагаю песни страшной встрече // И забываю в песнях срок. // Придет Жена – Премудрость – Дева, // Свершит молитвенный обряд. // О, не для временного сева // Нам старцы ниву бороздят. // Премудрость, – жертва – и Царица, // Твоя то кровь у алтаря – // Твои – венец и багряница, // Венчай для утрени Царя! // 15. IV. 1904.
(обратно)1132
Белый Андрей. Начало века. С. 279.
(обратно)1133
Зелинский Ф. Ф. Памяти Л. Д. Семенова // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 1. С. 58.
(обратно)1134
Белый Андрей. Начало века. С. 279–280.
(обратно)1135
Суббота – 22 января.
(обратно)1136
РГБ. Ф. 386. Карт. 102. Ед. хр. 30.
(обратно)1137
Там же.
(обратно)1138
Там же.
(обратно)1139
Благодаря А. Блока в письме от 10 сентября 1905 г. «за гостеприимство в Шахматове, за милые часы прогулок, бесед», Семенов сообщал: «Вот уже две недели как я в деревне. В Москве Бугаева не застал и пробыл в ней всего 2 дня» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 397).
(обратно)1140
Подразумевается лаконичная оценка в рецензии Андрея Белого на альманах «Северные Цветы Ассирийские»: «Интересен Л. Семенов» (Весы. 1905. № 6. С. 70).
(обратно)1141
Ср. сообщение в письме Семенова к Блоку от 10 сентября 1905 г.: «Роман подвигается хорошо, правда не очень скоро, но уверенно, упорно» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 397). Извещение о том, что Семенов «пишет роман на современные события», появилось в «Биржевых Ведомостях» 15 сентября 1905 г. (Некрологи как источники для биографии Л. Семенова / Публикация Н. А. Сафроненковой // Русская филология. Ученые записки <Смоленского гос. ун-та>. Т. 10. Смоленск, 2006. С. 157). С. Н. Дурылин в некрологическом очерке о Семенове «Бегун» свидетельствует, что отрывки из своего «большого романа» «читал он в литературных кругах»: «Помню, как однажды после такого чтения Семенова у всех создалось впечатление: “У нас будет замечательный роман из революционных дней 905 года”» (Понедельник Власти народа. 1918. № 5. 1 апреля). Имеют ли непосредственную связь с опубликованными в 1907–1908 гг. прозаическими произведениями Семенова эти фрагменты «большого романа» или нет, нам неизвестно.
(обратно)1142
Имеется в виду рецензия Брюсова на «Собрание стихотворений» Семенова (Весы. 1905. № 6. С. 55–56). Цитируя в ней «одно из лучших стихотворений в сборнике» – «Земля» – со строками «Солнечность, солнечность, в лоно // Свято ко мне низойди!», Брюсов заключает: «Будем надеяться, что и в душу поэта низойдет “солнечность”, что его весеннее утро сменится буйно-томительным днем творчества». Общая оценка книги Брюсовым – сдержанно-доброжелательная, с преобладанием критических нот: «Стихи осторожные, обдуманные, хочется сказать, благонамеренные. Ничего резкого, неожиданного, отважного. Благодаря этому нет прямых недочетов, смешных промахов, но зато нет и настоящих достижений, нет истинного сияния. ‹…› иные стихотворения – просто подражания своеобразной манере А. Блока: та же отрывочность, та же недоговоренность. Но в стихе Л. Семенова, в общем тусклом, однозвучном, нет той напевности, которая иногда дается Блоку» (Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 149–150).
(обратно)1143
Белый Андрей. О Блоке. С. 186. Похороны философа и общественного деятеля князя С. Н. Трубецкого, превратившиеся в политическую манифестацию (за гробом шло около 50 тысяч человек), состоялись в Москве 3 октября 1905 г.
(обратно)1144
Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 440.
(обратно)1145
РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 397. В другом (недатированном) письме к Блоку, относящемся к маю 1905 г., примечательны суждения Семенова о романе Чернышевского «Что делать?»: «Поразительная вещь, мало понятая, неоцененная, единственная в своем роде, переживет не только Тургенева, но, боюсь, и Достоевского. Сие смело сказано. Но по силе мысли и вере она равняется разве что явлению Сократа в древности. Говорю это объективно – ибо ведь и в учении Сократа была основная ошибка, но это не помешало ему сделаться вечным» (Там же).
(обратно)1146
Подразумеваются посетители «сред» П. И. Астрова. Лев Львович – Кобылинский (псевдоним – Эллис; 1879–1947), поэт, переводчик, критик; завсегдатай «астровских» собраний.
(обратно)1147
См.: Азадовский К. М. Александр Блок и Мария Добролюбова. С. 33–35, 41–43; Баевский В. С. Леонид Семенов и Мария Добролюбова // Русская филология. Ученые записки <Смоленского гос. пед. ун-та>. Т. 7. Смоленск, 2003; Александр Блок в дневнике Е. П. Иванова (1903–1941) / Подготовка текста, вступ. статья и комментарии О. Л. Фетисенко // Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 347–350.
(обратно)1148
См.: Сапогов В. А. Лев Толстой и Леонид Семенов (об одном корреспонденте Л. Н. Толстого) // Ученые записки Костромского пед. ин-та им. К. Д. Ушинского. Вып. 20. Кострома, 1970. С. 111–128; Баевский В. С., Романова И. В. Лев Толстой и Леонид Семенов (По неопубликованным материалам) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2004. Т. 63. № 5. С. 40–48.
(обратно)1149
Письма от 7 июля и 8 августа 1907 г. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 77. С. 153, 175.
(обратно)1150
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 620.
(обратно)1151
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику, л. 41.
(обратно)1152
Белый Андрей. Начало века. С. 280.
(обратно)1153
Сохранилось недатированное письмо Белого к Н. П. Киселеву, помещенное в подборке его писем за 1910 г., с оповещением: «Приходите ко мне в 8–8 ½ часов. У меня читает Л. Д. Семенов» (РГБ. Ф. 128, архив Н. П. Киселева).
(обратно)1154
Семенов Леонид. Стихотворения. Проза. С. 209.
(обратно)1155
Дурылин С. Н. Бегун // Понедельник Власти народа. 1918. № 5. 1 апреля.
(обратно)1156
Семенов Леонид. Стихотворения. Проза. С. 216.
(обратно)1157
Белый Андрей. Начало века. С. 333.
(обратно)1158
Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 124.
(обратно)1159
См.: Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка. 1902–1932 / Вступ. статья, составление, комментарии и подготовка текста Дж. Малмстада. М., 2007.
(обратно)1160
Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 54.
(обратно)1161
РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 157 об. – 158.
(обратно)1162
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919. М., 2001. С. 338.
(обратно)1163
«Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901–1928. М., 2006. С. 152.
(обратно)1164
Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 211.
(обратно)1165
Жемчужникова М. Н. Воспоминания о Московском Антропософском обществе (1917 – 23 гг.) / Публикация Дж. Малмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. Paris, 1988. С. 33, 28. В Словаре псевдонимов И. Ф. Масанова произошла контаминация героя нашей публикации (выступавшего под псевдонимом М. Седлов) с другим Михаилом Ивановичем Сизовым (1880 –?) – естествоведом, журналистом, публицистом и прозаиком (см.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 432), писавшим под рядом псевдонимов (Мих. Горский, М. И. С., М. С., С. 3. В., М. С – в, М. Си – в, Мих. Эс) в журналах 1910-х гг. «Народное Дело», «Знание для всех», «Природа и Люди», «Поселок»; перечисленные псевдонимы указаны в его автобиографии, представленной в 1913 г. С. А. Венгерову (ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 3257; краткое изложение автобиографии, выполненное Е. Д. Конусовой, – в кн.: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова: Аннотированный указатель: В 2 т. / Под ред. В. А. Мыслякова. СПб., 2010. Т. 2. С. 351–352).
(обратно)1166
Ср.: «Мне помнится длинный, худой гимназист, полезший однажды на кафедру в “Кружке”, чтобы возразить Бальмонту; две первые фразы, им сказанные, поразили весь зал; третьей же – не было: пятиминутная пауза, он выпил воды, побледнел; и – ушел: к удивлению Бальмонта и всего зала» (Белый Андрей. Начало века. С. 391).
(обратно)1167
Студенческое дело М. И. Сизова // ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 317. Д. 1024.
(обратно)1168
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 24. Ср. относящуюся к тому же месяцу запись Андрея Белого в «Материале к биографии»: «… начинает особенно часто бывать М. И. Сизов; я – дружу с ним» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 49 об.).
(обратно)1169
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику. Л. 25, 25 об. Имеются в виду издания: Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская каноническая книга, переведенная с пали на английский язык Др. Фаусбеллем. Русский перевод Н. И. Герасимова. М., 1899; Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1. Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары. СПб., 1903. Книга Щербатского имелась в библиотеке Андрея Белого (см. письмо В. Я. Брюсова к Белому от 12 февраля 1904 г. и ответное письмо Белого от 13 февраля // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 374–375). «Великий делом Дармотарра» упоминается в поэме Белого «Первое свидание» (1921) (Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. СПб.; М., 2006. Т. 2. С. 28).
(обратно)1170
Белый Андрей. Начало века. С. 391–392.
(обратно)1171
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику. Л. 28; Белый Андрей. О Блоке. С. 186.
(обратно)1172
РГБ. Ф. 25. Карт. 22. Ед. хр. 26. Приводимые или цитируемые далее письма М. И. Сизова к Андрею Белому (их общее количество – 29) хранятся под этим шифром.
(обратно)1173
Имеется в виду Владимирский собор в Киеве (1862–1896; архитекторы А. В. Беретти, Р. Б. Бернгардт, К. Я. Маевский). Далее описывается образ Богоматери с Младенцем в центральной абсиде (роспись В. М. Васнецова; 1885–1896).
(обратно)1174
О поступившей к нему статье Сизова упоминает В. Ф. Эрн в письме к А. В. Ельчанинову от 26 марта 1906 г. (Взыскующие Града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках ‹…› / Сост., подготовка текста, вступ. статья и комментарии В. И. Кейдана. М., 1997. С. 95).
(обратно)1175
В письме из Алушты от 18 июня – 28 июля 1905 г. Сизов замечает: «Интересует также судьба моей статьи для сборника Мережковских». Сборник, замышлявшийся в 1905 г., не состоялся (возможно, он трансформировался в том же году в замысел также неосуществленного еженедельника «Вестник Жизни»; см.: Колеров М. А. Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996. С. 169–170).
(обратно)1176
Николай Иванович Сизов (1886–1962) – брат М. И. Сизова; музыкант, композитор.
(обратно)1177
Лев Львович Кобылинский (псевдоним – Эллис) – с 1907 г. ближайший сотрудник «Весов».
(обратно)1178
Подразумевается легендарный эпизод из жизни Александра Македонского – рассечение Гордиева узла; пересказан Плутархом в «Сравнительных жизнеописаниях» («Александр», XVIII).
(обратно)1179
В прошении о переходе в Петербургский университет от 13 июля 1907 г. Сизов указал причину: «… в последнем имеется кафедра физиологии животных, которую я избрал своей специальностью, в то время как в Московском университете этой кафедры нет» (ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 317. Д. 102. Л. 6).
(обратно)1180
См.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 308–309.
(обратно)1181
Цитата из части 2-й (главка «Верхом на воздухе») «Кубка метелей». См.: Белый Андрей. Симфонии. Л., 1991. С. 325.
(обратно)1182
Подразумевается скандальный инцидент с участием Белого в Московском Литературно-Художественном кружке 27 января 1909 г. в ходе прений после лекции Вяч. Иванова. В село Бобровка Тверской губ. Белый выехал вместе с А. С. Петровским 20 февраля.
(обратно)1183
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику. Л. 48.
(обратно)1184
Белый Андрей. Между двух революций. М., 1990. С. 334.
(обратно)1185
В архиве «Мусагета» сохранился беловой автограф этого перевода с правкой Сизова и редактора перевода – А. С. Петровского (имя редактора в издании не указано), пространный фрагмент текста (лл. 61 а – г) записан рукой Петровского (РГБ. Ф. 190. Карт. 17. Ед. хр. 1).
(обратно)1186
Седлов М. Цезарь Ломброзо и спиритизм: Исторический и критический очерк. М.: Мусагет, 1913. С. 58, 60.
(обратно)1187
См.: Там же. С. 51.
(обратно)1188
Белый Андрей. О Блоке. С. 357.
(обратно)1189
Майдель Рената фон. «Спешу спокойно…»: К истории оккультных увлечений Эллиса // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 227.
(обратно)1190
Малмстад Джон. Андрей Белый в поисках Рудольфа Штейнера: Письма Андрея Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 118.
(обратно)1191
Имеется в виду, возможно, «символическая драма для интимного театра» Эллиса «Канатный плясун», опубликованная нами по автографу, хранящемуся в архиве Э. К. Метнера, в кн.: Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 350–370, – однако имеются свидетельства, позволяющие датировать это произведение 1909 г.
(обратно)1192
В Гельсингфорс Р. Штейнер приехал лишь в 1912 г., 3 – 14 апреля он прочитал там курс из 10 лекций «Духовные существа в небесных телах и царствах природы».
(обратно)1193
Семен Яковлевич Рубанович (1888–1932?) – поэт, переводчик.
(обратно)1194
Нина Павловна Боброва – сестра поэта, прозаика, стиховеда и критика, члена кружка «Молодой Мусагет» Сергея Павловича Боброва (1889–1971).
(обратно)1195
Семья Анны Михайловны Метнер (урожд. Братенши; 1877–1965), жены Э. К. Метнера, а затем Н. К. Метнера: ее отец – Михаил Матвеевич Братенши (? – 1930), зубной врач, мать – Александра Всеволодовна (урожд. Фильштинская; 1855–1937), брат – Александр Михайлович Братенши (1880–1940), юрист.
(обратно)1196
Из семейства Метнеров далее упоминаются: Карл Петрович Метнер (1846–1921) – один из директоров акционерной компании «Московская кружевная фабрика»; его сыновья – Николай Карлович Метнер (1879/80 – 1951), композитор и пианист; Эмилий Карлович Метнер (псевдоним – Вольфинг; 1872–1936), литератор, музыкальный критик, философ, основатель и редактор издательства «Мусагет».
(обратно)1197
Вера Карловна Тарасова (урожд. Метнер; 1897–1986) – впоследствии преподаватель немецкого языка.
(обратно)1198
Н. А. Тургенева (в замужестве Поццо; 1886–1942) – сестра А. А. Тургеневой (гражданской жены Андрея Белого в 1911 г.), впоследствии участница антропософского движения.
(обратно)1199
Подразумевается упомянутый выше стихотворный альманах «Антология» (М.: Мусагет, 1911).
(обратно)1200
См.: Безродный М. В. Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) // Лица. Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 372–407.
(обратно)1201
«Путь» – основанное в Москве в 1910 г. религиозно-философское издательство, субсидировавшееся М. К. Морозовой. См.: Голлербах Евгений. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000.
(обратно)1202
Гавриил Осипович (Иосифович) Гордон (1885–1942) – сотрудник журнала «Логос»; философ-неокантианец, историк философии, педагог. См. о нем: Дмитриева Нина. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М., 2007. С. 314–326.
(обратно)1203
Вероятно, имеется в виду первая книга Джованни Папини (1881–1956) «Сумерки философов» («Il crepusculo dei filosofi», 1906).
(обратно)1204
Г. А. Рачинский находился в Риге на лечении в клинике нервных болезней доктора Э. Э. Соколовского. 18 января 1911 г. А. С. Петровский писал Белому из Москвы: «У нас тут несколько расхворался Гр<игорий> Ал<ексеевич> и даже принужден был ехать лечиться в Ригу. Тревожиться за него особенно не надо: перевозбужденность на почве неврастении, но далеко не такая сильная, как в прошлый раз четыре года тому назад, нервные дерганья и т. д. Все же грустно. Я проводил его и на обратном пути заезжал в Петербург, навестил Вяч<еслава> Ив<ановича>» (Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка. 1902–1932. С. 131–132).
(обратно)1205
В «Мусагете» была издана лишь одна книга Г. А. Рачинского – брошюра «Японская поэзия» (М., 1914).
(обратно)1206
М. К. Морозова (урожд. Мамонтова; 1873–1958) – вдова промышленника и мецената М. А. Морозова, учредительница ряда благотворительных и культурных начинаний в Москве начала XX века. См.: Лавров А. В., Малмстад Джон. «Прекрасная Дама» Андрея Белого // «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 3 – 32.
(обратно)1207
В данном случае мог подразумеваться не только роман Андрея Белого «Серебряный голубь» (М.: Скорпион, 1910), но и задуманное Белым его продолжение, которое он в 1910–1911 гг. обычно называл «Голубем» (этот замысел реализовался в романе «Петербург»).
(обратно)1208
Ср. признание Белого в письме к М. К. Морозовой из Туниса (5/18 января 1911 г., Радес): «Милая, близкая: я счастлив, хорошо» («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 158). В ответном письме от 14/27 января Морозова откликнулась на эти слова: «Счастлива тем, что Вы так радостны и счастливы» (Там же. С. 159).
(обратно)1209
См. письмо Н. А. Бердяева к Белому из Троицко-Сергиевского Посада от 26 декабря 1910 г. (Н. А. Бердяев. Письма Андрею Белому / Предисловие, публикация и примечания А. Г. Бойчука // De visu. 1993. № 2 (3). С. 18).
(обратно)1210
См. письмо С. Н. Булгакова к Белому от 13–17 декабря 1910 г. (Новый мир. 1989. № 10. С. 238–239. Публикация и комментарии И. Б. Роднянской).
(обратно)1211
Подразумевается идея противостояния христиан-европейцев маврам-мусульманам, лежащая в основе старофранцузского эпоса «Песнь о Роланде» (XII в.); центральный ее эпизод – битва арьергарда французских войск во главе с Роландом, вассалом Карла Великого, с несметными полчищами сарацин в Ронсевальском ущелье.
(обратно)1212
Восторженные впечатления от оперы Жоржа Бизе «Кармен» (1875) Ф. Ницше изложил в «туринском письме» «Казус Вагнер» («Der Fall Wagner», 1888). См.: Ницше Фридрих. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 528–530.
(обратно)1213
В марте 1911 г. в издательстве «Путь» вышли в свет две книги Владимира Соловьева, переведенные с французского Г. А. Рачинским, – «Россия и вселенская церковь» и «Русская идея», ранее запрещенные в России из-за утверждавшихся в них установок на объединение церквей и толерантного отношения автора к католицизму.
(обратно)1214
Сережа – С. М. Соловьев. 16 февраля 1911 г. С. П. Бобров писал Белому: «В прошлую среду в “Мусагете” Сергей Соловьев читал статью о Дельвиге. Статья оказалась очень маленькой и достаточно поверхностной. ‹…› После лекции Иванов говорил с Сергеем Михайловичем и совершенно уничтожил его (это не было прениями)» (Лица. Биографический альманах. Вып. 1. С. 158. Публикация К. Ю. Постоутенко).
(обратно)1215
«Stigmata. Книга стихов» Эллиса была издана «Мусагетом» в феврале 1911 г., обложка – работы А. А. Тургеневой.
(обратно)1216
«В Университете забастовки сплошные», – сообщал А. С. Петровский Белому в упомянутом письме (29 января 1911 г.), однако перечня профессоров, подавших в отставку в знак протеста против исключения несколько тысяч студентов, не прилагал. См.: Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка. 1902–1932. С. 135, 138 (комментарии Дж. Малмстада).
(обратно)1217
Стихотворение «Stabat Mater Dolorosa» из книги Эллиса «Stigmata». См.: Эллис. Стихотворения. Томск, 1996. С. 96–97.
(обратно)1218
Владимир Оттонович Нилендер (1883–1965) – филолог-классик, переводчик, поэт; входил в круг литераторов «Мусагета».
(обратно)1219
Софья Владимировна Гиацинтова (1895–1982) – дочь профессора Московского университета В. Е. Гиацинтова, впоследствии известная драматическая актриса. С. М. Соловьев был тогда в нее влюблен. См.: Гиацинтова С. С памятью наедине. М., 1985. С. 443–463.
(обратно)1220
Ранее с чтением этого реферата А. Блок выступил на вечере в память Вл. Соловьева в зале Тенишевского училища 14 декабря 1910 г. и на заседании Петербургского Религиозно-философского общества 19 января 1911 г. «Рыцарь-монах» впервые опубликован в «Сборнике первом. О Владимире Соловьеве» (М.: Путь, 1911. С. 96 – 103). См.: Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 136–142, 427–430 (комментарии Д. М. Магомедовой).
(обратно)1221
Прочитанная на заседании в Москве речь Н. А. Бердяева «Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева» была опубликована в «Сборнике первом. О Владимире Соловьеве». В «Краткой повести об антихристе», входящей в «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900) Вл. Соловьева, старец Иоанн – вождь православных, Петр – католический папа.
(обратно)1222
Фрагмент о Блоке и Бердяеве из этого письма опубликован в кн.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 379. О чтении доклада Блока, речи Бердяева и отзывах о ней католических священников Сизов написал также Г. А. Рачинскому 17 февраля 1911 г. (см.: Там же. С. 381).
(обратно)1223
Имеется в виду второй судебный процесс над В. Ф. Эрном и издателем И. Д. Сытиным по обвинению в издании антиправительственных брошюр, состоявшийся 11 февраля 1911 г. В ходе разбирательства обвиняемые были оправданы. См. письмо Эрна к Е. Д. Эрн от 12 февраля 1911 г. (Взыскующие Града. С. 339–340).
(обратно)1224
Поэт Валериан Валерианович Бородаевский (1874 или 1875–1932) и сестры Герцык – поэтесса и критик Аделаида Казимировна (в замужестве Жуковская; 1874–1925), критик и переводчица Евгения Казимировна (1878–1944).
(обратно)1225
Меблированные комнаты «Дон», место жительства Эллиса в Москве.
(обратно)1226
Подразумевается Лидия Александровна Тамбурер (урожд. Гаврина; 1870–1931), зубной врач, друг семьи Цветаевых, познакомившая с нею Эллиса. 19 декабря 1910 г. А. С. Петровский извещал Белого: «У Льва были скандалы с Лид<ией> А<лександровной>, но как будто приходят к концу» (Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка. 1902–1932. С. 117). 19 января 1911 г. Сизов писал Белому: «Лев помирился с Т. и ее мужем и возлагает даже на него надежды в смысле “наштейнеризования”. Он очень счастлив этим, послал им обоим недавно цветы».
(обратно)1227
В отчете о теософских кружках в Москве за 1911 г. Эллис сообщал, что он устроил в декабре 1910 г. «негласный специальный курс по теософии, куда записались 5 самых способных и ценных слушателей» – А. Сидоров, С. Дурылин, С. Шенрок, А. Ларионов, М. А. Петровский (Майдель Рената фон. «Спешу спокойно…»: К истории оккультных увлечений Эллиса. С. 230–231. Там же в комментариях автора – фрагменты из приводимых писем Сизова к Белому).
(обратно)1228
Л. А. Тамбурер.
(обратно)1229
В это время Нилендер поселился вместе с Эллисом в меблированных комнатах «Дон». Белый вспоминает: «Появление В. О. Нилендера в “Дону” – революция быта жизни; Нилендер заставил Эллиса мыться; завел гребенку ему, урегулировал финансы; Эллис приходил в умиление: – “Владимир Оттоныч – обмыл, напоил, накормил!”» (Белый Андрей. Начало века. С. 63).
(обратно)1230
«Рыжий» и «феоретик оргиазма» – Вяч. Иванов; им была написана программная статья «Орфей» (Труды и Дни. 1912. № 1. Январь – февраль. С. 60–63), обосновывающая задачи «Орфея» – издательской серии «Мусагета», посвященной религиозно-мистической проблематике.
(обратно)1231
Александр Мелетьевич Кожебаткин (1884–1942) – секретарь издательства «Мусагет» (до 1912 г.) и владелец издательства «Альциона», библиофил.
(обратно)1232
Библиотеку Вл. Соловьева после смерти философа унаследовал его младший брат М. С. Соловьев, после его смерти в 1903 г. она перешла во владение к Сергею Соловьеву.
(обратно)1233
Обыгрывается образ шагающего по московским крышам Вл. Соловьева из «Симфонии (2-й, драматической)» Андрея Белого (часть вторая): «9. Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом. 10. Многие слышали звук рога, но не знали, что это означало» (Белый Андрей. Симфонии. С. 135).
(обратно)1234
Имеется в виду рукопись книги: Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения / Перевод со средне-верхне-немецкого и вступ. статья М. В. Сабашниковой. М.: Мусагет, 1912. Она вышла в свет в середине апреля 1912 г.
(обратно)1235
Андрей Белый и антропософия / Публикация Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 433. См. также с. 498–515 наст. изд.
(обратно)1236
РГБ. Ф. 167. Карт. 14. Ед. хр. 41.
(обратно)1237
См.: Спивак Моника. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 74–91.
(обратно)1238
Белый Андрей. Ракурс к Дневнику. Л. 100.
(обратно)1239
См.: Розенкрейцеры в советской России: Документы 1922–1937 гг. / Публикация, вступ. статьи, комментарии, указатель А. Л. Никитина. М., 2004. С. 229–230.
(обратно)1240
См.: Спивак Моника. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 378–379.
(обратно)1241
Розенкрейцеры в советской России. С. 229.
(обратно)1242
Белый Андрей. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 15.
(обратно)1243
Под общим заглавием «Путевые заметки» они публиковались в петербургской газете «Речь» в 1911 г. («Венеция» – 25 января, «От Венеции до Палермо» – 2 февраля, «Палермо» – 13 февраля, «Пестрый сфинкс» – 5 июня, «Смех и слезы» – 3 июля, «Радуга Монреаля» – 24 июля).
(обратно)1244
Очерк «Тунис» был напечатан в «Речи» 29 сентября 1911 г. и в газете «Современное слово» в тот же день, очерк «Арабы (Из писем с дороги)» – в газете «Утро России» 5 апреля 1911 г., «Египет» – в журнале «Современник» (1912, № 5–7), «Дервиш (Из путевых заметок)» – в кн.: Велес. 1-й альманах русских и инославянских писателей. Пг., 1912–1913. С. 85 – 103.
(обратно)1245
См.: Белый Андрей. Офейра. Путевые заметки, ч. I. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1921; Белый Андрей. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.; Берлин: Геликон, 1922.
(обратно)1246
Опубликован С. Ворониным («“Африканский дневник” Андрея Белого») со вступительной статьей Н. Котрелева («Злосчастная судьба счастливой книги. К истории путевых записок Андрея Белого») в кн.: Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. <Вып.> I. М., 1991. С. 327–454.
(обратно)1247
См.: Восток – Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 143–177.
(обратно)1248
См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка / Редакция, вступ. статья и комментарии В. Н. Орлова. М., 1940. С. 243–256; Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919 / Публикация, предисловия и комментарии А. В. Лаврова. М., 2001. С. 380–399; «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901–1928 / Предисловие, публикация и примечания А. В. Лаврова и Джона Малмстада. М., 2006. С. 157–167; «Кожебак!.. Да ведь это хуже, чем гусак!!!» Письма Андрея Белого к А. М. Кожебаткину / Предисловие, публикация и комментарии Джона Малмстада // Лица. Биографический альманах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 149–168; Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка. 1902–1932 / Вступ. статья, составление, комментарии и подготовка текста Джона Малмстада. М., 2007. С. 116–180; «Люблю Тебя нежно…» Письма Андрея Белого к матери. 1899–1922 / Составление, предисловие, вступ. статья, подготовка текста и комментарии С. Д. Воронина. М., 2013. С. 111–143. Письма Белого к Э. К. Метнеру и Эллису, отправленные в декабре 1910 г. из Италии, вошли в публикацию: Нефедьев Георгий. Итальянские письма Андрея Белого: ракурс к «посвящению» // Русско-итальянский архив II / Составители Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Салерно, 2002. С. 115–139.
(обратно)1249
Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 38.
(обратно)1250
См.: Николай Петрович Киселев. Биобиблиографический указатель / Сост. О. А. Грачева, К. П. Сокольская. М., 1984.
(обратно)1251
См. подробный биографический очерк о Киселеве: Серков А. И. Предисловие // Киселев Н. П. Из истории русского розенкрейцерства / Сост., подготовка текста и комментарии М. В. Рейзина, А. И. Серкова. СПб., 2005. С. 5 – 78.
(обратно)1252
Серков А. И. Предисловие. С. 75.
(обратно)1253
Белый Андрей. О Блоке. С. 331.
(обратно)1254
См.: Там же. С. 359. Ср. признание Белого в письме к Н. П. Киселеву от 22 января 1910 г.: «Вы мне стали близки очень – этим летом ‹…›».
(обратно)1255
Первая жена Киселева – норвежка Кристина (Христина Лаврентьевна) Киселева (урожд. Вестрем, в первом браке Кристенсен; 1872–1942).
(обратно)1256
Имеется в виду письмо Н. А. Бердяева, отправленное из Троицко-Сергиевского Посада 26 декабря (ст. ст.) 1910 г.: «А как Вам? Чувствую, что радостно. ‹…› Очень для меня ценно знакомство с Н. П. Киселевым. Благодарю Вас, что Вы устроили это знакомство» (Н. А. Бердяев. Письма Андрею Белому / Предисловие, публикация и примечания А. Г. Бойчука // De visu. 1993. № 2 (3). С. 18).
(обратно)1257
В деревне Радес Белый и А. Тургенева поселились 2/15 января 1911 г.
(обратно)1258
Владелец московского издательства «Альциона» Александр Мелетьевич Кожебаткин (1884–1942) исполнял в это время секретарские обязанности в «Мусагете» и ведал в нем денежными расчетами. 4 января (н. ст.) 1911 г. Белый отправил Кожебаткину просьбу выслать ему 300 руб., в тот же день – две открытки ему же, в каждой – просьба выслать 150 руб. См.: Лица. Биографический альманах. Вып. 10. С. 155–156.
(обратно)1259
В Волынской губернии близ Луцка располагалось имение Боголюбы, принадлежавшее В. К. Кампиони, отчиму А. А. Тургеневой. Ранее Белый провел там несколько недель летом 1910 г. В 1911 г. он и А. Тургенева приехали в Боголюбы 25 апреля (ст. ст.).
(обратно)1260
Теодор Рузвельт (1858–1919) – 26-й президент Северо-Американских Соединенных Штатов (1901–1909) от Республиканской партии.
(обратно)1261
См.: Фрумкина Н. А., Флейшман Л. С. А. А. Блок между «Мусагетом» и «Сирином» (Письма к Э. К. Метнеру) // Блоковский сборник. II. Тарту, 1972. С. 385–397; Лавров А. В. «Труды и Дни» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 191–211; Толстых Г. А. Издательство «Мусагет» // Книга. Исследования и материалы. Сб. LVI. М., 1988. С. 112–133; Безродный М. В. Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) // Лица. Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 372–407; Безродный М. В. Издательство «Мусагет»: групповой портрет на фоне модернизма // Русская литература. 1998. № 2. С. 119–131; Неизданная переписка А. Блока и Э. К. Метнера / Публикация, предисловие и комментарии А. В. Лаврова // Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 195–223; Безродный Михаил. Из истории русского германофильства: издательство «Мусагет» // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 год. М., 1999. С. 157–198; Юнггрен Магнус. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 42–74; Безродный М. В. Издательство «Мусагет» // Книжное дело в России в XIX – начале XX века. Сб. научных трудов. Вып. 12. СПб., 2004. С. 40–56. Материалы конференции по «Мусагету», проведенной в РГГУ в 2009 г., опубликованы в сб.: Книгоиздательство «Мусагет». История. Мифы. Результаты: Исследования и материалы / Сост. Анна Резниченко. М., 2014.
(обратно)1262
РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 4.
(обратно)1263
На деле первым «мусагетским» изданием, по причине задержки с выходом в свет «Символизма», стала книга стихотворений Сергея Соловьева «Апрель», изданная в конце февраля – начале марта 1910 г. См.: Толстых Г. А. Издательство «Мусагет». С. 118.
(обратно)1264
Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994. Т. I. C. 53.
(обратно)1265
Фраза зачеркнута карандашом
(обратно)1266
Фамилия вычеркнута карандашом
(обратно)1267
Исправлено карандашом: религии
(обратно)1268
Так в автографе. Кого Белый имел в виду, неясно
(обратно)1269
Было: мировоззрении // Примечание (карандашом): Ницше, Вагнер, Ницше
(обратно)1270
Было: трехъярусный
(обратно)1271
Было: Наоборот
(обратно)1272
Зачеркнуто карандашом
(обратно)1273
Зачеркнутая начальная фраза: Для всякого непредубежденного читателя, который ограничится только самым беглым знакомством с изданиями «Мусагета», при простом даже обзоре перечня изданных и предположенных к изданию книг неизбежно становится ясным, что в основе группировки и выбора материала «Мусагет» руководствуется не случайным сочетанием элементов, не даже частичным служением общекультурным целям в условно установленном смысле слова, а чем-то иным.
(обратно)1274
См.: Виллих Х. Эллис и Штейнер // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 182–191; Виллих Х. Л. Л. Кобылинский-Эллис и антропософское учение Рудольфа Штейнера (К постановке проблемы) // Серебряный век русской литературы: Проблемы, документы. М., 1996. С. 134–146; Willich Heide. Lev L. Kobylinskij-Ėllis: Vom Symbolismus zur ars acra. Eine Studie über Leben und Werk. München: Verlag Otto Sagner, 1996. S. 118–134 (Slavistische Beiträge. Bd. 341); Rizzi Daniela. Эллис и Штейнер // Europa Orientalis. 1995. Vol. 14. № 2. С. 281–294; Rizzi Daniela. Из архива Н. А. Тургеневой: Письма Эллиса, А. Белого и А. А. Тургеневой // Там же. С. 295–340; Нефедьев Г. В. Русский символизм: от спиритизма к антропософии. Два документа к биографии Эллиса // Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 119–140; Майдель Рената фон. «Спешу спокойно…»: К истории оккультных увлечений Эллиса // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 214–239; Maydell Renata von. Vor dem Thore. Ein Vierteljahrhundert Anthroposophie in Russland. Bochum; Freiburg: Projekt Verlag, 2005. S. 103–112 (Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur. Bd. 29).
(обратно)1275
РГБ. Ф. 25. Карт. 22. Ед. хр. 26. См. 474 наст. изд.
(обратно)1276
Запись в «Материале к биографии» Андрея Белого, характеризующая сентябрь 1913 г. (Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. Paris, 1988. C. 355).
(обратно)1277
Там же. С. 351. Упоминается голландка Иоганна Польман Мой (Polman Mooy) или ван дер Мойлен (псевдоним – Intermediarius; 1874–1953), теософка и ученица Штейнера, создательница собственного эзотерического учения; спутница жизни Эллиса с 1912 г.
(обратно)1278
Там же. Ср. сообщение в письме Эллиса к Э. К. Метнеру (Капри, 12/25 апреля 1913 г.): «Переписываюсь с Белым, стараюсь умерить его пыл теософский, веря, что скоро и он переживет подобный моему кризис и вернется к осторожности и умеренности» (РГБ. Ф. 167. Карт. 8. Ед. хр. 6).
(обратно)1279
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. С. 354. В собрании Н. В. Котрелева (Москва) хранится книга, отправленная Эллисом А. А. Сидорову (по адресу «Мусагета») 14 октября н. ст. 1913 г. из Дегерлоха – немецкий перевод трактата Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (Thomas von Kempis. Vier Bücher von der Nachfolge Christi. Stuttgart, s. a.) c автографами Эллиса – на 2-й странице обложки: «В день и час выхода моего из “Антропософич<еского> общества”. Эллис»; на форзаце: «Бесконечно и всегда милому другу и брату Алексею Алексеевичу Сидорову во Имя Иисуса-Христа, Сына Божия, Единственного Учителя от Эллиса. // “Аз есмь Путь и Истина и Жизнь!” // “Я Один у вас Учитель, все же вы братья!”»
(обратно)1280
Письмо Эллиса к Б. П. Григорову от 13/26 июля 1913 г. // РГБ. Ф. 636. Карт. 1. Ед. хр. 31.
(обратно)1281
РГБ. Ф. 167. Карт. 8. Ед. хр. 14.
(обратно)1282
Там же. Ед. хр. 17.
(обратно)1283
РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 24.
(обратно)1284
А. А. Тургенева, описывая тот же эпизод, сообщает о тетрадях с записями штейнеровских лекций и бесед: «Эллис швырнул их нам через приоткрытую дверь» (Тургенева Ася. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. <М.>, 2002. С. 57).
(обратно)1285
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. С. 357. Исправлено по автографу. Мария Яковлевна фон Сиверс (1867–1948) – деятельница антропософского движения, секретарь, затем жена Р. Штейнера. Другая, более краткая версия событий – в «Ракурсе к Дневнику» Андрея Белого (записи об октябре 1913 г.): // «…проезд Анненковой; узнание о выходе книги Эллиса против Штейнера. Разговор с М. Я. Штейнер о том, что надо изъять у Эллиса ряд замечаний доктора; мы с Асей решаемся ехать в Штутгарт: объясниться; ряд решительных писем в Москву; и мой выход из Мусагета. // Штутгарт. Решительное объяснение с Поольман и отобрание курсов у Эллиса. // Берлин. Передача отобранного Сиверс» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 64 об.).
(обратно)1286
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 9. Этому письму предшествовала телеграмма Белого, отправленная в «Мусагет» 6/19 октября: «Книгу Эллиса не выпускать до письма – Бугаев» (РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 17), через день (8/21 октября) последовала еще одна телеграмма: «Задержка книги Эллиса для меня вопрос чести требую задержать – Бугаев» (Там же. Ед. хр. 19). Текст обеих телеграмм записан латинскими литерами.
(обратно)1287
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 8. Весь текст телеграммы записан латинскими литерами. О ситуации, предшествовавшей ее составлению, Белый рассказал в письме к Э. К. Метнеру от 1/14 ноября 1913 г., излагая содержание своего разговора в Штутгарте с И. Польман-Мой: «Инициатива, что бы он <Эллис. – Ред.> вернул А<нтропософскому> О<бществу> тетрадки с пометками доктора Штейнера – моя личная инициатива; требование задержать печатание брошюры исходило от меня же. ‹…› Все это было мною высказано г-же Пульман в присутствии свидетелей г-на Пульмана и моей жены. Было высказано и то, что я прошу его выйти не для теоретических разговоров или пререканий, а для ознакомления с историей отсылки им брошюры; но он спрятался; тогда я выдвинул, что понимаю его уклонение от 5-минутного разговора как жалкий страх, и предупредил, что если он не выйдет, то я развязываю себе руки называть его лишенным чести перед всеми. Он – не вышел, но под телеграммой, составленной мною в “Мусагет”, беспрекословно подписался ‹…›» (РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 20).
(обратно)1288
РГБ. Ф. 167. Карт. 8. Ед. хр. 19. О вероятной причастности Сиверс к развитию инцидента см.: Спивак Моника. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 72–74.
(обратно)1289
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 18. См. также изложение этого конфликта с многочисленными цитатными фрагментами из писем в кн.: Maydell Renata von. Vor dem Thore. S. 126–135.
(обратно)1290
РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 30.
(обратно)1291
Стою на этом: иначе не могу; Боже, помоги мне (нем.); слова М. Лютера на Вормсском рейхстаге (18 апреля 1521 г.), которыми он заключил ответ на вопрос, признает он свои сочинения или отказывается от них как от еретических.
(обратно)1292
РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 25.
(обратно)1293
Под «баллотировкой» подразумевается решение редакционного комитета издательства «Мусагет» относительно издания книги, принимаемое путем голосования.
(обратно)1294
РГБ. Ф. 167. Карт. 8. Ед. хр. 20. Свою убежденность в том, что возникший конфликт обусловлен некой «антропософской интригой», Эллис выражал и в недатированном письме к С. Н. Дурылину: «…в официальном заявлении о выходе из “А<нтропософского> общества” я назвал себя “сыном видимой Церкви”, что вызвало организованное гонение на меня и шпионаж, в рез<ультате> которого антропософы через Белого (который, между нами, невменяем) наложили секвестр на мою ‹…› брошюру “Vigilemus”» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 928).
(обратно)1295
РГБ. Ф. 636. Карт. 1. Ед. хр. 31.
(обратно)1296
РГБ. Ф. 190. Карт. 36. Ед. хр. 4.
(обратно)1297
РГБ. Ф. 636. Карт. 1. Ед. хр. 31.
(обратно)1298
См.: Эллис. Vigilemus! Трактат. М.: Мусагет, 1914. С. 41.
(обратно)1299
Там же. С. 5.
(обратно)1300
Там же. С. 8.
(обратно)1301
Там же. С. 48.
(обратно)1302
См.: Там же. С. 31, 45, 19, 24.
(обратно)1303
См.: Там же. С. 30–31.
(обратно)1304
Там же. С. 36.
(обратно)1305
Там же. С. 9.
(обратно)1306
Там же. С. 42.
(обратно)1307
РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 25.
(обратно)1308
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 10.
(обратно)1309
РГБ. Ф. 167. Карт. 8. Ед. хр. 21.
(обратно)1310
Там же. Ед. хр. 22.
(обратно)1311
РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 27.
(обратно)1312
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 11.
(обратно)1313
Там же. Л. 10–11.
(обратно)1314
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 11. Л. 12–13.
(обратно)1315
Эллис в ряду «недосягаемых памятников религиозного вдохновения» упоминает «рыцарскую молитву св. Игнатия Лойолы» (Эллис. Vigilemus! С. 18).
(обратно)1316
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 11. Л. 20–21.
(обратно)1317
Там же. Л. 21–22.
(обратно)1318
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 958. Ср. итоговую интерпретацию конфликта в недатированном письме Белого к матери: «…эллисовский пасквиль на антропософию Мусагет печатал тайно от нас, и когда мы обнаружили весь этот поступок, то они пришли в негодование на то, что мы, члены ред<акции> Мусагета и одновременно антропософы, требуем, чтобы брошюра Эллиса не была напечатана. Они отказали. Нам пришлось уйти из Мусагета. Но хорош Мусагет: Рачинский и Метнер, можно сказать, выгнали из Мусагета меня, Петровского, Сизова. А я столько лет (4 года) портил кровь, отдавал свои нервы и силы Мусагету. ‹…› Ведь пришлось не только уйти из Мусагета, но и в сущности покончить с целым рядом друзей: с Эллисом, Метнером, Киселевым, Рачинским ‹…›» («Люблю Тебя нежно…» Письма Андрея Белого к матери. 1899–1922 / Составление, предисловие, вступ. статья, подготовка текста и комментарии С. Д. Воронина. М., 2013. С. 190–191).
(обратно)1319
Цит. по кн.: Maydell Renata von. Vor dem Thore. S. 135.
(обратно)1320
РГБ. Ф. 128.
(обратно)1321
Впервые опубликована Г. В. Нефедьевым в кн.: Эллис. Неизданное и несобранное. Томск, 2000. С. 324–346.
(обратно)1322
См.: Голубева О. Д. Книгоиздательство «Парус» (1915–1918) // Книга. Исследования и материалы. Вып. 12. М., 1966. С. 160–193.
(обратно)1323
См.: Ильинский А. Горький и Брюсов. Из истории личных отношений // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 650.
(обратно)1324
См. комментарии Г. Н. Ковалевой в кн.: Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2004. Т. 11. С. 441; М., 2006. Т. 12. С. 305.
(обратно)1325
Еврейская Антология. Сборник молодой еврейской поэзии под редакцией В. Ф. Ходасевича и Л. Б. Яффе. Предисловие М. О. Гершензона. М.: Сафрут, <1918>. С. XIII, XII.
(обратно)1326
См.: У рек Вавилонских. Национально-еврейская лирика в мировой поэзии. Составил Л. Б. Яффе. М.: Сафрут, 1917.
(обратно)1327
См.: Kling Simcha. Leib Iaffe. Poeta y lider. Versión castellana de Florinda F. de Goldberg. Buenos Aires, 1973.
(обратно)1328
См.: Список участников Первого сионистского конгресса в Базеле (1, 2, 3-го Элула 5657 г. – 29, 30, 31-го августа, н. с. 1897 г.) // Сборники «Сафрут» под редакцией Л. Яффе. К двадцатилетию Первого сионистского конгресса в Базеле. Кн. II. М.: Сафрут, 1918. С. 198.
(обратно)1329
Яффе Л. Грядущее. Стихотворения. Гродна, 1902. С. 1.
(обратно)1330
Там же. С. 9.
(обратно)1331
Там же. С. 22. Более поздние стихотворения Яффе собраны в его книге «Огни на высотах» (Рига: Изд. «Еврейского общества содействия искусству и нации в Латвии», 1938).
(обратно)1332
См.: Яффе Л. Записки Давидова дома. Исторические рассказы. (По Реккендорфу и Фридбергу). Варшава: Ахиасаф, 1897. Переиздание: Одесса: Juventus, 1913.
(обратно)1333
См.: Яффе Л. VII конгресс сионистов в Базеле 14–19 июля (27 июля – 2 авг.) 1905 г. Отчет. Одесса: Кадима, 1906.
(обратно)1334
Яффе Л. Б. Гора Ловчен. М.: Изд. И. В. Великовского, 1916. С. 3–4. Впервые: Еврейская Жизнь. 1916. № 5. 31 января. Стб. 12–16.
(обратно)1335
Яффе Л. Б. В эти дни // При свете войны. М.: Мерхавья, <1916>. С. 20.
(обратно)1336
См.: Л. Я. Пережитое // Еврейская Жизнь. 1915. № 13. 27 сентября; № 14. 4 октября; № 16. 18 октября; № 25/26. 20 декабря.
(обратно)1337
Яффе Л. Долг еврейства // Палестина в дни войны. Изд. 2-е, доп. и измененное. Пг.: Восток, 1916. С. 38, 40.
(обратно)1338
Яффе Л. Б. В час решения // Война и еврейская проблема. М.: Изд. Моск. Комитета Сион. Народной Фракции «Цеире-Цион», 1917. С. 50, 53.
(обратно)1339
Яффе Л. Б. На пути к будущему // Там же. С. 84, 85.
(обратно)1340
См.: Кельнер В. Е. Русско-еврейское книжное дело, 1890-е – 1947 гг. // Литература о евреях на русском языке, 1890–1947. Книги, брошюры, оттиски статей, органы периодической печати. Библиографический указатель. Составители В. Е. Кельнер, Д. А. Эльяшевич. СПб.: Академический проект, 1995. С. 86–87.
(обратно)1341
См.: Тименчик Роман, Копельман Зоя. Вячеслав Иванов и поэзия Х. Н. Бялика // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 102–115; Письма Вяч. Иванова к Лейбу Яффе // Там же. С. 116–118; Копельман З. Владислав Ходасевич – переводчик еврейских поэтов // Ходасевич Владислав. Из еврейских поэтов. Составление, вступ. статья и комментарии З. Копельман. М.; Иерусалим: Гешарим, 1998–5758. С. 13–29; Бернхардт Луис. В. Ф. Ходасевич и современная еврейская поэзия // Russian Literature. 1974. № 6. С. 21–32.
(обратно)1342
Л. Я. 1891–1916 // Еврейская Жизнь. 1916. № 14/15. 3 апреля. Стб. 3.
(обратно)1343
Письмо Горького к Л. Б. Яффе с уведомлением: «Спешу послать заметку о Бялике» – было опубликовано с датировкой: 13.XII.16 (Максим Горький. Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос. Иерусалим, 1986. С. 253), – между тем как номер «Еврейской Жизни» со статьей Горького «О Х. Н. Бялике» вышел в свет 3 апреля 1916 г. С той же датировкой и без объяснения казуса письмо перепечатано в кн.: Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. Т. 12. С. 91, 378 (примечания О. В. Быстровой).
(обратно)1344
В письме к Яффе от 10 марта 1916 г. Бунин отказался переводить стихи Бялика по причине незнания языка оригинала, но счел необходимым вместо переводов предложить «приветственную депешу» – т. е. упомянутое стихотворение (см.: Тименчик Роман, Копельман Зоя. Вячеслав Иванов и поэзия Х. Н. Бялика. С. 105, 113). Это оригинальное стихотворение Бунина впоследствии в изданиях его сочинений ошибочно помещалось в разделе переводов – как перевод из Бялика (см.: Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 8. С. 397–398; Бунин И. А. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 2006. Т. 7 (Переводы). С. 380). Надлежащим образом стихотворение опубликовано в кн.: Бунин Иван. Стихотворения. Т. 2 / Вступ. статья, составление, подготовка текста и примеч. Т. М. Двинятиной. СПб., 2014. С. 247, 479 («Новая Библиотека поэта»). Сохранились три письма Бунина к Яффе – от 10 и 23 марта и от 22 сентября 1916 г. (Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. М., 2007. С. 362–364, 374).
(обратно)1345
11 писем Яффе к Брюсову сохранились в архиве Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 110. Ед. хр. 35); далее приводятся или цитируются по этому источнику.
(обратно)1346
Вероятно, подразумевается краткий отзыв о книге Х. Н. Бялика «Песни и поэмы» (Авторизованный перевод с еврейского языка и введение Вл. Жаботинского. СПб., 1911) в составе обзорной статьи Брюсова «Новые сборники стихов» (Русская Мысль. 1911. № 7. Отд. III. С. 20–24): «… по переводам нельзя не почувствовать, что г. Бялик – поэт очень значительный, умеющий сочетать истинную художественность с тем, что у нас называют “гражданственностью в поэзии”. Поэзия г. Бялика, насыщенная воспоминаниями Библии, исполнена редкой в наши дни силы и своим “необщим выраженьем” резко выделяется из однообразного хора современных “певцов”» (Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 346).
(обратно)1347
Еврейская Жизнь. 1916. № 14/15. 3 апреля. Стб. 20.
(обратно)1348
Об этом свидетельствует письмо Вяч. Иванова к Яффе от 29 марта 1916 г., содержавшее аргументированные возражения против предложенных изменений в этом переводе: «Изменять что-либо – хотя бы и дружеской и умелой рукой – в стихах поэта столь знаменитого, как Ф. Сологуб, – дело весьма ответственное и деликатное; Федор Кузьмич бывает часто щепетилен, – пожалуй, обидится, и – прибавлю – не без основания. ‹…› Ведь смысл все же нимало не искажается при сохранении его текста. ‹…› Итак, пожалуйста, печатайте стихи без перемен» (Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 116).
(обратно)1349
См.: Еврейская Жизнь. 1916. № 14/15. 3 апреля. Стб. 24, 27. В пространном письме к Яффе от 29 марта 1916 г. Брюсов предлагает на выбор редактора различные варианты строк своего перевода этого стихотворения Бялика (см.: Мазовецкая Э. И. Поэзия на иврите в переводах русских писателей // Русская литература. 2003. № 2. С. 180–181). Перевод Брюсова был напечатан также в 3-м, дополненном издании литературного сборника «Щит» (под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба), подготовленного Русским обществом для изучения еврейской жизни (М., 1916. С. 40–42).
(обратно)1350
19 писем Яффе к Гершензону (часть из них цитируется или приводится ниже) сохранились в архиве Гершензона (РГБ. Ф. 746. Карт. 44. Ед. хр. 58).
(обратно)1351
Эта статья Гершензона была опубликована в газете «Еврейская Неделя» (1916. № 1. 3 января), вошла в коллективный сборник «При свете войны» (М.: Мерхавья, <1916>. С. 10–13), в котором напечатана также статья Яффе «В эти дни».
(обратно)1352
См.: Еврейская Жизнь. 1916. № 14/15. 3 апреля. Стб. 13–15.
(обратно)1353
Гершензон Михаил. Избранное. Т. 4. Тройственный образ совершенства. М.; Иерусалим, 2000. С. 487.
(обратно)1354
См. выше, примеч. 22. Судя по данному сообщению, сопроводительное письмо Горького, скорее всего, было отправлено из Петрограда 13 марта 1916 г.; в указании месяца (XII вместо III) – описка или опечатка в первой публикации.
(обратно)1355
Подразумевается неосуществленный «Сборник еврейской литературы», планировавшийся для издательства «Парус».
(обратно)1356
РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 80.
(обратно)1357
Вероятно, подразумеваются «Сборник латышской литературы» (Под ред. В. Брюсова и М. Горького. Пг.: Парус, 1916) и «Сборник финляндской литературы» (Под ред. В. Брюсова и М. Горького. Пг.: Парус, 1917). О подготовке этих изданий см.: Авдеева Ольга. Из истории подготовки сборника латышской литературы в издательстве «Парус» // Научные чтения. I. 30 мая 1998 г. К 125-летию со дня рождения Юргиса Балтрушайтиса. К 80-летию литовской дипломатии. М., 1999. С. 34–44; Соболев А. Л. К истории «Сборника финляндской литературы» // Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар (Летейская библиотека, II. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века). М., 2013. С. 112–131.
(обратно)1358
В «Сборнике финляндской литературы» (Пг.: Парус, 1917) в переводе Брюсова были опубликованы 18 стихотворений, принадлежавших перу 11 поэтов.
(обратно)1359
В письме от 27 ноября 1917 г., благодаря Яффе за присылку гонорара, Брюсов добавлял: «С удовольствием готов продолжить свои переводы, если могу быть Вам полезен. В наши дни переводить хорошие стихи – наслаждение, а не работа» (опубликовано в указанной выше статье Э. И. Мазовецкой: Русская литература. 2003. № 2. С. 181). См. также: Переводы В. Я. Брюсова в «Еврейской Антологии» / Вступ. заметка, публикация и примечания Н. П. Сейранян // Неизвестный Брюсов (публикации и републикации). Ереван, 2005. С. 312–329.
(обратно)1360
В архиве Федора Сологуба сохранилось 8 писем Яффе к нему (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 803). Ниже они приводятся по этому источнику.
(обратно)1361
Письмо Сологуба опубликовано Р. Тименчиком и З. Копельман (Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 116) по автографу, хранящемуся в Центральном архиве сионизма (Иерусалим). Повторно напечатано в составе указанной статьи Э. И. Мазовецкой (Русская литература. 2003. № 2. С. 177).
(обратно)1362
Нижняя половина листа с подписью оторвана.
(обратно)1363
В «Библиографии В. Я. Брюсова. 1884–1973» (Составитель Э. С. Даниелян. Ереван, 1976. С. 122) «Еврейская Антология» ошибочно указана среди изданий, вышедших в свет в 1916 г. (на титульном листе книги год издания не обозначен).
(обратно)1364
Сборники «Сафрут» / Под редакцией Л. Яффе. Кн. I. М.: Сафрут, 1918. С. 3. В 1918 г. вышли в свет также 2-й и 3-й сборники «Сафрут», причем 2-й, приуроченный к двадцатилетию Первого сионистского конгресса в Базеле, открывался статьей Яффе «1897–1917», прославлявшей достижения сионизма: «Еврейство внутренно преобразилось, оно снова вернуло себе утраченное народное достоинство», «свершилось и завершилось чудо возрождения еврейского языка» и т. д. (Сборники «Сафрут» под редакцией Л. Яффе. Кн. II. М.: Сафрут, 1918. С. 6, 7); в том же сборнике был помещен основанный на студенческих воспоминаниях очерк Яффе «Герман Шапиро» (С. 156–173) – о профессоре высшей математики в Гейдельбергском университете, публицисте и общественном деятеле. Позднее появился еще один литературно-художественный сборник «Сафрут» под редакцией Л. Яффе (Берлин: Изд-во С. Д. Зальцман, 1922), составленный в основном из материалов, ранее опубликованных в одноименных 1-м и 3-м московских сборниках.
(обратно)1365
См.: Марголин М. М. Основные течения в истории еврейского народа: Этюд по философии истории евреев. 2-е изд., испр. и доп. М.: Сафрут, 1917; Пасманик Д. С. Судьбы еврейского народа: Проблемы еврейской общественности. М.: Сафрут, 1917.
(обратно)1366
Имеется в виду антология «У рек Вавилонских» (см. выше, примеч. 5).
(обратно)1367
См.: Бялик Х. – Н. Рассказы. М.: Сафрут, 1918.
(обратно)1368
См.: Ахад-Гаам. Избранные сочинения. Т. 1. М.: Сафрут, 1919. Последнее из сохранившихся в архиве Брюсова писем Яффе к нему вызвано ситуацией с изданием этого сборника произведений видного публициста и мыслителя, идеолога «духовного сионизма» Ахад-Гаама (Ушера Исаевича Гинцберга; 1856–1927): // Вильна. 1-ая Песчаная, д. 7, кв. 6. 17 III 1919. // Многоуважаемый Валерий Яковлевич. // Позволяю себе обратиться к Вам с нижеследующей просьбой. Издательством «Сафрут», редактором которого я являюсь, предпринято издание избранных статей еврейского мыслителя Ахад-Гаама. Книга печатается в Петрограде. Цена книги была утверждена Вами, как членом коллегии Книжной Палаты, в 18 руб. Теперь мы получили сообщение из Петрограда, что типографские расходы повышены, согласно постановлению комиссариата труда в Петрограде, на 20 %. Нам приходится увеличить цену книги на 2 руб. Это повышение составит чистое повышение типографских расходов. Книга издана не с коммерческими целями. // Обращаюсь лично к Вам, потому что крайне необходимо ускорить утверждение новой цены книги. Каждое замедление в издании книги наносит нам большой ущерб. // Заранее искренно благодарен Вам за исполнение моей просьбы. // Я с семьей живем уже около полугода в Вильне. Попали сюда еще в полосу немецкой оккупации. Мечтали отдохнуть от московской жизни, но здесь теперь стало значительно тяжелее, чем было в Москве ко времени нашего отъезда. // Распорядился, чтобы Вам послали сборник «Сафрут», в котором помещено Ваше стихотворение «Библия». // Был бы Вам очень благодарен, если б Вы откликнулись на мое письмо. Буду в Москве, позволю себе посетить Вас. // Низкий поклон Иоганне Матвеевне. // С глубоким уважением преданный Вам // Л. Яффе. // В тексте упоминается жена Брюсова Иоанна (Жанна) Матвеевна (урожд. Рунт; 1876–1965). Стихотворение Брюсова «Библия» («О, книга книг! Кто не изведал…», 1918) было впервые опубликовано в кн. III сборников «Сафрут» (М., 1918. С. 152–153), перепечатано в берлинском сборнике «Сафрут» (С. 131–134).
(обратно)1369
Это издание библейской книги в переводе А. М. Эфроса не было осуществлено.
(обратно)1370
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 305. Ср. подтверждающую это фразу в письме Яффе к Брюсову от 27 ноября 1917 г.: «На днях Владислав Фелицианович занесет Вам еще несколько стихотворений для перевода». Подробнее о совместной работе над изданием см. в очерке Яффе «Владислав Ходасевич (Из моих воспоминаний)» (в переводе З. Копельман – в кн.: Ходасевич Владислав. Из еврейских поэтов. С. 15–19). См. также 4 письма Ходасевича к Яффе в указанной выше работе Э. И. Мазовецкой (Русская литература. 2003. № 2. С. 174–176).
(обратно)1371
ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 720.
(обратно)1372
Указание этого московского адреса Яффе в последующих письмах опускается.
(обратно)1373
11 декабря 1917 г. Сологуб отвечал Яффе: «Два стихотворения Каценельсона я получил. Одно из них перевел и посылаю Вам. Другое еще не смог одолеть. Оно очаровательно, и я буду рад, если мне удастся его перевести» (опубликовано Э. И. Мазовецкой: Русская литература. 2003. № 2. С. 178).
(обратно)1374
Речь идет о сологубовском переводе стихотворения Бялика «Я знал, в глухую ночь…», напечатанном в кн. I сборников «Сафрут» (С. 100). В цитированном ответном письме от 11 декабря Сологуб положительно откликнулся на просьбу Яффе. В «Еврейскую Антологию» этот перевод не вошел.
(обратно)1375
См.: Еврейская Антология. С. 54–55, 159.
(обратно)1376
См. четыре письма С. Я. Маршака к Яффе за 1917–1918 г., опубликованные Э. И. Мазовецкой (Русская литература. 2003. № 2. С. 182–185).
(обратно)1377
П. Н. Берков, впоследствии крупнейший филолог-русист, год спустя выпустил в свет собственную антологию: От Луццато до Бялика. Сборник еврейской национальной лирики / Пер. П. Беркова под ред. К. Бархина и Гр. Бродовского; предисловие К. Бархина. Одесса: Кинерет, 1919.
(обратно)1378
Яффе Л. Палестинские дни // Еврейство и Палестина. Палестинская неделя. 8 – 15 Сивана 5678 г. 19–26 мая 1918 г. М., 1918. С. 1.
(обратно)1379
О них он вкратце поведал в письме к Гершензону от 6 мая 1922 г.: «Во время занятия Вильны поляками и жестокого польского погрома вытащили меня с двумя товарищами из дому, обвинили в стрельбе из окна, одного из нас, писателя Вайтера, тут же расстреляли. Нас спасла случайность ‹…› ждали 6 дней расстрела. Не было надежды на спасение. Спасло нас чудо».
(обратно)1380
Струве Глеб. Александр Кондратьев по неизданным письмам // Annali. Sezione Slаva (Istituto Universitario Orientale). A cura di Leone Pacini Savoj e Nullo Minissi. XII. Napoli, 1969. P. 3 – 60. Далее указания на эту публикацию приводятся сокращенно: Струве.
(обратно)1381
См.: Письма А. А. Кондратьева к Блоку / Предисловие, публикация и комментарии Р. Д. Тименчика // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1. М., 1980. С. 552–562; А. Кондратьев. Письма к Амфитеатровым <1930–1932 гг.> / Публикация и подготовка текста В. Крейда // Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. Кн. 181. С. 139–172; Кн. 182. С. 106–130; 1994. Кн. 4. С. 145–167; А. А. Кондратьев. Письма Б. А. Садовскому / Публикация, подготовка текста С. В. Шумихина; предисловие и примечания Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина // De visu. 1994. № 1/2 (14). С. 3 – 39; Два письма А. А. Кондратьева к В. И. Иванову / Публикация Н. А. Богомолова // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 107–113 (то же – в кн.: Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 435–437).
(обратно)1382
См.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 47–48 (статья Р. Д. Тименчика).
(обратно)1383
Кондратьев Александр. Боги минувших времен / Вступ. статья В. П. Крейда. М.: Молодая гвардия, 2001; Кондратьев А. Сны. СПб.: Северо-Запад, 1993, 544 с. Сборнику предпослана статья Олега Седова «Мир прозы А. А. Кондратьева: мифология и демонология».
(обратно)1384
Топоров В. Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». (Eurasiatica. Vol. 16). Trento, Edizioni di Michael Yevzlin, 1990, 328 с. Далее указания на это издание приводятся сокращенно: Топоров. В библиографии А. А. Кондратьева, составленной Е. В. Глуховой (см.: Русская литература конца XIX – начала XX века. Библиографический указатель. Т. I (А – М). М., 2010. С. 754–758), дан перечень новейших статей о стихах и прозе писателя.
(обратно)1385
См. библиографический список публикаций, разысканных Р. Д. Тименчиком (Топоров. С. 239–240). О своей работе над литературными мемуарами Кондратьев извещал В. Я. Брюсова в письме от 17/30 мая 1919 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 90. Ед. хр. 11).
(обратно)1386
De visu. 1994. № 1/2 (14). С. 23.
(обратно)1387
Топоров. С. 190, 192.
(обратно)1388
Автобиографические сведения содержатся также в письме Кондратьева к Н. А. Энгельгардту от 29 декабря 1912 г. (Топоров. С. 229–230) и в его памятной записке о своей жизни, полученной Г. П. Струве от дочери покойного писателя (Струве. С. 4).
(обратно)1389
9 писем Кондратьева к П. В. Быкову, хранящиеся в РНБ, отражающие в основном работу автора по исследованию биографии А. К. Толстого, охарактеризованы и частично опубликованы В. Н. Топоровым (Топоров. С. 221–226); еще 4 письма Кондратьева к Быкову хранятся в Пушкинском Доме (ИРЛИ. Ф. 273. Oп. 1. Ед. хр. 284).
(обратно)1390
ИРЛИ. Ф. 273. Оп. 2. Ед. хр. 11.
(обратно)1391
Древнегреческая трагедия «Рес» в переводе И. Ф. Анненского (см.: Рес. Трагедия, приписываемая Еврипиду. Перевел с греческого стихами и снабдил предисловием Иннокентий Анненский. СПб., 1896) была представлена на гимназической сцене 31 января и 2 февраля 1896 г. Анненский охарактеризовал постановку в позднейшей заметке ««Рес» на гимназической сцене» (Гермес. 1909. № 10 (36), 15 мая. Стб. 367–369. Подпись: И. А.) и в письме к С. Н. Сыромятникову от 7 февраля 1896 г. (см.: Лавров А. В., Тименчик Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1981. Л., 1983. С. 136–137; Топоров. С. 10–11, 138–139). Ср. письмо Кондратьева к В. Я. Брюсову (Новый Симеиз, 2 февраля 1917 г.): «Порой, когда я сижу среди навороченных одна на другую кучею скал, мне вспоминаются покинувшие меня в разное время друзья. Высокий худой, изысканно-небрежный в отношении внешности, Иннокентий Анненский, так поощрявший когда-то в нас, гимназистах, стремления к литературе и искусству. Он благоволил ко мне между прочим за то, что я, будучи в седьмом классе (неожиданно для него), успешно справился с трудною для других ролью в переведенной им трагедии Эврипида (Каллиопы в “Ресе”), сделав ее (так мне приходилось слышать от людей ко мне вовсе не расположенных) фокусом пьесы. В последние годы жизни своей он неоднократно бывал у меня и часто писал» (РГБ. Ф. 386. Карт. 90. Ед. хр. 11). Мемуарный очерк Кондратьева «Иннокентий Федорович Анненский», включающий и рассказ о постановке «Реса», был напечатан в варшавской газете «За свободу!» (1927. № 208. 11 сентября).
(обратно)1392
Преподавателем математики в 8-й петербургской гимназии был Николай Александрович Жорж.
(обратно)1393
Литературный дебют Кондратьева – стихотворение «Я иду судьбе навстречу…», напечатанное в еженедельном журнале «Живописное Обозрение», выходившем под редакцией А. К. Шеллер-Михайлова (1899. № 4. 24 января. С. 70). В том же 1899 г. в «Живописном Обозрении» были опубликованы стихотворения Кондратьева «Ионическая песня» («Словно чайки крыло…») (№ 6. 7 февраля. С. 106), «Ладья готова. Гребцы у весел…» (№ 20. 16 мая. С. 394), «Перед грозой» («Свинцовым отблеском и сталью отливая…») (№ 45. 7 ноября. С. 890), «Сафо» («Тело вдоль берега плыло…») (№ 50. 12 декабря. С. 998).
(обратно)1394
Имеется в виду книга: Стихи А. К. СПб., 1905.
(обратно)1395
Яков Яковлевич Бельзен (1870 – после 1919) – живописец и график, выпускник Академии художеств (1894); рисовал для журнала «Шут» (1899–1903). В журнале «Шут» было опубликовано несколько десятков стихотворений Кондратьева (большинство – под псевдонимом: Э. С.), в том числе ряд стихотворений под общим заглавием «Из античного мира» (1901. № 16. С. 9; № 20. С. 1; 1902. № 16. С. 8; № 43. С. 3; № 49. С. 3).
(обратно)1396
Рассказ «Лебеди Аполлона (Осенняя сказка)» был опубликован в журнале «Звезда» в 1901 г. (№ 46. С. 6–8), вошел в книгу Кондратьева «Белый козел. Мифологические рассказы» (СПб., 1908).
(обратно)1397
Повесть «Пирифой» была опубликована в журнале «Почтальон» в 1902 г. (№ 12. С. 707–741), вошла в сборник «Белый козел».
(обратно)1398
Об этом сборнике см.: Блок – участник студенческого сборника / Публикация В. И. Беззубова и С. Г. Исакова // Блоковский сборник. II. Тарту, 1972. С. 325–332; Бронникова Е. Еще раз о литературном дебюте А. Блока // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 261–265; Иванова Е. В. Блок в Кружке изящной словесности Б. В. Никольского // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 198–212. Борис Владимирович Никольский (1870–1919) – юрист, литературный критик, поэт, латинист, общественный деятель. Кондратьев поддерживал с ним дружеские отношения и по окончании университета.
(обратно)1399
Рассказ «Белый козел» был опубликован в журнале «Новый Путь» в 1903 г. (№ 10. С. 12–18), вошел в одноименный сборник Кондратьева; материалы «К биографии Алексея Толстого» – в 1904 г. (№ 1).
(обратно)1400
Рассказ «Иксион (Древнегреческий миф)» был опубликован в «Альманахе «Гриф»» (М., 1904) вместе с тремя стихотворениями Кондратьева.
(обратно)1401
«Фамирид (Древнегреческий миф)» был впервые опубликован в «Понедельниках газеты “Слово”» (1906. № 13. 15 мая. С. 2; с посвящением И. Ф. Анненскому), позднее – в журнале «Золотое Руно» (1908. № 1. С. 44–53; № 2. С. 39–44), вошел в сборник Кондратьева «Улыбка Ашеры. Вторая книга рассказов» (СПб., 1911). См. параллели между этим произведением Кондратьева и «вакхической драмой» И. Ф. Анненского «Фамира-кифарэд» (Топоров. С. 11, 140–141). Сам Кондратьев писал в этой связи в очерке «Иннокентий Федорович Анненский»: «Мне приятно, что, написав (несколько раньше его) повесть “Фамирид”, я совпал со своим учителем в теме, хотя должен признаться, что пьеса Анненского ‹…› представляет в значительно более оригинальном преломлении авторского “я” написанное произведение, нежели мой основанный на сопоставлении мифологических фрагментов рассказ» (цит. по публикации Н. Богомолова: Независимая газета, 1996. 28 сентября. С. 8).
(обратно)1402
Предварительная публикация – «Сатиресса (Отрывок из мифологического романа)» (Золотое Руно. 1906. № 4. С. 45–53); полностью опубликовано отдельным изданием – «Сатиресса. Мифологический роман» (М.: Гриф, 1907).
(обратно)1403
Рецензия В. Я. Брюсова на «Стихотворения» Кондратьева (Весы. 1905. № 7. С. 53–56) включена в кн.: Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 151–154.
(обратно)1404
Впечатления этого заграничного путешествия отразились в стихотворном цикле Кондратьева «Прогулка по Европе в жаркое лето» (1. «Вена», 2. «Будапешт», 3. «Венеция», 4. «Рим», 5. «Неаполь», 6. «Мисенский мыс», 7. «Помпея», 8. «Ницца», 9. «Париж», 10. «Берлин»), опубликованном (за подписью: Э. С.) в журнале «Шут» (1909. № 33. С. 7; № 34. С. 3; № 36. С. 2; № 38. С. 3; № 39. С. 6; № 40. С. 3; № 41. С. 6).
(обратно)1405
7 июля 1914 г. Кондратьев писал А. И. Тинякову: «Недавно получил ц<иркуля>р от Семена Афанасьевича Венгерова с приглашением прислать для Биобиблиографического словаря соответственные данные» (Топоров. С. 204).
(обратно)1406
ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 6. Ед. хр. 1851. К автобиографии приложена заполненная Кондратьевым анкета, текст которой здесь не воспроизводится.
(обратно)1407
Рассказ Кондратьева «Последнее искушение (Рассказ духа)» был опубликован в пасхальном номере петербургской газеты «Россия» (1901. № 694. 1 апреля. С. 4); А. В. Амфитеатров заведовал в «России» отделами славянским, литературным, театро-музыкальным и изящных искусств. В указателе «Основные даты жизни и творчества А. А. Кондратьева», составленном Олегом Седовым, сообщается, что «первой публикацией прозы» Кондратьева в 1901 г. в газете «Россия» был рассказ «Домовой» (Кондратьев А. Сны. С. 540), однако указанный рассказ («Домовой (Очерки деревенской мифологии)») был опубликован в журнале «Отечество» (1903. № 2. С. 33–38), вторично – в журнале «Нева» (1906. № 1. С. 86–91), затем вошел в сборник Кондратьева «Белый козел».
(обратно)1408
Книга Кондратьева – «Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества» (СПб.: Огни, 1912); статья – «“Крымские очерки” Алексея Толстого (Из записной книжки поэта)» (обстоятельства ее публикации в журнале «Современник» отражены в письмах Кондратьева к Б. А. Садовскому от 11 и 19 мая 1912 г. // De visu. 1994. № 1/2 (14). С. 7).
(обратно)1409
Имеются в виду статьи Кондратьева «Авдотья Павловна Глинка» (Новый журнал для всех. 1913. № 7. С. 111–116), «Молодость поэта Щербины» (Русская Мысль. 1914. № 4. Отд. II. С. 118–134), «Панкратий Сумароков (Жизнеописание основателя первого в Сибири журнала)» (Новый журнал для всех. 1914. № 6. С. 43–45). Авдотья Павловна Глинка (1795–1863) – поэтесса, прозаик, переводчица; дочь П. И. Голенищева-Кутузова, жена поэта, публициста, прозаика Ф. Н. Глинки. Николай Федорович Щербина (1821–1869) – поэт; был близок Кондратьеву прежде всего как автор антологических стихотворений. Панкратий Платонович Сумароков (1765–1814) – журналист и поэт (см.: Стихотворения Панкратия Сумарокова. СПб., 1832), внучатый племянник А. П. Сумарокова; в 1789–1791 гг. издавал в Тобольске журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» – первое периодическое издание в Сибири. См.: Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о книгах. М., 1960. С. 158–164; Ларкович Д. В. Литературная судьба П. П. Сумарокова: Опыт семантического анализа. Сургут, 2007; Ларкович Д. В. Сумароков Панкратий Платонович // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 (Р – Я). СПб., 2010. С. 202–206.
(обратно)1410
Перевод книги французского писателя Пьера Луиса (1870–1925) «Песни Билитис» (1894), выполненный Кондратьевым, впервые был издан в Петербурге в 1907 г. Второе издание «Песен Билитис» было отпечатано в 1911 г. 27 декабря 1911 г. Кондратьев писал В. Я. Брюсову: «В декабре я выступал в Судебной Палате, защищал Песни Билитис, но неудачно. Палата утвердила приговор Суда об уничтожении. Не знаю, буду ли подавать в Сенат. Необходимо, чтобы последний высказался, ибо при нынешнем толковании ст<атьи> 1001 безусловному уничтожению подлежат почти все произведения античной литературы, при старом режиме бывшие неприкосновенными. Как юрист я считаю современное толкование ст<атьи> 1001 нарушением ее смысла, т<ак> к<ак> она требует для уничтожения книги наличности двух признаков: 1) безнравственности и 2) неблагопристойности (внешней неприличности изложения), а не одного какого-либо из них» (РГБ. Ф. 386. Карт. 90. Ед. хр. 8).
(обратно)1411
В литературно-художественном конкурсе на тему «Дьявол», объявленном журналом «Золотое Руно» в конце 1906 г., по разделу поэзии вторую премию (первая не была присуждена) получил Кондратьев за сонет «Пусть Михаилом горд в веках Иегова…» – опубликованный вслед за тем в «Золотом Руне» (1907. № 1. С. 29). См.: Топоров. С. 144–145.
(обратно)1412
Об этой своей службе Кондратьев более подробно сообщает в позднейшей памятной записке: «Служа в Канцелярии Гос. Думы, исполнял обязанности помощника редактора “Справочного листка Гос. Думы” ‹…›, а после революции – “Известий Временного Комитета Гос. Думы”. Начиная с 1908 г., исполнял делопроизводительские обязанности в комиссии по запросам (о незаконных действиях правительства). Кроме того несколько последних лет службы был одним из редакторов “Стенографических отчетов заседаний Гос. Думы”. Был зачислен во время правительства Керенского в организовавшуюся тогда из чиновников Гос. Думы и Государственной Канцелярии канцелярию Учредительного Собрания, но после перехода власти к большевикам и упразднения Гос. Думы и ее канцелярии остался без места. В январе 1918 г. с разрешения начальства покинул Петроград и уехал в Крым, где тогда проживала моя семья» (Струве. С. 4).
(обратно)1413
В архиве Ляцкого сохранилось 10 писем Кондратьева к нему (ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. Ед. хр. 244), 9 из них относится к 1909–1912 гг., 10-е – приводится ниже.
(обратно)1414
4 декабря 1957 г. Кондратьев писал Е. Н. Рудневой: «Много у меня накопилось ‹…› черновиков начатых в разное время повестей и романов (порою фантастических, основанных на виденных мною снах). Закончить их вероятно не удастся» (Струве. С. 56). Ср. письмо Кондратьева к А. М. Асееву от 16 февраля 1954 г., содержащее рассказ о виденных снах и их связи с реальностью (Там же. С. 42–43).
(обратно)1415
ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. Ед. хр. 244. Л. 23–24 об.
(обратно)1416
У Ф. И. Тютчева: «Божественной стыдливостью страданья»; вариант (исправление стиха, принадлежащее Н. А. Некрасову): «Возвышенной стыдливостью страданья» (заключительная строка стихотворения «Осенний вечер», 1830). См.: Тютчев Ф. И. Лирика / Издание подготовил К. В. Пигарев. М., 1963. Т. 1. С. 39, 235. Федор Антонович Туманский (1799–1853) – поэт, троюродный брат В. И. Туманского. См.: Языков Д. Федор Антонович Туманский (Его жизнь и поэзия). М., 1903. Работа Кондратьева «Ф. А. Туманский. Материалы к биографии» сохранилась в рукописи в архиве В. И. Анненского-Кривича (РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 119).
(обратно)1417
Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817) – археограф и коллекционер, издатель древнерусских памятников; подготовил (вместе с Н. Н. Бантыш-Каменским и А. Ф. Малиновским) первое издание «Слова о полку Игореве» (М., 1800).
(обратно)1418
Имеется в виду книга Е. А. Ляцкого «Слово о полку Игореве. Повесть о князьях Игоре, Святославе и исторических судьбах Русской земли. Очерк из истории древнерусской литературы. Композиция, стиль» (Ргаhа, 1934). Согласно Ляцкому, «Слово о полку Игореве» представляет собой композицию, осуществленную «слагателем» из нескольких песен (поэма о князе Игоре, поэма о Святославе, отрывки из песни-плача об Изяславе Васильковиче Полоцком и отрывочные строфы старых циклов). См. статью о Е. А. Ляцком Р. П. Дмитриевой (Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 3. СПб., 1995. С. 190–192).
(обратно)1419
В. М. Грибовский (1866–1924) – юрист, профессор Петербургского университета.
(обратно)1420
Лев Иосифович Петражицкий (1867–1931) – юрист, профессор Петербургского университета.
(обратно)1421
В собраниях литературного кружка «Вечера Случевского» Кондратьев участвовал с 1906 г., позднее (в 1910-е гг.) выполнял в нем секретарские обязанности. 16 апреля 1929 г. Кондратьев писал бывшей участнице кружка М. Г. Веселковой-Кильштет: «Так приятно порою бывает вспомнить о собраниях поэтесс и поэтов на “Вечерах имени Случевского”! Ведь Вы теперь один из старших по времени избрания в этот кружок бывших его членов. ‹…› Припоминая годы молодости, стараюсь восстановить некоторые даты и обстоятельства из жизни нашей поэтической общины, так сказать историю оной» (ИРЛИ. Ф. 43. Ед. хр. 281). В письме от 26–27 февраля 1953 г. к А. М. Асееву Кондратьев сообщал: «Триестский лагерный журнал выходил в крайне ограниченном количестве экземпляров. Напечатанные в одном из номеров этого журнала мои воспоминания о кружке поэтов и поэтесс имени К. Случевского очень незначительны по содержанию своему и сводятся главным образом к перечислению его членов» (Струве. С. 37).
(обратно)1422
Александр Степанович Рославлев (1883–1920) – поэт, прозаик. Воспоминания Кондратьева о нем нам неизвестны.
(обратно)1423
Впечатления от Государственной Думы в период после Февральской революции (самые негативные) Кондратьев изложил в письме к Б. А. Садовскому от 20 июня 1917 г. (De visu. 1994. № 1/2 (14). С. 25–26), а также в письме к Ф. Сологубу от 28 июля 1917 г.: «Члены Думы увы, в большинстве случаев, ленивы, трусливы и бездарны!.. ‹…› Таврический Дворец ломают внутри, расширяя зал заседаний» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 342).
(обратно)1424
Е. А. Ляцкий был одним из руководителей издательства «Огни», напечатавшего монографию Кондратьева об А. К. Толстом. В письме к Ляцкому от 10 октября 1910 г. Кондратьев сообщал о завершении своей работы над биографией А. К. Толстого, в письме от 4 сентября 1911 г. благодарил Ляцкого за ведение корректуры книги (ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. Ед. хр. 244).
(обратно)1425
Сергей Юлианович Кулаковский (1891–1944) – филолог; в пореволюционные годы жил в Польше, писал о современной польской литературе (см.: Современные польские поэты в очерках Сергея Кулаковского и в переводах Михаила Хороманского. Берлин: Петрополис, 1929). Его отец – историк античности Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919). См.: Тименчик Р. Д. Заметки на полях именных указателей // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 158.
(обратно)1426
П. П. Потемкин (1886–1926) – поэт, автор стихотворных книг «Смешная любовь» (СПб., 1908), «Герань» (СПб., 1912), «Отцветшая герань. То, чего не будет» (Берлин, 1923).
(обратно)1427
И. И. Ясинский (1850–1931) – прозаик, поэт, критик, журналист; участник кружка «Вечера Случевского». См. отзыв Кондратьева о нем в письме к Г. П. Струве от 24 января 1931 г. (Струве. С. 18). Сергей Кречетов (наст. имя – Сергей Алексеевич Соколов; 1878–1936) – поэт, критик, руководитель издательства «Гриф». Борис Владимирович Бер (1871–1921) – поэт, переводчик.
(обратно)1428
Князь Георгий Сергеевич Гагарин (ум. в 1915) – поэт, автор сборников «Стихи» (СПб., 1908) и «Стихотворения. Второй сборник» (Пг., 1914). Е. Н. Квашнин-Самарин (1877/78 – 1920) – поэт, историк морского флота. И. И. Тхоржевский (1878–1951) – поэт, переводчик. Борис Михайлович Микешин (1873–1937) – скульптор, сын академика Михаила Осиповича Микешина.
(обратно)1429
Жена Е. А. Ляцкого Видослава Павловна Ляцкая (урожд. Зелена, Zelena; 1913–1991), сербский филолог-славист, переводчица на сербскохорватский.
(обратно)1430
См.: Котрелев Н. В. Вяч. Иванов – профессор Бакинского университета // Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 209). Тарту, 1968. С. 326–339.
(обратно)1431
История и поэзия: Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова / Издание текстов, исследование и комментарии Г. М. Бонгард-Левина, Н. В. Котрелева, Е. В. Ляпустиной. М., 2006. С. 273.
(обратно)1432
См. о нем: Виктор Андроникович Мануйлов. К 80-летию со дня рождения: Указатель литературы / Сост. О. В. Миллер, В. А. Захаров. Темрюк, 1984; Лихачев Д. С. Виктор Андроникович Мануйлов // Русская литература, 1983. № 4. С. 230–133; Лихачев Д. С. Прошлое – будущему: Статьи и очерки. Л., 1985. С. 540–549; Кручинина А. С. Вечер памяти В. А. Мануйлова // Русская литература. 1989. № 3. С. 253–255; Памяти В. А. Мануйлова // Русская литература. 1993. № 4. С. 226–234; Назарова Л. Н. Воспоминания о Пушкинском Доме. СПб., 2004. С. 24–61; Пушкинский Дом. Материалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005. С. 478–479.
(обратно)1433
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека: Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов / Под ред. д. ф. н. Н. Ф. Будановой. СПб., 1999. С. 75.
(обратно)1434
См.: Там же. С. 108–111, 76; Летопись жизни и творчества С. А. Есенина. Т. 3, кн. 1. М., 2005. С. 161–163 (сост. В. А. Дроздков). // Среди лиц, оказавших на Мануйлова в юношеские годы определенное воздействие, следует упомянуть и Льва Александровича Велихова (1875 – не ранее 1940), в прошлом – редактора-издателя журналов «Горное Дело» и «Земское дело», издателя газеты «Русская Молва», депутата 4-й Государственной Думы, члена ЦК конституционно-демократической партии и члена Учредительного собрания. Велихов, с которым Мануйлов встречался в 1920-е гг. в Новочеркасске, возлагал большие надежды на его поэтическое будущее и всячески побуждал его поверить в силу и подлинность своего таланта. С гимназических лет Велихов дружил с поэтом и художественным критиком, редактором журнала «Аполлон» С. К. Маковским (последний писал о нем в воспоминаниях: «С ним в течение долгих лет мы были неразлучны; в его семье я был принят как родной, вместе путешествовали мы по Европе ‹…›. Левушка был юноша недюжинных способностей, почитатель муз и общественник-идеалист ‹…›» // Маковский Сергей. Портреты современников. М., 2000. С. 87). В одном из писем к Мануйлову Велихов, наставляя своего корреспондента, ссылался на прискорбную, с его точки зрения, творческую судьбу Маковского: «Мне кажется, что в Вас или поэзия должна убить художественную критику, или литературная учеба убить поэзию. В Вас неминуем этот логический поединок. ‹…› Говорю все это потому, что был близко, интимно дружен с большим поэтом Сергеем Маковским и присутствовал при трагедии этой личности. Эрудиция, рефлексия постепенно убила в нем непосредственный поэтический талант. Вместо того, чтобы стать великим поэтом, он сделался в сущности второсортным художественным критиком» (Собрание автора).
(обратно)1435
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 86–87.
(обратно)1436
Русско-итальянский архив. III. Вячеслав Иванов – новые материалы / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Салерно, 2001. С. 543. Ср. примечания О. Дешарт: «Виктор Андроникович Мануйлов, профессор Ленинградского университета, с детской радостью смотрит порою на старую бакинскую фотографию, на которой он был снят сидящим на полу, у ног В. И.» (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. III. С. 827. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно: римскими цифрами обозначается том, арабскими – страница).
(обратно)1437
См.: Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым / Сост. и подготовка текстов В. А. Дымшица и К. Ю. Лаппо-Данилевского. Статья и комментарии К. Ю. Лаппо-Данилевского. СПб., <1995>. Между с. 192 и 193; Вестник Удмуртского университета. Филология. 2000. Между с. 112 и 113; Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. Правый форзац. 21 мая 1924 г. Мануйлов сообщал в письме к родителям и сестре Нине: «На днях у нас была “Чаша поэтов”. Все снялись. Фотографию привезу – очень милая штука. Я читал новые вещи ‹…› Мои стихи хвалили» (Римский архив Вяч. Иванова).
(обратно)1438
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 95. Более полные и подробные сведения о лицах, запечатленных на этом групповом снимке, см. в изд.: Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск / Сост. Д. И. Черашняя. Ижевск. 1995. С. 47–48.
(обратно)1439
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 169.
(обратно)1440
ЦГАЛИ СПб. Ф. 440. Оп. 2. Ед. хр. 1309.
(обратно)1441
ИРЛИ. Ф. 713 (В. А. Мануйлов).
(обратно)1442
В. А. Мануйлов в переписке с Максимилианом Волошиным / Публикация А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб., 2012. С. 424.
(обратно)1443
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 90. Ср. суждения Л. А. Велихова в письме к Мануйлову от 24 сентября 1925 г.: «Я понимаю Вашу дружбу с Вячеславом Ивановым. Я искренне убежден, что Вы были полезнее ему, чем он Вам, ибо не верю в предрассудки возрастов. Восходящее солнце динамичнее заходящего, и утренняя бодрость мне милее вечерней грусти. Ни одна “юбилейная” слава в мире не сравнится с надеждой на славу, ибо в последней заключены все возможные пути, а в первой, увы, лишь остывающие воспоминания об одном уже совершившемся процессе».
(обратно)1444
Назарова Л. Н. Воспоминания о Пушкинском Доме. С. 27.
(обратно)1445
ИРЛИ. Ф. 713. Среди стихотворений Колобовой, хранящихся в архиве Мануйлова, имеется еще одно, затрагивающее ту же тему и ему посвященное: // В. М. // Твоих стихов поет сирена – // Любовь освящена мечтой… // Ты – не Парис, она – Елена, // Но сладок плен любви такой. // Ты не сбежишь от Менелая, // Не будет Трои горек плен – // Зато стихами изнывая, // Теперь поешь одних Елен. // 15/XII – 23 г. Баку.
(обратно)1446
См.: Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 9 – 10; IV, 88–89.
(обратно)1447
См.: Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце / Подготовка текста и комментарий Джона Мальмстада. Paris, 1990. С. 104; Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 8. Составитель этого выпуска Д. И. Черашняя приводит по машинописной копии стихотворения, полученной от Е. А. Миллиор, варианты стихов 4 («Сквозь гор, и льдины, и метели») и 7 («Тому на зов нейти нельзя»); первый из этих вариантов фигурирует в письме Миллиор к Мануйлову от 13 августа 1924 г.: «Помнишь стихотв<орение> Вяч. Ив., посвященное мне? Он как-то сказал, что гадает по стихам, как по картам, по своим стихам: что напишется? Так вот и я считаю его слова не случайными. // Иди же, Нелли, не скользя // Сквозь гор и льдины и метели // На Дионисовы свирели… // “Льдины” и “метели”… не намек ли это на холод, внутренний холод, который мне надо преодолеть, чтобы прийти на священные празднества Дионисовы?» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 440. Оп. 2. Ед. хр. 1309).
(обратно)1448
См.: Селиванов В. В. Вяч. И. Иванов и Н. Я. Марр в жизни и творческой судьбе К. М. Колобовой (ч. 1) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э. Д. Фролова. Вып. 5. СПб., 2006. С. 509–510. Колобова написала ответное стихотворение «И знаю я – навек осуждена…» с посвящением «В. И. И.» и с эпиграфом: «“Твою звезду не будет поздно // найти в сверкающем саду” (В. Мануйлов)» (машинопись – в архиве Мануйлова: ИРЛИ. Ф. 713); в письме к Мануйлову от 28 июля 1924 г. она дала его развернутое толкование, приведя цитату из неизвестного нам стихотворения Иванова: «Оно написано под влиянием “Ио” В. И. и стих<отворения>, посвященного мне. О трех путях как будто все ясно. // “Убийцей не будь, // – где троится странницы путь”, – // говорит мне В.И. Здесь дан этот растроившийся путь. Стих<отворение> В. И., обращенное ко мне, я воспринимаю как исповедь, а не поучение», и т. д. (ИРЛИ. Ф. 713).
(обратно)1449
Текст приводится по автографу из архива В. А. Мануйлова (ИРЛИ. Ф. 713); с неточностями – в кн.: Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 88. Публикация по машинописи из Римского архива Иванова: IV, 90. // In nuce (лат.) – «в орехе», т. е. в зародыше (в расширенном смысле: в самом главном, в самом существенном). Последняя строка стихотворения – перевод заглавия с обыгрыванием фамилии адресата: Victor (лат.) – победитель (Victori – победителю); «manu» (лат.) – рукою; Elohim (Элохим, Элогим) – одно из ветхозаветных обозначений Бога.
(обратно)1450
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 88.
(обратно)1451
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека (с неточностями). Текст приводится по автографу из архива В. А. Мануйлова (ИРЛИ. Ф. 713). По черновому автографу, хранящемуся в Римском архиве Вяч. Иванова, опубликовано Д. В. Ивановым и А. Б. Шишкиным в кн. «Русско-итальянский архив III» (С. 34) – другой вариант текста: // Я ныне вижу: не увяли // Мои живые цветники, // Как мотылек из ясной дали // Ко мне упал в ученики.
(обратно)1452
ИРЛИ. Ф. 713.
(обратно)1453
Это письмо, видимо, не было отправлено; сохранилось в Римском архиве Вяч. Иванова.
(обратно)1454
Приводится по автографу (книга хранится ныне в собрании автора статьи); в «Записках счастливого человека» надпись воспроизведена с неточностями (C. 96). «Любовью требуя» – автоцитата из стихотворения «Порука», входящего в книгу «Эрос» (1907); его первая строка: «Люблю тебя, любовью требуя» (II, 376). Вячеслав Иванов подарил Мануйлову также оттиск своей статьи «О новейших теоретических исканиях в области художественного слова» (Научные известия, Сб. 2. Философия. Литература. Искусство (Академический центр Наркомпроса). М., 1922. С. 164–181) с надписью «Дорогому Вите Мануйлову от любящего автора». В архиве Мануйлова (ИРЛИ. Ф. 713) сохранился также экземпляр поэмы Вяч. Иванова «Младенчество» (Пб.: Алконост, 1918; владельческая надпись: «В. Мануйлов. 17 VIII 1921 г., Москва») с автографом на обороте авантитула: «Дорогому Виктору Андрониковичу Мануйлову на добрую память о нашей бакинской совместной работе. Вячеслав Иванов. 28 XI 1922».
(обратно)1455
Молодой рабочий (Баку). 1923. № 33. 22 октября. С. 4. Подпись: В. М.
(обратно)1456
См.: Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 96 – 102.
(обратно)1457
Опубликовано по фотокопии автографа: IV, 91–92. Текст из архива Е. А. Миллиор см.: Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 30 (Описание Н. В. Котрелева).
(обратно)1458
См. ее публикацию в кн.: Русско-итальянский архив III. С. 49 – 132. Предисловие Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина. Подготовка текста А. Б. Шишкина.
(обратно)1459
См.: III, 505–506. // Вариант на полях: Тяжелый <небосклон> // Было: Был в сердце прежний ропот,
(обратно)1460
Вариант на полях: Тяжелый <небосклон>
(обратно)1461
Было: Был в сердце прежний ропот,
(обратно)1462
Было: а пусть вихри б обметали // б Вы б, вихри, разметали
(обратно)1463
Было: Мы б с ветром облетали
(обратно)1464
Было: а Нам вечно б твердь синела, // б Когда б нам твердь синела,
(обратно)1465
Было: На древе рдел бы плод,
(обратно)1466
Было: Я ник главой унылой…
(обратно)1467
Было: Вдруг мальчик-пастушок
(обратно)1468
Было: Свой поднял посошок:
(обратно)1469
Было: «Друг, с палочкой, вот этой
(обратно)1470
Далее было начато: [Он убеж<ал>]
(обратно)1471
Было: А в сердце чудотворный
(обратно)1472
Было: [Зажегся] огонек.
(обратно)1473
Было начато: Дивлюсь, зачем
(обратно)1474
Было: а Плывет навстречу света // б Из мглы всплывает света // в Из мглы всклубилась света
(обратно)1475
Было: Меж сумерек дубравных
(обратно)1476
Было: Корона-самоцвет
(обратно)1477
См.: Бёрд Роберт. Вяч. Иванов и советская власть (1919–1929). Неизвестные материалы // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 317. Незадолго до отъезда Ивановых за границу Мануйлов выезжал из Москвы в Новочеркасск, о чем свидетельствует письмо к нему В. М. Зуммера из Святошина (Киев) от 7/20 августа 1924 г.: «Милый брат мой, серафический отрок Витя! В. И. передал мне через о. Сергия Сидорова, который был у него в день своего отъезда из Москвы, числа 6 авг<уста> нов<ого> ст<иля>, приказание писать ему: очевидно, визы по-прежнему ждут со дня на день» (Собрание автора).
(обратно)1478
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 102.
(обратно)1479
День Успения Богородицы – 15 августа (28 августа н. ст.).
(обратно)1480
Николай Александрович Дубровский – профессор Бакинского университета по кафедре всеобщей истории в 1919–1922 гг., впоследствии работал в Москве. Историк литературы и литературный критик Петр Семенович Коган (1872–1932) возглавлял с 1921 г. Государственную академию художественных наук и был также профессором Московского университета.
(обратно)1481
Речь идет о подборке стихотворений Вяч. Иванова, взятых Мануйловым из редакции журнала «Русский современник». См. ниже, письмо Мануйлова к Иванову от 19 сентября 1924 г.
(обратно)1482
См.: Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 28–29 (Комментарии С. С. Аверинцева). Е. А. Миллиор переписывалась не только с Ивановым, но и с его дочерью Лидией; одно из ее писем к Л. В. Ивановой (от 12 ноября 1926 г.) дополнено припиской Мануйлова (Римский архив Вяч. Иванова): // А вот есть еще Витя. Ему бы многое хотелось сказать, но разве это легко? // Вообще все очень хорошо и удивительнее всего то, что до сих пор, несмотря ни на что, я упорно счастлив, хотя и бывает иной раз тяжело. // С каждым годом работы все больше и больше, занят очень, стишок иной раз записать не успеваешь – может быть, и поэтому трудно преодолеть пространство, честно поддерживать переписку. // И сейчас надо бежать дальше – на урок, но я рад, что успел присесть к этому листику и послать легкий привет, случайный, но давно просившийся (только это не то слово, не могу вспомнить нужное). // Витя. // 14 XI 1926. // P. S. Диме не посылаю поцелуя, потому что это относится ко всем! // В. М.
(обратно)1483
Римский архив Вяч. Иванова.
(обратно)1484
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 292–293.
(обратно)1485
Котрелев Н. В. Вяч. Иванов – профессор Бакинского университета. С. 335.
(обратно)1486
ЦГАЛИ СПб. Ф. 440. Оп. 2. Ед. хр. 1309. Упоминаются: К. М. Колобова, М. М. Гухман, М. М. Сироткин, С. М. Блинков (Миля), М. А. Брискман, Ц. С. Вольпе, М. Я. Варшавская (Муся), Вера Федоровна Гадзяцкая, Андрей Константинович Давидович. Нина – возможно, Нина Васильевна Гуляева, Шура – Александра Васильевна Вейс, Лена – Е. Б. Юкель.
(обратно)1487
Там же.
(обратно)1488
Там же.
(обратно)1489
Мануйлов Виктор. Стихи разных лет. 1921–1983. Л., 1983. С. 38.
(обратно)1490
См.: Казмичев М. М. (1897–1960). Стихи / Публикация Т. М. Двинятиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 560–613.
(обратно)1491
Труд. 1926. 7 апреля; Молодой рабочий. 1926. 23 апреля. См.: Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 80–81.
(обратно)1492
Там же. С. 172.
(обратно)1493
ИРЛИ. Ф. 713.
(обратно)1494
Римский архив Вяч. Иванова.
(обратно)1495
Мануйлов Виктор. Стихи разных лет. С. 54–55.
(обратно)1496
См.: Письма Лидии Вячеславовны Ивановой Елене Александровне Миллиор из Рима (1924–1972) / Подготовка текста О. Н. Негановой и Д. И. Черашней // Вестник Удмуртского университета. Филология. 2000. С. 10–51.
(обратно)1497
Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 77.
(обратно)1498
«Русский современник» – литературно-художественный журнал, издававшийся в Ленинграде в 1924 г. «при ближайшем участии: М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, Абр. Эфроса», бывший, по словам печатавшегося в нем В. В. Вейдле, «последним неказенным, последним свободным (пусть и не полностью) журналом, открыто издававшимся в пределах нашего отечества» («Журнал “Русский современник”» // Русский альманах. Париж, 1981. С. 393). Вышло в свет 4 номера журнала. Вяч. Иванов в нем не публиковался. См.: Примочкина Н. Н. М. Горький и журнал «Русский современник» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 357–370; «Русский современник». Указатель содержания / Сост. М. А. Николаева // Там же. С. 371–376.
(обратно)1499
Лидия Вячеславовна Иванова (1896–1985) – дочь Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал; композитор, органист. Посмертно изданы ее «Воспоминания. Книга об отце» (Подготовка текста и комментарий Джона Мальмстада. Paris: Atheneum, 1990). См.: «Лидия Вячеславовна Иванова» // IV, 704–712.
(обратно)1500
21 сентября 1924 г. Мануйлов писал ближайшему другу и члену семьи Вяч. Иванова О. А. Шор (псевдоним – О. Дешарт, O. Dechartes; 1894–1978): // «Мой учитель, Вячеслав Иванович Иванов, велел мне переслать вам прилагаемые при сем стихи: 1. Madonna delle Neve. 2. Сон. 3. Вежды. 4. Маскарад. 5. Возврат. 6. Мерлин. и 7. Ио. // Они взяты мною из редакции “Русского современника” 16 июля с. г. // Прошу Вас, по получению точного заграничного адреса переслать эти стихи Вячеславу Ивановичу» (Новое литературное обозрение. 1994. № 10: Вячеслав Иванов. Материалы и публикации / Сост. Н. В. Котрелев. С. 8. Публикация Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина). // 9 октября 1924 г. Шор писала Иванову из Москвы: «От Мануйлова из Баку получила семь Ваших стихотворений, взятых Ман<уйловым> из редакции “Русского Современника” 16 июля с. г.». Приведя названия стихотворений, Шор спрашивала: «Что прикажете с ними делать? Переслать их Вам?» (Русско-итальянский архив III. Вячеслав Иванов – новые материалы / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин, Салерно, 2001. С. 171. Публикация А. А. Кондюриной, Л. Н. Ивановой, Д. Рицци и А. Б. Шишкина). 2 марта 1925 г. Иванов писал из Рима О. Шор: «Из стихов, полученных от Вити, спишите мне, родная, “Madonna della Neve”, “Сон”, “Вежды”, “Мерлин” и “Возврат”» (Там же. С. 178). Первые пять стихотворений указанной подборки вошли в книгу Иванова «Свет вечерний» (Oxford, 1962. С. 41, 89, 41 («Вежды томные печали…» – под заглавием «Размолвка»), 65–66 («Маскарад» – под заглавием «Демоны Маскарада»), 49–50); «Мерлин» – впервые: Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 8. Публикация Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина; «Ио» – впервые: IV, 91–92.
(обратно)1501
Возможно, переработанной редакцией этого стихотворения является стихотворение «Друзьям» («У вас ноябрь над Ленинградом хмурым…») с пометой под текстом: «17 ноября 1925. Баку») (Мануйлов Виктор. Стихи разных лет. 1921–1983. Л. 1984. С. 33).
(обратно)1502
Мануйлов вспоминает в этой связи: «Предстояла реорганизация, в результате которой были соединены в 1924 году историко-филологический и физико-математический (!) факультеты в единый – педагогический. Впрочем, мы, студенты, особой перемены не ощутили от этого новшества» (Мануйлов В.А. Записки счастливого человека: Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов / Под ред. д. ф. н. Н. Ф. Будановой. СПб., 1999. С. 95–96).
(обратно)1503
Александр Васильевич Багрий (1891–1949) – профессор Бакинского университета, историк русской литературы; составитель книги «Формальный метод в литературе (Библиография)» (Владикавказ, 1924). В бакинской библиотеке Вяч. Иванова имелась книга А. В. Багрия «Литературные поминки» (Владикавказ, 1923). См.: Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa Orientalis. Vol. XXI / 2002: 2. С. 329. Как свидетельствует Мануйлов, «возглавлявший кафедру русской литературы профессор А. В. Багрий не скрывал своей неприязни к Вяч. Иванову и к его ученикам» (Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 95). Это чувство, по всей видимости, было взаимным, о чем можно судить по анонимной эпиграмме, сохранившейся в записи Е. А. Миллиор: // Пахнет багрийно и мерзко // сказал Вячеслав Кудреглавый // (Приведено в комментариях А. Кобринского в изд.: Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. Ижевск, 1995. С. 27).
(обратно)1504
Мануйлов родился в семье, принадлежавшей к привилегированному (согласно большевистской регламентации) слою дореволюционной России. Отец, Андроник Семенович Мануйлов, – врач, сын священника, мать, Ольга Викторовна, урожденная Вернандер, – дочь морского офицера; родовое происхождение могло тогда стать достаточной причиной для изгнания из университета.
(обратно)1505
В Баку Мануйлов находился на военной службе – на Военно-инженерных и Пехотно-пулеметных курсах как преподаватель литературы и заведующий библиотекой и затем в Политотделе Каспийского военного флота (в 1923–1927 гг. преподавал литературу в школе повышенного типа для моряков). Был демобилизован в 1927 г.
(обратно)1506
Михаил Михайлович Сироткин – по аттестации Мануйлова, «очень способный и многообещающий филолог и поэт, впоследствии занявшийся вопросами педагогики и психологии» (Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 95); как свидетельствует в «Беседах философских и не философских» Е. А. Миллиор, Сироткин входил в круг «ближайших учеников» Иванова, который его «как-то, улыбаясь, назвал “изящным эгоистиком”» (Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 13. Публикация А. Кобринского и К. Левиной). 3 стихотворения Сироткина напечатаны в сборнике «Норд» (Баку, 1926. С. 56–58).
(обратно)1507
Нелли – Елена Александровна Миллиор (1900–1978) – историк античности, литератор. Ее жизни и деятельности, а также публикациям из ее архива посвящены Специальный выпуск «Вестника Удмуртского университета» (Ижевск, 1995), составленный Д. И. Черашней, а также составленный ею же раздел «Из “ижевского” архива Е. А. Миллиор» (Вестник Удмуртского университета. Филология. 2000. С. 3 – 102). В записи В. Д. Дувакина (1973) зафиксирован мемуарный рассказ Е. А. Миллиор о времени обучения в Бакинском университете (см.: Миллиор Е. А. Вспоминая Вяч. Иванова и кружок «Чаша» / Вступ. заметка и публикация текста Е. В. Ивановой, примечания Л. Д. Зубарева // Контекст – 2013: Ежегодник теории и истории литературы. М., 2013. С. 368–397).
(обратно)1508
С. В. Троцкий (1880–1942) – литератор, близкий друг семьи Вяч. Иванова, живший вместе с ним в его бакинской квартире. В 1930-е гг. написал воспоминания о Вяч. Иванове, текст которых сохранился у В. А. Мануйлова (см.: Троцкий С. В. Воспоминания / Публикация А. В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 41–87). Сохранились 28 писем Троцкого к Мануйлову. О С. В. Троцком подробно рассказывает Е. А. Миллиор в упомянутой выше мемуарной записи (Контекст – 2013. С. 376–378, 383).
(обратно)1509
Историк литературы П. Н. Сакулин (1868–1930) был одним из инициаторов реформы русской орфографии, членом орфографической комиссии при Академии наук; см. его книги «Новое русское правописание» (М., 1917), «Реформа русского правописания» (<Пг.>, 1917). Мануйлов был у Сакулина вместе с Вяч. Ивановым 1 июня 1924 г.; в воспоминаниях он опубликовал сохранившуюся в его архиве записку Сакулина к Иванову от 31 мая, содержавшую приглашение на обед – его и «молодого пушкиниста» (т. е. Мануйлова). См.: Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 99.
(обратно)1510
Данное письмо написано по новой орфографии.
(обратно)1511
Димитрий Вячеславович Иванов (1912–2003) – сын Вяч. Иванова и В. К. Шварсалон; впоследствии – журналист, писатель (см.: Обер Рафаэль, Гфеллер Урс. Беседы с Димитрием Вячеславовичем Ивановым. СПб., 1999).
(обратно)1512
П. Х. Тумбиль – филолог-классик; в мае 1921 г. избран «научным сотрудником по классической филологии у проф. В. И. Иванова», который содействовал его профессиональному росту (в библиотеке Тумбиля хранились книги древнегреческих и римских авторов, ранее принадлежавшие Вяч. Иванову). См.: Котрелев Н. В. Вяч. Иванов – профессор Бакинского университета // Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 209). Тарту, 1968. С. 330, 336. В Предисловии к книге «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923) Иванов выражал благодарность П. Х. Тумбилю за помощь в деле ее печатания (С. VII). В 1930 – 1950-е гг. Тумбиль – профессор Бакинского университета.
(обратно)1513
Согласно предоставленной архивной справке, в неразобранной части фонда В. А. Мануйлова (ЦГАЛИ СПб. Ф. 440) имеется его неопубликованная работа «“Граф Нулин” и “Евгений Онегин”» (1925–1926). Ср. сообщение в письме Н. Н. Пунина П. Н. Лукницкому (Ленинград, 1 сентября 1927 г.): «Мануйлов сидит на диване и с жаром разговаривает о “Графе Нулине” и “Онегине” ‹…›» (Н. Гумилев, А. Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005. С. 304. Публикация Т. М. Двинятиной).
(обратно)1514
Всеволод Михайлович Зуммер (1885–1970) – историк искусства, археолог, ориенталист; с 1923 г. заведующий кафедрой истории искусства Бакинского университета, с 1924 г. профессор (защитил докторскую диссертацию «Александр Иванов. Материалы и исследования»). В 1930-х гг. работал в Харькове и Киеве, в 1933–1938 гг. – в заключении (в лагерях на Дальнем Востоке). Вяч. Иванов посвятил ему стихотворение «Уж расставались мы, когда, подвижник строгий…» (1926; IV, 94). В записи от 20 октября 1942 г. Л. К. Чуковская зафиксировала его слова в передаче А. А. Ахматовой: «Я провел год у ног Вячеслава <Иванова> в Баку» (Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. 1938–1941. М., 1997. С. 489). Подробнее см.: Парнис Александр. Заметки к теме «Вячеслав Иванов и Александр Иванов» (Неизвестные отзывы Вячеслава Иванова о докторской диссертации В. М. Зуммера) // Вячеслав Иванов и его время. Материалы VII Международного симпозиума, Вена, 1998 / Ред. Сергей Аверинцев, Роземари Циглер. Franfurt am Main; Wien, 2002. С. 293–304.
(обратно)1515
О. А. Шор. См. примеч. III к п. 1.
(обратно)1516
С. В. Троцкий после отъезда Ивановых из Баку поселился в квартире В. М. Зуммера и М. М. Васюхновой-Зуммер.
(обратно)1517
Стихотворение было опубликовано в сборнике «Норд» (Баку, 1926. С. 11), вошло (без посвящения) в книгу В. А. Мануйлова «Стихи разных лет. 1921–1983» (Л., 1984. С. 32). В этих публикациях строфа III отсутствует, в строфе IV вместо первой половины ст. 13 («Огня не зажигай!») – первая половина ст. 9: «Не закрывай окна!».
(обратно)1518
С. В. Троцкий регулярно переписывался с семьей Ивановых (в Римском архиве Иванова сохранились 24 его письма за 1924–1933 гг.). Письма Иванова к нему, по всей вероятности, утрачены (при аресте Троцкого в 1937 г.).
(обратно)1519
Подразумевается стихотворение А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
(обратно)1520
П. Х. Тумбиль.
(обратно)1521
Александр Дмитриевич Гуляев (1870 –?) – профессор по кафедре истории философии в Бакинском университете (с 1920 г.), впоследствии его ректор. В очерке «“Самое главное”, или Как я стал хиромантом» Мануйлов упоминает, что Гуляев читал лекционный курс под заглавием «Платон и Маркс» (Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 418). Е. А. Миллиор вспоминает («Беседы философские и не философские»): «Проф. А. Д. Гуляев читал нам историю древней философии. Специальностью его был Платон. Многие годы изучал он великого идеалиста, но работу о нем ему так и не удалось опубликовать. Читал с необыкновенной простотой и ясностью» (Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 15). В бакинской библиотеке Вяч. Иванова имелись книги А. Д. Гуляева «Этическое учение в “Мыслях” Паскаля» (Казань, 1906) и «Логика (теоретическая)» (Баку, 1921). См.: Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa Orientalis. Vol. XXI / 2002: 2. С. 329.
(обратно)1522
Александр Михайлович Евлахов (1880–1966) – историк литературы, автор работ по философии и психологии художественного творчества; избран профессором Бакинского университета в 1923 г. на основании отзыва Вяч. Иванова о его научной деятельности, который приведен в статье Н. В. Котрелева «Вяч. Иванов – профессор Бакинского университета» (С. 329–330).
(обратно)1523
Баилов мыс в Баку (по имени легендарного древнего города Баила).
(обратно)1524
Л. А. Ишков (1885–1927) – профессор Бакинского университета по кафедре всеобщей истории, декан историко-филологического факультета (с 1921 г.); 22 июля 1921 г. председательствовал на защите Вяч. Ивановым докторской диссертации. Узнав о скоропостижной кончине Ишкова, Иванов написал поминальное четверостишие «Ишкову» («К этому камню придет ученик, придет и рабочий…») (Русско-итальянский архив III. С. 35. Публикация Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина). В перечне книг бакинской библиотеки Вяч. Иванова, отправленном в Рим В. М. Зуммером в письме от 14 марта 1925 г., значится книга Л. А. Ишкова «Рабочее движение и государственное развитие Англии во 2-й половине XVIII и в XIX в.» (Тифлис, 1919); пропущена в указанном выше (см. примеч. IV) описании, составленном Г. В. Обатниным.
(обратно)1525
Всеволод Брониславович Томашевский (1891–1927) – один из организаторов и профессор Бакинского университета, лингвист-санскритолог; член партии большевиков, заместитель комиссара народного просвещения Азербайджанской ССР. С 1926 г. – ректор Ленинградского университета. О его общении с Вяч. Ивановым в Баку вспоминает Л. В. Иванова: «Очень часто, почти каждый вечер, бывал проф. Всеволод Томашевский, который занимал тогда пост замнаркома просвещения, очаровательный человек, добряк, коммунист старинного романтического стиля, санскритолог, но, к сожалению, безнадежный алкоголик. Сидели они вдвоем за бутылкой водки и беседовали до позднего часа» (Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. С. 98).
(обратно)1526
Письма Вяч. Иванова к Л. А. Ишкову нам неизвестны.
(обратно)1527
Мы читаем Софоклову «Антигону».
(обратно)1528
Иван Моисеевич Дегтеревский (Дегтяревский) – друг Вяч. Иванова, активно помогавший ему в общественных делах и житейских заботах в пореволюционные годы; по словам О. А. Мочаловой, «верный оруженосец поэта и его подголосок, в дальнейшем устроитель пушкинского семинара в своем доме» (Мочалова Ольга. Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 117). Рассказывая о жизни в Москве в 1919–1920 гг., Л. В. Иванова отмечает: «В это время Вячеслав завел большую дружбу с Дегтеревским, который ему организовал целый курс лекций по Достоевскому, а затем и по Пушкину» (Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. С. 83). См. стихотворение Дегтеревского «Мудрец», посвященное Иванову (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 268. Публикация А. В. Лаврова) и его письма к Ал. Н. Чеботаревской (Там же. С. 323–326. Публикация Л. Н. Ивановой). Мануйлов посещал Дегтеревского вместе с Ивановым летом 1924 г. в Москве. В бакинской библиотеке Вяч. Иванова имелась книга Ив. Дегтеревского «Последние поиски в области методологии литературной критики» (М., 1922); также в перечне книг этой библиотеки, составленном В. М. Зуммером, имеется следующая запись: «Дехтяревский Ив. Розы во мгле. 1920–1921»; видимо, это – неизданная авторская книга или сборник произведений. См.: Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa Orientalis. Vol. XXI / 2002: 2. С. 329–330.
(обратно)1529
Ксения Михайловна Колобова (1904/05 – 1977) – ученица Вяч. Иванова по Бакинскому университету, поэтесса, филолог-классик и историк античности, впоследствии – доцент, затем – профессор Ленинградского университета, в 1958–1970 гг. заведовала кафедрой истории древней Греции и Рима (см. комментарии К. Ю. Лаппо-Данилевского в кн.: Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 351; также: Селиванов В. В. Вяч. И. Иванов и Н. Я. Марр в жизни и творческой судьбе К. М. Колобовой (ч. 1) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э. Д. Фролова. Вып. 5. СПб., 2006. С. 487–510). Е. А. Миллиор пишет об Иванове: «Из всех нас, пожалуй, больше всех он любил Ксению, ждал от нее много. А может, не любил, но высоко ценил, много и взволнованно думал о ней» (Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 13). В архиве Мануйлова (ИРЛИ. Ф. 713) сохранилась большая подборка стихотворений Колобовой, в их числе – два, посвященные Вяч. Иванову, и четыре – Мануйлову, среди них – следующее: // В. М. // Витя! Выше! Прямо к небу! // Вечер расстелил ковер! // Загадали звезды ребус! // У тебя – прозрачен взор. // Витя, вечно молодые // будем в небе жить всегда! // Там сгорают огневые, // золотые города. // Мы… Мы сами метеоры. // Мы блестим цветным огнем. // Мы блаженно будем скоры. // Вдохновенны – не пером. // Будем говорить стихами // не такими, как теперь. // И откроется пред нами // Счастья радужная дверь. // Победитель! К солнцу! Выше! // В пламенных круженьях мир! // Видишь, Кто-то светлый вышел, // пригласил на званый пир. // Мы… Мы многое забыли, // что изжили, что вчера. // Но я вижу, как раскрылись // два лазоревых крыла. // Баку. 1924
(обратно)1530
После выхода в свет на рубеже 1924–1925 гг. 4-го номера «Русского современника» издание журнала было прекращено, попытки возобновить его во второй половине 1925 г. остались безуспешными.
(обратно)1531
Подразумевается Петр Семенович Коган (1872–1932) – историк литературы, критик; с 1921 г. – президент Гос. академии художественных наук. Характеристика творчества Вяч. Иванова содержится в его книгах «Очерки по истории новейшей русской литературы» (Т. III, вып. 3. М., 1911. С. 135–148) и «Литература этих лет. 1917–1923» (Иваново-Вознесенск, 1924. С. 32–33, 43–44, 49).
(обратно)1532
Имеется в виду очерк «Вячеслав Иванов» (Белый Андрей. Поэзия слова. Пб.: Эпоха, 1922. С. 20 – 105); возможно, также брошюра Андрея Белого «Сирин ученого варварства (По поводу книги Вяч. Иванова “Родное и вселенское”)» (Берлин: Скифы, 1922).
(обратно)1533
М. М. Сироткин.
(обратно)1534
Подразумевается текст, предшествующий постскриптуму.
(обратно)1535
Опубликовано в сборнике «Норд» (Баку, 1926. С. 12–14) с указанием: «Из поэмы “1925”»; без заключительного четверостишия и с незначительными лексическими вариантами; помета под текстом: «Баку 1925».
(обратно)1536
Опубликовано в переработанной редакции: вместо строф II–III – четверостишие: // Сквозь окна, на которых тает лед, // Не размочить следы пурги вчерашней, // Любовь поет и светится, встречая // Такое удивительное утро. // (Мануйлов Виктор. Стихи разных лет. С. 58).
(обратно)1537
В сборнике «Норд. Стихи», вышедшем в Баку в начале 1926 г., были опубликованы 3 стихотворения Михаила Сироткина, 4 – Ксении Колобовой и 5 – Всеволода Александровича Рождественского (1895–1977). Переписка Мануйлова с Рождественским, начавшаяся в связи с подготовкой сборника «Норд», впоследствии переросла в близкую дружбу, о которой в «Записках счастливого человека» рассказано в отдельной главе (С. 253–290). См. также: Мануйлов Виктор. Друг молодости // О Всеволоде Рождественском: Воспоминания. Письма. Документы. Л., 1986. С. 56–78.
(обратно)1538
Подразумеваются, видимо, принявшие участие в «Норде» Н. С. Тихонов (1 стихотворение), Л. И. Борисов (2 стихотворения), А. О. Моргулис (5 стихотворений). Стихотворения последнего перепечатаны из «Норда» как приложение к заметке: Никитаев А. Т. Мандельштам и Моргулис. Начало «поэтического знакомства» // «Отдай меня, Воронеж…» Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 327–332.
(обратно)1539
В «Норде» были напечатаны (с. 26–28) 2 оригинальных стихотворения М. А. Волошина («Мы столь различные душою…», «Ступни горят, в пыли дорог душа…») и 1 стихотворный перевод (Из Анри де Ренье. «Приляг на отмели… Обеими руками…»). С. А. Есенин в сборнике не участвовал. С просьбой дать стихи для «Норда» Мануйлов обратился к Есенину 9 ноября 1925 г. (Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 127–128). «К сожалению, – пишет мемуарист, – получить стихи С. А. Есенина не удалось ‹…› Вскоре он заболел и прислать стихи не успел. А в декабре его не стало» (Там же. С. 80).
(обратно)1540
«Звезды блещут над прудами…», фрагмент из мелопеи «Человек» – III, 235–236; «Возврат» («Чудесен поздний твой возврат…»), с посвящением И. М. Гревсу, – III, 529–530; «Чернофигурная ваза» («В день Эллады светозарной…») – III, 545–546 (в книге Иванова «Свет вечерний» – под заглавием «Греческая ваза»). Какое стихотворение здесь подразумевается под обозначением «Вл. Вл. Руслову» (т. е. посвященное в данном автографе или списке поэту, переводчику и коллекционеру Владимиру Владимировичу Руслову), неясно. Обозначение «Сочи» (место написания) может относиться к упоминаемому в перечне произведений Иванова в следующем письме стихотворению «Тот вправе говорить: “я жил”…», написанному в Сочи в январе 1917 г. (III, 518, 831; позднее оно печаталось под заглавием «Могила»), либо к упоминаемому там же сонету «Весь исходив свой лабиринт душевный…», написанному в Сочи 1 марта 1917 г. (III, 561, 845; позднее печатался под заглавием «Явная тайна»). // 12 ноября 1925 г. Л. В. Иванова писала Мануйлову: «Письмо твое мы получили, где ты просил скорей ответа по поводу печатания стихов отца. Я ходила на телеграф, чтобы прислать просимое да, но телеграмма оказалась ужасно дорогой и папа решил для полного выражения своих чувств написать, что и собирается все. Но покамест кратко предваряю я, опасаясь, что он очень может задержаться с ответом, т<ак> к<ак> у него в эти дни невероятное скопление разноязычных и разнодумных забот» (Собрание автора). К этому письму Иванов сделал следующую карандашную приписку: // Да, милый, печатайте, но послезавтра я собираюсь написать Вам точнее о том, чтó стóит печатать, и дать еще нечто другое. // Я очень виноват перед Вами и перед Ксенией: обещал торжественно поддерживать переписку и до сих пор молчал. Дело в том, что у меня, старца, другой темп: что у Вас месяц, у меня год. Думаю об обоих ежедневно. // Ваш Вяч. Иванов.
(обратно)1541
Цикл «Римские сонеты» был написан Ивановым в Риме осенью 1924 г. (III, 578–582), впервые опубликован в парижских «Современных записках» (1936. Кн. 62).
(обратно)1542
Стихотворение «Умер Блок» («В глухой стене проломанная дверь…»), написанное в Баку 10 августа 1921 г., было впервые опубликовано в «Современных записках» (1937. Кн. 63). См.: III, 532, 838–839.
(обратно)1543
Письмо Л. А. Ишкова в Римском архиве Вяч. Иванова не обнаружено; в нем сохранилось письмо ректора университета А. Д. Гуляева к Иванову от 27–29 июля 1925 г., в котором содержалась попытка прояснить его планы относительно дальнейшей работы в Бакинском университете: «Во всяком случае факультет, в частности студенты, будут весьма рады Вашему возвращению. И во всяком случае ответ должен быть дан в течение августа, чтобы с сентября внести Вас в ведомость. На основании условия Вашего с Т. Кулиевым можно бы испросить Вам пособие на путевые расходы для возвращения в Баку как компенсацию за истекшее время с февраля».
(обратно)1544
О том же спрашивал Иванова Гуляев в цитированном письме: «Нас тревожило, что Вы не сообщали о получении денег, а также восьми экземпляров Вашей диссертации, купленных мною ‹…› со скидкой значительной». 14 марта 1925 г. В. М. Зуммер извещал Иванова: «Rector magnificus задержал высылку Дионисов, гл<авным> о<бразом>, потому, что сомневался: “я пошлю, – а вдруг в это время Вяч. Ив. сюда приедет”. Дело это ныне поручено Вите – за личной его ответственностью» (Римский архив Вяч. Иванова). Оник – сотрудник филологического кабинета Бакинского университета.
(обратно)1545
«Труды и дни Пушкина» (Изд. 2-е. СПб., 1910) – книга историка литературы Николая Осиповича Лернера (1877–1934).
(обратно)1546
«Гольфстрем» (М., 1922) – книга историка русской литературы и общественной мысли, философа и публициста Михаила Осиповича Гершензона (1869–1925), друга и соавтора Вяч. Иванова по «Переписке из двух углов» (Пб.: Алконост, 1921).
(обратно)1547
На обороте – приписка С. В. Троцкого с сообщением о ходе своих хлопот о получении визы на выезд в Италию: «…хлопочу усердно и надеюсь на скорое завершение формальностей. Ит<альянское> посольство обещало выписать визу телеграфно». Инициатором отъезда Троцкого за границу был Иванов. 22 июля 1925 г. В. М. Зуммер сообщал Мануйлову: «На последних днях моего пребывания в Баку было письмо от Вяч<еслава> И<ванови>ча, где он ‹…› зовет Серг<ея> Вит<альевича> в Рим». Хотя Иванов хлопотал в советских инстанциях о выезде Троцкого, заручившись поддержкой М. Горького, эти старания не принесли желаемого результата. 12 ноября 1925 г. Троцкий писал Иванову: «…здесь я уже все сделал и остается только уплатить вперед за паспорт, чтобы ждать его получения, что длится не очень долго. ‹…› Ведь здесь моя жизнь пахнет достоевщиной из “Униж<енных> и оскорб<ленных>”. Сила и здоровье еще есть, но склоняются куда-то… ‹…› Паспорт беру на год, ибо я не эмигрант и люблю Россию». В письме к Иванову от 10 января 1926 г. Троцкий вновь касался той же темы: «Если нужно ждать до весны с отъездом, то я согласен. Но в Москву я написал, и что будет, и когда будет – не от меня зависит».
(обратно)1548
Второе стихотворение из цикла Вяч. Иванова «Песни смутного времени», опубликованного в журнале «Народоправство» (1918. № 18/19, 23/24). См.: IV, 73.
(обратно)1549
См. примеч. IV к п. 5.
(обратно)1550
В сборнике «Норд» были напечатаны 4 стихотворения Иванова: «Тот вправе говорить: “Я жил…”…», «Звезды блещут над прудами…», «Возврат», «Чернофигурная ваза» (С. 59–62).
(обратно)1551
Синаксарь – чтение, выбранное из писаний отцов церкви и церковных преданий. В синаксарях содержится объяснение празднуемого события (синаксари на все праздники) или толкование, почему с известным днем соединяется такое-то воспоминание.
(обратно)1552
В сборнике «Норд» фрагмент из мелопеи «Человек» («Звезды блещут над прудами…» – С. 60) опубликован в объеме начальных восьми строк – в форме двух четверостиший; вариант ст. 5: «Зрящих сил в незримый омут».
(обратно)1553
16 декабря 1925 г. Мануйлов сообщал М. А. Волошину: «На днях было письмо от Вячеслава Ивановича – он дал для Норда 8 новых нигде еще не напечатанных стихотворений, из коих 2 сонета» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. С. 429). Упомянутое письмо Иванова было адресовано, по всей вероятности, либо С. В. Троцкому, либо В. М. Зуммеру; не сохранилось.
(обратно)1554
Статьи Мануйлова под указанными названиями не были опубликованы.
(обратно)1555
Мануйлов обосновался в Ленинграде в сентябре 1927 г.; поначалу довольствовался случайными литературными заработками в газетах, лекциями в рабочих клубах, затем стал заведующим литературной частью сценической мастерской выборгского Дома культуры (в 1927–1929 гг.). См.: Пушкинский Дом. Материалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005. С. 478; Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 272.
(обратно)1556
Мануйлов посетил М. А. Волошина в Коктебеле 24–25 июля 1927 г., эту встречу он подробно описал в мемуарах (см.: Там же. С. 171–175).
(обратно)1557
Имеется в виду стихотворение Иванова «Палинодия» («И твой гиметский мед ужель меня пресытил?..»; III, 553), посланное им в Баку В. М. Зуммеру и отправленное последним в Ленинград К. М. Колобовой, которая восприняла его как «измену Элладе». Фрагменты из ее письма к Иванову от 16 ноября 1927 г. с ответной отповедью приведены в кн.: Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. С. 176. См. также письмо Иванова к Л. В. Ивановой от 21 января 1928 г. (Символ. № 53–54. Париж; М., 2008. С. 572–573 / Подготовка текста Анны Кондюриной и Ольги Фетисенко. Комментарии Светланы Кульюс и Андрея Шишкина). Иванов ответил Колобовой письмом, которое не сохранилось.
(обратно)1558
Отвечая Иванову 8 декабря 1927 г., Колобова выражала резкое несогласие с теми идейными основоположениями, которые он сформулировал в своем «насквозь католическом» письме к ней: «Ваше письмо лишний раз подтвердило мои опасения за Вас. У Вас большая внутренняя ‹…› катастрофа. ‹…› Вы, конечно, правы в том, что античность сама по себе уже не культура, что в наше время к ней должен установиться иной подход, но я не думаю, что мы должны преломлять ее через призму христианства и видеть в ней только атриум для христианской (хотя бы и вселенской) церкви. Я человек, конечно же, не религиозный, о всякой церкви думаю очень резко и резко ее отрицаю. Религия сыграла уже свою роль, и ей пора уйти за кулисы, т<ак> к<ак> открывается новое действие. ‹…› Вы пишете: “Мир раскололся на два стана – друзей и врагов Агнца”. ‹…› Ваши слова о машинизации, бестиализации и даже сатанизации дехристианизированной культуры – тоже канонические церковные слова. ‹…› Ведь Вы по-новому могли бы воспринять нашу эпоху, нашу жизнь, а не отгораживаться от нее “анафемой”. ‹…› И неужели у тех, кто “Агнца” не признает или, вернее, признает его только исторически и только в прошедшем времени, Вы не нашли ничего другого, кроме сатанинствующего начала? Я чувствую, что Вы мне на это письмо не ответите и что Ваше письмо ко мне так и останется единственным» (Римский архив Вяч. Иванова).
(обратно)1559
В «Записках счастливого человека» Мануйлова это письмо опубликовано с неточностями (С. 103–104). Приводим его текст по автографу, хранящемуся в архиве Мануйлова (ИРЛИ. Ф. 713): // 18 марта ’28. // Дорогой, родной Витя, // Я глубоко благодарен Вам за письмецо – слишком уже короткое, но более длинного я и не заслужил своим могильным молчанием. Однако не корите меня за него; и так как, видимо, Вы, в самом деле, меня не корите, я объясняю это всепрощающее великодушие верным голосом Вашего золотого и вещего сердца, которое могильного молчания не боится, им не смущается (как не смущается вообще отсутствием знаков), но твердо знает, что его любят и за могилой, как я Вас неизменно – в неизменной, даст Бог, сущности Вашей – люблю. Знаю, как Вам трудно, и верю, что Бог Вам поможет. Напишите все же подробно о себе, о своем здоровье, своих работах, замыслах и видах на будущее; наконец, сообщите новое из Ваших стихов. Напишите также о товарищах, о Ксении, о Нелли, об Альтмане; о Вольпе; и кланяйтесь им, а Цезарю скажите еще, что я очень перед ним винюсь. Сергею Витальевичу я тоже не писал целую вечность, перешлите ему мой братский привет; я очень, очень за него тревожусь. Пишите мне без большого риска остаться в проигрыше, п<отому> ч<то> теперь, кажется, буду отвечать исправно, хотя, быть может, и плосковато, т. е. не глубоко, не существенно, не достаточно содержательно: иначе, видно, не сумею. Но Вы меня знаете, и сердце сердцу весть подаст. // Обнимаю Вас от всего сердца и желаю счастливой Пасхи. А, может быть, Вы на Пасху-то на Кавказ махнете или к семье, и письмецо это до Вас не дойдет? Жаль было бы, потому что хотелось подать Вам ласковую весточку и заочно Вас обнять. // Ваш Вяч. Иванов. // (В тексте упоминаются бакинские ученики Иванова: К. М. Колобова, Е. А. Миллиор, Моисей Семенович Альтман (1896–1986) – филолог-классик, литературовед, поэт, Цезарь Самойлович Вольпе (1904–1941) – историк литературы, критик, – а также С. В. Троцкий).
(обратно)1560
19 февраля 1928 г. Мануйлов и Л. И. Сперанская (ум. в 1946 г.) обвенчались в Знаменской церкви в Детском Селе. Их союз распался в 1930 г. Об их знакомстве и сближении см.: Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 269–270, 274, 298.
(обратно)1561
Штатным сотрудником Пушкинского Дома (Института русской литературы АН СССР) Мануйлов стал лишь 26 июня 1941 г. (см.: Пушкинский Дом. Материалы к истории. С. 478). Упоминаемая работа – «Книга о Лермонтове» (Вып. 1–2. Л.: Прибой, 1929), представляющая собой хронологическую подборку отрывков из воспоминаний и документов о жизни и творчестве поэта. Книга была опубликована под именем Павла Елисеевича Щеголева (1877–1931), историка русской литературы и революционного движения, драматурга и сценариста; участие Мануйлова в работе над ней было оговорено в вып. 1 («Предисловие» П. Щеголева): «Моим помощником в работе над этой книгой был В. А. Мануйлов: он принимал участие в отборе и распределении материала» (С. 8). К работе со Щеголевым Мануйлова привлекла А. А. Ахматова: «Зная о том, что у меня лежит большая работа о Лермонтове, Ахматова рассказывала об этом у Щеголевых. Павел Елисеевич заинтересовался и через Анну Андреевну передал мне предложение написать книгу “Лермонтов в жизни” (по примеру книжки В. В. Вересаева “Пушкин в жизни”). Когда я пришел к Ахматовой в воскресенье 25 марта, она рассказала мне о своем разговоре со Щеголевым и предложила передать мою рукопись Павлу Елисеевичу, чтобы он мог ознакомиться с ней до встречи со мной. На следующий день я привез Анне Андреевне свою работу о Лермонтове. Прошла неделя. 2 апреля 1928 года я впервые переступил порог квартиры П. Е. Щеголева на улице Деревенской бедноты на Петроградской стороне» (Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. С. 299). 19 августа 1928 г. Мануйлов сообщал М. А. Волошину: «С апреля по август я готовил книгу о Лермонтове – это было очень интересно и утомительно, моя жизнь целиком сместилась на 80 лет назад, Лермонтов меня обокрал за это на четыре летних месяца ‹…› (работа сдана в печать только сегодня) ‹…›» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. С. 440).
(обратно)1562
Владимир Владимирович Сладкопевцев (1876–1957) – актер, чтец-декламатор, педагог. В «Записках счастливого человека» Мануйлов вспоминает: «Студией руководил профессор Владимир Владимирович Сладкопевцев, которого я ‹…› знал еще в Баку. Это был известный специалист по истории, теории и практике художественного чтения» (С. 272).
(обратно)1563
Т. е. С. В. Троцкий, также испытывавший к Мануйлову душевную симпатию. Ср., например, признания в его письме к Е. А. Миллиор от 13 января 1929 г.: «Очень люблю я вас. Еще кое-кого. При мысли о Вите как бы протягиваю руку, а потом – в нерешительности» (Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск. С. 35. Публикация Г. В. Мосалевой и Д. И. Черашней).
(обратно)1564
Щировский Владимир. Танец души. Стихотворения и поэмы / Составление, послесловие и комментарии В. Емельянова. М., 2008. С. 13, 38, 68.
(обратно)1565
См.: Огонек. 1989. № 36. С. 16.
(обратно)1566
Сухих И. Н. От стиха до пули // Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 26 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)1567
См.: Емельянов Владимир. Проблемы текстологии Владимира Щировского (по материалам ЦГАЛИ СПб) // Озёрная текстология. Труды IV летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2007. С. 13–20.
(обратно)1568
Ближайшим другом Щировского в середине 1920-х гг. стал поэт Владимир Кемецкий (В. С. Свешников), с которым он обменивался стихами даже после того, как Кемецкий был арестован и заключен в Соловецкий лагерь (см.: Доррер А. Владимир Щировский (1909–1941). Биография // Щировский Владимир. Танец души. С. 148). Сохранился рукописный сборник Вл. Кемецкого «Каменные цветы» (1936), опубликованный Д. С. Лихачевым; входящей в него поэме «Память крови» (Архангельск, 1931) предпослан эпиграф из неизвестного нам стихотворения Щировского «Примечания»: // И издевается над всеми // Несуществующее время, // И медленно ползет назад… // (Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 493).
(обратно)1569
Щировский Владимир. Танец души. С. 149. В адресной книжке Волошина имеется запись: «Щировский Влад<имир> Евгеньев<ич>. Харьк<ов>. Мироносицкая 57, кв. 1. Ан. Петр. Шатилова. СПб. СП<етербург>ская сторона. Петрогр<адская> набережная 20, кв. 1» (Дом-музей М. А. Волошина, Коктебель).
(обратно)1570
Купченко Владимир. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1917–1932. СПб.; Симферополь, 2007. С. 433. Приводимые далее хронологические сведения восходят к этому документальному источнику.
(обратно)1571
См.: Дадина Л. М. Волошин в Коктебеле // Новый журнал. Кн. 39. Нью-Йорк, 1954. С. 176–193.
(обратно)1572
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 895. Л. 88–88 об.
(обратно)1573
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1327. В письме упоминаются гости, жившие в доме Волошина в июле 1927 г.: Всеволод Иванович Попов (1887–1936) – педагог, библиофил; Иван Михайлович Саркизов-Серазини (1887–1964) – врач-гигиенист, коллекционер, писатель, редактор путеводителя «Крым» (М.; Л., 1925); Татьяна Андреевна Парижская – жительница Феодосии; Тамара Сергеевна Салтыкова (1904–1976) – студентка Ленинградской консерватории, впоследствии пианистка, педагог; Марк Аркадьевич Тарловский (1902–1952) – поэт, журналист. В альбоме стихотворений, посвященных Волошину, хранится подборка из 14 стихотворений Тарловского, написанных в Коктебеле и Феодосии летом 1929 г. («Прощание с Коктебелем», «Коктебель», «Гроза в Коктебеле», «Таиах», «Кратер» и др.) (ИРЛИ. Ф 562. Оп. 3. Ед. хр. 1483. Л. 112–123; см. также публикацию стихотворения «Прощание с Коктебелем» в кн.: Образ поэта. Максимилиан Волошин в стихах и портретах современников. Феодосия; М., 1997. С. 88).
(обратно)1574
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1483. Л. 9–9 об. Подпись – автограф. В архиве Волошина сохранились автографы еще трех стихотворных произведений Щировского – поэмы «Казанова в Петербурге» и стихотворений «Вчера я умер, и меня…» и «Ах, чьи глаза приедут в гости…» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1464). Поэма и второе из стихотворений, ранее не печатавшиеся, опубликованы нами в кн.: Тихие песни. Историко-литературный сборник к 80-летию Л. М. Турчинского. М., 2014. С. 178–190.
(обратно)1575
См.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 222 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)1576
Щировский Владимир. Танец души. С. 63.
(обратно)1577
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1327.
(обратно)1578
9 декабря 1929 г. Волошин перенес инсульт.
(обратно)1579
В собрании А. Н. Доррер 1929 годом датированы 15 стихотворений Щировского.
(обратно)1580
Возможно, это «развлечение» нашло свой отголосок в стихах Щировского: «…я опять готов // Бродить и ликовать средь бурных дураков, // Хотя бы потому, что и тебе они // В счастливые цвета размалевали дни» («Возьми меня к себе и чаем напои…», 1928), «Страсти румяных текстильщиц, эврика дурака» («Кинематограф», 1931) (Щировский Владимир. Танец души. С. 18, 61).
(обратно)1581
См.: Там же. С. 150–151.
(обратно)1582
См. о нем: Магомедова Д. М. На страже духа и культуры… (Д. Е. Максимов – исследователь русской литературы XX в.) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988. Т. 47. № 2. С. 186–192; Ильюнина Л., Долматова Г. Дмитрий Максимов // Зборник Матице српске за славистику. 1989. № 36. С. 195–207; Ильюнина Л. А. Создатель русской науки о символизме (Материалы из архива Д. Е. Максимова) // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Сб. научных трудов. Л., 1989. С. 145–166; О себе. Автобиографическая заметка Д. Е. Максимова / Публ. Антонеллы Д’Амелия // Europa orientalis. 1989. № 8. С. 569–577; Куприяновский П. В. Д. Е. Максимов – исследователь русской поэзии // Биография и творчество в русской культуре начала XX века. Блоковский сборник. IX. Памяти Д. Е. Максимова (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 857). Тарту, 1989. С. 3 – 10; Азадовский К. М., Лавров А. В. Памяти Д. Е. Максимова (1904–1987) // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 583–591. См. также: Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, учеников: К 100-летию со дня рождения / Отв. ред. Л. А. Иезуитова, И. С. Приходько. М., 2007.
(обратно)1583
РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 16. Далее цитаты из писем К. Н. Бугаевой к Д. Е. Максимову приводятся по этому источнику.
(обратно)1584
Эти свидетельства, а также суждения о К. Н. Бугаевой различных мемуаристов суммированы в Предисловии Джона Малмстада в кн.: Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001. С. 5–7.
(обратно)1585
Ранее 3 письма К. Н. Бугаевой к Д. Е. Максимову (от 31 декабря 1936 г., 30 октября 1964 г. и полученное 26 февраля 1969 г.) были опубликованы З. Г. Минц; см.: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975. С. 13–16.
(обратно)1586
См.: Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 575–638.
(обратно)1587
Экземпляр верстки сохранился в архиве Андрея Белого (РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 40).
(обратно)1588
См.: Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Edited, annotated, and with an Introduction by John E. Malmstad. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1981. Ранее «Вступление» к «Воспоминаниям» и главу «Контрапункт» опубликовал Жорж Нива (K. N. Bugaeva: Le «contrepoint» dans l’œuvre de Belyj // Cahiers du monde russe et soviétique. 1974. Vol. XV. № 1/2. Р. 105–146).
(обратно)1589
В посмертном издании «Словаря псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова, подготовленном к печати Ю. И. Масановым, псевдоним Taciturno в «Перевале» приписан Андрею Белому (Т. 3. М., 1958. С. 337), что, вероятно, послужило основанием для включения в библиографию Андрея Белого (составители Н. Г. Захаренко и В. В. Серебрякова) опубликованных под этим псевдонимом в «Перевале» статей «Искусство прошлого и искусство будущего», «К определению религии», «Палингенез» и рецензии на книгу А. Борового «Революционное миросозерцание» (см.: Русские советские писатели. Поэты. Биобиблиографический указатель. Т. 3. Ч. 1. М., 1979. С. 142–144). В статье К. М. Поливанова о прозаике, критике и публицисте Алексее Иосифовиче Бачинском (1877–1944) указан его псевдоним Taciturno – как не учтенный в «Словаре…» Масанова (Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 186); между тем в аннотированной росписи содержания «Перевала» указанные публикации за подписью Taciturno вновь представлены как принадлежащие Андрею Белому, хотя и указано на иную их атрибуцию в статье К. М. Поливанова: «Не будучи в силах разрешить это противоречие, доводим факт его существования до сведения читателя» (Соболев А. Л. «Перевал». Журнал свободной мысли. 1906–1907. Аннотированный указатель содержания. М., 1997. С. 15, 26, 41, 44, 121). Опубликованная в «Перевале» статья Taciturno «Палингенез» анализируется как безусловно принадлежащая Белому в работе Илоны Светликовой «Кант-семит и Кант-ариец у Белого» (Новое литературное обозрение. 2008. № 93. С. 80–81).
(обратно)1590
Подробную роспись содержания этого несостоявшегося издания (включавшего письма Андрея Белого к М. А. Бекетовой и А. Д. Бугаевой) см.: Литературное наследство. Т. 27/28. С. 690–691.
(обратно)1591
См.: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». С. 13–14.
(обратно)1592
Об этом см.: Лавров А. В. Петербург до «Петербурга» в мифопоэтике и творчестве Андрея Белого // Лавров А. В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 153–156.
(обратно)1593
Текст доклада опубликован ныне по рукописи из архива Белого: Mamlstad John E. Silver Threads among the Gold: Andrei Belyi’s Pushkin // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age. Ed. by Boris Gasparov, Robert P. Hughes and Irina Paperno. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1992. P. 431–482.
(обратно)1594
Хранится в собрании автора статьи.
(обратно)1595
В Кучине под Москвой в 1925–1931 гг. постоянно проживал Андрей Белый (см.: Голощапова Зинаида. Кучинский остров Андрея Белого. М., 2005); Клавдия Николаевна тогда, бывая в Кучине частыми и продолжительными наездами, жила в московской квартире с мужем П. Н. Васильевым и матерью А. А. Алексеевой.
(обратно)1596
Эта открытка в архиве Белого не сохранилась.
(обратно)1597
Текст «огромнейшего» письма Белого к Иванову-Разумнику нам не известен. Ответное письмо – от 4 сентября 1932 г. – и комментарии к нему, проясняющие обстоятельства конфликта, см. в кн.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 705–708.
(обратно)1598
Имеется в виду журнал «Эпопея» (№№ 1–4), выходивший в Берлине в 1922–1923 гг. под редакцией Андрея Белого; там были опубликованы, в частности, его «Воспоминания о Блоке». Рукопись Белого «Комментарии к моей переписке с Блоком» К. Н. Бугаева впоследствии передала Жоржу Нива, опубликовавшему ее в изд.: Cahiers du monde russe et soviétique. 1974. Vol. XV. № 1/2. Р. 83 – 104.
(обратно)1599
Подробнее см.: «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901–1928. Предисловие, публикация и примечания А. В. Лаврова и Джона Малмстада. М., 2006.
(обратно)1600
См.: «Наша любовь нужна России…» Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой. Вступ. статья, составление, публикация и комментарии Александра Носова // Новый мир. 1993. № 9. С. 172–229; № 10. С. 174–215.
(обратно)1601
См.: Золотое Руно. 1906. № 7/9. С. 129–135; Белый Андрей. Собр. соч.: Серебряный голубь. Рассказы. М., 1995. С. 264–273.
(обратно)1602
Имеется в виду статья Андрея Белого «На перевале. XIV. Штемпелеванная культура» (Весы. 1909. № 9. С. 72–80; подпись: Борис Бугаев); позднейший критический отзыв автора о ней – в записях «К материалам о Блоке» (1921) (Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 462, 578). См.: Безродный М. О «юдобоязни» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. С. 100–125.
(обратно)1603
В Бельгии А. А. Тургенева обучалась гравировальному искусству в студии престарелого мастера Мишеля Огюста Данса (1829–1929). О ком здесь идет речь – неизвестно.
(обратно)1604
Это суждение К. Н. Бугаевой (возможно – версия, сообщенная ей Белым) не соответствует действительности: близкие взаимоотношения Белого и Петровской завязались до начала ее любовной связи с Брюсовым. См.: с. 143–144 наст. изд.
(обратно)1605
Выражение Александра Адуева («Обыкновенная история», ч. 1, гл. II). См.: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 213.
(обратно)1606
Судя по дальнейшему тексту, вопросы касались фабульной стороны содержания 4-й «симфонии» «Кубок метелей».
(обратно)1607
Цезарь Самойлович Вольпе (1904–1941) – историк литературы, критик; погиб при переправе через Ладожское озеро из блокадного Ленинграда. Ранее в Малой серии «Библиотеки поэта» был выпущен сборник «Стихотворений» Андрея Белого (Л.: Советский писатель, 1940) под его редакцией и с его вступительной статьей.
(обратно)1608
Имеются в виду оценочные характеристики Андрея Белого в статьях «История одной “дружбы-вражды”» В. Н. Орлова (в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. V–LXIV), «Философия и эстетика русского символизма» В. Ф. Асмуса (Литературное наследство. Т. 27/28. С. 1 – 53), «Поэма страха» К. Л. Зелинского (в кн.: Белый Андрей. Петербург. М., 1935. С. III–XXI), «Наши дела» В. В. Вишневского (Литературная газета. 1936. 5 сентября).
(обратно)1609
Первая цитата – из стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..»; вторая – из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» Пушкина – неоднократно приводится в текстах Белого.
(обратно)1610
Речь идет о публикации воспоминаний Андрея Белого в «Серии литературных мемуаров» издательства «Художественная литература», тогда не состоявшейся.
(обратно)1611
Эта публикация, подготовленная литературоведом, сотрудником Пушкинского Дома Камсаром Нерсесовичем Григорьяном (1911–2004), была составлена из фрагментов писем Андрея Белого к Иванову-Разумнику без указания имени адресата (по машинописной копии, сохранившейся в неполном виде в фонде Иванова-Разумника в Пушкинском Доме).
(обратно)1612
РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 16. Л. 25. К. А. Федин в 1959–1971 гг. возглавлял Союз советских писателей.
(обратно)1613
См.: Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Новые поступления в отдел рукописей (1952–1966). Краткий отчет. М., 1968. С. 22–23. 21 мая 1963 г. К. Н. Бугаева писала Д. Е. Максимову об архивных материалах, предназначенных для Публичной библиотеки: «… мне хотелось бы передать в фонд Б. Н. несколько фотографий, висевших в его комнате и как-то биографически с ним связанных. Напр<имер>, очень хороший гравюрный портрет Пушкина, подаренный ему друзьями в день его пятидесятилетия, портрет Ломоносова (тоже гравюра) – этого “архангельского хрестьянина”, слова которого “Открылась бездна звезд полна” Б. Н. взял как внутренний лейтмотив для Коробкина (Вы помните, как различно дано ночное небо над Коробкиным и над Киерко); затем фотоснимок Арарата, открытку с изображением сфинкса, портрет Л. Н. Толстого и ряд снимков Серебряного Колодезя – их домик, цветник, липовая аллея. – Из “тяжестей” – несколько редакций «Начала Века», начиная с самой полной (берлинской) 1923 г. и затем постепенных ее сокращений вплоть до того ужасного вида, который это “Начало” приняло к 1933, когда Б. Н. – уже больной – отказался признать эту книгу своей». 12 июня 1963 г. она вновь писала о хранящихся у нее материалах Белого: «… хотела бы Вам передать тетрадь его зарисовок Кавказа. Он очень любил их, хотя чисто художественного значения, конечно, они не имеют, и когда он показал их К. С. Петрову-Водкину, тот только засмеялся».
(обратно)1614
Ошибка памяти: К. Н. приехала в Берлин в январе 1923 г. и пробыла там до июля того же года.
(обратно)1615
Подразумевается «Разговор о Данте», написанный Мандельштамом весной 1933 г. в Старом Крыму и Коктебеле.
(обратно)1616
Премьера – 14 ноября 1925 г.; режиссеры С. Г. Бирман, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан. В главных ролях: Аполлон Аполлонович Аблеухов – М. А. Чехов, Николай Аполлонович Аблеухов – И. Н. Берсенев, Софья Петровна Лихутина – С. В. Гиацинтова.
(обратно)1617
К этому абзацу Максимов сделал помету карандашом: «Сомневаюсь, что сказано искренне».
(обратно)1618
Анна Сергеевна Гончарова (1855 –?) – доктор философии, теософка. См. о ней: Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 66–69.
(обратно)1619
Речь идет о статье Иванова-Разумника «Петербург», опубликованной в его книге «Вершины. Александр Блок. Андрей Белый» (Пг., 1923); в ней проведен сопоставительный анализ первопечатной, пространной редакции романа «Петербург», опубликованной в сб. 1–3 «Сирин» в 1913–1914 гг., и сокращенной редакции, опубликованной отдельным изданием (ч. 1–2. Берлин, 1922), и сделаны выводы о различиях между редакциями в плане ритмической организации и идеологической направленности текста. См.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников. Антология. СПб., 2004. С. 610–668.
(обратно)1620
См. описание этой встречи (в декабре 1921 г.) в мемуарном очерке В. Ф. Ходасевича «Андрей Белый» (Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 59–60).
(обратно)1621
Мария Яковлевна фон Сиверс (1867–1948) – деятельница антропософского движения, секретарь, затем жена Р. Штейнера.
(обратно)1622
Об этой встрече, состоявшейся 30 марта 1923 г., см.: Спивак Моника. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 112–115.
(обратно)1623
Записано заведомо неточно – на слух и по памяти. Наверняка К. Н. Бугаева упоминала в разговоре книги, зафиксированные Андреем Белым в комментариях к его «Символизму» (М., 1910. С. 624): Saint-Iver d’Alveydre. «Mission des Juifs»; Fabre d’Olivet. «La Langue hébraique restitutée»; Elifas Lèvi. «Histoire de la Magie».
(обратно)1624
Белый составил собственный гороскоп во время пребывания в Бобровке (Тверская губ.) в конце февраля – первой половине марта 1909 г. Об использованной им гороскопической методике см.: Carlson Maria. «The Silver Dove» // Andrey Bely. Spirit of Symbolism. Ed. by John E. Malmstad. Ithaca; London, 1987. P. 68–73.
(обратно)1625
См.: Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 176–229.
(обратно)1626
См. главу «Папа дошел до гвоздя» (Белый Андрей. Крещеный китаец. М., 1927. С. 142–155).
(обратно)1627
В главе из «На рубеже двух столетий» (С. 152–162), содержащей мемуарный портрет юриста, философа и социолога Владимира Ивановича Танеева (1840–1921), Белый об этом умалчивает.
(обратно)1628
Вид, образ, стан, фигура. (Примеч. Д. Е. Максимова).
(обратно)1629
РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 28.
(обратно)1630
Имеется в виду незавершенное исследование Андрея Белого «История становления самосознающей души» (1926, 1931), его авторизованный текст хранится в фонде Андрея Белого в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Москва) и в США в Амхерстском центре русской культуры (Amherst College). См.: Белый Андрей. Душа самосознающая / Составление и статья Э. И. Чистяковой. М., 1999.
(обратно)1631
Вольфила (Вольная Философская Ассоциация), председателем совета которой был Андрей Белый, действовала в Петрограде в 1919–1924 гг.
(обратно)1632
Часть переписки Белого и Б. Л. Пастернака уцелела; см.: Из переписки Бориса Пастернака с Андреем Белым. Вступ. статья, публикация и комментарии Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 686–706. В апреле 1931 г., когда Белый и Клавдия Николаевна проживали в Детском Селе, в московской квартире Васильевых (где жила А. А. Алексеева, мать К. Н.) был произведен обыск и изъят хранившийся там архив Белого (впоследствии частично возвращенный владельцу).
(обратно)1633
Эти сведения неточны: беловой автограф «Воспоминаний» К. Н. Бугаевой хранится в Отделе рукописных фондов Гос. Литературного музея (Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 51), в РНБ – черновой автограф (Ф. 60. Ед. хр. 105) и одна из авторизованных машинописных копий (Ф. 60. Ед. хр. 106).
(обратно)1634
Эти исследовательские материалы К. Н. Бугаевой хранятся в фонде Андрея Белого в РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 109–113).
(обратно)1635
Елена Николаевна Кезельман (урожд. Алексеева; 1889–1945) – сестра К. Н. Бугаевой, автор мемуарного очерка о Белом «Жизнь в Лебедяни летом 32-го года» (см.: Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001. С. 329–352).
(обратно)1636
Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1982. № 7), вошел в кн.: Максимов Д. Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 350–376.
(обратно)1637
См.: Dissertationes Slavicae. XVII. Szeged, 1985. C. 31 – 166. С редакционными купюрами – в кн.: Максимов Д. Русские поэты начала века. С. 240–348.
(обратно)1638
Опубликованы Дж. Малмстадом в кн.: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. Paris, 1988. С. 7 – 53.
(обратно)1639
Цитата по машинописной копии из собрания Д. Е. Максимова.
(обратно)1640
Письмо приводится с сокращениями по автографу из собрания Д. Е. Максимова.
(обратно)1641
Анна Алексеевна Алексеева (1860–1942). Ср. свидетельство М. Н. Жемчужниковой в письме к Д. Е. Максимову от 17 мая 1981 г.: «…Галина Сергеевна Киреевская (‹…› бывшая артистка Второго МХАТ) говорила со слов Клавдии Николаевны, что в романе “Маски” “очень хорошо обрисована мать Малютки Домна Пантелеевна – это Анна Алексеевна, сама Малютка – иногда до мелочей – Клавдия Никол<аевна>, а прислуга Мелетина – это тетка Кл<авдии> Н<иколаевны>”». Тетка – сестра А. А. Алексеевой Екатерина Алексеевна Королькова (1864–1941).
(обратно)1642
П. Н. Васильев (1885–1976) – первый муж Клавдии Николаевны; врач, антропософ.
(обратно)1643
Упоминаются: Всеволод Николаевич Васильев (1883–1944) – инженер-гидролог; Елизавета Ивановна Васильева (урожд. Дмитриева, псевдоним – Черубина де Габриак; 1887–1928) – поэтесса, драматург, руководитель петроградской антропософской группы Ильи Пророка, с 1911 г. замужем за Вс. Н. Васильевым; Борис Алексеевич Леман (псевдоним – Б. Дикс; 1880–1945) – поэт, критик, руководитель петроградской антропософской группы Бенедиктуса; Ольга Николаевна Анненкова (1884–1949) – переводчица; Трифон Георгиевич Трапезников (1882–1926) – искусствовед.
(обратно)1644
Этот мемуарно-автобиографический очерк опубликован в переводе на немецкий язык. См.: Bugajewa K. N. Wie eine russische Seele Rudolf Steiner erlebte. Basel: Verlag die Pforte, 1987.
(обратно)1645
Марк Владимирович Шмерлинг (? – 1981) – поэт, переводчик, педагог; антропософский деятель.
(обратно)1646
Е. В. Невейнова.
(обратно)1647
См.: «Или к “Маскам” возможен иной подход?» Из переписки Д. Е. Максимова и М. Н. Жемчужниковой. Публикация и примечания Н. И. Жемчужниковой // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 74–76.
(обратно)1648
Надсон С. Я. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1962. С. 269 («Библиотека поэта», Большая серия).
(обратно)1649
Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 217–218.
(обратно)1650
См.: Тиханчева Е. П. Брюсов о Надсоне // Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 1976. С. 201–216.
(обратно)1651
Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. СПб.; М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1914. Т. 15. С. 297.
(обратно)1652
Мережковский Д. С. Автобиографическая заметка // Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1914. Т. 1. С. 291. Знакомство с Надсоном состоялось, судя по сохранившимся документам, в конце 1882 г., когда Мережковский учился в последнем классе гимназии. См.: Кумпан К. А. Д. С. Мережковский-поэт (У истоков «нового религиозного сознания») // Мережковский Д. С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 17 («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)1653
Щеглов Ив. Русская Марсельеза (Из записной книжки) // Слово. 1907. № 52. 19 января. С. 2.
(обратно)1654
Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 2. С. 239.
(обратно)1655
См.: Надсон С. Я. Полн. собр. стихотворений. С. 204–205.
(обратно)1656
Мережковский Д. Стихотворения (1883–1887). СПб., 1888. С. 9.
(обратно)1657
См.: Там же. С. 252–254; Мережковский Д. С. Стихотворения и поэмы. С. 198–199, 799–800 (примечания К. А. Кумпан).
(обратно)1658
Надсон С. Я. Полн. собр. стихотворений. С. 311–312.
(обратно)1659
ИРЛИ. Ф. 402. Оп. 2. Ед. хр. 349.
(обратно)1660
Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893) был первым из маститых литераторов старшего поколения, поддержавших поэтическое дарование Мережковского. В «Автобиографической заметке» Мережковский сообщает, что с Плещеевым его познакомил Надсон (см.: Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 1914. С. 291). В некрологической статье «Памяти А. Н. Плещеева» Мережковский вспоминал: «О, какой это был милый, и простой, и добрый человек! ‹…› право, кажется иногда, что жизнь Плещеева – одна из его лучших, самых высоких поэм. ‹…› Я познакомился с ним лет двенадцать тому назад. Помню, я заходил к нему тогда на бедную и тесную квартиру, в Троицком переулке, потом на Спасскую. ‹…› Каждому становилось здесь теплее. Словно приходил не к чужому, а к почитаемому и родному другу. Я никогда не забуду его бессознательной, невольной и тонкой внимательности, его доброты с молодыми писателями. ‹…› Я ничего не знаю прелестнее и благороднее этой детской в самом высоком смысле слова, очаровательной истинно-русской простоты в обращении равно со всеми людьми. ‹…› он был “чистый сердцем”, этот кроткий и печальный поэт» (Театральная газета. 1893. № 14. 3 октября. С. 1).
(обратно)1661
Имеются в виду, видимо, те стихотворные автографы, о которых Надсон упоминал в письме к А. Н. Плещееву от 29 марта 1883 г.: «Если Мережковский показывал вам два мотива, подписанные моим именем, забудьте эту бледную дрянь, а если не показывал – не читайте их, ибо они мерзки» (Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 2. С. 478).
(обратно)1662
Вероятно, имеется в виду письмо Надсона к Мережковскому (ответ на п. 1), которое было «написано и отправлено 24-го марта 1883 г.» (текст его неизвестен); такой датировкой Мережковский сопроводил публикацию другого письма Надсона к нему, на деле являющегося ответом на его письмо от 11 июля 1883 г. (Новый Путь. 1903. № 4. С. 152; Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 486). Путаница в датировках объясняется, видимо, тем, что у Мережковского сохранился конверт с почтовыми штемпелями от утраченного письма, который он ошибочно соотнес с июльским письмом Надсона. Надсон, определенно, подразумевал свое письмо к Мережковскому от 24 марта, когда уведомлял Плещеева в апреле 1883 г.: «Мережковскому я писал потому, что он мне прислал полное отчаяния письмо; вообще он мой брат по страданию: у нас с ним есть на душе одно общее горе, и я рад был бы, если б мог хоть немножко его поддержать» (Там же. С. 479).
(обратно)1663
Обыгрывается строка «Сияй же, указывай путь» из романса «Как сладко с тобою мне быть…» (1843; слова П. П. Рындина, музыка М. И. Глинки).
(обратно)1664
Видимо, реминисценция формулы И. Канта (из Заключения к «Критике практического разума», 1788) о двух началах, организующих человеческую душу, – «звездное небо над нами и моральный закон в нас».
(обратно)1665
Весной 1883 г. Мережковский заканчивал 3-ю петербургскую гимназию.
(обратно)1666
Стихотворение Надсона «Грезы», посвященное Плещееву, было написано в начале 1883 г., опубликовано в «Отечественных Записках» (1883. № 9). 29 марта 1883 г. Надсон писал Плещееву, подразумевая «Грезы»: «…разрешаете ли вы посвятить вам мою белиберду и таким образом хотя отчасти выразить вам мою признательность за то, что вы были моим крестным отцом на литературном поприще?» (Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 478).
(обратно)1667
Сам Надсон в это время выражал недовольство своим стихотворением; в апреле 1883 г. он писал Плещееву: «“Грезы” мои – дрянь; это для меня ясно ‹…› все это песни мертвого сердца, – сердца, в котором ни грез, ни веры, ни желаний, и которое все-таки физически живет и по привычке хочет высказаться. ‹…› Что же касается “Грез”, – то, во-первых, они холодны, во-вторых – длинны, в-третьих – бледны и в-четвертых – вам самому не нравятся» (Там же. С. 479). Плещеев пытался убедить автора в обратном – судя по письму Надсона к нему от 19 апреля 1883 г.: «“Грезы” – вы пока отложите: я над ними работаю, – снова уверовав в них после ваших слов» (Жервэ Ник. Кадетские, юнкерские и офицерские годы С. Я. Надсона. СПб., 1907. С. 101). Позднее Надсон изменил свое мнение и за год до смерти признавался в письме к Ф. Ф. Фидлеру: «Лучшим из моих стихотворений я считаю “Грезы”» (Надсон С. Я. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1962. С. 444. Примечания Ф. И. Шушковской).
(обратно)1668
Написано, а отправлено через неделю. (Примеч. Мережковского).
(обратно)1669
С конца мая 1883 г. квартировавший в Кронштадте 148-й Каспийский пехотный полк, в котором служил Надсон, был временно размещен в Петербурге.
(обратно)1670
Лето 1883 г. Плещеев проводил на даче в Белоострове, близ Петербурга.
(обратно)1671
Надсон был произведен в офицеры 7 августа 1882 г.
(обратно)1672
Поль Шарль де Кок (1793–1871) – французский романист и драматург, популярный в мещанской среде. Ксавье де Монтепен (1823–1902) – французский прозаик и журналист, автор многочисленных авантюрных романов, в конце XIX века широко переводился на русский язык.
(обратно)1673
Вероятно, подразумевается следующий фрагмент из «Любовных элегий» Овидия (Кн. II, 10): // Счастлив, кого сокрушат взаимные битвы Венеры! // Если б по воле богов мог я от них умереть! ‹…› // Мне же да будет дано истощиться в волнениях страсти, // Пусть за любовным трудом смерть отпускную мне даст. // (Перевод С. В. Шервинского)
(обратно)1674
В ответном письме Надсон сообщал, что «Грезы» должны выйти в свет «в сентябре» – т. е. в сентябрьском номере «Отечественных Записок» (Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 486). Ср. его дневниковую запись от 16 июня 1883 г.: «В О. З. пойдут мои “Грезы”» (Там же. С. 194).
(обратно)1675
Алексей Николаевич – Плещеев. На вопросы Мережковского Надсон отвечал: «…я опять чувствую себя совершенно больным. ‹…› Милый Алекс<ей> Ник<олаевич> возится со мною, как с сыном, часто заезжает, притащил своего доктора, носит мне книги, сидит со мною и мечтает о том, чтобы вырвать меня из Кронштадта, – но – увы! – Бог ведает, когда осуществятся эти “грезы”» (Там же. С. 486).
(обратно)1676
Надсон отвечал: «Зиму поневоле придется опять провести в Кронштадте, как это мне ни плачевно» (Там же. С. 487).
(обратно)1677
В ответном письме Надсон сообщал: «На ваш вопрос об ораниенбаумских пажитях отвечает то обстоятельство, что я лежу в постели, и сколько еще пролежу, небу известно» (Там же).
(обратно)1678
Вероятно, намек на увлечение Надсона Марией Александровной Терновской.
(обратно)1679
В ответ на эти слова Надсон писал Мережковскому: «…никогда в письмах не стесняйтесь ни почерком, – ибо это внешность, – ни беспорядочностью содержания, – ибо письма эти дружеские, и пишется то, что хочется написать» (Там же. С. 486).
(обратно)1680
А. Н. Плещеев.
(обратно)1681
Иван Иванович Горбунов (Горбунов-Посадов; 1864–1940) – поэт, прозаик; впоследствии – издатель, проповедник толстовства. С Надсоном познакомился в 1882 г. В очерке «О моих учителях и товарищах по работе» Горбунов-Посадов вспоминал: «Счастлив я был еще и тем, что так близко знал чудесного, искреннего, необыкновенно родственно созвучного мне своей душой и поэзией, милого Надсона, дружба которого озарила своим светлым сиянием начало моей молодости и исчезла с его жизнью, как светлый метеор. Он и Гаршин много дали моему сердцу» (Сорок лет служения людям. Сб. статей, посвященных общественно-литературной и издательской деятельности И. И. Горбунова-Посадова. М., 1925. С. 125–126).
(обратно)1682
Семья гимназического товарища Мережковского. В рукописи «Автобиографической заметки» Мережковский зачеркнул фразу о том, что в гимназические годы он общался с Ю. Т. Коррнбутом-Кубитовичем, «очень благородным юношей» (ИРЛИ. № 24384. Л. 8).
(обратно)1683
Имеется в виду стихотворение «Цветы» («Я шел к тебе… На землю упадал…»).
(обратно)1684
Подразумевается газета «Еженедельное Обозрение», редактором-издателем которой был И. В. Скворцов. Об учреждении этой газеты, выходившей в свет с 18 декабря 1883 г., Надсона информировал Плещеев в письме от 18 октября 1883 г. (см.: Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Вып. 6. М.; Л., 1961. С. 397). Стихотворение «Цветы» впервые было опубликовано в «Еженедельном Обозрении» (1884. № 11. С. 349).
(обратно)1685
Вероятно, речь идет о стихотворении Мережковского «Не говори, что жизнь ничтожна и пуста…» (впоследствии озаглавлено: «Поэту»), впервые опубликованном в «Отечественных Записках» (1884. № 1. С. 261). См.: Мережковский Д. С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 117, 769–770. Примечания К. А. Кумпан («Новая Библиотека поэта»).
(обратно)1686
Петр Исаевич Вейнберг (1831–1908) – поэт, переводчик, историк литературы; в 1883–1885 гг. издавал журнал «Изящная литература», в котором печатались главным образом переводы из западноевропейских писателей. Ни в этом издании, ни в каком-либо ином переводы произведений французского поэта Сюлли-Прюдома (1839–1907), выполненные Мережковским, не появились.
(обратно)1687
Виктор Александрович Гольцев (1850–1906) – публицист, литературный критик, общественный деятель; принимал активное участие в журнале «Русская Мысль» со времени его основания в 1880 г. В № 5 «Русской Мысли» за 1884 г. было опубликовано стихотворение Мережковского «Усни» (С. 351), в № 6 – «Алонзо Добрый» (С. 70–72).
(обратно)1688
Официальным редактором «Русской Мысли» в 1880–1885 гг. был С. А. Юрьев.
(обратно)1689
Николай Максимович Минский (наст. фам. Виленкин; 1856–1937) – поэт, философ, переводчик, публицист; в 1870-е – начале 1880-х гг. был близок к радикально-народническим кругам.
(обратно)1690
Михаил Нилович Альбов (1851–1911) – прозаик. Речь идет о его первой книге «Повести» (СПб., 1884).
(обратно)1691
Александр Николаевич Яхонтов (1820–1890) – поэт, переводчик, общественный деятель. В «Отечественных Записках» было опубликовано его стихотворение «Горный ручей» («Там, где белеет нетающий снег…» – 1883. № 12. Отд. I. С. 467–470). Издание стихотворений Тютчева, готовившееся Яхонтовым, не было осуществлено. См. стихотворение Яхонтова «Памяти Ф. И. Тютчева» (1874) (Стихотворения Александра Яхонтова. СПб., 1884. С. 196).
(обратно)1692
Абрамов – товарищ Надсона по 148-му Каспийскому полку, живший вместе с ним в Кронштадте. См. упоминания о нем в письмах Надсона (Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 473, 483).
(обратно)1693
Иван Васильевич Скворцов (псевдонимы: И. Старов, Solo; 1855 –?) – публицист, преподаватель педагогических женских учебных заведений (см. о нем в комментариях Л. Н. Назаровой в кн.: Литературный архив. Вып. 6. С. 399), редактор-издатель газеты «Еженедельное Обозрение» (см. примеч. 5 к п. 4).
(обратно)1694
В первой публикации стихотворения «Цветы» в «Еженедельном Обозрении» и в последующих прижизненных и посмертных публикациях из текста по цензурным соображениям было исключено предпоследнее четверостишие и заменено строкой отточий (см.: Надсон С. Я. Полн. собр. стихотворений. С. 203, 446–447).
(обратно)1695
Начало одной из строк стихотворения Надсона «Опять вокруг меня ночная тишина…» (1883), впервые опубликованного в «Еженедельном Обозрении» (1885. № 56. С. 14).
(обратно)1696
Попытка передать «Цветы», готовившиеся к печати в «Еженедельном Обозрении», в «Отечественные Записки» была стимулирована готовностью М. Е. Салтыкова-Щедрина, редактировавшего этот журнал, поместить в нем стихи Надсона. 21 января 1884 г. Плещеев писал Надсону: «А Салтыков пристает ко мне – подай да подай к февральской книжке стихов. Он бы, пожалуй, Мережковского напечатать непрочь – да неловко в каждой книжке все одного и того же поэта помещать. Не напишется ли у вас чего?» (Невский альманах. Вып. 2. Пг., 1917. С. 127).
(обратно)1697
21 января 1884 г. Плещеев писал Надсону: «Вчера видел я в театре Скворца, с которым Мережковский за день перед тем, или в тот же день утром, вел безуспешно переговоры о вашем стихотворении. Он, кажется, не желает положительно выпускать их из своего Скворешника и говорил со мной об этом несколько обиженным тоном: “Конечно, говорит, всякий волен распоряжаться своим добром” и проч. Я ему на это заметил, что добро это теперь уже не ваше, а его, так как он вам деньги за него отдал, но дело в том, что четыре строки, которые вы ради Скворешника переделали, изменяют внутренний смысл всей пьесы, и вам это неприятно. Тогда он обещался показать цензору стихи в первоначальной редакции и, если они не пройдут, – то возвратить мне их. Но однако же сегодня не был у меня и не прислал их. ‹…› Мог бы понять, что хорошему стихотворению не след пропадать в его Скворешнике, который здесь никто не читает, ‹…› и что если ему возвращают за него деньги, да еще другое стихотворение посылают и статью дают, то простое приличие требовало бы возвратить желаемое» (Невский альманах. Вып. 2. С. 126–127).
(обратно)1698
Вероятно, имеется в виду двоюродный брат Надсона Василий Ильич Мамонтов.
(обратно)1699
Федор Алексеевич Червинский (1864–1918) – поэт, прозаик; студент юридического факультета Петербургского университета.
(обратно)1700
В № 1 «Отечественных Записок» за 1884 г. были напечатаны стихотворения Мережковского «Не говори, что жизнь ничтожна и пуста…» и «Весь этот жалкий мир отчаянья и муки…» (С. 263–264), в № 11 за 1883 г. – «Если розы тихо осыпаются…» и «Герой, певец, отрадны ваши слезы!..» (С. 214, 229–230).
(обратно)1701
См. п. 4, примеч. 5, п. 5, примеч. 4, 5.
(обратно)1702
Эти сведения оказались верными: в № 2 «Отечественных Записок» за 1884 г. стихотворных публикаций не было.
(обратно)1703
Интерес Мережковского к творчеству Эдгара По оказался устойчивым: спустя несколько лет он опубликовал в своем переводе поэму По «Ворон» (Северный Вестник. 1890. № 11. С. 188–194; Мережковский Д. Символы. СПб., 1895. С. 417–424) и его новеллу «Лигейя» (Труд. 1893. № 11. С. 376–391).
(обратно)1704
Подразумеваются экзамены на историко-филологическом факультете Петербургского университета, куда Мережковский был зачислен студентом в августе 1883 г.
(обратно)1705
Имеется в виду постановка комедии А. Н. Островского «Без вины виноватые» в Александринском театре (премьера – 17 января 1884 г.), пользовавшаяся огромным успехом у зрителей (см.: Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. <М.>, 1953. С. 324–325).
(обратно)1706
Стихотворения Константина Михайловича Фофанова (1862–1911) стали появляться в журналах и газетах с 1881 г. Теплов – видимо, В. Теплов, поэт и прозаик 1880 – 1890-х гг.
(обратно)1707
Иван Леонтьевич Леонтьев (псевдоним – Иван Щеглов; 1856–1911) – прозаик, драматург, театральный критик; был знаком с Надсоном с января 1882 г. В мемуарной заметке «Русская Марсельеза» он писал о Надсоне: «Мне выпало на долю ободрить его на первых писательских шагах, когда еще, будучи юнкером, он навещал меня в дни отпуска из Павловского училища; потом, по выходе в офицеры, он прожил со мною целую осень на даче в Павловске ‹…›» (Слово. 1907. № 52. 19 января).
(обратно)1708
Дмитрий Андреевич Коропчевский (1842–1903) – писатель, антрополог, этнограф; близкий друг И. Л. Леонтьева (см. о нем в комментариях Г. В. Ермаковой-Битнер в кн.: Литературный архив. Вып. 6. С. 377–378).
(обратно)1709
М. В. Ватсон (урожд. Де Роберти де Кастро де ла Серда; 1848–1932) – переводчица, поэтесса, историк литературы; принимала ближайшее участие в судьбе Надсона, помогала ему готовить издания его произведений. После смерти поэта – основной публикатор его книг и рукописей; ею было подготовлено Полное собрание сочинений Надсона в двух томах (Пг., 1917), 1-му тому предпослан ее биографический очерк «Семен Яковлевич Надсон».
(обратно)1710
В связи с выходом в отставку Надсон хлопотал о гражданской службе в Петербурге, которая могла дать ему необходимые средства к существованию.
(обратно)1711
Анна Павловна Философова (урожд. Дягилева; 1837–1912) – видная деятельница либерального движения, одна из основательниц Высших женских курсов в Петербурге. См. сборник «Памяти Анны Павловны Философовой» (т. 1–2. Пг., 1915).
(обратно)1712
Владимир Дмитриевич Философов (1820–1894) – государственный деятель.
(обратно)1713
Илья Степанович Мамонтов, брат матери Надсона Антонины Степановны. После смерти матери в 1872 г. и до поступления в Павловское военное училище в 1879 г. Надсон жил в семье И. С. Мамонтова.
(обратно)1714
Сергей Иванович Мережковский (1821–1908) – столоначальник в придворной конторе, действительный тайный советник – и Варвара Васильевна Мережковская (урожд. Чеснокова; ум. в 1889 г.).
(обратно)1715
См. сведения о М. И. Терещенко в изданиях: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 313–314 (статья В. Е. Голостенова); Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 605–606 (статья С. Сергеевой); Барышников М. Н. Деловой мир России. Историко-биографический справочник. СПб., <1998>. С. 352; Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 793–794.
(обратно)1716
Так, 14 июля 1912 г. Терещенко писал Ремизову: «Мы виделись с Блоком и долго и много говорили о Вас. Поправляйтесь скорее, Вы не знаете, как Вы Вашим друзьям дороги. ‹…› У Блока дело наладилось хорошо, три действия совсем готовы. Есть еще кое-какие шероховатости и неясности, но в общем, мне кажется, очень хорошо. Боюсь только, поймет ли музыкант. Свидание с Блоком за эти дни было единственным светлым пятном» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 215).
(обратно)1717
См.: Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908–1944 гг.) / Публикация Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона. Вступительная заметка и комментарии Е. Обатниной и В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. Вып. II. СПб., <1998>. С. 19 – 122.
(обратно)1718
Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, <1959>. С. 166.
(обратно)1719
Ср., однако, сообщение в письме Ремизова к П. С. Воробьевой от 12/25 ноября 1912 г.: «Том 8-ой – это последний в «Шиповнике». Я перешел в другое книгоиздательство, в новое – в “С и р и н”. Это кн<игоиздательств>о только-только что начинает свою деятельность. Кроме меня, издавать будут Брюсова, Блока» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 323). Позднее Ремизов написал о 8-томном собрании своих сочинений: «…начато в Шиповнике. Перепродано “Сирину”. Закончено Сирином – вот эта желтая обложка да указатель на 8-м тому» (Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 170).
(обратно)1720
См. ее общий обзор: Голлербах Е. А., Мухаркин Д. М. Издательство «Сирин» // Книжное дело в России в XIX – начале XX века: Сб. научных трудов. Вып. 12. СПб., 2004. С. 57–74.
(обратно)1721
РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 481. Ср. сообщение в письме Иванова-Разумиика к Брюсову от 20 января 1915 г.: «Вы спрашиваете о причинах “катастрофы”, – но причин нет, есть только повод – война. <.. > И теперь я резко несогласен не с прекращением изд<ательст>ва, – это их дело, – а с прекращением тех изданий, которые были начаты и теперь не окончены; я старался убедить их закончить “Собр. соч. В. Брюсова” и доиздать оставшиеся 5–6 тт. Сологуба. Но это не удалось – и я еще раз приношу Вам свои извинения за это не-литературное окончание дела, в какое Вы попали не по своей, но и не по моей вине» (РГБ. Ф. 386. Карт. 88. Ед. хр. 3).
(обратно)1722
Эта строка и библиографическая справка после цитаты написаны красными чернилами, тем же цветом – подчеркивания в цитате (выделенные курсивом).
(обратно)1723
Эта строка, первые слова второй цитаты («Птицы Сирины»), библиографические справки (с пояснениями Ремизова) написаны красными чернилами.
(обратно)1724
М. И., П. И., Е. И. Терещенко. В письме к А. А. Блоку от 10 октября 1912 г. М. И. Терещенко извещал, что Ремизов нездоров и приглашает их вечером к себе (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 425).
(обратно)1725
В тетрадь вклеен (л. 6; дата сверху рукой Ремизова: «11 ок. 1912 г.») печатный лист с объявлением-каталогом издательства «Шиповник», содержащим информацию о вышедших книгах; в нем зачеркнуты рубрики: Сочинения Б. Зайцева, О. Дымова, Г. Чулкова, Л. Шестова, «Литературные альманахи издательства “Шиповник”», разделы «Юмор и сатира», «Библиотека современной философии» и др.; у объявлений о сочинениях С. Сергеева-Ценского и гр. А. Н. Толстого карандашом поставлен вопросительный знак. Обсуждался вопрос о выкупе у «Шиповника» предпринятых им изданий – с целью осуществления их в задуманном новом издательстве.
(обратно)1726
«Вена» – петербургский ресторан на ул. Гоголя, 13 (Малая Морская, на углу Гороховой ул.), популярный в литературно-артистической среде. См.: Десятилетие ресторана «Вена». Литературно-художественный сборник. СПб., 1913. Петр Дмитриевич Маныч (? – 1918) – литератор; входил в ближайшее окружение А. И. Куприна: «В течение нескольких лет Маныч неотступно играл роль адъютанта Куприна. Он исполнял всевозможные (не только деловые) поручения, сопровождал его во все рестораны и театры» (Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. М., 1965. С. 151).
(обратно)1727
Е. М. Терещенко, мать М. И. и сестер Терещенко.
(обратно)1728
Евгений Александрович Ляцкий (1868–1942) – литературный критик, историк русской литературы, этнограф, фольклорист, прозаик (Дутик – прозвище Ляцкого, фигурирующее в переписке современников); редактируя в феврале 1912 – июле 1913 г. журнал «Современник», привлек М. Горького к руководству литературным отделом (см.: Переписка <М. Горького> с Е. А. Ляцким / Вступ. статья С. В. Заики, публикация и комментарии И. В. Дистлер // Литературное наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. М., 1988. С. 486–573; Муратова К. Д. М. Горький на Капри. 1911–1913. Л., 1971. С. 15–60; Муратова К. Д. «Современник» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Большевистские и общедемократические издания. М., 1984. С. 162–201).
(обратно)1729
Литературно-художественное кабаре в Петербурге (Михайловская пл., 5), открывшееся 31 декабря 1911 г. В воскресенье 14 октября 1912 г. в «Бродячей собаке» был вечер памяти И. А. Саца (см.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985. С. 192–193).
(обратно)1730
Подразумевается один из основателей и руководитель издательства «Шиповник» Зиновий Исаевич Гржебин (1869–1929). Темой разговора с Гржебиным были условия передачи издательских прав на собрания сочинений Ремизова и Ф. Сологуба от «Шиповника» к «Сирину».
(обратно)1731
Михаил Михайлович Фокин (1880–1942) – артист балета, балетмейстер; с 1898 г. в Мариинском театре. О работе Ремизова над либретто для постановок в Мариинском театре см.: Lampl Horst. Aleksej Remizovs Beitrag zum russischen Theater // Wiener Slavistischer Jahrbuch. 1972. Bd. 17. S. 170–175; Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908–1944 гг.) / Публикация Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона. Вступ. заметка и комментарии Е. Обатниной и В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. Вып. II. СПб., <1998>. С. 62–63.
(обратно)1732
Александр Иванович Тиняков (псевдонимы – Одинокий, Герасим Чудаков; 1886–1934) – поэт, журналист, критик.
(обратно)1733
С. П. Ремизова-Довгелло (1876–1943), жена А. М. Ремизова.
(обратно)1734
Соломон Юльевич Копельман (1881–1944) – совладелец (вместе с 3. И. Гржебиным) издательства «Шиповник». Его сестра – Елизавета Юльевна Антик (сообщено Е. А. Голлербахом), одна из пайщиц издательства «Шиповник», жена руководителя московского издательства «Польза» Владимира Морицевича Антика (1882–1972). См.: Московский книгоиздатель В. М. Антик. Каталог изданий 1906–1918. М., 1993.
(обратно)1735
Эпистолярные переговоры от имени «Сирина» с В. Я. Брюсовым (об издании его «Полного собрания сочинений и переводов») вел Иванов-Разумник (РГБ. Ф. 386. Карт. 88. Ед. хр. 1).
(обратно)1736
Дочь Сергея Петровича Боткина (1832–1889), терапевта, основателя крупнейшей школы русских клиницистов. Ее брат – Сергей Сергеевич Боткин (1859–1910), врач, профессор Военно-медицинской академии; любитель искусства и коллекционер, действительный член Академии художеств с 1905 г. См. статью А. Н. Бенуа «Памяти С. С. Боткина» (1924) в кн.: Александр Бенуа размышляет… М., <1968>. С. 168–175.
(обратно)1737
Профессора императорского Археологического института, в котором С. П. Ремизова-Довгелло в 1910–1912 гг. прошла полный курс обучения. Н. М. Каринский преподавал там славянскую палеографию, С. М. Середонин – историческую географию. См.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000. С. 76–77. Николай Михайлович Каринский (1873–1935) – специалист по истории русского языка, диалектологии, славяно-русской палеографии. Сергей Михайлович Середонин (1860–1914) – историк, географ.
(обратно)1738
Подразумеваются поэт, художник, литературный и художественный критик Давид Давидович Бурлюк (1882–1967) и члены его семейства (в их квартире в Херсоне Ремизовы жили с ноября 1903 по февраль 1904 г.): скорее всего, сестра – Людмила Давидовна Бурлюк-Кузнецова (1886–1973), живописец, братья Владимир Давидович Бурлюк (1886–1917), живописец, и Николай Давидович Бурлюк (1890–1920?), поэт и художник, а также мать – Людмила Иосифовна Бурлюк (урожд. Михневич; 1861–1923), художник-любитель. Ремизов сообщает: «Серафима Павловна всегда считалась “ученицей” Д. Д. Бурлюка. С Бурлюками знакомство у нас старинное: мы жили с ними под одним кровом, и с Людмилой Д. Бурлюк-Кузнецовой у С. П. многолетняя дружба» (Ремизов Алексей. Кукха. Розановы письма / Издание подготовила Е. Р. Обатнина. СПб., 2011. С. 84, 454–455). «Сюжет» сна, возможно, навеян суждениями Ремизова по адресу зачинателей футуризма – «песьеголовцев», по его выражению; в воспоминаниях Д. Бурлюк свидетельствует, что Ремизов советовал Владимиру Бурлюку «ходить голым, опоясавшись лишь тигровой шкурой, и в руках дубину носить…» (Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 25).
(обратно)1739
О ком идет речь, неясно.
(обратно)1740
Ср. дневниковую запись Блока, датированную тем же днем: «В 4 часа приехали Терещенко и Ремизов, поехали кататься. Острова и Стрелка уже в мягком снегу, несказа´нное есть. Секрет пока ото всех: издательство, которое устраивают сестры Терещенко. Нанята уже квартира на Пушкинской, деньги будут платить как лучшие издательства, издавать книги дешево, на английской бумаге. Русские, по возможности. Хотели купить “Шиповник”, разоряющийся (главный пайщик застрелился), но слишком он пропитан своим, дымовско-аверченко-юмористическим» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 166).
(обратно)1741
Имеются в виду сцены для балета-«русалии» «Алалей и Лейла» на музыку А. К. Лядова; текст опубликован в книге Ремизова «Русалия. Театр» (Берлин, 1922). О подготовке неосуществленной театральной постановки «Алалея и Лейлы» Ремизов рассказал в книге «Пляшущий демон. Танец и слово» (Париж, 1949): «Встреча с М. М. Фокиным, для которого я сделал несколько сценариев на музыку, разговоры с ним открыли передо мной балетную мудрость. И потом под глазом Терещенки, Михаил Иванович занимал в те времена какую-то должность при Императорских Театрах, на свой страх и риск написал я русалию (древнее название балетного действа) “Алалей и Лейла” для Мариинского театра» (Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989. С. 267). Первоначальный вариант сценария балета «Алалей и Лейла» Ремизов изложил в письме к И. А. Рязановскому от 22 февраля 1911 г. (Серебряный век русской литературы: Проблемы, документы. М., 1996. С. 94–96. Публикация А. П. Юловой).
(обратно)1742
На л. 13 об. наклеена газетная вырезка – фотография «Леонид Андреев в кругу своей семьи в Финляндии».
(обратно)1743
Имеется в виду согласие руководителей издательства «Шиповник» на передачу «Сирину» прав на выпуск в свет собраний сочинений Ремизова и Ф. Сологуба.
(обратно)1744
Рассказ М. М. Пришвина «Бабья Лужа» впервые напечатан 25 декабря 1912 г. в рождественском номере газеты «Речь», вошел в кн.: Пришвин М. «Славны бубны» и другие рассказы. Т. 3. СПб., 1914. См.: Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1982. Т. 1. С. 622–630. О личных и литературных взаимоотношениях Ремизова и Пришвина см.: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. статья, подготовка текста и примечания Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 157–209; Хмельницкая Т. Творчество Михаила Пришвина. М., 1959. С. 80–86; Дворцова Н. П. М. Пришвин и А. Ремизов (К истории творческого диалога) // Вестник Московского гос. ун-та. Серия 9. Филология. 1994. № 2. С. 27–33; Дворцова Н. П. М. Пришвин и «школа А. Ремизова» // Серебряный век русской литературы. С. 158–168.
(обратно)1745
Телеграмма (18 октября 1912 г.) вклеена в тетрадь: «Воскресенье весь день дома Валерий Брюсов» (Л. 14). На воскресенье 21 октября планировалась поездка Иванова-Разумника в Москву для переговоров с Брюсовым об условиях издания в «Сирине» его собрания сочинений.
(обратно)1746
Содержание этого сообщения неясно. Возможно, оно имело какое-то отношение к картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890, Гос. Третьяковская галерея) из его цикла, посвященного Сергию Радонежскому (до принятия схимы – Варфоломею).
(обратно)1747
Ср. дневниковую запись Блока, сделанную в тот же день: «Утром – телефон ‹…› с А. М. Ремизовым. ‹…› Потом – гулял. Воротясь, нашел письмо М. И. Терещенко, который пишет, что сегодня порвали с “Шиповником” и перешли к ним Ремизов и Сологуб» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 167). Упомянутое письмо М. И. Терещенко от 20 октября 1912 г. сохранилось в архиве Блока (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 425).
(обратно)1748
Видимо, Л. Д. Бурлюк-Кузнецова.
(обратно)1749
Эта фраза отчеркнута на полях красной чертой.
(обратно)1750
Фраза записана на чистом листе слева.
(обратно)1751
Иван Николаевич Литенин – заведующий типографией М. М. Стасюлевича.
(обратно)1752
С. Я. Осипов, однако, принял предложение учредителей издательства и стал заведующим редакцией «Сирина».
(обратно)1753
Иван Александрович Рязановский (1869–1927) – архивист, археолог, собиратель документов по истории России; хранитель Романовского музея в Костроме. 22 октября 1912 г. Ремизов сообщил в письме к Рязановскому: «За это время целые события произошли: я и Сологуб вышли из Шиповника» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 32). Сохранилось 120 писем Ремизова к Рязановскому за 1909–1919 гг. (Там же. Ед. хр. 31–33), из них опубликованы 8 (Письма А. М. Ремизова к И. А. Рязановскому / Публикация, вступ. заметка и комментарии А. П. Юловой // Серебряный век русской литературы. С. 88–89).
(обратно)1754
«Хованщина» – опера М. П. Мусоргского (впервые исполнена в 1886 г.), была поставлена в Мариинском театре в 1911 г.
(обратно)1755
Прислуга Ремизовых; прототип одноименной героини повести Ремизова «Крестовые сестры» (1910).
(обратно)1756
Подразумеваются договорные условия издания в «Сирине» собрания сочинений Сологуба.
(обратно)1757
Александр Иванович Яцимирский (1873–1925) – филолог-славист, археограф, переводчик; в 1906–1913 гг. приват-доцент Петербургского университета. Автор многочисленных библиографических и текстологических работ по славянской апокрифической письменности, по русской и южнославянским литературам XV–XVII вв. См.: Кидель А. С. Александр Иванович Яцимирский. Кишинев, 1967.
(обратно)1758
Ср. дневниковую запись Блока, датированную тем же днем: «Я пришел на концерт Илоны Дуриго, билет мне дал М. И. Терещенко, мы сидели с ним. Потом поехали к нему, приехали Бакст и А. М. Ремизов, сидели до второго часа, говорили об издательстве» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 168).
(обратно)1759
Запись выскоблена.
(обратно)1760
Знаменитый московский вор, затем сыщик Иван Осипов, по прозвищу Каин (1718 – после 1755) – персонаж многочисленных произведений, распространенных в народной среде, из которых наиболее известное – «Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина» (1779) Матвея Комарова; также: «Ванька-Каин: Историческая повесть» П. С. Васильева, «Ванька-Каин: Историческая пьеса» А. А. Дикгоф-Деренталя, «Ванька-Каин: Русская сказка (в стихах)» В. Ф. Потапова, «Ванька-Каин, знаменитый московский сыщик (фискал)» К. К. Голохвастова и др.
(обратно)1761
Василий Васильевич Кузнецов (1881 –?) – скульптор; автор бюста Ремизова.
(обратно)1762
Александр Маркович Певзнер.
(обратно)1763
Дмитрий Владимирович Философов (1872–1940) – публицист, литературный критик; ближайший друг и духовный спутник Д. С. Мережковского и 3. Н. Гиппиус. В тот же день Блок записал в дневнике: «Поздравлять с имянинами Философова мы с Ремизовым не пошли, хотя давно решили и обговорили, какой нести пирог. Стало тяжело. Вечером – бессмысленное шатанье. ‹…› Философов, оказывается, звонил по телефону, пока я шлялся, и, кажется, обиделся» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 169). Эта ситуация затрагивается в письмах Философова к Блоку от 27 и 28 октября 1912 г. (см.: Минц 3. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 610–611) и в письме Блока к Философову от 29 октября 1912 г. (Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 284–285).
(обратно)1764
С. Я. Осипов (1888–1948) – бухгалтер на книжном складе М. М. Стасюлевича, с октября 1912 г. – заведующий конторой издательства «Сирин». См.: «В России, как встретимся, будем вспоминать». I. Переписка А. М. Ремизова с С. Я. Осиповым (1913–1923) / Публикация Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 год. СПб., 2006. С. 218–260.
(обратно)1765
В Усть-Сысольск Вологодской губернии Ремизов был выслан в административном порядке 31 мая 1900 г. сроком на три года; летом 1901 г. был переведен в Вологду.
(обратно)1766
Этот абзац отчеркнут слева красной чертой.
(обратно)1767
Брюсов прибыл в Петербург 27 октября 1912 г.
(обратно)1768
Согласно письмам Брюсова к жене от 1 и 2 ноября 1912 г., «окончательное совещание с “Сирином”», которое должно было определить условия издания его Полного собрания сочинений и переводов, состоялось 3 ноября (РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 14).
(обратно)1769
См. поздравительный лист, адресованный Ремизовым Блоку в этот день (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1981. Кн. 2. С. 112, 113. Публикация и комментарии А. П. Юловой). 16 ноября 1912 г. Блок записал в дневнике: «Освящение к вечеру книгоиздательства “Сирин”» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 180).
(обратно)1770
Далее – рисунок с наклеенными цветными переводными картинками.
В центре рисунка, под надписью «Сирин. Пушкинская 10» – три переводных картинки с пояснениями (слева направо): Р. В. (Иванов-Разумник), С. Я. (Осипов), М. И. (Терещенко); под ними изображение птицы Сирин; внизу слева – Е. И. (Терещенко), П. И. (Терещенко), перед ними вывеска с надписью: Сирин; внизу справа – А. Р. (А. М. Ремизов), А. Б. (А. А. Блок), В. Б. (В. Я. Брюсов), Ф. К. (Ф. Сологуб); в правом верхнем углу – рисунок с надписью: «М. И. <Терещенко> подписывает заявление в Муз<ей> Имп<ератора> Ал<ександра> III о издании икон», справа в овале – адресат заявления: П. И. (Петр Иванович Нерадовский (1875–1963) – живописец, с 1909 г. хранитель художественного отдела Музея императора Александра III – Русского музея).
(обратно)1771
См.: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы» (К истории издания) // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 257–324.
(обратно)1772
Пяст Вл. Государственный переворот (Лирическая публицистика) // Gaudeamus. 1911. № 9. 24 марта. С. 9.
(обратно)1773
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 238. Публикация Э. С. Литвин.
(обратно)1774
Амфитеатров А. Против течения. СПб., 1908. С. 156.
(обратно)1775
Чернов Виктор. Модернизм в русской поэзии // Вестник Европы. 1910. № 11. С. 209.
(обратно)1776
Письмо к К. И. Чуковскому от 10 февраля 1910 г. // Контекст – 2008. Историко-литературные и теоретические исследования. М., 2009. С. 358.
(обратно)1777
Письмо Брюсова к К. Сережникову от 12 февраля 1910 г. // ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 41.
(обратно)1778
См.: Гапоненков А. А. Журнал «Русская Мысль» 1907–1918 гг. Редакционная программа, литературно-философский контекст. Саратов, 2004. С. 80–81.
(обратно)1779
Письмо от 31 августа 1910 г. // Литературоведческий журнал. 2005. № 19. С. 171–172. Публикация М. В. Толмачева. Исправлено по автографу: РГБ. Ф. 386. Карт. 106. Ед. хр. 33.
(обратно)1780
См.: Корецкая И. В. «Аполлон» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 212–256; Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М., 1995. С. 324–375; Лебедева Т. В. Сергей Маковский. Страницы жизни и творчества. Воронеж, 2004; «Аполлон». Хронологическая роспись содержания. 1909–1917 / Составитель И. Н. Егорова. СПб., 2014.
(обратно)1781
Шерон Жорж. Вести в Италию: письма В. Я. Брюсова к А. В. Амфитеатрову // Laurea Lorae: Сб. памяти Ларисы Георгиевны Степановой. СПб., 2011. С. 394.
(обратно)1782
См.: Переписка В. И. Иванова с С. К. Маковским / Подготовка текста Н. А. Богомолова и С. С. Гречишкина, вступ. статья Н. А. Богомолова, комментарий Н. А. Богомолова и О. А. Кузнецовой // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 137–164.
(обратно)1783
Письмо к Вяч. И. Иванову от 2 февраля 1910 г. // Там же. С. 142.
(обратно)1784
Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 524.
(обратно)1785
Чулков Георгий. «Весы» // Аполлон. 1910. № 7. Апрель. Отд. I. С. 16, 19.
(обратно)1786
Печать и революция. 1926. № 7. С. 46. «Кларизм» – термин, предложенный М. А. Кузминым в статье «О прекрасной ясности» (Аполлон. 1910. № 1).
(обратно)1787
Аполлон. 1910. № 9. Июль – август. Отд. I. С. 33.
(обратно)1788
Переписка В. И. Иванова с С. К. Маковским. С. 145.
(обратно)1789
РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2645.
(обратно)1790
Примечателен в этом отношении эпизод с намеченным на 22 апреля 1911 г. несостоявшимся чествованием Вяч. Иванова в «Аполлоне». Близко стоявший к редакции «Аполлона» критик В. А. Чудовский обратился 17 апреля 1911 г. к Брюсову, как к члену совета «Общества ревнителей художественного слова», с предложением «высказаться по этому поводу»: «Деятельность Общества непрестанно сосредоточивается вокруг личности Вячеслава Иванова. Он посещает без исключения все заседания, направляет прения, высказывается по всем возникающим вопросам. Члены, совершенно не разделяющие его взглядов, тем не менее вполне признают неутомимость и поучительность его участия в занятиях. Ныне зародилась мысль отметить заслуги Вячеслава Ивановича, например, избранием его в почетные председатели Общества, что бы вполне соответствовало действительному значению его деятельности». Видимо, у Маковского это намерение, следствием которого могло стать усиление позиций Иванова в «аполлоновском» кругу, не нашло поддержки; 26 апреля Чудовский вновь писал Брюсову: «…чествование Вячеслава Иванова состояться не может, т<ак> к<ак> некоторые лица, с мнением которых нельзя не считаться, признали это несвоевременным и нецелесообразным» (РГБ. Ф. 386. Карт. 107. Ед. хр. 41).
(обратно)1791
Под редакцией Е. А. Зноско-Боровского был издан сборник партий «Всероссийский шахматный турнир, 4-й, Петербург, 1905–1906» (СПб., 1907); см. также его книги: «Х. – Р. Капабланка. Опыт характеристики» (СПб., 1911), «Кодекс шахматной игры. Справочная книга шахматиста» (СПб., 1913), «Теория середины игры в шахматах» (Л., 1925), «Шахматы и их чемпионы (Мысли и характеристики)» (Л., 1925), «Капабланка и Алехин. Борьба за мировое первенство за шахматы» (Париж, 1927). Зноско-Боровский – единственный из русских мастеров, выигравший партию у Хосе Рауля Капабланки во время его гастролей в России в 1913 г. См.: Шахматы. Энциклопедический словарь. М., 1990. С. 129.
(обратно)1792
Опубликована: Любовь к трем апельсинам. Журнал Доктора Дапертутто. 1914. № 3. С. 17–70. Ставилась также еще одна пародийная стилизация Зноско-Боровского – по его сообщению в автобиографическом письме к С. А. Венгерову (1913): «“Влюбленные в Марту” в 1 д<ействии>, Троицкий театр миниатюр, СПб., февраль 1912 и Киевский театр миниатюр, Киев, март 1912» (ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 1580).
(обратно)1793
См.: Дмитриев П. В. Евгений Зноско-Боровский – театральный критик журнала «Аполлон» // Театръ: Russian Theatre Past and Present. 2001. Vol. 2. P. 59–81; Дмитриев П. В. Статья Е. А. Зноско-Боровского «Башенный театр» как театральный манифест «Аполлона» // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 206–211; Соколинский Е.К. О Евгении Зноско-Боровском // Зноско-Боровский Е.А. Русский театр начала XX века. М., 2014. С. 5 – 37.
(обратно)1794
В этой статье он, в частности, писал: «С конца 1910 г. в составе редакции “Русской Мысли” произошла перемена: во главе литературно-критического отдела этого и прежде уже не вовсе чуждого модернизму журнала стал Валерий Брюсов, и его влияние сразу сказалось в разных изменениях и улучшениях. В начале поневоле скромные, частичные, они становились с каждой книгой решительнее, шире, и теперь, наконец, приняли если не застывшие – чего, надеемся, никогда не будет – то во всяком случае определенные и ясные формы. ‹…› журнал обрел свое лицо, о нем можно говорить, как о чем-то едином и цельном. ‹…› “Русская Мысль” является действительно литературным изданием, в котором литература не приносится в жертву ничему постороннему, занимает вполне определенное, самостоятельное и почетное, место и едина в отделе критики и беллетристики». После краткого обзора содержания последних номеров журнала Зноско-Боровский заключал: «“Русская Мысль”, несомненно, единственный в России журнал, каждую книжку которого ждешь с горячим нетерпением и каждую страницу прочитываешь со спокойным удовольствием» (Зноско-Боровский Евг. Журналы. «Русская Мысль», кн. I и II // Русская Художественная Летопись. 1911. № 6. Март. С. 95–96).
(обратно)1795
РГБ. Ф. 386. Карт. 92. Ед. хр. 31.
(обратно)1796
Приведено во вступительной статье Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щербакова к публикации переписки Брюсова с Н. С. Гумилевым (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 407).
(обратно)1797
Сочувственную рецензию на «Колчан» Гумилева опубликовал Е. А. Зноско-Боровский в «Литературных и популярно-научных приложениях “Нивы”» (1916. № 7. С. 457–458. Подпись: З. Б.). См.: Акмеизм в критике. 1913–1917. СПб., 2014. С. 491–493.
(обратно)1798
Текст – на почтовой бумаге «Салона 1908 – 9». «Салон» – художественная выставка, открывшаяся в январе 1909 г. в Петербурге в Меншиковском дворце; ее организатором был Маковский. См.: Каталог «Салона», выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры, устроенной в 1909 году в помещении музея и в «меншиковских комнатах» первого Кадетского корпуса. СПб., 1909; Северюхин Д. Я. Салон Маковского // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. II. М.; СПб., 1995. С. 355–369. Брюсов охарактеризовал выставку в письме к жене, И. М. Брюсовой, от 2 марта 1909 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 12).
(обратно)1799
Брюсов выехал в Петербург 28 февраля 1909 г., возвратился в Москву 19 или 20 марта. 8 марта он писал жене: «Сегодня предстоит ‹…› обед у С. Маковского, где будет Гумилев и др.»; вечером того же дня он ей сообщал: «Сейчас был у С. Маковского – обедал у него. Были: М. Волошин, Гумилев и наш московский Игорь Грабарь» (Там же).
(обратно)1800
Первое из писем Маковского к Брюсову, написанных на бланке журнала «Аполлон».
(обратно)1801
Видимо, эта тема затрагивалась при встрече 8 марта 1909 г. (см. п. 1). Решение об издании «Аполлона» было принято на первом редакционном собрании 9 мая 1909 г.; после второго организационного собрания, состоявшегося 6 августа 1909 г., была начата рассылка официальных приглашений намеченным участникам журнала. См.: И. Ф. Анненский. Письма к С. К. Маковскому / Публикация А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 227, 231–232.
(обратно)1802
В «Литературном альманахе» (отдел III журнала) 1-го номера «Аполлона», вышедшего в свет 24 октября 1909 г., были опубликованы сонет Вяч. Иванова «Apollini», стихотворения К. Д. Бальмонта «Купина» и «Последняя заря», стихотворение Ф. Сологуба «Я опять, как прежде, молод…», три стихотворения М. Волошина («Дэлос», «Созвездья», «Полдень») и стихотворный цикл Н. Гумилева «Капитаны».
(обратно)1803
Статья И. Ф. Анненского «О современном лиризме» в трех частях («1. Они», «2. Они», «3. Оне»), содержащая развернутый обзор современной русской поэзии, была опубликована в первых трех номерах «Аполлона» (1909. Октябрь – декабрь). Анализ поэзии Брюсова дан в первой части статьи, он открывает ряд индивидуальных «портретов». См.: Анненский Иннокентий. Книги отражений / Издание подготовили Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В. Федоров. М., 1979. С. 341–347 («Литературные памятники»).
(обратно)1804
На чем был основан этот слух, неясно.
(обратно)1805
Стихотворение Брюсова «Александрийский столп» («На Невском, как прибой нестройный…») было опубликовано в 1-м номере «Аполлона» (Отд. III. С. 6–7).
(обратно)1806
О собраниях так наз. «Поэтической Академии» («Про-Академии»), проходивших весной 1909 г. на квартире Вяч. Иванова, см. в воспоминаниях Вл. Пяста «Встречи» (М., 1997. С. 99 – 102, 308–310 – комментарии Р. Тименчика). Сведения о ней обнародовал М. Л. Гофман в очерке «Поэтическая Академия»: «Об этой академии мало кто знает. Официально она не существует. Это частный кружок, частная затея, без всяких уставов, правил и других бюрократических затей ‹…› Поэтическая Академия, или, лучше сказать, Поэтическая Школа, лишний раз показала важность и необходимость изучения законов формы и лишний раз подтвердила мнение В. Иванова, что “ритмические возможности нашего языка необозримы; их осуществление зависит от личного искусства”» (Вестник Литературы. 1909. № 9. С. 186–187). Ср. сообщение В. В. Гофмана в письме к А. А. Шемшурину от 27 апреля 1909 г.: «Был однажды у Вяч. Иванова. Он, оказывается, читает здесь у себя на квартире молодым поэтам целый курс теории стихосложения, всё по формулам и исключительно с технической, с ремесленной стороны. Формулы свои пишет мелом на доске, и все за ним списывают в тетрадки. ‹…› Среди слушателей были поэты с некоторым именем (Гумилев, Потемкин, гр. Толстой). Остальные – какие-то неведомые юнцы. Держится Вяч. Иван<ов> – куда более властно и надменно, чем Брюсов, все же учреждение это именуется академией поэтов» (Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 247). Сохранились протоколы пяти заседаний, с 14 апреля по 16 мая, которые вела М. М. Замятнина (см.: Гаспаров М. Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // Новое литературное обозрение. 1994. № 10 (Вячеслав Иванов. Материалы и публикации). С. 89 – 105). Содержание заседаний излагается в письмах Е. И. Дмитриевой к М. А. Волошину от 17 и 26 апреля, 1 мая и около 9 мая 1909 г. (см.: Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной: Жизнеописание. Письма 1908–1928 годов. Письма Б. А. Лемана к М. А. Волошину / Составление, подготовка текстов, примечания Вл. Купченко и Р. Хрулёвой. Феодосия; М., 2009. С. 36–42).
(обратно)1807
Ответное письмо, в котором Брюсов выражал согласие выступить с лекциями в учреждаемом Обществе, видимо, не сохранилось. Ср. позднейшее письмо Брюсова к П. Б. Струве от 2 июня 1910 г.: «Лишь в наши дни мы начинаем воскрешать забытые методы и правила, целую “дисциплину” технических познаний поэта. В Петербурге даже основалась особая “Академия поэзии”, где, по мысли учредителей, молодые поэты должны учиться у старших своему ремеслу (поскольку есть в поэзии ремесло). И эту Академию я могу только от души приветствовать и надеюсь быть ей полезным: готовлю для нее целый курс о русском стихе и о стихе вообще…» (Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. 5 / Под ред. К. Д. Муратовой. М.; Л., 1960. С. 266–267. Публикация А. Н. Михайловой).
(обратно)1808
См. п. 3, примеч. 2, 3. Возобновить лекции Вяч. Иванова о стихе было решено в сентябре 1909 г.; ср. запись М. А. Кузмина от 19 сентября: «Гумилев говорил о лекциях с Вяч<еславом>» (Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Предисловие, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 169).
(обратно)1809
20 октября 1909 г. учредителями «Общества ревнителей художественного слова» зарегистрировались у петербургского градоначальника И. Ф. Анненский, Вяч. Иванов и С. К. Маковский, 20 ноября Правление Общества сообщило в канцелярию градоначальника свой состав: действительный статский советник И. Ф. Анненский, потомственный дворянин А. А. Блок, потомственный почетный гражданин В. Я. Брюсов, титулярный советник Е. А. Зноско-Боровский, сын титулярного советника В. И. Иванов, потомственный дворянин М. А. Кузмин, коллежский асессор С. К. Маковский (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 494–495. Комментарии Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щербакова). Общую характеристику деятельности «Общества ревнителей художественного слова» см. в словаре Манфреда Шрубы «Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов» (М., 2004. С. 156–159).
(обратно)1810
См. п. 4, примеч. 2.
(обратно)1811
Ср. свидетельства Вл. Пяста о заседаниях Общества осенью 1909 г.: «Первые недели прошли, чередуясь, в повторении и развитии “Про-Академического” курса Вячеслава Иванова и связанных с ним общностью подхода, как и темы, лекций Иннокентия Федоровича Анненского» (Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 105). В хроникальной заметке об «Обществе ревнителей художественного слова», помещенной в газете «Речь» 8 февраля 1910 г. (№ 38), сообщалось: «Собрания общества происходят еженедельно по четвергам в редакции журнала “Аполлон”. ‹…› В этом году были прочитаны курсы: И. Анненского (прерваны его смертью), В. Иванова (О метафоре), М. Кузмина (О прозаическом стиле), Е. Аничкова (Поэтика Веселовского), Ф. Зелинского (О элегантном стиле). Будет прочитан курс (О русском стихосложении) В. Брюсовым» (полностью приведено в комментариях Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина в кн.: Кузмин М. Дневник 1908–1915. СПб., 2005. С. 648–649). Вяч. Иванов подробно охарактеризовал «Общество…» в письме к Брюсову от 3 января 1910 г.: «“Общество ревнителей художественного слова” ждет тебя; тобою гордится как своим. Настоящий состав Совета, который ведет “Общество”, его задачи и работы: ты, Зелинский (кооптированный на место И. Ф. Анненского), Блок, Кузмин и я. Маковский – “администратор” – ведает “тело” “Общества”, с своим помощником (секретарем редакции “Аполлона”). Выбирает новых членов Совет-администратор. ‹…› Отделение от “Аполлона” полное, в смысле организации и юридическом. Я читал в этом семестре о метафоре и символе (три вечера) и потом о внутренних формах лирики ‹…›. Анненский был прерван – преждевременной, горькой – смертью! – на начале серий: “Ритмы Пушкина и их судьба в нашей позднейшей лирике”. Зелинский в этом полугодии прочтет о законе клаузулы в прозаическом периоде и о элегическом ритме (дистихи) в антике и у нас. Твоего курса ждем с огромным интересом. ‹…› Членов у нас мало – часто мы, кажется, преувеличиваем осторожность – что, впрочем, отнюдь не значит, что у нас литературная élite» (Переписка <В. Я. Брюсова> с Вячеславом Ивановым. 1903–1923 / Предисловие и публикация С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 523). //
(обратно)1812
Тем самым (лат.).
(обратно)1813
Из намеченных публикаций в № 4 «Аполлона» (1910. Январь) были напечатаны статья М. А. Кузмина «О прекрасной ясности», повесть А. Н. Толстого «Неделя в Туреневе» и цикл из 6 стихотворений А. Блока «Итальянские стихи» (с тремя рисунками Г. К. Лукомского и фронтисписом Н. К. Рёриха). Предполагавшиеся статьи С. К. Маковского и музыковеда Александра Вячеславовича Оссовского (1871–1957) об опере Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787) «Орфей и Эвридика» (1762) в «Аполлоне» не появились; статья Н. С. Гумилева «Жизнь стиха» и цикл из 5 стихотворений «Переложения из Новалиса» Вяч. Иванова были напечатаны в апрельском номере за 1910 г. (№ 7).
(обратно)1814
Датируется по почтовому штемпелю: Петербург. 18.12.09.
(обратно)1815
Упомянутое письмо Брюсова (ответное на п. 5) не выявлено.
(обратно)1816
К указанному сроку Брюсов статью для «Аполлона» не представил.
(обратно)1817
Подразумевается «Литературный альманах» – третий отдел в № 4 «Аполлона». См. примеч. 3 к п. 5. Стихотворные переводы из Анри Франсуа Жозефа де Ренье (Régnier; 1864–1936) входили в состав статьи М. А. Волошина «Анри де Ренье», опубликованной в № 4 «Аполлона» за 1910 г. (Отд. I. С. 18–34).
(обратно)1818
С лекциями в «Обществе ревнителей художественного слова» Брюсов, несмотря на неоднократные обещания, не выступал.
(обратно)1819
И. Ф. Анненский скоропостижно скончался 30 ноября 1909 г. Ср. дневниковые записи М. А. Кузмина: 2 декабря 1909 г. – «Вяч<еслав> болен ‹…›»; 4 декабря – «Вяч<еслав> все болен» (Кузмин М. Дневник 1908–1915. С. 191, 192).
(обратно)1820
Последний, декабрьский номер (№ 12) «Весов» за 1909 г. вышел в свет с запозданием относительно календарных сроков – в марте 1910 г.
(обратно)1821
Имеется в виду выставка, открывшаяся в редакции «Аполлона» в январе 1910 г.: тридцать шесть женских портретов восемнадцати художников. Многие работы были воспроизведены в 5-м (февральском) номере «Аполлона» за 1910 г., там же – предисловие Маковского «Женские портреты современных русских художников» (С. 10–11). См.: Каталог «Выставки женских портретов» (4-я выставка ежемесячника «Аполлон»). Январь 1910. СПб.; Бенуа А. Н. Художественные письма 1908–1917. Газета «Речь». Петербург. Т. I. 1908–1910. СПб., 2006. С. 340–347.
(обратно)1822
Подразумеваемое здесь письмо Брюсова к Маковскому неизвестно.
(обратно)1823
Ср. замечание Маковского в письме к Вяч. Иванову от 2 февраля 1910 г.: «Брюсов ‹…› вот уже два месяца обещает статью, но пока прислал лишь короткое стихотворение» (Переписка В. И. Иванова с С. К. Маковским / Подготовка текста Н. А. Богомолова и С. С. Гречишкина, вступ. статья Н. А. Богомолова, комментарий Н. А. Богомолова и О. А. Кузнецовой // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 142).
(обратно)1824
Имеется в виду хроникальный отдел «Аполлона», содержащий обзоры и рецензии о новинках литературной, художественной, музыкальной и театральной жизни. Брюсов в этом отделе «Аполлона» не участвовал.
(обратно)1825
См. примеч. 5 к п. 6. 3 марта 1910 г. Маковский сообщал Вяч. Иванову, что Брюсов, «судя по его последнему письму, собирается прочесть в “Академии” две-три разрозненных лекции» (Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 144).
(обратно)1826
«Литературный альманах» февральского номера «Аполлона» открывался стихотворением Брюсова «Das Weib und der Tod (немецкая гравюра XVI века)» и его циклом из четырех стихотворений «Пляска смерти (немецкая гравюра XVI века)» (1910. № 5. Отд. III. С. 3–6). Эти произведения включены Брюсовым в неоконченную книгу стихов «Сны человечества». См.: Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 356–358.
(обратно)1827
См. примеч. 1 к п. 8.
(обратно)1828
См. примеч. 3 к п. 7.
(обратно)1829
См. примеч. 5 к п. 6, примеч. 5 к п. 7.
(обратно)1830
18 января 1910 г. Брюсов писал Вяч. Иванову: «Ты знаешь, что я никогда не был врагом молодости, молодежи. ‹…› Но я хочу или иметь возможность учиться у молодежи, или чтобы она училась у меня, у нас. Третьего я не признаю. Или принеси что-то новое, или иди через нами поставленную триумфальную арку. Когда же как новое откровение предлагают мне идеи, нами пятнадцать лет тому назад отвергнутые и опровергнутые, я оставляю за собою право смеяться» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 524).
(обратно)1831
Имеется в виду «Символизм. Книга статей» Андрея Белого (М.: Мусагет, 1910), вышедшая в свет в конце апреля 1910 г. Сохранился ее экземпляр, подаренный автором Брюсову с надписью: «Дорогому глубокоуважаемому Валерию Яковлевичу Брюсову от преданного ему автора» (Автографы поэтов серебряного века: Дарственные надписи на книгах. М., 1995. С. 112). Статья Брюсова «Об одном вопросе ритма (По поводу книги Андрея Белого “Символизм”)», содержавшая в основном разбор стиховедческих работ, опубликованных в «Символизме», была напечатана в «Аполлоне» (1910. № 11. Октябрь – ноябрь. С. 52–60).
(обратно)1832
Речь идет о книге: Зноско-Боровский Евгений. Крейсер «Алмаз» (Цусима). Сцены из войны. СПб.: Типо-литография «Якорь», 1910.
(обратно)1833
Речь идет о статье Георгия Чулкова «Весы» (Аполлон. 1910. № 7. Апрель. Отд. I. С. 15–20). Письмо протеста за подписями Валерия Брюсова, Андрея Белого, М. Ликиардопуло, Бориса Садовского, Эллиса, адресованное С. К. Маковскому, опубликовано в кн.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 526–527; в нем, в частности, заявлялось: «Помещенная в первом отделе журнала, сама себя именующая “некрологом”, статья эта имеет все признаки, которые позволяют счесть ее как бы редакционной. Между тем она подписана именем г. Георгия Чулкова, авторитет которого никак не может считаться непререкаемым в литературных кругах и беспристрастие которого в оценке “Весов” может быть заподозрено. Напомним, что за последние годы литературная деятельность г. Георгия Чулкова подвергалась на страницах “Весов” весьма суровой и даже резкой критике ‹…›. Различные обвинения, в общем довольно тяжелые, выставленные в “некрологе” “Весов”, в значительной степени теряют свою силу, так как подписаны лицом, у которого есть свои счеты с “Весами”, и вся критика получает характер полемики, неуместный по отношению к изданию, которое уже не может защищаться». Высылая Вяч. Иванову копию заявления на имя Маковского, Брюсов писал ему 21 мая 1910 г.: «Вместо того чтобы оценивать сделанное “Весами”, Чулков, по своему всегдашнему обыкновению, сводит в своей статье личные счеты и всячески старается уязвить своих неприятелей. ‹…› на мой взгляд, протест написан очень сдержанно; если и есть в нем резкие выражения, то они оправдываются соответствующими выходками в статье Чулкова» (Там же. С. 526).
(обратно)1834
30 мая 1910 г. С. М. Соловьев писал Брюсову: «…телеграмму в “Аполлон” я отправил. Очень охотно присоединяюсь к протесту, ибо статья Чулкова меня изрядно рассердила» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 23).
(обратно)1835
См. примеч. 2 к п. 10.
(обратно)1836
Ответ на п. 11.
(обратно)1837
См. п. 10, примеч. 1.
(обратно)1838
Переводчик, критик и журналист, секретарь «Весов» в 1906–1909 гг. Михаил Федорович Ликиардопуло (1883–1925) в хроникальном отделе «Аполлона» не участвовал.
(обратно)1839
Подразумевается следующий фрагмент заявления на имя Маковского: «Характеристика, которую он <Чулков. – Ред.> делает двум периодам жизни журнала или, точнее, двум его руководителям, будто бы (что не верно) направлявшим его деятельность до 1906 и после 1906 года, может только вызвать улыбку у всех, знакомых с истинным положением дел. Нам вспоминаются стихи Пушкина: // Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить // И в самой подлости оттенок благородства! // Если “льстецам” должно сохранять “оттенок благородства”, то “хулителям” подобает сохранять “оттенок” правдоподобия. Мы боимся, что он нарушен в “некрологе” г. Георгия Чулкова» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 527. В тексте неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина «<На Воронцова>» («Сказали раз царю, что наконец…», 1825); в оригинале 2-я строка: «И в подлости осанку благородства»; см.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 2, кн. 1. <Л.>, 1947. С. 378).
(обратно)1840
Ответ на п. 12.
(обратно)1841
Ответ на п. 13.
(обратно)1842
Ср. доводы в этой связи, высказанные Вяч. Ивановым в письме к Брюсову от 22 мая 1910 г.: «…конец письма (от слов “нам вспоминаются стихи Пушкина…”) содержит прямое и неоправданное фактами оскорбление чести литературного противника и косвенное оскорбление редакции. Будь я редактор, я бы, конечно, не напечатал этой несправедливой и ненужной фразы, долженствующей вызвать законный протест общественного мнения» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 527). Дополнительные аргументы в обоснование своего мнения Иванов привел в письме к Брюсову от 27 мая 1910 г. (см.: Там же. С. 528–529).
(обратно)1843
Ответ на п. 14.
(обратно)1844
См. примеч. 1 к п. 11.
(обратно)1845
См. п. 11, примеч. 1.
(обратно)1846
В мае 1910 г. Маковский занимался устройством художественных выставок в Брюсселе и Париже – подготовил художественную экспозицию русского отдела на Международной выставке в Брюсселе, устроенной бельгийским Министерством изящных искусств, и организовал выставку театрально-декорационных работ художников круга «Мира Искусства» в Париже в зале Бернхейма-младшего.
(обратно)1847
О том, что у Маковского не возникало каких-либо сомнений относительно приемлемости статьи Г. Чулкова о «Весах» для публикации в «Аполлоне», свидетельствует упоминание о ней в его письме к Зноско-Боровскому от 6 февраля 1910 г.: «…ее необходимо набирать корпусом, ибо она должна иметь общее литературное значение: итоги “Весов” – не шутка» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2645).
(обратно)1848
Теоретик искусства, художественный критик и поэт Константин Александрович Сюннерберг (псевдоним – Конст. Эрберг; 1871–1942) получил соответствующее предложение от Зноско-Боровского только в июне 1910 г.: «…не хотели бы Вы летнее время провести за приятной работой: написать нам к осени (к середине августа) статью о “Весах”, которая и пошла бы, как статья, и оценивала бы общий итог “Весов”, их соль, значение. Это нам и нужно и, вообще, интересно» (ИРЛИ. Ф. 474. Ед. хр. 141. Л. 17). Сюннерберг ответил Зноско-Боровскому 6 июля: «Дать статью о “Весах” не могу. Писать некролог – занятие хотя и почтенное, но неблагодарное и трудное: боюсь, как бы моя оценка покойника не оказалась вместо некроложной – попросту ложной» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 4235).
(обратно)1849
Барон Николай Николаевич Врангель (1880–1915) – искусствовед; соредактор Маковского по «Аполлону» с января 1911 г. по октябрь 1912 г.
(обратно)1850
В первых строках своей статьи о «Весах» Чулков напоминает об эпизоде из «Идиота» Ф. М. Достоевского, в котором князь Мышкин «заговорил о самом важном и значительном и, конечно, разбил китайскую вазу» (Аполлон. 1910. № 7. Апрель. Отд. I. С. 15). Далее этот эпизод иносказательно обыгрывается, однако не в непосредственной связи с утверждениями о том, что «руководители журнала» внесли в борьбу «всю хаотичность своей психологии и весь недуг истерики» и что «книжки “Весов” за последние два-три года – любопытный документ, из которого мы узнаем ‹…›, чем характеризовалась русская истерика начала XX века» (Там же. С. 19).
(обратно)1851
Антон Крайний – псевдоним З. Н. Гиппиус, которым она обычно подписывала свои литературно-критические и публицистические статьи.
(обратно)1852
Подразумеваются следующие фрагменты статьи Чулкова: «Журнал и человек сливаются для меня в один образ. Это – русский стихотворец конца XIX века. ‹…› Ему хочется быть таинственным: он любит, чтобы ученики называли его “магом”, и он занимается французским оккультизмом, невинным салонным оккультизмом…»; «…субъект истеричный прежде всего не рыцарь…» (Там же. С. 18, 19).
(обратно)1853
Вопреки всему и несмотря ни на что (франц.).
(обратно)1854
Речь идет о статьях «Художественная проза “Весов”» М. Кузмина (Аполлон. 1910. № 9. Июль – август. Отд. I. С. 35–41), «Поэзия в “Весах”» Н. Гумилева (Там же. С. 42–44), «Искусство в “Весах”» бар. Н. Врангеля (Аполлон. 1910. № 10. Сентябрь. Отд. II. С. 17–18).
(обратно)1855
См. примеч. 4 к п. 12.
(обратно)1856
См. п. 17. В том, что сотрудники «Весов» согласились на предложенный вариант разрешения конфликта, Маковский видел решающую роль Вяч. Иванова, высказавшего свои контраргументы в письмах к Брюсову; 16 августа 1910 г. он писал Иванову: «…пользуюсь случаем, чтобы еще раз горячо поблагодарить Вас за то заступничество Ваше, благодаря которому история с сотрудниками “Весов” разрешилась так благополучно…» (Переписка В. И. Иванова с С. К. Маковским. С. 144).
(обратно)1857
Эта открытка (в которой, определенно, Брюсов в очередной раз затрагивал тему коллективного письма сотрудников «Весов»), видимо, утрачена.
(обратно)1858
Имеется в виду п. 16.
(обратно)1859
Этот текст лег в основу опубликованного заявления (Аполлон. 1910. № 8.Май – июнь. Отд. II. С. 72): // От редакции. // Подтверждая еще раз, сделанное в № 2, заявление, что ни одна статья, помещаемая в «Аполлоне», не является редакционной, если это не оговорено, Редакция считает долгом отметить, что и статья Г. И. Чулкова, посвященная журналу «Весы» (№ 7), должна рассматриваться только как личная (Г. И. Чулкова) характеристика одной из сторон деятельности названного журнала. Эта статья лишь случайно появилась первой из целого ряда намеченных статей о «Весах». Признавая громадное значение «Весов», питая к этому журналу глубокое уважение и сохраняя самую светлую память о нем, Редакция в ближайшем будущем осуществит свое намерение (высказанное в том же № 7) – всесторонне осветить всю незабываемую и ценную его деятельность. // Это заявление вызвано письмом в редакцию, подписанным группою сотрудников «Весов», по поводу упомянутой выше статьи Г. И. Чулкова.
(обратно)1860
Ответ на п. 16. Текст, отправленный адресату, не обнаружен. Приводится сохранившийся в архиве Брюсова черновик письма, записанный скорописью и малоразборчивый (абзацы 3–6 даются в расшифровке, предложенной в комментарии Н. А. Богомолова и О. А. Кузнецовой к переписке Вяч. Иванова с Маковским; см.: Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 159).
(обратно)1861
См. п. 17, примеч. 3.
(обратно)1862
Подразумеваются статьи «О современном лиризме» И. Анненского (1909. №№ 1–3), «Весы» Г. Чулкова (см. примеч. 1 к п. 11), «Заветы символизма» Вяч. Иванова (1910. № 8. Май – июнь. Отд. I. С. 5 – 20).
(обратно)1863
С докладом, положенным в основу статьи «Заветы символизма», Вяч. Иванов выступил в московском «Обществе свободной эстетики» 17 марта 1910 г. Ср. дневниковую запись Брюсова: «…Вяч. Иванов читал в “Эстетике” доклад о символизме. Его основная мысль – искусство должно служить религии. Я резко возражал. Отсюда размолвка. За Вяч. Иванова стояли Белый и Эллис. Расстались с Вяч. Ив. холодно» (Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 142).
(обратно)1864
Статья А. Блока «О современном состоянии русского символизма», помещенная в «Аполлоне» следом за «Заветами символизма» Иванова (С. 21–30).
(обратно)1865
В Екатеринославской губернии (почтовая станция Веселые Терны, рудник С. Н. Колачевского) Маковский поселился 27 июля 1910 г. (см. его письмо к Е. А. Зноско-Боровскому, датированное этим днем: РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2645).
(обратно)1866
Имеется в виду статья Брюсова «О “речи рабской”, в защиту поэзии» – полемический ответ на публикацию в «Аполлоне» (1910. № 8) статей «Заветы символизма» Вяч. Иванова и «О современном состоянии русского символизма» А. Блока. Она была опубликована в № 9 «Аполлона» за 1910 г. (Июль – август. С. 31–34). О получении рукописи статьи Брюсова Зноско-Боровский уведомлял Маковского в недатированном письме: «Брюсов прислал статью в ответ на Иванова и Блока. Я отправил ее в набор, корпусом, ибо он хочет видеть ее в августе. Она – боевая, восславляющая “поэта” в противовес – теургу»; в другом, также недатированном письме к Маковскому Зноско-Боровский указывал на программный характер статьи Брюсова для идейно-эстетических установок «Аполлона»: «Брюсова печатать необходимо; по мне – он очень хорош, и мы должны радоваться этой статье и воспользоваться ею, чтобы разорвать с религией» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 1770). «Очень любопытно прочесть статью Брюсова, – писал Маковский Зноско-Боровскому 1 августа 1910 г. – Цензурна? Не случилось бы беды со стороны В. Иванова. Покажи ему, если он в СПб.» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2645). Ср. автохарактеристику статьи в письме Брюсова к П. Б. Струве от 8 октября 1910 г.: «…свое возражение Блоку и Вяч. Иванову я намеренно писал в тоне шутки, насмешки, не высказывая своих истинных убеждений. Изъяснять это было бы неудобно. Я надеюсь, что мне удастся написать несколько теоретических статей о поэзии и поэте, которые и будут лучшими возражениями» (Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. 5 / Под ред. К. Д. Муратовой. М.; Л., 1960. С. 294. Публикация А. Н. Михайловой).
(обратно)1867
Это письмо Брюсова не выявлено.
(обратно)1868
Имеется в виду доклад Вяч. Иванова, прочитанный в «Обществе ревнителей художественного слова» 26 марта 1910 г. и положенный в основу статьи «Заветы символизма». См.: Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревнителей художественного слова» (Обсуждение доклада Вяч. Иванова) // Русская литература. 1990. № 1. С. 200–207.
(обратно)1869
Подразумевается достигнутая договоренность о финансировании «Аполлона» с промышленником М. К. Ушковым. Маковский общался с ним в имении Рождествено под Самарой, откуда писал Зноско-Боровскому 15 июля 1910 г.: «…не так легко, после убытка в 40000 р., убедить издателя на продолжение дела. Мне было бы совестно настаивать на щедрости М. К. Ушкова. К счастью, он, по-видимому, сам идет навстречу аполлонским нуждам»; 21 июля 1910 г.: «…дальнейшая судьба “Аполлона” окончательно определилась. М. К. Ушков берет на себя расходы по изданию и на 1911 год, однако по уменьшенной новой смете; должно быть, с января он и юридически сделается издателем. Таким образом, мы безусловно существуем!» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2645).
(обратно)1870
Речь идет о статье «О “речи рабской”, в защиту поэзии» (см. примеч. 2 к п. 19).
(обратно)1871
Аналогичные опасения Маковский высказал в письме к Вяч. Иванову от 16 августа 1910 г.: «…теперь я боюсь, как бы не началось нового “инцидента” после ответа Брюсова – Вам и Блоку, написанного в очень полемическом тоне! Надо ли продолжать полемику? Как Ваше мнение? Мне бы этого очень не хотелось. Я не мог отказать Брюсову; не напечатать его ответ немедленно – значило бы совсем разорвать с ним… Но продолжение спора заставило бы редакцию “Аполлона” примкнуть к той или другой точке зрения… а это несомненно вызвало бы принципиальный раскол, который я продолжаю считать очень нежелательным» (Переписка В. И. Иванова с С. К. Маковским. С. 144–145). 1 сентября 1910 г., ознакомившись со статьей Брюсова, Иванов направил Маковскому письмо (о его содержании можно судить по ответному письму Маковского от 20 сентября), в котором выражал намерение поместить в «Аполлоне» «письмо в редакцию» – отклик на брюсовскую статью. «Я познакомился со статьей Брюсова только в верстке, – разъяснял ситуацию Маковский в письме к Иванову от 20 сентября. – Вам же написал совершенно предположительно, зная о “возражении” лишь из письма Зноско-Боровского и ‹…› совсем не подозревая, что оно появится без Вашего просмотра и что будет иметь такой острополемический характер. Теперь обстоятельства изменились, и я вполне согласен с Вашим желанием продолжать интересный спор. Настолько согласен, что отвечать Брюсову в “Аполлоне” предоставил и Андрею Белому, когда он запросил об этом редакцию» (Там же. С. 145. Статья Андрея Белого «Венок или венец» – полемический ответ Брюсову – была напечатана в № 11 «Аполлона» за 1910 г.). Зноско-Боровский советовал Маковскому в недатированном письме: «…полагаю, что письма Иванова печатать не следует» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 1770). 13 ноября 1910 г. Иванов сообщил Брюсову о своем намерении написать ответную полемическую статью (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 530), но этого замысла не осуществил.
(обратно)1872
Ответ на п. 19.
(обратно)1873
Речь идет о переезде из дома Брюсовых на Цветном бульваре (д. 24) в дом Баева на 1-й Мещанской ул. (д. 32, кв. 2).
(обратно)1874
Ср. п. 18, примеч. 3.
(обратно)1875
См. примеч. 1 к п. 10.
(обратно)1876
Записка отложилась в архиве Брюсова – т. е., по-видимому, не была доставлена адресату.
(обратно)1877
17 августа 1910 г. Кузмин уехал в Окуловку (где присутствовал на венчании 22 августа С. А. Ауслендера и Н. А. Зноско-Боровской – сестры Е. А. Зноско-Боровского), возвратился в Петербург 30 августа. См.: Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Предисловие, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 233–236. Ближайшее к этому времени письмо Брюсова, адресованное Кузмину, датировано 12 сентября 1910 г. (см.: Cheron George. Letters of V. Ja. Brjusov to M. A. Kuzmin // Wiener slawistischer Almanach. 1981. Bd. 7. P. 74–75).
(обратно)1878
Ответ на п. 21. Почтовые штемпели: Ярославль. 7. 9. 10; Москва. 8 IX 1910.
(обратно)1879
Петербургский адрес Маковского (для ответного письма).
(обратно)1880
16 августа 1910 г. Маковский извещал Зноско-Боровского, что предполагает выехать из Веселых Тернов 20 августа, с тем, чтобы провести неделю в Лидино (станция Бологое). 7 сентября 1910 г. он сообщал ему же, что увидеться с Брюсовым в Москве не удалось (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 2645). Упоминая о Цветном бульваре, Маковский, видимо, не понял из письма Брюсова, что тот переменил свой московский адрес. См. примеч. 2 к п. 21.
(обратно)1881
Из намеченных материалов в № 1 «Аполлона» за 1911 г. была напечатана только статья немецкого художественного критика и историка искусства Юлиуса Мейер-Грефе (Meier-Graefe; 1867–1935) «Гюстав Курбэ» (С. 12–22) в переводе с немецкого (с рукописи). Монографический очерк Маковского «А. Я. Головин» был опубликован в «Аполлоне» лишь в 1913 г. (№ 4. С. 5 – 21). См. также примеч. 3 к п. 5.
(обратно)1882
Имеется в виду статья «Об одном вопросе ритма». См. примеч. 1 к п. 10.
(обратно)1883
Статья Андрея Белого «Венок или венец» (видимо, в гранках). См.: Аполлон. 1910. № 11. Октябрь – ноябрь. Отд. II. С. 1–3. См. примеч. 2 к п. 20.
(обратно)1884
В «Критических набросках» литературного критика Сергея Александровича Адрианова (1871–1941) шла речь об «аполлоновской» полемике Брюсова с Вяч. Ивановым и Блоком о философско-эстетических основаниях символизма (Вестник Европы. 1910. № 10. С. 386–398).
(обратно)1885
Вероятно, Брюсов ранее предлагал Маковскому или Зноско-Боровскому статью для «Аполлона» под таким заглавием. Статья в журнал представлена не была.
(обратно)1886
«Литературный альманах» (СПб.: изд. «Аполлона», 1912) вышел в свет лишь в ноябре 1911 г.
(обратно)1887
Брошюры Е. А. Зноско-Боровского «Мuzio-Gambit» (Leipzig, 1911) и «Пути развития шахматной игры. Мысли и характеристики» (СПб., 1910). Муцио – шахматист XVII века, достоверных сведений о котором не сохранилось.
(обратно)1888
Ответ на неизвестное нам письмо Брюсова. См. примеч. 5 к п. 24.
(обратно)1889
См. п. 24, примеч. 4.
(обратно)1890
Статьей А. Н. Бенуа «В ожидании гимна Аполлону» открывался отдел I (С. 5 – 11) 1-го номера «Аполлона» (октябрь 1909 г.) вслед за редакторским «Вступлением» Маковского. См. также примеч. 3 к п. 18.
(обратно)1891
Брюсов стал заведующим литературно-критическим отделом ежемесячного журнала «Русская Мысль» с сентября 1910 г.
(обратно)1892
Этой статьи Маковский не представил и вообще в «Русской Мысли» не печатался. Видимо, он собирался изложить свои впечатления от пребывания в Северо-Американских Соединенных Штатах летом 1906 г.
(обратно)1893
Предложение Брюсова осталось без последствий, поскольку обещанного лекционного курса он не подготовил.
(обратно)1894
Датируется по почтовому штемпелю.
(обратно)1895
Видимо, Брюсов выслал Зноско-Боровскому свою книгу «Земная ось. Рассказы и драматические сцены. 1901–1907» (Изд. 2-е, доп. М.: Скорпион, 1910).
(обратно)1896
Рецензию на книгу Зноско-Боровского «Крейсер “Алмаз” (Цусима). Сцены из войны» (см. п. 10, примеч. 2) написала для «Русской Мысли» Н. И. Петровская (1910. № 11. Отд. III. С. 359–360) – безусловно, по заказу Брюсова.
(обратно)1897
Рецензия Петровской начинается с утверждения: «Слишком явное влияние Мэтерлинка, отразившееся в построении пьесы, может быть, лишает ее того литературного значения, какое она могла бы иметь при большей оригинальности замысла. Зноско-Боровский заимствовал у Мэтерлинка конструкцию его маленькой одноактной драмы “Intérieur”; в этой пьесе нарастающий трагизм действия заставляет трепетать нервы зрителя тем мучительно-раздвоенным страданием, какое испытывает зрячий, беспомощно видящий слепого, который идет к пропасти… ‹…› Зноско-Боровский в своих “сценах из войны” еще более усиливает трепет бессильного ужаса перед роком, заставляя действующих лиц веселиться, ликовать, плясать над пропастью почти в минуту катастрофы» (С. 359).
(обратно)1898
Имеется в виду повторяющаяся реплика вестового Дробота в финале пьесы: «Один дым на горизонте…» (С. 84).
(обратно)1899
Отклик на суждения Петровской: «Недочеты пьесы: излишняя растянутость первой сцены, появление сумасшедшего врача, предрекающего гибель эскадры (фигуры не нужной, портящей сцену), расплывчатость женских образов, – искупаются до жестокости правдивыми и верными бытовыми чертами и художественными портретами людей» (С. 360).
(обратно)1900
См. п. 24, примеч. 4.
(обратно)1901
16 декабря.
(обратно)1902
К неизвестному нам письму Брюсова была, вероятно, приложена рукопись его стихотворного цикла «Три песни о смерти», опубликованного в «Аполлоне» (1911. № 4. С. 17–18).
(обратно)1903
Датируется по почтовому штемпелю.
(обратно)1904
См. примеч. 5 к п. 24.
(обратно)1905
Ответ на п. 29. Датируется по почтовому штемпелю.
(обратно)1906
Письменного отклика на это предложение в архиве Брюсова не обнаружено, равно как не выявлена – ни в законченном виде, ни в предварительных набросках – повесть на заявленную тему.
(обратно)1907
Имеется в виду корректура стихотворного цикла Брюсова «Три песни о смерти» (см. примеч. 2 к п. 28), включающего стихотворения «Цветок засохший, душа моя…», «Тяжела, бесцветна и пуста…», «Мечты любимые, заветные мечты…». В той же последовательности эти стихотворения помещены в разделе «Под мертвой луною» книги Брюсова «Зеркало теней. Стихи. 1909–1912» (М.: Скорпион, 1912).
(обратно)1908
Статью на указанную тему Брюсов в «Аполлон» не представил.
(обратно)1909
Ответ на п. 31.
(обратно)1910
Имеется в виду «Русская Художественная Летопись» – издававшееся с января 1911 г. хроникальное приложение к «Аполлону» (с периодичностью два выпуска в месяц). Это приложение к «Аполлону» издавалось (с правом отдельной подписки на него) в течение двух лет – 1911 и 1912.
(обратно)1911
Пасха в 1911 г. – 10 апреля.
(обратно)1912
Трагедия Софокла «Эдип-царь» в переложении Гуго фон Гофмансталя (1909) была поставлена немецким режиссером и актером Максом Рейнгардтом (Reinhardt; 1873–1943) в цирке Шумана; в Петербурге исполнялась в цирке Чинизелли в марте 1911 г.
(обратно)1913
Имеются в виду статья кн. Сергея Волконского «Красота и правда на сцене. Письмо из Берлина» (Аполлон. 1911. № 4. С. 64–77), посвященная разбору берлинских постановок М. Рейнгардта, в том числе и «Эдипа» (С. 71–72), и хроникальные заметки в «Русской Художественной Летописи» – «Царь Эдип» Сергея Ауслендера (1911. № 7. Апрель. С. 109–110) и «“Эдип” Рейнгардта» кн. Сергея Волконского (Там же. С. 110–111). Все три отзыва сосредоточивали внимание главным образом на недочетах постановки.
(обратно)1914
Датируется по почтовому штемпелю. Ср. п. 33.
(обратно)1915
«Дом интермедий» – театр малых форм (на Галерной ул.), открывшийся 12 октября 1910 г. премьерой пантомимы «Шарф Коломбины» («транскрипция» пьесы А. Шницлера). 3 декабря 1910 г. в «Доме интермедий» состоялась премьера комедии Зноско-Боровского (стихи М. А. Кузмина) «Обращенный принц» в постановке Доктора Дапертутто (В. Э. Мейерхольда), в декорациях и костюмах С. Ю. Судейкина, с музыкой М. Кузмина. См.: Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917. М., 1995. С. 81–86.
(обратно)1916
Видимо, Зноско-Боровский подразумевает свою статью «Гастроли Московского Художественного театра», опубликованную в приложении к «Аполлону» «Русская Художественная Летопись» (1911. № 10. Май. С. 150–155).
(обратно)1917
17 мая.
(обратно)1918
Датируется по почтовому штемпелю.
(обратно)1919
Внеизвестном нам письме Брюсов извещал Зноско-Боровского о получении его статьи «“Эдип-царь”, постановка Макса Рейнгардта в цирке» для публикации в «Русской Мысли», где она и была напечатана (1911. № 7. Отд. III. С. 35–40).
(обратно)1920
Акцентируя в своей статье основное внимание на недостатках постановки Рейнгардта, на неверных постановочных и драматургических решениях, подчеркивая, что «о возрождении античной трагедии не может быть даже и речи», Зноско-Боровский тем не менее признавал, что «ценность постановки Рейнгардта была очень велика», поскольку в ней нашла воплощение идея «народного театра»: «…для театра она будет иметь надолго решающее значение, ибо в ней не только задумано, но и осуществлено нечто новое, что в достоинства обращает самые недостатки ее» (С. 39).
(обратно)1921
См. п. 24, примеч. 4.
(обратно)1922
См. примеч. 2 к п. 36.
(обратно)1923
Речь идет о трагедии Брюсова «Протесилай умерший». 10 марта 1911 г. Брюсов писал редактору «Русской Мысли» П. Б. Струве: «…я, неожиданно для самого себя, написал лирическую трагедию с хорами, в стихах (ямбическим диметром), “Лаодамия и Протесилай”, на тему утраченной трагедии Еврипида ‹…›. Сам я считаю эту вещь в числе наиболее значительных своих вещей. Но я хорошо понимаю, что трагедия в стихах, причем на античный, мифологический сюжет, вещь для журнала громоздкая, тяжелая. Поэтому не без смущения предлагаю ее “Русской Мысли”. ‹…› Если Вы принципиально думаете, что такого рода вещам в “Русской Мысли” не место, так прямо мне и сообщите, и мы не будем больше говорить об ней. Если же допускаете возможность появления ее в “Русской Мысли”, я доставлю Вам свою трагедию, как только докончу ее отделку и переписку “набело”» (Литературный архив. 5. С. 334–335). 14 марта Струве отвечал Брюсову: «Очень благодарен Вам, что Вы признаете за “Русской Мыслью” право предпочтительной покупки Ваших произведений. Ваш opus, о котором Вы пишете, конечно, весьма желателен для “Русск<ой> Мысли”, и я предъявляю на него свое jus praecedentiae <право первенства – лат.>» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 62. Л. 38). Несмотря на столь внятно выраженное мнение Струве, Брюсов предложил (через Н. Гумилева) трагедию «Аполлону»; 4 сентября 1911 г. Гумилев писал ему: «…разумеется, Ваша трагедия будет очень кстати для альманаха “Аполлона”. Я очень Вам благодарен, что Вы ее нам предложили» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 506. Публикация Р. Л. Щербакова).
(обратно)1924
Датируется по почтовому штемпелю.
(обратно)1925
Воскресенье – 30 октября. Речь идет о стихотворениях Брюсова, присланных им для публикации в «аполлоновском» «Литературном альманахе».
(обратно)1926
15 ноября 1911 г. Гумилев писал Брюсову: «Мне очень жаль, что с Вашими стихами, присланными в “Аполлон”, вышло такое недоразуменье. Когда они пришли, альманах был уже наполовину отпечатан, так что включить их не представлялось никакой возможности» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. С. 507).
(обратно)1927
Датируется по почтовому штемпелю.
(обратно)1928
Возможно, имеется в виду Зинаида Петровна Карево (см.: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова. Аннотированный указатель в двух томах. Т. 1 / Под ред. В. А. Мыслякова. СПб., 2001. С. 477), автор рассказа «Госпожа Нищета» (Образование. 1904. № 7. С. 87 – 116).
(обратно)1929
См. п. 39.
(обратно)1930
См. п. 39.
(обратно)1931
Брюсов, откликаясь на предложение редакции «Аполлона» (см. п. 38), согласился представить трагедию «Протесилай умерший» для публикации во втором «Литературном альманахе».
(обратно)1932
Имеется в виду выставка «Сто лет французской живописи», устроенная в Петербурге в 1912 г. по инициативе Маковского и барона Н. Н. Врангеля. См. с. 253–265 наст. изд.
(обратно)1933
Неофилологическое общество – научно-литературное объединение при Императорском Санкт-Петербургском университете, действовавшее с 1885 г. до конца 1910-х гг. (в 1912 г. председатель Общества – Ф. А. Браун). К. Д. Бальмонт был избран его действительным членом в 1899 г.
(обратно)1934
Ежемесячный литературный, научный и политический журнал народнического направления «Русское Богатство» (1876–1918) упомянут здесь как издание, стоявшее на последовательно антимодернистских позициях.
(обратно)1935
Филолог-классик и поэт-переводчик Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944) и А. Н. Толстой на юбилейном заседании Неофилологического общества не выступали, А. Блок на нем не присутствовал (ср. его дневниковую запись от 5 марта 1912 г.: «…11 марта в заседании “старичков”, чествующих Бальмонта, где упоминается мое имя, не буду участвовать: нездоров все еще; не нужно никому; противно профессорье ‹…›» // Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 131). Из упомянутых лиц с докладами выступили Вяч. Иванов («О лиризме Бальмонта»), историк литературы и критик Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920) («Поэзия К. Д. Бальмонта»), критик, историк литературы, фольклорист Евгений Васильевич Аничков (1866–1937) («Бальмонт и “новые веяния”»). Вступительную речь произнес Ф. А. Браун, доклады прочитали также К. Ф. Тиандер («Бальмонт – викинг»), Д. К. Петров («К. Д. Бальмонт и его переводы с испанского»). Материалы заседания опубликованы в кн.: Записки Неофилологического общества при Петербургском университете. 1914. Вып. VII.
(обратно)1936
Юбилейное заседание Неофилологического общества прошло в этот день в здании городской думы (см.: Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. «Поэт с утренней душой»: жизнь, творчество, судьба Константина Бальмонта. М., 2003. С. 264–266). Кроме того, 5 марта 1912 г. в честь 25-летия литературной деятельности Бальмонта в Петербурге состоялся литературно-музыкальный вечер в Театре комедии и драмы, на котором выступали Ф. Сологуб, С. М. Городецкий, И. С. Рукавишников (см.: Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар (Летейская библиотека. II. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века). М., 2013. С. 364–365).
(обратно)1937
Ответ на п. 42.
(обратно)1938
Брюсов не приехал в Петербург ни на одно из двух юбилейных мероприятий в честь К. Д. Бальмонта. 29 февраля 1912 г. он сообщал Ф. Сологубу: «…я совсем не располагаю своим временем. Редакционные дела – такие, что никогда нельзя знать вперед, будешь ли свободен в такой-то день. Боюсь, что 5 марта мне все же окажется невозможным приехать в Петербург». О том же Брюсов писал в следующем, недатированном письме к Сологубу: «Еще и еще раз извиняюсь, что не мог приехать 5 числа на вечер в честь Бальмонта. Не было не только свободного дня, но и нескольких часов! Последние годы я работаю как каторжник» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 122. Публикация В. Н. Орлова и И. Г. Ямпольского). 8 марта 1912 г. Брюсов писал Вяч. Иванову, призывавшему его участвовать в торжественном заседании Неофилологического общества: «…простое мое “присутствие” не будет иметь значения. Приготовить какую-нибудь дельную, нужную слушателям речь я не мог. Выступать же с пустыми, приветственными словами – я не хочу. В конце концов мне приходится удовлетвориться присланной телеграммой» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 535).
(обратно)1939
См. примеч. 2 к п. 41.
(обратно)1940
Это письмо Брюсова, вместе с которым он выслал рукопись трагедии «Протесилай умерший», вероятно, не сохранилось.
(обратно)1941
Петербургский адрес Маковского в 1909–1910 гг.
(обратно)1942
«Старинный театр» был организован в Петербурге Н. Н. Евреиновым, бароном Н. В. Дризеном и М. Н. Бурнашевым с целью реконструкции старинных театральных представлений и обстановки, в которой они появлялись; первый сезон (7 декабря 1907 – 13 января 1908; Кононовский зал на Мойке, д. 61) был посвящен средневековому театру, второй сезон (18 ноября 1911 – 5 февраля 1912; выставочный зал в Соляном городке, Пантелеймоновская ул., д. 2) – испанской драматургии XVI–XVII вв. См.: Испанский театр XVI–XVII вв. Введение к спектаклям Старинного театра 1911–1912 гг. Статьи бар. Н. В. Дризена, Н. Н. Евреинова, К. М. Миклашевского. СПб., 1912; Старк Э. Старинный театр. СПб., 1912; Зноско-Боровский Е. А. Русский театр начала XX века. Прага, 1925. С. 335–343; то же: М., 2014. С. 308–316; Мгебров А. А. Жизнь в театре. Т. II. М.; Л., 1932. С. 34 – 130.
(обратно)1943
Письмо Брюсова, ответное на п. 45, видимо, не сохранилось.
(обратно)1944
Статья Зноско-Боровского «Старинный театр (По поводу спектаклей 1911–1912 гг.)» была опубликована в «Русской Мысли» (1912. № 8. Отд. III. С. 31–39). В ней в центре внимания были постановки Н. Н. Евреинова (Лопе де Вега, «Фуэнте Овехуна») и К. М. Миклашевского (Тирсо де Молина, «Благочестивая Марта, или Влюбленная святоша»). Зноско-Боровский, будучи уверенным в неисполнимости реставрационных замыслов во всей их полноте («…театр почти не имеет для того источников: сценические постановки прошлого погибли для нас, и, если мы знаем кое-что о внешнем виде театра других эпох, о его декорациях, о его mise-en-scène, то безвозвратно потеряно самое важное: интонации, жесты, мимика актеров, т. е. вся их игра»), заключал: «…неудача ‹…› реставрационных стремлений произошла не от невозможности самой реставрации, но от ошибочности примененных для ее достижения приемов. А что спектакли “Старинного театра” были интересны, поучительны, а моментами и прекрасны, мы не думаем отрицать ‹…›» (С. 34, 38).
(обратно)1945
См. примеч. 2 к п. 46.
(обратно)1946
Прозаик, драматург, критик Сергей Абрамович Ауслендер (1886 или 1888–1937) и ранее вел литературную и театральную хронику в «Аполлоне» и «Русской Художественной Летописи» (см.: Театральные материалы в журнале «Аполлон». Роспись содержания // Дмитриев П. В. «Аполлон» (1909–1918). Материалы из редакционного портфеля. СПб., 2009. С. 104–160).
(обратно)1947
Ср. сообщение в письме Маковского к К. В. Кандаурову от 19 августа 1912 г.: «…Е. А. Зноско-Боровский более не секретарь нашей редакции» (РГАЛИ. Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 110). Уход Зноско-Боровского летом 1912 г. с секретарской должности явился следствием латентного внутриредакционного конфликта, о чем можно судить, в частности, по письму Маковского к Н. Н. Врангелю от 2 ноября 1912 г.: «…хотя работы много, но я блаженствую… без Зноско-Боровского, который продолжает говорить всюду о нанесенной ему смертельной обиде» (ИРЛИ. № 6819); ср. дневниковую запись Кузмина от 27 июля 1912 г. о Зноско-Боровском: «Женя был очень мил, но тверд насчет “Аполлона”» (Кузмин М. Дневник 1908–1915. С. 369).
(обратно)1948
Ответ Брюсова на это предложение неизвестен; правомерно предположить, что он сообщил Зноско-Боровскому об изменившихся условиях своего сотрудничества с «Русской Мыслью», каковые обозначились летом и осенью 1912 г. (см. примеч. 5 к п. 49). После этого в «Русской Мысли» были напечатаны статья Зноско-Боровского «Гордон Крэг» (1913. № 5. Отд. II. С. 21–25) и его рассказ «Смерть Зои Ивановны» (1916. № 6. Отд. I. С. 124–169).
(обратно)1949
См. примеч. 2 к п. 41.
(обратно)1950
Трагедия «Протесилай умерший» вошла в том 15-й (Театр) Полного собрания сочинений и переводов Валерия Брюсова (СПб.: Сирин, 1914), вышедший в свет во второй половине июня 1914 г.
(обратно)1951
Ответ на п. 48.
(обратно)1952
Трагедия «Протесилай умерший» была опубликована в «Русской Мысли» (1913. № 9. Отд. I. С. 1 – 31).
(обратно)1953
Второй выпуск «Литературного альманаха» «Аполлона» не был издан.
(обратно)1954
См. примеч. 3 к п. 41.
(обратно)1955
Изменение положения Брюсова в «Русской Мысли» произошло в связи с решением П. Б. Струве (в апреле 1912 г.) о переводе издания журнала из Москвы в Петербург. Брюсов, отказавшийся от переезда в Петербург, принял решение об уходе из редакции «Русской Мысли», но выразил желание остаться постоянным сотрудником журнала. По заключенной в ноябре 1912 г. договоренности он предоставлял «Русской Мысли» «права преимущественного приобретения» своих произведений за ежемесячное вознаграждение в 100 рублей. С 1913 г. Брюсова на посту заведующего литературно-критическим отделом журнала сменила Л. Я. Гуревич. См. вступительную статью А. Н. Михайловой к публикации писем Брюсова к П. Б. Струве (Литературный архив. 5. С. 264–265), а также: Гапоненков А. А. Журнал «Русская Мысль» 1907–1918 гг. Редакционная программа, литературно-философский контекст. Саратов, 2004. С. 100.
(обратно)1956
На Международной выставке печатного дела и графики («Buchschmuck und Grafik») в Лейпциге в мае 1914 г. Маковский был комиссаром художественного отдела и организатором русского павильона.
(обратно)1957
Как отозвался Брюсов на просьбу Маковского, неизвестно. На сегодняшний день известна одна работа Сергея Юрьевича Судейкина (1882–1946), имевшаяся в собрании Брюсова, – иллюстрация к стихотворению Брюсова «Крысолов»: Балетная пастораль (ГЛМ). Выражаю благодарность за эту справку М. Л. Спивак.
(обратно)
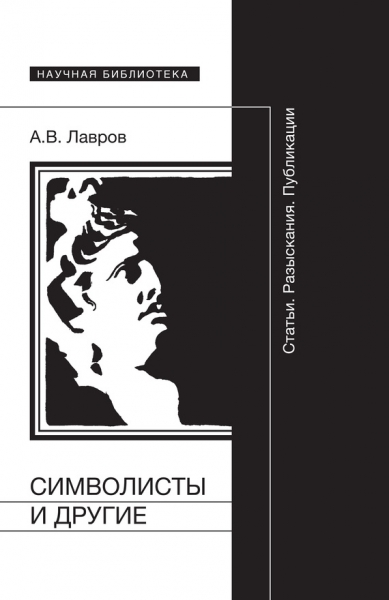


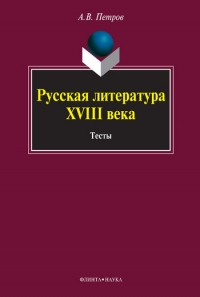

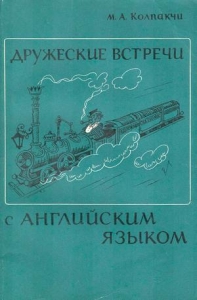

Комментарии к книге «Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации», Александр Васильевич Лавров
Всего 0 комментариев