Леонид Павлович Кременцов Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты: учебное пособие
Введение
Анна Андреевна Ахматова полагала началом двадцатого столетия 1914 год. Вряд ли при этом она имела в виду только общественно-политическую ситуацию: развязывание империалистической войны, события внутри страны, приведшие в итоге к отречению от престола династии Романовых, Февральской революции, октябрьскому перевороту, Гражданской войне и другим катаклизмам, полностью изменившим облик старой России.
В 1914 году Ахматовой исполнилось 25 лет. Она уже была известным поэтом, активно участвовавшим в литературной жизни Серебряного века. Её суждение о начале века в этом году учитывало и движения, происходившие в литературной среде. В частности, в 1913 году был обнародован манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу» за подписями Д. Бурлюка, Александра Крученых, В. Маяковского, В. Хлебникова:
«…Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней»1).
Процитированная финальная фраза – очередной выпад в адрес Пушкина, семидесятипятилетие со дня смерти которого отмечалось в 1912 году.
Сколько можно судить по воспоминаниям современников, все эти вызывающие дерзости не произвели на них серьезного впечатления и были оценены как попытка очередного эпатажа на манер желтой кофты Маяковского. Практически никто не увидел в манифесте никаких предсказаний. Сегодня, в начале XXI века, можно разглядеть в этом документе очевидные пророчества: одни реализовались в ближайшее время, другие позже.
В XX веке русскую литературу, завоевавшую к тому времени мировое признание, ожидали, как и всю страну, катастрофические потрясения: предпринимались попытки полностью пересмотреть содержание, цели и средства художественной литературы.
Ушедший в прошлое XX век не затеряется в череде столетий. Никогда ещё человеческая мысль не достигала таких фантастических высот в постижении законов окружающего мира, в изобретении технических средств, радикально изменивших бытие. В то же время XX век унёс жизни десятков миллионов ни в чём не повинных людей. До сих пор, несмотря на высочайший уровень науки и техники, достигнутый во многих странах, миллиарды людей страдают от голода, болезней, насилия, бесправия, жестокости. Мечта о развитии гармонических отношений и в этом веке осталась неосуществлённой.
России двадцатое столетие поначалу обещало многое. Успехи науки, техники, экономики и искусства сулили прогресс и процветание. Блестящий Серебряный век русской литературы, хотя и оказался коротким, оставил глубокий след в истории отечественной и мировой словесности. Сегодня очевидно, что многие обещания остались невыполненными, многие надежды не сбылись.
Судьба русской литературы в XX веке складывалась так же трагически, как и судьбы её читателей, страдавших под тяжестью неслыханных испытаний: кровавых войн и революций, репрессий, жесточайших несправедливостей, насилия, лжи, унижения, демагогии. Ее развитие после 1917 года оказалось насильственным образом трансформировано и протекало в трех различных руслах: русская советская литература, по преимуществу социалистического реализма (М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов и др.); литература, не признанная официально (А. Ахматова, М. Булгаков, А. Платонов и др.); литература русского зарубежья (И. Бунин, И. Шмелев, В. Набоков и Др.).
Пострадали все: литература русского зарубежья утратила связь с родной почвой, потеряла читателя; литература так называемой внутренней эмиграции подвергалась преследованиям и запретам; литература социалистического реализма, отгородившись железным занавесом от мирового литературного процесса, попыталась установить свои собственные «правила игры», но в конечном счете потерпела неудачу.
В XX веке несколько поколений читателей России выросли под мощным идеологическим прессом. С помощью постановлений, государственных премий, орденов, арестов, расстрелов, ГУЛАГа, высылки из страны, сервильной литературной критики им внушались превратные представления о личности художника, о том, что такое изящная словесность и каково её место в духовной жизни человека. Свою роль сыграла школа, где книги перестали читать – их стали «проходить».
Большую часть столетия в России господствовала тоталитарная система. Одним из ее важнейших принципов было соответствие творчества писателя текущему политическому моменту. «Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас». Но многовековая история искусства давно засвидетельствовала, что ценность произведения искусства не зависит от идеологических соображений и места писателя в государственной иерархии. И М. Горький, и И. Бунин, и М. Булгаков прежде всего талантливые художники. Однако в СССР такие критерии для оценки художественных произведений, как талант, художественность, свободное творческое воображение, были изъяты из обращения. Последствия не замедлили явиться. Искажалась природа художественной литературы, деформировались отношения искусства и реципиента.
Возвращаясь к прежним, нормальным отношениям между литературой и читателем, не стоит жалеть усилий, чтобы прекратить профанацию, коей изящная словесность подвергается столь долго.
Раздел I Литературный процесс (1917–1953)
1
Утром 25 октября 1917 года на улицах Петрограда и Москвы запылали костры: жгли вчерашние номера газет. Через две недели, 7 ноября, М. Горький высказался по этому и многочисленным подобным случаям: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чём свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя головы мчатся якобы по пути к социальной революции – на самом деле это путь к анархии, гибели пролетариата и революции»2).
События Октября 1917 года существенно изменили расклад литературных сил в России. Возникли две основные группы: решительные противники большевиков и писатели, считавшие исторически неизбежным революционное насилие, кровь и жестокость, которые стоит потерпеть, лишь бы не вернулась ненавистная монархия. И в одной, и в другой группах было немало сомневающихся и колеблющихся. Потребовалось целое пятилетие – 1917–1922, чтобы позиции сторон более или менее утряслись, определились.
Конечно, характер литературного процесса изменился радикально: «Когда говорят пушки, музы молчат». А тут война. Сначала империалистическая, затем – Гражданская, голод, холод, нищета, бандитизм. Особенно угнетал пишущих людей полный беспредел цензуры, бесконечные, произвольные аресты ни в чем не повинных авторов. Но музы не молчали! Главное место литературе этого времени занимала поэзия. «Это было время стихов», – свидетельствовал современник. Повсеместно проводились поэтические конкурсы. Несмотря на полиграфические трудности, стихи публиковались на страницах газет, журналов, сборников, альманахов. Они печатались даже на продовольственных карточках. В голодное, трудное время на заводах, в учебных заведениях, воинских частях, учреждениях, на многочисленных в те годы собраниях выступали поэты.
Особенной популярностью в Петрограде и Москве пользовались кафе – «Бом», «Питтореск», «Кафе футуристов», «Стойло Пегаса», «Музыкальная табакерка», «Трилистник», «Домино», «Привал комедиантов» и др. Помимо чтения стихов там устраивались выставки рукописей, обсуждения услышанного, диспуты. Здесь можно было встретить многих известных поэтов тех лет: К. Бальмонта, А. Белого, В. Брюсова, В. Каменского, А. Мариенгофа, В. Шершеневича, В. Хлебникова и др. Здесь звучали голоса
A. Ахматовой, А_ Блока, Н. Гумилева, С. Есенина, Н. Клюева, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, М. Цветаевой – всех тех, кто впоследствии составит гордость и славу русской поэзии XX века. Изредка в газетах и журналах печатались их стихи. Еще реже появлялись поэтические сборники. Особый и многочисленный отряд составляли пролеткультовские поэты. Недаром то время называли «кафейным» периодом русской поэзии.
«Романтический максимализм настроений, вера в безграничные возможности объединённых усилий народов, ликующее чувство победы, пробуждение человеческого достоинства и творческих сил – все это питало поэзию первых лет», – вспоминал один из современников3).
Именно в поэзии ярче, полнее всего выразился двуединый пафос времени: восторженные оды в честь революции (В. Маяковский, Д. Бедный, поэты-пролеткультовцы – М. Герасимов, B. Кириллов, Н. Полетаев) и столь же эмоциональные проклятия в её адрес (М. Волошин, И. Бунин, 3. Гиппиус, Д. Мережковский и др.). Большинство поэтов, и тех, и других, сходились во мнении, что переживаемая эпоха – начало грандиозных и необходимых перемен в России. Только одни предлагали цивилизованный путь: «Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью…»4); а другие провозглашали: «Восславим политику тигрову: ломай, кувыркай, круши!? – Такова была программа пролеткультовцев – И. Садофьева, Н. Полетаева, В. Кириллова и др.
Целью Пролеткульта – организации, возникшей накануне октябрьского переворота, – было развитие культурно-просветительной и литературно-художественной самодеятельности в среде рабочих. Однако пролеткультовцы не только провозглашали лозунги, но вслед за футуристами полностью отрицали наследие предшественников:
Мы во власти мятежного страстного хмеля. Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты!» Во имя нашего завтра – сожжём Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем искусства цветы! —призывал В. Кириллов в стихотворении «Мы».
Предпринимались попытки противопоставить всеразрушающему нигилизму идею наследования лучших традиций прошлого, но они не имели особого успеха. Необходимо отметить роль В.Я. Брюсова в повышении культуры русского стиха в условиях нашествия в поэзию пролеткультовской самодеятельности. Уже в 1918 году он издал книгу «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам». Эту работу он продолжил и в дальнейшем, благо не только пролеткультовские новобранцы нуждались в хорошей поэтической школе. В середине 20-х годов его опыт был подхвачен Г. Шенгели.
В 1921 году русскую поэзию постигло большое несчастье. 7 августа от «недостатка воздуха» в сорокалетием возрасте умер
A. Блок. Через две недели был расстрелян за участие в антисоветском заговоре акмеист Н. Гумилев. Менее чем через год скончался футурист В. Хлебников.
В течение пяти лет эмигрировали М. Цветаева, И. Бунин, B. Ходасевич, К. Бальмонт, И. Северянин, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Набоков и др. О судьбе оставшихся ~ А. Ахматовой, О. Мандельштама, С. Есенина, Н. Клюева, М. Волошина, В. Маяковского, А. Белого, Б. Пастернака – разговор впереди.
Второе место в литературе послеоктябрьского периода безусловно принадлежит драматургии. Массовый интерес к сцене пробудился неожиданно. Спектакли самых разных театров, решительно обновивших репертуар, имели в те годы большой успех. Повсеместно создавались самодеятельные театральные труппы, осуществлявшие постановку пьес революционного звучания в трудных, часто походных условиях.
Возрождались полузабытые традиции массового площадного действа. Три первые революционные годовщины были отмечены в Петрограде спектаклями, которые проходили на улицах и площадях города с участием нескольких тысяч человек: «Мистерия освобожденного труда», «Взятие Зимнего дворца» и т. п. Главную роль в этих постановках играли не характеры, а маски, олицетворявшие те или иные идеи и лозунги. Плакат, карикатура, гротеск – таковы были художественные средства этого театра.
Всё это не могло не оказать влияния на первые шаги новой драматургии. «Мистерия-буфф» В. Маяковского, «Стенька Разин» В. Каменского, «Фома Кампанелла» А. Луначарского – пьесы, соответствовавшие эстетике нового театра. Но время шло, и требования изменялись. Впрочем, большой и какой-то особенно пристрастный интерес к театру сохранялся до конца 20-х годов. Это и неудивительно: успехом у публики пользовались постановки гениев режиссуры – Е. Вахтангова, Вс. Мейерхольда, А. Таирова. Продолжалась деятельность великих реформаторов сцены К. Станиславского и Вл, Немировича-Данченко. С середины 20-х годов на театральном небосклоне появилась целая плеяда блестящих актерских дарований – М. Яншин, Н. Баталов, Б. Щукин, М. Бабанова, Э. Гарин и многие другие.
С наступлением мирного периода, когда А. Луначарский выдвинул свой известный лозунг – «Назад, к Островскому!», выразив потребность общества в психологическом театре, в пьесах «с проникающим в суть вещей реализмом», началось заметное обновление театрального репертуара.
Проза первых послереволюционных лет не шла ни в какое сравнение с поэзией. М. Горький целиком ушел в публицистику, лишь изредка возвращаясь к пьесам типа «Работяга Словотеков», в дальнейшем известным только специалистам. А. Куприн увлёкся организационной работой, он даже побывал на приеме у Ленина, но менее чем через год эмигрировал. Л. Андреев умер в 1919 году. И. Бунин эмигрировал первым – в мае 1918 года сначала в Одессу, а потом за границу.
Из новых авторов обратили на себя внимание авторы романов и повестей П. Бессалько – «Катастрофа», 1918; «К жизни», 1919; Ю. Писарева – «Наша долюшка», 1918; С. Малышев – «К свету», 1919; Б. Тимофеев – «Чаша скорбная» Д918. Особой популярностью пользовались очерк и рассказ. В этих жанрах работали А. Серафимович, А. Неверов, П. Романов, А. Алтаев, П. Арский, Скиталец (С. Петров), А. Ермаков, Г. Яблочков, В. Боков, М. Сивачев, А. Чапыгин. Большинство из них не оставили заметного следа в истории литературы.
Интерес читателей привлекло переиздание в 1918 году двух романов-утопий А. Богданова, известного политика, философа, экономиста, врача, одного из идеологов Пролеткульта – «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1912). Обе книги затем многократно переиздавались в 20-е годы; волновала дерзость автора, предсказавшего открытие телевидения, выход человека в космос, использование атомной энергии и т. п.
Богданов по праву может считаться основоположником советской научной фантастики, утопий и антиутопий. И первым его последователем следует признать автора книги, сданной в печать в Госиздат в 1920 году, – И. Кремнев (А. Чаянов) «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской Утопии». Однако сочинение крупного ученого-экономиста А. В. Чаянова было запрещено цензурой и увидело свет только в конце 80-х годов.
В большинстве действующих учебных пособий начало советской прозы ведется от романов В. Зазубрина «Два мира» (1921) и Б. Пильняка «Голый год» (1921). Однако пора восстановить справедливость.
2
В условиях первых послереволюционных лет (1917–1921) в России осуществлялась политика военного коммунизма: национализация крупной и средней промышленности, продразверстка в деревне, запрещение частной торговли, карточная система распределения продуктов, всеобщая трудовая повинность. В стране воцарились разруха и голод. Шли массовые аресты, расстрелы. Свобода личности была фактически ликвидирована. В 1921 году страну постиг страшный голод. Повсеместно шли крестьянские бунты.
Для спасения страны была введена новая экономическая политика. Десятый съезд РКП (б) принял решение о частичной реставрации капитализма: перевод госпромышленности на хозрасчет, разрешение частной торговли и мелких капиталистических концессий, замена продразверстки продналогом и т. п. Нэп позволил довольно быстро частично решить неотложные экономические проблемы. В страну поступала также помощь из-за рубежа: из Америки (АРА), Чехословакии, Франции и других стран. Шли посылки и от русских эмигрантов.
Но нэп имел и нежелательные для советской власти последствия. С одной стороны, активизировалось издательское дело, возникали новые газеты и журналы, многократно выросли тиражи художественных произведений. При этом заметно ослабли цензурные гонения. С другой стороны, и за границей среди теперь уже многочисленной эмиграции и части писательской интеллигенции в стране нэп был оценен как перерождение советской власти, как попытка изменить уже сложившиеся порядки. В Праге в 1921 году вышел сборник статей под выразительным названием «Смена вех». Соответствующую ориентацию приобрели и некоторые советские издания: «Новая Россия», «Россия», «Русский современник». В них сотрудничали такие писатели и поэты, как Б. Пильняк, М. Пришвин, М. Волошин, В. Ходасевич, И. Эренбург, И. Шмелев. Здесь были опубликованы две первых части «Белой гвардии» М. Булгакова. Сменовеховские настроения встревожили партийное руководство, хотя ряд коммунистов, в том числе и Л. Троцкий, приветствовали выход пражского сборника как доказательство надежды бывших белогвардейцев на то, что спасение России – в советской власти.
Однако эта первая «оттепель» длилась недолго. В мае 1924 года состоялось совещание высоких партийных органов, посвящённое проблемам «литературы и искусства». На нем, по слухам, об Ахматовой была произнесена одна фраза: «Не расстреливать, но не печатать». Воля партии, как показали дальнейшие события, была выполнена. Еще меньше повезло другим писателям старшего поколения, оставшимся на родине. Мало кто из них умер ненасильственной смертью.
Обращает на себя внимание словосочетание «литература и искусство», получившее в дальнейшем широкое хождение вплоть до последних дней советской власти. Его смысл очевиден: литература для большевиков искусством не является со всеми вытекающими последствиями, каковые оказались весьма болезненными. Несколькими годами ранее по время беседы А. Луначарского с В. Лениным Владимир Ильич произнес историческую фразу, которая обрамляла киноэкраны по всей стране в течение долгого времени: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино»5). Когда прозвучали эти слова, фильмы были ещё немыми и нецветными. Но дело не в этом. Отдать важнейшее место кино в стране, где художественная литература давно завоевала высочайший моральный авторитет и мировую славу, значило стремление определенным образом отодвинуть ее на второй план.
Первым последствием упомянутого майского партийного заседания было постановление ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» 1925 года. Оно обозначило рубеж, после которого начался постепенный вначале процесс уничтожения прежних принципов обращения с художественной литературой и замена их новыми. Претендуя на роль своеобразного законодателя и арбитра в литературных спорах, ЦК партии обнародовал программную установку: «Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, вскрывая объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д.»6).
Теоретической базой политики партии в области литературы оказалась статья В.И. Ленина 1905 года «Партийная организация и партийная литература». Её главный тезис о том, что «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, “колесиком и винтиком” одного единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса», был безоговорочно принят «к руководству и исполнению» соответствующими органами и частью писателей, положительные отклики которых на партийные инициативы были собраны и уже в 1926 году изданы специальной книжкой. Впрочем, даже среди поспешивших заявить о своей лояльности нашлись и такие, что задались вопросом: а какую собственно литературу имел в виду Ленин? – Политическую? Философскую? Экономическую? Художественную? Вопрос повис в воздухе. Обсуждать его публично желающих уже не нашлось даже среди известных оппозиционеров.
Только через тридцать лет, в годы хрущевской «оттепели», кто-то обнаружил или вытащил на свет хранившуюся до времени статью Н.К. Крупской, в которой будто бы говорилось, что в статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин не имел в виду художественную литературу. Вспыхнувшую дискуссию, хотя и сугубо кулуарную, мгновенно прекратили, не дав ей разгореться. И продолжали десятилетиями учиться и учить: «Литература должна стать частью…» И продолжалось это до той поры, пока само время не сделало бессмысленной и эту статью, и эту полемику, и всеобщее идолопоклонство. Но кто знает, в какую цену обошлись изящной словесности эти семьдесят лет?
Футурист Маяковский взялся быть «народа водителем и одновременно народным слугой» (1926) и призывал коллег по литературе – «занять свое место в рабочем строю». Программой деятельности поэта для него было: «Надо жизнь / сначала переделать, / Переделав – / можно воспевать» (1926)7). Недаром, конечно, он удостоился, правда, посмертно, высочайшей похвалы: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Невнимание к его памяти и произведениям – преступление». Хотя сам поэт, избрав популярную в те годы позицию – «И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас» – внутренне все-таки сомневался в её справедливости. Уже в 1924 году он написал «Юбилейное», в котором «подсаживал на пьедестал» того самого Пушкина, которого призывал «бросить с Парохода современности». Кто знает, какую долю в предсмертных страданиях Маяковского занимали мысли о своем погубленном таланте. Ведь его итоговая выставка «Двадцать лет работы» была демонстративно проигнорирована партийными органами. В поэтическом завещании «Во весь голос», предъявляя потомкам «сто томов своих партийных книжек», он недвусмысленно заявлял: «…я себя смирял, становясь на горло собственной песне» (XII, 29—1, 1930).
Происшедшие на рубеже XIX и XX века научно-техническая, общественно-политическая и культурная революции существенно изменили представления человека о себе самом и окружающей действительности. Уклад его жизни и взгляды на мир, сложившиеся веками, рушились под их натиском. Психика людей подверглась давлению экстремальных ситуаций, быстро сменяющих одна другую. После того как философы провозгласили, что «Бог умер» и надеяться больше не на кого, возникла иллюзия возможности реализовать социальные утопии, нередко ломая природу человека, игнорируя опыт его исторического развития. После 1917 года пришла очередь России. В ней события пошли своим путем, удивительным образом сочетая террор и энтузиазм, разрушая религиозные идеалы и утверждая вместо них коммунистическую идеологию. Столь же противоречивым оказался и путь литературы.
В начале 20-х годов литературный процесс характеризовался необычайной активностью во всех видах и жанрах творчества. Главный его смысл и пафос заключались в поисках новых путей, новых форм. Для достижения этих целей использовались разные художественные стили, приемы, мирно уживавшиеся друг с другом, иногда даже в творчестве одного художника. Свою роль, как уже говорилось, сыграло введение нэпа. Большинство писателей оценивали первые послереволюционные годы как время, давшее свободу для творческого поиска и художественных открытий. За право представлять новую литературу спорили многочисленные литературные группировки.
В 1924 году вышла книга Н.А. Бродского и Н.П. Сидорова «От символизма до Октября». В ней, среди прочих, были опубликованы футуристическая «Декларация заумного языка» (1921), «За что борется ЛЕФ» (1923), декларации имажинистов (1919–1923), документы экспрессионистов (1919–1920), «Биокосмическая поэтика» (1921), декларация люминистов (1921), манифест и декрет от ничевоков (1920–1922). Появились декларация форм либризма (1922), декларация неоклассицистов (1923), программные документы группировок – «Серапионовых братьев» (1922), фуистов (1923), конструктивистов (1923), «Пролетарской поэзии» (1920), из которой вьделилась и обнародовала свою декларацию группа «Кузница» (1923), платформа группы «Октябрь» и др. Возникали и распадались литературные кружки, общества: «Звучащая раковина» во главе с Н. Гумилевым; «Кольцо поэтов им. КМ. Фофанова» с участием К. Вагинова; «Литературный особняк», «Островитяне» Н. Тихонова, В. Рождественского, Е. Полонской и др.
Все эти общества, группы и группировки, кружки, как правило, были малочисленны, что не мешало им громогласно заявлять о своей новаторской и единственно верной позиции. Ведущую роль в литературной жизни первой половины 20-х годов играли «Перевал» (1923–1932) под руководством старого коммуниста А.К Воронского, ассоциации пролетарских писателей – ВАПП, РАПП (1920–1932), а также писатели, не входившие в какие-либо группировки, так называемые попутчики.
РАПП ориентировалась главным образом на творчество писателей, вышедших из среды рабочих, и быстро стала массовой организацией. Во главе её в разное время стояли А. Фадеев, Л. Авербах, В. Ермилов, С. Родов. Вульгарный социологизм и догматизм в суждениях о художественной литературе, ошибочные, тенденциозные оценки ряда писателей, тон литературной команды в обращении с инакомыслящими, высокомерие (ком-чванство, так это тогда называлось) не позволили РАПП занять лидирующее положение в литературе, хотя именно борьба за власть была для рапповцев главной целью и отнимала у них немало сил и времени.
Особенно агрессивна была РАПП по отношению к попутчикам – писателям, безусловно талантливым, но, по мнению ортодоксально настроенных рапповцев, не овладевшим еще коммунистической идеологией.
Наиболее решительно в середине 20-х годов притязаниям РАППа на монопольное руководство литературой противостояла группа «Перевал», во главе с известным критиком, журналистом и писателем А. Воронским. В нее входили М. Пришвин, A. Малышкин, Д. Горбов, А. Лежнев и др. Открытой тенденциозности, социологизаторству, сектантству, администрированию РАППа перевальцы противопоставили свое понимание новой художественной литературы как наследницы лучших традиций русской и мировой словесности. Они призывали к объективному художественному воспроизведению действительности в духе гуманизма, настаивали на важности интуиции в процессе творчества. В начале 1935 года Воронский был расстрелян как враг народа8).
Ленин умер в 1924 году. А уже в 1925-м Сталин создал специальную строго секретную разведывательную группу, которая затем работала лично на него много лет9). Возможно, это обстоятельство также повлияло на сильное и резкое ухудшение общей обстановки в стране во второй половине 20-х годов: частичная, а затем и полная отмена нэпа, коллективизация и т. п. Не могло оно не затронуть и литературы. Многое тогда, в отличие от наступившего периода 30-х годов, совершалось медленно и тайно, и оставалась неясной истинная причина случившегося. Последовал ряд самоубийств: С. Есенин, А. Соболь,
B. Маяковский, Л. Красин. По нарастающей пошел процесс разгула цензуры, запретов, арестов писателей и изъятия их рукописей, зубодробительной критики, главным образом по политическим мотивам. Соловецкий лагерь принял первые жертвы из литературной среды – писателя О. В. Волкова, ученого-литературоведа Д.С. Лихачева.
В 1928 году в последний момент «проскочила» цензуру книга В. Шкловского «Гамбургский счет». Автор доказывал, что существенной особенностью текущей литературной жизни является наличие двойной системы оценок художественного творчества:
«Гамбургский счет – чрезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по указанию антрепренера
Раз в год, в гамбургском трактире, собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах.
Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов – чтобы не исхалтуриться.
Гамбургский счет необходим и в литературе.
По гамбургскому счету – Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города.
В Гамбурге Булгаков у ковра.
Бабель – легковес.
Горький сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион»10).
Можно не соглашаться с расстановкой фигур, предложенной Шкловским, с его оценками. Но двойственность подходов к современной литературе подмечена точно: одна шкала оценок – истинная, эстетическая, традиционная, – другая – надуманная, приспособленная к официальным сиюминутным требованиям.
Невозможно забыть эпизоды творческой биографии М. Булгакова, у которого в 1926 году была арестована рукопись «Собачьего сердца», в России увидевшая свет только через полвека после смерти великого художника. И его альбом, куда он вклеивал отзывы на свое творчество, с горечью удостоверяясь, что из 301 статьи и рецензии 298 содержали резко отрицательные, нередко оскорбительные отзывы. Подобного рода примеры во второй половине 20-х годов отыскиваются в жизни и творчестве подавляющего большинства писателей. Именно в это время надолго, а порой и навсегда, исчезли со страниц журналов и книг имена А. Ахматовой, М. Волошина, Н. Клюева, Е. Замятина и многих других. Окончательно похоронило надежды на перемены к лучшему постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Ликвидировались последние из уцелевших к тому времени литературных группировок.
3
Многообразие изобразительных и выразительных средств языка и стиха, изобретательность в композиции и архитектонике произведений, богатство сюжетных вариантов, полная свобода творческой фантазии заслуженно принесли началу 20-х годов славу времени «великого эксперимента» и выдающихся художественных достижений, хотя в основном это признание произошло позднее. В прозе это были книги М. Булгакова, А. Платонова, М. Горького, М. Зощенко; в поэзии – С. Есенина, Н. Клюева, В. Маяковского, М. Цветаевой; в драматургии – М. Булгакова, В. Маяковского, Н. Эрдмана. Рядом с этими именами по праву могут быть поставлены десятки других.
Особенно выразительна дальнейшая судьба поэзии. Было бы большой ошибкой представлять себе поэзию 1920-х годов только в ритмах марша, во власти лозунговой и агитационной стихии. Большое и важное место в ней занимало творчество поэтов, развивших лучшие традиции Серебряного века русской поэзии: В. Хлебникова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Волошина. По разным причинам с середины 20-х годов начнут смолкать их голоса, снизится видимая творческая активность. Их стихи объявят несозвучными эпохе, а самих обвинят в абстрактном хуманизме и фактически перестанут печатать.
Поэтическое творчество Н. Гумилева, Н. Тихонова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама сохраняло традиции дореволюционной и мировой поэзии, где чувства выражались от первого лица («И долго буду тем любезен я народу…», «Люблю отчизну я…» и т. п.). Поэты-пролеткультовцы воспринимали мир по-другому: «Мы – железобетонные лирики».
Мы подняли смерч крылатый, Взрыли поля чугуном, — Мы требуем полной платы За столетия, убитые сном, —писал В. Александровский. Вспомним программное стихотворение В.Кириллова, которое так и называлось «Мы». Пролеткультовцы были не одиноки. Выдвижение – на первый план коллективного героя, народа, массы, множеств казалось своеобразным велением времени. Маяковский снял свою фамилию с обложки первого издания известного произведения:
150 000 000 мастера этой поэмы имя… 150 000 000 говорят губами моими.Своеобразным апофеозом идей коллективизма прозвучали его же знаменитые строки: «Единица! / Кому она нужна?! / Голос единицы /тоньше писка. / Кто её услышит? – / Разве жена! / И то / если не на базаре, / а близко»11).
Идеологическое обоснование подобного подхода дал А. Луначарский: «Ни одно “я“ не слишком ценно, чтобы не быть принесенным в жертву нашему общему “мы“». Мысль о том, что одни только массы творят историю, становилась главенствующей в официальной идеологии. Однако не все писатели придерживались подобной ориентации. В романе «Строители весны» («Чевенгур») А. Платонов показал, как в сознание людей повсеместно и настойчиво внедрялись готовые стереотипы о классовой непримиримости, коллективизме, оптимизме и т. п., девальвирующие смысл и ценность слова. А. Платонов обнаруживает, что в этих условиях личность, теряя свою индивидуальность, растворяется в толпе. Он фиксирует первые успехи в вытравлении неповторимого в человеке как следствие торжества дурно понятого коллективизма, который страшен как раз тем, что подавляет или нивелирует личность.
Е. Замятин в антиутопии под знаменательным заглавием «Мы» предостерегал от посягательств на права отдельного человека, от попыток противопоставления коллектива индивидууму. История подтвердила его худшие опасения, и не случайно этот роман в России увидел свет только в 1988 году.
Официальное партийное требование к писателям изображать действительность правдиво, исторически конкретно, в революционном её развитии, хотя и сформулированное только в 30-е годы, фактически функционировало уже с начала 20-х годов. Тем самым отодвигалась на периферию главная цель искусства – исследование внутренней духовной жизни личности. К этому идеологическому перекосу ещё не раз придётся возвращаться в разговоре о дальнейшей эволюции русской литературы в двадцатом столетии.
Кредо пролеткультовцев – «отбросить все старое, буржуазное», «разрушить до основания», «выбросить на помойку истории» – находило отклик в творчестве ряда художников. Поэтизация стихии, воспевание разрушительного начала отразились во многих произведениях того времени.
«Ветер, ветер – на всем Божьем свете!» – восклицал А. Блок в поэме «Двенадцать». Образ метели, пурги, шквала, урагана, сметающих с лица земли обломки старого мира, прочно связывался с представлениями о революции и Гражданской войне и переходил из одного произведения в другое. «Ветер любит Гулявин. Тот безудержный, полыхающий ветер, который бросает в пространство воспламенённые гневом и бунтом тысячи, вздымает к небу крики затравленных паровозов и рыжие космы пожарных дымов», – писал о герое своего произведения Б. Лавренёв в повести, которая так и называлась «Ветер»12). Со всемирным потопом ассоциировалась революция в «Мистерии-буфф» В. Маяковского.
Внутренний мир персонажа, его мысли, переживания оттеснялись на второй план. Уж на что яркая, неповторимая личность – Чапаев в романе Д. Фурманова, но и он, подчеркивает автор, «олицетворяет собой всё неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде»,13).
Главный герой повести А. Малышкина «Падение Дайра», изображавшей штурм Перекопа Красной Армией, – это «множества», народные массы, устремившиеся к светлому будущему. Писатель поэтизирует их стихийный порыв. Командарм, направляющий движение множеств, не назван по имени, а в облике и в характере его не выявлено ни одной индивидуальной человеческой черты, но постоянно подчеркиваются связь со множествами, твердость и непоколебимость: «Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы… Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил». В самые напряжённые, ответственные моменты операции, когда решалась судьба сражения, «командарм был спокоен, может быть, потому, что знал закон масс». Малышкин никак не именует и персонажей произведения: «У депо дежурили суровые и грубые с винтовками наперевес: ждали»14). Такой способ изображения вполне реализует рекомендации А. Луначарского.
В своих первых произведениях А. Фадеев, Ю. Либединский, Б. Пильняк, изображая нового героя времени – большевика, делали акцент преимущественно на внешности, одежде, поступках своих персонажей. В литературе возник стереотип: их показывали людьми громадного роста, обладающими большой физической силой, не ведающими сомнений и человеческих слабостей, прямолинейными в мыслях и в поведении. Эти условные, схематические, часто безжизненные фигуры стали называть с легкой руки Б. Пильняка «кожаными куртками».
Период революции и Гражданской войны был временем поэзии. «В грозовые годы революции, – свидетельствовал известный критик 20-х годов П. Лебедев-Полянский, – мы жили преимущественно стихами. О романе он (т. е. читатель) и мечтать не смел»15). С начала 20-х годов положение стало изменяться, однако традиционные жанры романа, повести, рассказа в том виде, в каком они сложились до революции, встречались редко. Проза этого времени характеризуется напряженным сюжетом, наличием острого социального конфликта, оригинальными стилевыми исканиями. Уже тогда началось то небывалое смешение жанров, которое со всей определённостью заявило о себе на последующих этапах эволюции литературного процесса.
Так, в текст романа «Чапаев» Д. Фурманов включил хронику, дневниковые записи, очерки, письма. Стали популярны циклы рассказов или небольших повестей, объединённых одной тематикой и опубликованных под одним названием: «Конармия» И. Бабеля, «Шутейные рассказы» В. Шишкова, «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» М. Шолохова и др.
В жанрах рассказов-очерков и рассказов-новелл работали А. Неверов, П. Романов, М. Зощенко, Б. Пильняк, М. Булгаков, А. Платонов и др. Вернулись к малым жанрам и корифеи литературы – М. Горький, А. Толстой, В. Вересаев.
Разнообразные средства изображения, которыми пользовались прозаики начала 20-х годов, богатство и насыщенность красок в раскрытии образов, оригинальность, динамизм психологических поворотов сюжета расширяли границы рассказа и повести, приближая их по эпическому размаху к жанру романа. Однако ещё в 1922 году О. Мандельштам опубликовал статью под выразительным названием «Конец романа». Логика его была проста и на первый взгляд убедительна. В центре романа всегда стояла личность с её проблемами и переживаниями. В новые времена личность оттеснялась на второй план, главным действующим лицом становился народ, множества, коллектив. Роману просто ничего не оставалось делать, как умереть.
Но живой литературный процесс всегда развивался независимо даже от самых убедительных теоретических построений. Русский роман 20-х годов доказал свою жизнеспособность, представ перед читателем во всем богатстве своих жанров: социальном («Дело Артамоновых» М. Горького); социально-психологическом («Белая гвардия» М. Булгакова); художественно-документальном («Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фурманова); историческом и историко-биографическом («Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова, «Одеты камнем» О. Форш, «Разин Степан» А. Чапыгина); сатирическом («Двенадцать стульев» И. Ильфа и Евг. Петрова); научно-фантастическом («Плутония», «Земля Санникова» В. Обручева, «Человек-амфибия» А. Беляева); антиутопии («Мы» Е. Замятина, «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» А. Чаянова). Правда, нельзя забывать, что 1921–1922 годы были временем относительной свободы и возвращение к прежнему, жестокому режиму происходило медленно и с большой осторожностью.
Выше уже были названы некоторые произведения о Гражданской войне. Это была центральная тема литературы тех лет. Сама жизнь щедро предоставляла сюжеты. Сорванные со своих мест революцией и войной, люди метались по стране в поисках новой жизни и, найдя её, утверждали себя в глазах окружающих. Распространённая схема: дом утраченный – странствия – дом обретённый, история или эпизод человеческой судьбы в её переломный момент. И как всегда в подобных случаях трудно различить границу между рассказом и повестью, повестью и романом. Одно несомненно: никогда ещё в русской литературе не описывались такие жестокие сцены насилия, не лилось столько крови, не погибало мучительной смертью столько народу. Беременной жене председателя коммуны Софрона Конышева в повести Л. Сейфуллиной «Перегной» враги штыком вспарывают живот и выбрасывают ребенка на помойку: «Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили»16).
В повести Б. Лавренева «Сорок первый» островок нежной и страстной любви рушится под натиском классовой ненависти.
Страшный случай вероломства и предательства описан Б. Пильняком в «Повести непогашенной луны».
Жуткие кровавые сцены в застенках ЧК нарисованы в повести В. Зазубрина «Щепка».
Многие писатели в начале 20-х годов обратились к теме деревни. К 1917 году Россия была по преимуществу крестьянской страной. Продразверстка и продналог, революционный лозунг «Земля крестьянам!» и его реализация приводили в деревне после Гражданской войны к острейшим коллизиям. Немало пишущих были тесно связаны с деревней кто местом рождения, кто жизненным опытом. В литературе произведения о многообразнейших перипетиях сельской жизни занимали в количественном отношении одно из первых мест. М. Горький в 1925 году оценил состояние современной словесности в словах: «Слишком много деревни».
Деревенской жизни и крестьянскому быту были посвящены в тот период произведения А. Неверова, С. Подъячева, П. Замойского, М. Шолохова. Л. Леонова, И. Вольнова, А. Дорогойченко, П. Низового, Ф. Березовского, Я. Коробова, И. Касаткина и других.
Трагические судьбы никому не нужных, брошенных детей – еще одна тема, громко прозвучавшая в литературе начала 20-х годов. По стране бродили миллионы беспризорников. Потерявшие родителей, сбежавшие от военной опасности, голодные, грязные, в лохмотьях, они ночевали, где придётся, не упуская случая стянуть, что плохо лежит. В 1921 году только в приютах, детдомах, ночлежках и т. п. находилось более полумиллиона детей. Остававшихся же на улицах было гораздо больше. Особенно много среди беспризорников оказалось крестьянских детей. В стране осуществлялась программа ликвидации беспризорности. Не остались в стороне и писатели. На страницах газет и журналов появилось множество рассказов и повестей о беспризорных. Картины быта беспризорников, запоминающиеся образы детей и воспитателей доносят до нас страницы произведений «Ташкент – город хлебный», «Колька», «Красный сыщик» А. Неверова; «Республика ШКИД» Л. Пантелеева и Г. Белых; «Засыпался», «Свой», «Коммуна» А. Кожевникова; «Петька шевелит мозгами» И. Гольдберга; «Ванька беспризорный» В. Дмитриевой; «Леска» Н. Ляшко, «Атава» Б. Четверикова и т. д.
В большинстве этих произведений авторы ограничивались бытовыми зарисовками: асфальтовые котлы, дикий жаргон, чумазые лица, лохмотья, ночевки в ночлежках, на кладбищах и на вокзалах, воровство и бандитизм – всё это подчас даже романтизировалось. Распространено было убеждение, что пороки, воспринятые на улицах, неисправимы, а сами беспризорники безнадежны. На этом фоне выгодно выделялась своим оптимизмом, туманностью изображения детей, талантливым образом воспитателя колонии повесть Л. Сейфуллиной «Правонарушители».
В послереволюционной литературе распространились веяния, в соответствии с которыми личная жизнь передового человека непременно изображалась не в условиях семьи, а в разных увлечениях, любовных интригах и т. п. «Я не за семью, – писал
В. Маяковский, – в огне и дыме синем / выгори и этого старья кусок». Н. Грознова обратила внимание на то, что в литературе первой половины 20-х годов бытовала «буквально фонтанирующая масса натуралистических рассказов, посвящённых «проблеме пола»17). Впрочем, и во второй половине этого десятилетия ситуация изменилась мало. Достаточно напомнить, с каким энтузиазмом обсуждались в молодежных клубах, на страницах газет и журналов проблемы «новой революционной любви» (нашумевшая философия «стакана воды»), какой популярностью пользовались посвящённые этим проблемам рассказы и повести С. Малашкина «Луна с правой стороны», П. Романова «Без черемухи» и др.
Аналогия просто напрашивается. Когда в 1980-х годах цензурные ограничения, предписанные социалистическим реализмом, ослабели, страницы новых сочинений буквально заполонили постельные сцены (В. Сорокин и др.).
Изображение революции, картин Гражданской войны потребовали использования особенных стилевых приемов: рубленая проза, сказ, поток сознания и т. п.
Повесть Л. Сейфуллиной «Четыре главы» – яркий образец рубленой прозы – открывалась программным заявлением: «Жизнь большая. Надо томы писать о ней. А кругом бурлит. Некогда долго писать и рассказывать. Лучше отрывки»18). Текст «Четырех глав» можно сравнить с мелкой мозаикой. Небольшие разрозненные куски фраз, по мысли писательницы, должны были силой воображения читателя сливаться в цельную картину. Стремление к краткости реализовывалось не только за счет фрагментарной композиции. Видоизменялась конструкция самого предложения. Из него выбрасывались, иногда вопреки логике и грамматике, разные члены, включая подлежащее («Падение Дайра» А. Малышкина). Нарушался естественный порядок слов.
Рубленая проза была распространена очень широко. Роман «Голый год» Б. Пильняк завершил следующим образом: «Глава VII (последняя, без названия): «Россия. Революция. Метель». Следует заметить, что в этом романе, как и в книге А. Веселого «Реки огненные», наблюдаются элементы авангардизма (поток сознания, в частности).
Широко использовался сказ, с помощью которого усиливалась достоверность описываемых событий, – слово предоставлялось непосредственно персонажу произведения. Мастером сказа был М. Зощенко, пользовались им А. Неверов, ранний
А. Фадеев, А. Веселый и многие другие писатели, особенно живописавшие деревенскую жизнь.
Настойчивые поиски новых форм, призывы к новаторству во чтобы то ни стало, не принимали в расчет особенности таланта художника. Показателен в этом отношении эпизод из биографии Ф. Гладкова. В 1921 году он приехал в Москву с новым рассказом о Гражданской войне, написанным в обычной для него, начавшего свой творческий путь еще до революции, манере. «И вот, – вспоминал Гладков, – тогдашние деятели союза писателей накинулись на него и разнесли рассказ в пух и прах. Это старомодно. Вы пишете по старозаветным реалистическим канонам. Разве можно это делать, когда у нас есть такие мастера, как Ремизов, Андрей Белый, Пильняк? Поучитесь у них»19).
Начинавший в те годы Фадеев засвидетельствовал: «В литературе имело место тогда сильное влияние школы имажинистов. Важнейшей задачей художественного творчества имажинисты считали изобретение необычных сравнений, употребление необыкновенных эпитетов, метафор. Под их влиянием и я старался выдумать что-нибудь такое “сверхъестественное’. В первой повести и получилось много ложных образов, фальшивых, таких, о каких мне стыдно сейчас вспоминать…30>
В литературе 20-х годов отразились вся сложность и противоречивость послереволюционного времени. Именно тогда начался процесс, принесший нашей словесности немало бед. Призывы футуристов разделаться с классическим наследием, пролеткультовские пожелания разрушить музеи и оставить на помойке культурные ценности прошлого не прошли даром. Но главное оставалось впереди.
4
В 1929 году, который когда-то торжественно, с пафосом именовали годом «великого перелома», был таковым не только в области политики и экономики, но и в области художественной литературы. Наезжавший из-за границы М. Горький активно включался в литературную жизнь, заняв в ней место своеобразного покровителя, наставника молодой словесности. Одним из его любимых тезисов, часто и настойчиво предлагавшимся в те годы в качестве руководства к действию, стал следующий: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд». Обращает на себя внимание слово «должны». При таком подходе творческий процесс художника – явление тонкое, сложное, на грани интуиции и знания – низводилось до уровня работы простого исполнителя, готового по заказу смастерить нужное изделие. Не берутся в расчет ни обстоятельства духовной жизни писателя, ни своеобразие его таланта, ни его личные творческие планы.
Социалистический реализм ещё не был провозглашен основным и фактически единственным методом советской литературы, а его базисное положение уже было заявлено. Тут же взялись и за его претворение в жизнь. Группа писателей по инициативе Горького отправилась на строительство Беломорканала «изучать жизнь», и вскоре вышла книга о труде, «перевоспитывающем» заключенных в одном из лагерей ГУЛАГа. Затем увидела свет «История фабрик и заводов». Правда, эти и подобные книги к искусству отношения уже не имели, зато отличались «своевременностью» и «полезностью».
У Горького были единомышленники, готовые ради торжества социализма отказаться от веками освященных традиций художественного творчества. В. Маяковский заявлял: «Труд мой любому труду родствен». Ему вторил Э. Багрицкий: «Механики, чекисты, рыбоводы, / Я ваш товарищ, мы одной породы». Правда, оба они умерли рано, не успев убедиться в том, что измена призванию губительна для художника.
Поразительная метаморфоза произошла с Э. Багрицким, поэтом, вначале воспевавшем романтику, Тиля Уленшпигеля, птицелова Диделя. Он не смог сопротивляться давлению тоталитарной идеологии. В одном из стихотворений 1929 года Багрицкий воссоздает впечатляющую сцену. В болезненном видении ему является Ф. Дзержинский и предъявляет требования текущего века: «Но если он скажет: “Солги!” – солги, / но если он скажет: “Убей!” – убей»21). Поэт не возразил наркому, хотя когда-то, раньше, любил Пушкина и даже посвятил ему неплохие стихотворения.
За тысячи лет существования поэзии в мировой литературе сложилась, казалось, незыблемая традиция служения поэтического искусства идеалам любви, добра и справедливости. Даже вообразить было нельзя, что истинная поэзия может призывать ко лжи и насилию.
Н. Тихонов, К. Федин и некоторые другие заняли свое место в рабочем строю, но уже не в качестве писателей, а пишущих чиновников.
В 1929 году М. Горький, разъясняя, как надо писать для нового журнала «Наши достижения», конкретизировал свое требование насчет «основного героя наших книг»: «В изображении трудовых процессов лирика у всех звучит фальшиво, – это потому, что труд никогда не лиричен…»22). Весьма сомнительное по сути заявление (это труд-то никогда не лиричен?!), противоречащее, кстати, многочисленным утверждениям и творческой практике самого Горького (достаточно вспомнить финал автобиографической трилогии), послужило началом очередной кампании. Через два месяца выступил ещё один вождь тогдашней литературы – А. Фадеев. В статье «Долой Шиллера», он подверг критике лирико-романтическое начало в художественном творчестве, объявив его несозвучным эпохе.
Конечно, далеко не все писатели и критики разделяли эту позицию. Но наступало время – в стране уже прошли первые политические процессы, – когда доводы разума, здравого смысла теряли свою силу. Лирико-романтические произведения попросту переставали печатать. Такая же судьба ожидала писателей, не пожелавших следовать в фарватере официальных идеологических требований.
В 1934 году состоялся Первый съезд советских писателей. С докладом выступил М. Горький. На съезде был принят руководящий документ – Устав Союза советских писателей, – провозгласивший, что социалистический реализм, основной метод советской литературы, позволяет художнику проявить «творческую инициативу», даёт ему «возможность выбора разнообразных форм, стилей, жанров». В жизни дальше провозглашения дело не пошло.
Устав потребовал от писателей постановки в художественных произведениях задач «идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». С этого времени началось интенсивное внедрение принципов социалистического реализма в сознание и писателей, и читателей. Развернулась широкая кампания по восхвалению нового творческого метода как вершины в художественном развитии человечества. Однако большинство этих принципов к собственно художественному творчеству отношения не имело. Это были установки организационного и идеологического характера. Они нанесли определенный вред литературе, лишая писателей внутренней свободы, ориентируя их главным образом на чисто социологическое освещение жизни, навязывая надуманные критерии оценок искусства.
В результате сузился диапазон литературных жанров: исчезали лирика, сатира, фантастика. Негативное влияние на литературу 30-х: годов и последующего времени оказали и метастазы советского новояза, вторгавшегося в литературную речь. В результате оскудел диапазон изобразительно-выразительных средств языка, начался процесс его усреднения. Можно вспомнить переработку Шолоховым «Тихого Дона» и «Поднятой целины».
Сам по себе социалистический реализм не остановил литературного развития: в 30-е годы были написаны «Мастер и Маргарита», «Реквием» и ряд других произведений, правда, так и не попавших тогда в типографию. Несмотря на то что о литературе русского зарубежья распространялись, говоря языком того времени, в основном «клеветнические измышления», сегодня есть возможность оценить эту литературу достаточно объективно. Советская критика утверждала, что, оторвавшись от родной почвы, русские писатели-эмигранты потеряли читателя и лишились творческого стимула. На самом же деле именно они поддержали авторитет и славу русской литературы в мировой культуре: И. Бунин – «Жизнь Арсеньева», А. Куприн – «Юнкера», И. Шмелев – «Лето Господне», Б. Зайцев – «Дом в Пасси». В. Набоков – «Приглашение на казнь», «Дар»; поэзию представляло творчество В. Ходасевича, М. Цветаевой, К. Бальмонта, Г. Иванова и др. В 1933 году первая Нобелевская премия в истории русской литературы была присуждена И. Бунину.
Но русский читатель смог ознакомиться со многими произведениями, написанными и у себя в стране, и за рубежом, только спустя десятилетия.
К сожалению, социалистический реализм оказался удобным прикрытием для всякого рода конъюнктурщиков. Это стало возможным потому, что в сознание советских людей в 30-е годы стал особенно активно внедряться принцип двоемыслия, о котором предупреждал Шкловский в «Гамбургском счете».
Если ограничиться газетной информацией тех лет, то эти годы будут выглядеть как время небывалого подъёма во всех областях материальной и духовной жизни: строились фабрики, заводы, железные дороги, электростанции. В стране работали выдающиеся учёные – К. Циолковский и С. Королев, А. Туполев и Н. Вавилов, В. Вернадский и П. Капица. На весь мир были прославлены подвиги полярников и лётчиков. Первые пятилетки ускоренными темпами индустриализации и коллективизации ликвидировали отсталость и выводили государство на новые рубежи производства, науки и техники. Со всех концов страны шли вести и об успехах нового искусства – «социалистического по содержанию и национального по форме». В 1936 году была принята сталинская конституция, провозгласившая принципы гуманизма, уважения к правам личности и т. д., и т. п.
Но в газетах не писали о массовых репрессиях – о незаконных арестах, ссылках и расстрелах, о страхе и подозрительности, поселившихся в людях; о доносах и предательстве, об откровенной циничной лжи, о принудительном даровом труде заключённых в лагерях ГУЛАГа, широкой сетью опутавших страну; о преступном насилии, повсеместно сопровождавшем коллективизацию и унесшем миллионы и миллионы жизней, о страшном голоде, поразившем ряд районов страны.
В газетах можно было прочитать об открытии новых журналов – «Знамя» (1931), «Интернациональная литература» (1933) и других; о приезде в СССР всемирно известных писателей – Л. Фейхтвангера и Р. Роллана; о литературных дискуссиях, посвящённых историческим жанрам, формализму, языку художественной литературы, о декадах братских литератур и многом другом из окололитературной жизни. Но в газетах ничего не было о запрещении и изъятии целыми списками художественных книг, о гибели писателей – Н. Клюева, И. Бабеля, Б. Пильняка, О. Мандельштама и др.
В подобных условиях было трудно ожидать естественного гармоничного развития литературного процесса. В прозе в ущерб остальным жанрам наблюдался перекос в сторону крупномасштабных полотен, романов-эпопей: М. Горького «Жизнь Клима Самгина», А. Толстого «Хождение по мукам», М. Шолохова «Тихий Дон», В. Шишкова «Угрюм-река» и т. п.
С другой стороны, активизировалась очерковая литература, чему способствовали «творческие» командировки писателей на стройки и предприятия. Особенно знамениты были писательские групповые десанты в Туркмению, на Турксиб и Магнитку. Журналы «Наши достижения», «СССР на стройке», «Тридцать дней» специализировались главным образом на публицистике. Провозглашение труда «основным героем наших книг» привело к возникновению производственных жанров: «День второй» И. Эренбурга, «Гидроцентраль» М. Щагинян, «Стихи делают сталь» – поэтические репортажи А. Безыменского, «Электрозаводская газета» И. Сельвинского и т. п.
По этим причинам лирических стихов в 30-е годы было опубликовано мало. Прекрасный образ Музы – юной девы, олицетворявшей поэтическое вдохновение, являлся в эти годы в нетрадиционном, скажем так, виде: «С лопатой взятой на плечо и с “Политграмотой“ под мышкой» (Я. Смеляков). Зато расцвел жанр «массовой» песни: «Катюша», «Широка страна моя родная», «Каховка» и т. п.
Среди крупных поэтических жанров преобладали повесть в стихах и сюжетная эпическая поэма: «Страна Муравия» А. Твардовского, «Соляной бунт» П. Васильева, «Зодчие» Д. Кедрина и некоторые др.
В театр 30-х годов поставляли свою продукцию Вс. Вишневский, Л. Леонов, А. Афиногенов, Н. Погодин. Продолжал писать пьесы «в стол» М. Булгаков; о том, чтобы появились на сцене или в печати сочинения «обэриутов», не могло быть и речи.
Зловещее пророчество футуристов «бросить Пушкина, Толстого, Достоевского и проч., и проч. с Парохода современности» наполнилось конкретным содержанием. «Бросить» означало, с одной стороны, – расстрелять, арестовать с последующим заключением в тюрьму или в ссылку, в ГУЛАГ, запретить новые произведения писателей, «врагов народа» и классиков, чьи сочинения могли повредить строительству социализма, изъять из библиотек все экземпляры прежних изданий. Позднее в 60—70-е годы, когда «нравы смягчились», писателей стали привлекать в качестве обвиняемых к различным судебным процессам с целью дискредитировать их имена, вернулись к испытанному способу расправы высылкой из страны, создав третью волну эмиграции. С другой стороны, – обливая сладкой патокой восхвалений в неизбежные дни юбилеев, представляли облик писателя в искаженном, оболганном виде, подчеркнув одни черты и обстоятельства его биографии и творчества и умолчав другие.
Из литературы 30-х годов фактически исчезли книги нравственно-эстетической проблематики. Приемы психологического анализа даже основных персонажей в произведениях этого времени встречались разве что в порядке исключения.
В программах по литературе как в школе, так и в вузе над писателями, которых никак нельзя было изъять или забыть, производили сложные «косметические» операции с целью показать их в соответствии с господствующей идеологией. Особенно последовательно и тщательно изымались из писательских судеб малейшие намеки на религиозность. И напротив, подчеркивался и поощрялся их интерес к истории освободительных движений в России. Булат Окуджава, у которого в глазах партийных властей была сомнительная репутация, неожиданно не испытал никаких сложностей с романом о Пестеле «Глоток свободы», напечатав его в книжной серии «Пламенные революционеры».
Когда судьба сталкивала А.С. Пушкина с какой-то неожиданной ситуацией, встречей, необычным поворотом событий, он любил повторять: «Бывают странные сближения!» Воспользуемся его фразой. Поэт был убит в 1837 году. Через сто лет, в 1937 году, были окончательно уничтожены условия, в которых только и могло существовать его детище – русская художественная словесность.
Пушкин писал стихи и прозу, публицистику и критику. Бесценно его эпистолярное наследие. И во всех видах творчества он непременно возвращался к главным вопросам своей жизни: что такое изящная словесность и каковы её природа и назначение, что нужно для успешной деятельности художественного таланта и. т. д., и т. п. Истинность суждений Пушкина-по этим радикальным проблемам бытия литературы проверена и подтверждена опытом жизни и творчества всех великих русских писателей: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Всего за двадцать лет Россия лишилась и того, и другого. Последним об этом писал М.А. Булгаков. В 30-е годы, когда создавался его закатный роман, уже нужна была большая смелость, чтобы напомнить об этих непреходящих ценностях. Герой его романа «Мастер и Маргарита» был удостоен покоя как высшей награды талантливого художника. Булгаков лучше многих своих современников понимал высокую цену этого дара.
В книге М. О. Чудаковой «Литература советского прошлого», в разделе, посвященном 30-м годам, есть ключевая фраза: «Укоренение темы Сталина в литературе стало одним из ограничителей, сдерживающих ее развитие»23).
Сталин и 1937 год – два символа, в полном объеме раскрывающих судьбу русской словесности XX века во всех её аспектах: личностном, тематическом, стилевом, жанровом и т. д. Миновало несколько десятилетий прежде, чем они ушли в прошлое. Да и ушли ли?
За почти четверть века после 1917 года появилось немало новых имен и произведений. Но по гамбургскому счету лишь очень немногие из них останутся в мировой литературе. Строжайшая регламентация того, о чем и как писать, одних обрекла на творческое бесплодие, других – на сочинение заведомо нехудожественных конъюнктурных вещей.
5
Идеологические стереотипы и принципы тоталитарной пропаганды в годы Великой Отечественной войны остались без изменения. В русской советской литературе 30-х годов бросалось в глаза явное оскудение в сравнении с предшествующим периодом: сузился жанровый диапазон, сходили на нет лирика, сатира, фантастика и т. п. Изящная словесность исчезала. Страницы изданий заполонили беллетристические сочинения публицистического толка. Талант писателя, ограниченный разветвленной системой всякого рода установок и требований, утрачивал возможность свободного выражения. Поблекли изобразительные и выразительные средства поэтической речи. Страх и подозрительность, дарившие в обществе, не способствовали духовному развитию художника. Все это объясняет парадоксальное суждение Б. Пастернака о ситуации начала 40-х годов: «Трагический, тяжелый период войны был живым периодом и в этом отношении вольным и радостным возвращением чувства общности со всеми»24).
Война с фашистской Германией потребовала перестройки всех сфер жизни общества, но административно-командная система не отказалась от своих принципов управления государством в целом и литературой в частности. Еще до войны официальное искусство стало средством обработки общественного сознания.
Машина тоталитарной пропаганды, полный контроль над средствами информации, сама административно-командная система и её идеологические стереотипы сохранялись и в годы войны. Культура и искусство оставались под непосредственным контролем ЦК партии, правительства и лично Сталина. Но в начале войны всё это как-то отодвинулось на второй план. Перед лицом грозной опасности возникло «вольное и радостное» чувство общности людей разных национальностей, профессий и возрастов, сплотившихся во имя спасения отечества. Каждый искал и находил своё место в новых условиях.
Писатели и поэты приняли участие в народных ополчениях, оказались в действующей армии. Многие работали во фронтовой печати – А. Твардовский, К. Симонов, Н. Тихонов, А. Сурков, Е. Петров, А. Гайдар и др.
Произошли изменения в самой структуре художественной литературы. С одной стороны, укрепились позиции публицистики и беллетристики, с другой – сама жизнь потребовала восстановления в правах лирики и сатиры.
Одним из ведущих жанров стала лирическая песня. Поистине всенародными стали «В прифронтовом лесу», «Огонек», «На солнечной поляночке», «Землянка». Не менее значительным было влияние лирики. Стихи К. Симонова, например, были у всех на слуху, вызывали желание откликнуться. Так, появились десятки вариантов стихотворения «Жди меня». На фронте и в тылу возникали различные переложения «Катюши» и других популярных песен.
Поэты – от Д. Бедного до Б. Пастернака – откликнулись на народное горе. А.А. Ахматова создала исполненные высокого достоинства и душевной боли за судьбу родины стихи «Клятва», «Мужество», «Птицы смерти в зените стоят». Но и эпическая поэзия не сдала своих позиций. Возродился жанр баллады (К. Симонов, А. Твардовский и др.), поэмы и повести в стихах были созданы Н. Тихоновым («Киров с нами»), В. Инбер («Пулковский меридиан»), М. Алигер («Зоя»), О. Берггольц («Ленинградская поэма»). Высшим достижением в этом жанре стала воистину народная поэма А. Твардовского «Василий Теркин», единственное произведение советского времени, заслужившее высокую оценку И. Бунина,
В прозе главенствовал очерковый жанр. Публицистике отдали дань М. Шолохов и Л. Леонов, И. Эренбург и А. Толстой, многие другие прозаики. В статьях и очерках авторов говорилось об ужасах войны, вопиющей жестокости фашистов, боевой доблести и патриотических чувствах соотечественников.
Не был забыт и жанр рассказа. Из числа наиболее интересных можно назвать произведения А. Платонова, К. Паустовского и ряда других авторов. Создавались циклы рассказов – «Морская душа» Л. Соболева, «Севастопольский камень» Л. Соловьева, «Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого.
С 1942 года стали появляться героико-патриотические повести – «Дни и ночи» К. Симонова, «Волоколамское шоссе»
А. Бека, «Взятие Великошумска» Л. Леонова, «Народ бессмертен» В. Гроссмана. Композиционным центром в них, как правило, был мужественный борец с фашизмом.
Романный жанр в годы войны не дал вершинных творений, но всплеск национального самосознания побудил писателей ради утверждения мысли о непобедимости русского народа заглянуть в прошлое в поисках исторических аналогий («Генералиссимус Суворов» Л. Раковского, «Батый» В. Яна и др.).
Наиболее популярными историческими личностями в произведениях разных родов и жанров литературы становятся Пётр
Первый и Иван Грозный. А. Толстой продолжает работу над третьей книгой романа «Пётр Первый» и пишет драматическую повесть-дилогию «Иван Грозный». В. Костылев создает роман «Иван Грозный». Иван IV оценивается в этих книгах как собиратель земли русской, ему прощается жестокость, оправдывается опричнина. Смысл этой аллюзии был очевиден: прославление вождя в эти годы не ослабевает, несмотря на тяжелые поражения в начале войны.
До сентября 1942 года в осаждённом Ленинграде работал Драматический театр, библиотеки. Событием в мировой культуре стала премьера Героической Седьмой симфонии Д. Шостаковича, посвященной защитникам города.
Война полностью владела мыслями и чувствами художников. Стихи и проза, спектакли и фильмы, песни военных лет, произведения живописи находили отклик в сердцах людей, вселяли уверенность в победе.
Тем не менее сложившаяся в 30-е годы нормативная эстетика социалистического реализма диктовала свои условия, пренебрегать которыми писатель, желавший быть опубликованным, не мог. Задача искусства и литературы виделась в иллюстрировании идеологических установок партии, доведении их до читателя в «охудожествленной» и предельно упрощенной форме. Всякий, кто не удовлетворял требованиям, подвергался проработкам, мог быть сослан или уничтожен.
Уже на следующий после начала войны день у председателя Комитета по делам искусства состоялось совещание драматургов и поэтов. Вскоре при Комитете была создана специальная репертуарная комиссия, которой было поручено отобрать лучшие произведения на патриотические темы, составить и распространить новый репертуар, следить за работой драматургов.
В августе 1942 года в газете «Правда» были опубликованы пьесы А. Корнейчука «Фронт» и К. Симонова «Русские люди». В этом же году Л. Леонов написал пьесу «Нашествие».
Особый успех имел «Фронт» А. Корнейчука. Пьеса получила личное одобрение Сталина, и её ставили во всех фронтовых и тыловых театрах. В ней говорилось о том, что на смену зазнавшимся командирам времен Гражданской войны (командующий фронтом Горлов) должно придти новое поколение военачальников (командующий армией Огнев), а справедливый представитель Военного совета, появляясь в нужный момент, вершил правый суд.
Е. Шварц в 1943 году написал пьесу «Дракон», которую известный театральный режиссер Н. П. Акимов поставил летом 1944 года. Спектакль был запрещён, хотя официально признавался антифашистским. Пьеса была опубликована уже после смерти автора. Причина заключалась в том, что в форме притчи Шварц изобразил тоталитарное общество: в стране, где долгое время правил Дракон, люди так привыкли к насилию, что оно стало казаться нормой жизни, поэтому, когда появился странствующий рыцарь Ланцелот, сразивший Дракона, народ оказался не готов к свободе.
«Антифашистской» назвал свою книгу «Перед восходом солнца» и М. Зощенко. Первая часть ее увидела свет в журнале «Октябрь» в 1943 году, затем публикация была приостановлена. Вторая часть появилась только через тридцать лет в мартовской книжке журнала «Звезда» за 1972 год. Книга Зощенко писалась в дни войны с фашизмом, который отрицал образованность и интеллигентность, будил в человеке звериные инстинкты. Как и в случае с пьесой Шварца, цензоров настораживала мысль писателя о том, что «устрашенные трусливые люди погибают скорей. Страх лишает их возможности руководить собой», а ведь именно на страхе держалась государственная система. Зощенко показал, что со страхом можно успешно бороться. Во время травли 1946 года ему припомнили эту повесть, написанную «в защиту разума и его прав» (определение автора).
Шла страшная война. Страна, ослабленная тиранией, истекала кровью. Прямо назвать причину бед, повлиявших на ход войны, художники не могли. Одни бежали в легенду, другие – в прошлые времена, третьи апеллировали к разуму современников, пытаясь укрепить их дух, но не молчали. Это было одной из форм противостояния, борьбы, возможно, не менее важной, чем на ноле боя. Зато четвертые, у кого не хватало смелости и были нелады с совестью, делали карьеры, приспосабливались к требованиям системы.
С 1943 года возобновилось планомерное идеологическое давление на писателей. Истинный смысл его тщательно скрывался под маской борьбы с пессимизмом в искусстве. К сожалению, деятельное участие в этом принимали и сами писатели. Весной этого года, в разгар войны, в Москве состоялось совещание литераторов, целью которого было «подвести первые итоги почти двухлетней работы писателей в условиях войны, обсудить главнейшие задачи литературы, путч её развития». Здесь впервые было подвергнуто резкой критике многое из того, что было создано в военное время. Н. Асеев, имея в виду те главы из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», которые к тому времени были опубликованы, упрекал автора в том, что это произведение «могло относиться и ко всякой другой войне, – нет здесь особенностей нашей войны».
В. Инбер в августе 1943 года опубликовала статью «Разговор о поэзии», в которой критиковала О. Берггольц за то, что она и в 1943 году продолжала писать о своих переживаниях зимы 1941–1942 годов. Писателей упрекали в том, что они не успевают за постоянно меняющейся военно-политической обстановкой. Художники требовали от художников же отказа от свободы выбора тем, героев, событий, ориентировали на сиюминутность. В переживаниях О. Берггольц автор статьи увидела «душевное самоистязание», «жажду мученичества», «пафос страдания». Писателей предупреждали, что «из-под нашего пера могут выйти строки, не закаляющие сердца, а, наоборот, расслабляющие их».
В конце января 1945 года драматурги собрались на творческую конференцию «Тема и образ в советской драматургии». Выступавших было много, но особо следует выделить речь Вс. Вишневского, всегда учитывавшего «линию партии». Он говорил о том, что теперь «нужно заставить редакторов, цензоров и прочих уважать литературу и искусство, а не толкать художника под руку. Не надо мне мелкой опеки». Этого хотели все. Но означали ли слова Вишневского изменение политики партии в области литературы? Дальнейшие события показали, что надежды были напрасны. Уже с мая 1945 года начали раздаваться призывы к беспамятству, шла подготовка к разгромным постановлениям 1946 года.
В это же время к партии и Сталину обращались в своих многочисленных стихотворных посланиях те поэты, которых лишили возможности быть услышанными. Речь идет о творчестве узников ГУЛАГа. Среди них были и уже признанные художники, и те, кто до ареста не помышляли о литературной деятельности. Годы войны они провели за решеткой, но обиду держали не на родину, а на тех, кто лишил их права защищать её с оружием в руках.
В лагерях вынашивались сюжеты будущих книг (А. Солженицын, В. Шаламов, Д. Андреев, Л. Разгон, О. Волков и др.), писались стихи. Огромная армия «врагов» внутренне противостояла в годы войны сразу двум силам – Гитлеру и Сталину. Надеялись ли они быть услышанными? Конечно' Их лишили слова, как и Шварца, Зощенко, многих других. Но это слово было произнесено.
В годы войны не были и вряд ли могли быть созданы художественные произведения мирового значения, но будничный каждодневный подвиг русской литературы, её вклад в дело победы своего народа над смертельно опасным врагом не может быть ни переоценен, ни забыт.
6
Война оказала большое влияние на духовный климат советского общества. Сформировалось поколение, не знавшее страха, ощутившее в связи с победой чувство собственного достоинства. Люди жили надеждой на то, что с окончанием войны всё изменится к лучшему. Побывавшие в Европе воины-победители увидели совсем другую жизнь, сравнивали с собственной, довоенной. Всё это пугало правящую партийную элиту. Её существование было возможно только в атмосфере страха и подозрительности, при жестком контроле за умами, за деятельностью творческой интеллигенции.
В последние годы войны были проведены репрессии против целых народов – чеченцев, ингушей, калмыков и некоторых других, поголовно обвинённых в предательстве. Не домой, а в лагеря, в ссылку, отправлялись бывшие военнопленные и граждане, угнанные на работу в Германию. Артиллерийский офицер А. Солженицын был арестован и осужден за непочтительный отзыв о Верховном Главнокомандующем в частном письме…
Вся идеологическая работа в послевоенные годы была подчинена интересам административно-командной системы. Все средства были направлены на пропаганду исключительных успехов советской экономики и культуры, будто бы достигнутых под мудрым руководством «гениального вождя всех времен и народов». Образ процветающей державы, народ которой наслаждается благами социалистической демократии, получивший отражение в конъюнктурных книгах, картинах, фильмах, не имел ничего общего с реальностью. Правда о жизни народа, о войне с трудом пробивала себе дорогу.
Возобновилось наступление на личность, на интеллигентность, на формируемый ею тип сознания. В 40—50-е годы творческая интеллигенция представляла собой повышенную опасность для партноменклатуры. С них и началась новая волна репрессий уже послевоенного времени.
15 мая 1945 года открылся Пленум Правления Союза писателей СССР. Н. Тихонов в докладе о литературе 1944–1945 годов заявил: «Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, но я против облака печали, закрывающего нам путь». 26 мая в «Литературной газете» О. Берггольц ответила ему статьей «Путь к зрелости»: «Существует тенденция, представители которой всячески протестуют против изображения и запечатления тех великих испытаний, которые вынес наш народ в целом и каждый человек в отдельности. Но зачем же обесценивать народный подвиг? И зачем же преуменьшать преступления врага, заставившего наш народ испытать столько страшного и тяжкого? Враг повержен, а не прощён, поэтому ни одно из его преступлений, т. е. ни одно страдание наших людей не может быть забыто».
Через год даже такая «дискуссия» уже была невозможна. ЦК партии буквально торпедировал русское искусство четырьмя постановлениями. 14 августа 1946 гида было обнародовано постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», 26 августа – «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», 4 сентября – о кинофильме «Большая жизнь». В 1948 году появилось постановление «Об опере В. Мурадели “Великая дружба”». «Охвачены» были основные виды искусства – литература, кино, театр, музыка Живопись получила своё позже.
В этих постановлениях деятели искусства обвинялись в пропаганде буржуазной идеологии. В них содержались декларативные призывы к творческой интеллигенции создавать высокоидейные, художественные произведения, отражающие трудовые свершения советского народа В то же время постановление о литературе, например, содержало несправедливые и оскорбительные оценки творчества и личности Ахматовой, Зощенко и других писателей. Всё это означало усиление жесткой регламентации как основного метода руководства художественным творчеством.
Клеймо гонимых ломало судьбы. Поколения людей составляли свое мнение о природе и назначении художественной литературы, об Ахматовой и Зощенко исходя из официальных оценок их творчества: постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» изучалось в школах и было отменено только сорок лет спустя! Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей. Их перестали печатать, лишив заработка. Они не были отправлены в ГУЛАГ, но жить в положении отверженных, в качестве «наглядного пособия» для инакомыслящих, было невыносимо.
Почему же новая волна идеологических репрессий началась именно с этих художников? Возможно, потому, что Ахматова, которая была отлучена от читателя на два десятилетия и объявлена живым анахронизмом, в годы войны вновь обратила на себя внимание прекрасными патриотическими стихами. За её сборником 1946 года у книжных магазинов с утра выстраивались очереди, на поэтических вечерах в Москве её приветствовали стоя.
Зощенко печатали нарасхват. Его рассказы звучали по радио и с эстрады. Несмотря на то что книга «Перед восходом солнца» была раскритикована, до 1946 года он оставался одним из самых уважаемых и любимых писателей.
Жестокий удар был нанесен по киноискусству. Особо следует сказать о фильме С. Эйзенштейна. Первая серия «Ивана Грозного» вышла на экран 16 января 1945 года, в январе 1946-го фильму была присуждена Сталинская премия первой степени. Это означало, что Сталину фильм понравился. Вторую серию худсовет обсудил 7 февраля 1946 года. Все сошлись во мнении, что это шедевр. Расточались похвалы режиссеру, операторам, актерам; музыку С. Прокофьева к фильму Т. Хренников назвал гениальной. Тем не менее Сталин приказал вторую серию «Ивана Грозного» запретить. Почему? Позже один из участников обсуждения, М. И. Ромм, вспоминал, что первые зрители этой серии цепенели от ужаса за режиссера, настолько прозрачны были аллюзии.
Предполагалось, что Иван IV будет показан, как и в произведениях А. Толстого и В. Костылева, мудрым политиком, прогрессивным государственным деятелем, проливавшим кровь ради святого дела, но С. Эйзенштейн в этой серии довел до конца замысел, заложенный в сценарии, и развенчал тирана. Многие факты свидетельствуют, что режиссер с самого начала предвидел для себя трагические последствия. На предупреждение одного из друзей об опасности последних сцен фильма Эйзенштейн твердо, с несгибаемым упрямством цельного человека отвечал; «Это будет первый в истории случай самоубийства фильмом». Мнение, что Эйзенштейн задумывал просталинский фильм, а в процессе работы бессознательно сделал антисталинский, безосновательно.
Пытаясь спасти фильм и режиссера, Эйзенштейну предлагали переделать произведение. Он категорически отказался: «Какие пересъёмки?.. Я и думать о “Грозном” без боли в сердце не могу». Первый инфаркт С. М. Эйзенштейн перенёс перед самым обсуждением и запрещением второй серии. Умер он 11 февраля 1948 года – через восемнадцать дней после своего пятидесятилетия. Оказалось, чтобы убить большого художника, вовсе не обязательно ссылать его в ГУЛАГ. Достаточно отнять у него право быть самим собой (в творческой биографии Эйзенштейна история с «Иваном Грозным» была не первой). Опальная серия вышла на экраны уже в годы «оттепели».
Все эти постановления, при всей их нелепости и жестокости, не были только порождением времени или прихотью правящей верхушки. Их появление было подготовлено десятилетиями существования искусства при тоталитарном режиме. В 40-е годы порочная система репрессивного руководства культурой проявила себя наиболее наглядно.
Массированное наступление на интеллигенцию осуществлялось и в науке. В конце 40-х – начале 50-х годов были организованы дискуссии, в которых приняли участие политические руководители страны. В 1947 году прошла дискуссия по философии на основе обсуждения книги Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», в 1950-м – дискуссия по языкознанию, в 1951-м – по политэкономии. На дискуссии по философии выступал А. Жданов, по языкознанию и политэкономии – Сталин. Уже само их участие исключало возможность свободного обсуждения проблем, ибо все их высказывания воспринимались как руководящие указания. Некомпетентное авторитарное вмешательство в науку оказывалось пагубным для её дальнейшего развития.
Некоторые крупные открытия, сделанные зарубежными учеными, объявлялись враждебными материализму. Особенно пострадали генетика и молекулярная биология. На сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года монопольное положение в агробиологии заняла группа Т.Д. Лысенко. Его рекомендации были абсурдны, тем не менее это направление было поддержано руководством страны и признано единственно правильным, а генетика объявлена лженаукой. О том, в каких условиях приходилось работать противникам Лысенко, позже рассказал в романе «Белые одежды» В. Дудинцев.
Послевоенное десятилетие не было благоприятным для развития науки, она излишне политизировалась. Этому способствовал поворот к «холодной войне», опустился «железный занавес», что отозвалось не только в литературе конъюнктурными пьесами «Русский вопрос» К. Симонова, «Голос Америки» Б. Лавренева, «Миссурийский вальс» Н. Погодина. Было, например, раздуто «дело Клюевой – Роскина» – учёных, которые, издав на родине книгу «Биотерания злокачественных опухолей», передали рукопись американским коллегам через секретаря Академии медицинских наук СССР В. В. Парина, и академик был осуждён на 25 лет как шпион, а авторы вместе с министром здравоохранения преданы «суду чести» и объявлены «безродными космополитами».
Эта история была использована в пьесах «Чужая тень» К. Симонова, «Великая сила» Б. Ромашова, «Закон чести» А. Штейна. По последнему произведению срочно был снят фильм «Суд чести». В финале общественный обвинитель – военный хирург, академик Верейский, – обращаясь к наэлектризованному залу, обличал профессора Добротворского: «Именем Ломоносова, Сеченова и Менделеева, Пирогова и Павлова…именем Попова и Ладыгина… Именем солдата Советской Армии, освободившего поруганную и обесчещенную Европу! Именем сына профессора Добротворского, геройски погибшего за отчизну, – я обвиняю!»
Демагогический стиль и пафос обвинителя живо напомнили выступления А. Вышинского на политических процессах 30-х годов. Однако о пародировании не было и речи – такой стиль был принят повсеместно. В 1988 году Штейн по-другому оценивал свое сочинение: «…мы все, и я в том числе, несем ответственность за то, что были… в плену слепой веры и доверия к высшему партийному руководству». Ещё более резко обозначил причину появления подобных произведений в кино, литературе, живописи, скульптуре сценарист Е. Габрилович: «Я немало писал для кино. И все же, конечно, далеко не обо всём. Почему? Неужели (ведь именно так оправдываются сейчас) не видел того, что творилось? Всё видел, вполне, вплотную. Но промолчал. Причина? Ладно, скажу: не хватало духа. Мог жить и писать, но не было сил погибнуть».
Участие в подобных акциях сулило немалые выгоды. Штейн за фильм «Суд чести» получил Сталинскую премию. Официально одобренные повести, романы, пьесы, фильмы, спектакли, картины, как правило, разрушали престиж культуры в народном сознании. Этому же способствовали бесконечные проработочные кампании.
В послевоенные годы продолжалась начавшаяся еще до войны борьба с «формализмом». Она охватила литературу, музыку, изобразительное искусство. В 1948 году состоялись первый Всесоюзный съезд советских композиторов и трехдневное совещание деятелей музыки в ЦК партии. В результате советских композиторов искусственно разделили на реалистов и формалистов. При этом в формализме и антинародности обвинялись самые талантливые – Д. Шостакович, С. Прокофьев, Н. Мясковский, В. Шебалин, А. Хачатурян, произведения которых вошли в мировую классику.
В вину Д.Д. Шостаковичу, например, ставился «грубейший физиологический натурализм», будто бы проявившийся в операх «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда». С. Прокофьев, гордость нашей музыкальной культуры, вынужден был выслушивать на съезде невежественные окрики в свой адрес из уст дилетанта А. Жданова. В ход шли стандартные формулировки: «Подлинный художник…. если его произведение не понятно слушателям, должен… прежде всего разобраться, почему он не угодил своему народу». Естественно, приоритет отдавался бесконфликтным лакировочным произведениям, преимущественно кантатам и ораториям на хорошо проверенные и одобренные свыше тексты.
Созданная в 1947 году Академия художеств СССР с первых лет своего существования включилась в борьбу с «формализмом».
В кино и театре подобная практика привела к резкому сокращению числа новых фильмов и спектаклей. Если в 1945 году было выпущено 45 полнометражных художественных фильмов, то в 1951-м – всего девять, причем часть из них представляли снятые на пленку спектакли. Театры ставили в сезон не более двух-трех новых пьес. Установка на шедевры, выполненные по указаниям «сверху», вела к мелочной опеке над авторами. Каждый фильм или спектакль принимался и обсуждался по частям, художники вынуждены были постоянно доделывать и переделывать свои произведения в соответствии с очередными указаниями чиновников.
В литературе наступило время А. Сурова, А. Софронова, В. Кочетова, М. Бубеннова, С. Бабаевского, Н. Грибачева, П. Павленко и других авторов, произведения которых сегодня никто и не вспоминает. А в 40-е годы они находились в зените славы, награждались всяческими премиями.
В то же время продолжались репрессии. В 1949 году был арестован один из крупнейших русских религиозных философов первой половины двадцатого века – Лев Платонович Карсавин. Страдая от туберкулеза, в тюремной больнице он работал над новыми сочинениями по философии, излагая свои идеи в стихотворной форме («Венок сонетов», «Терцины»). Умер Карсавин в тюрьме в 1952 году.
В 1947 году был арестован и находился в заключении до 1957 года выдающийся русский поэт и философ Даниил Леонидович Андреев. Во Владимирской тюрьме он работал над своим трудом «Роза мира», писал стихи, свидетельствующие не только о силе его духа, но и трезвой понимании того, что происходит в стране:
Не заговорщик я, не бандит. Я – вестник другого дня. А тех, кто сегодняшнему кадит, Достаточно без меня. (1950)Трижды арестовывали поэтессу Анну Баркову. Её стихи суровы, как и та жизнь, которую она вела столько лет:
Клочья мяса, пропитанные грязью, В гнусных ямах топтала нога. Чем вы были? Красотой? Безобразием? Сердцем друга? Сердцем врага?.. (1946)Что помогало этим людям выдержать столь жестокие испытания? Сила духа, уверенность в своей правоте – и искусство! У А.А. Ахматовой хранилась тетрадка из бересты, на которой были процарапаны её стихи. Их записала по памяти одна из сосланных «жён врагов народа». Стихи опороченного, униженного великого поэта помогли ей выстоять, не сойти с ума. А на «воле» ширилась кампания борьбы с космополитизмом. При этом в гонимые попадали не только евреи, но и армяне (например, Г. Бояджиев), русские. Космополитом оказался русский критик В. Сутырин, сказавший правду о бездарном конъюнктурном произведении А. Штейна, о кинокартине «Падение Берлина».
Президент Академии художеств СССР А. Герасимов громил А. Эфроса и М. Ромма. В Литературном институте разоблачали студентов, которые якобы следовали своим наставникам-космополитам. Появились статьи против воспитанников поэта П. Антокольского – М. Алигер, А. Межирова, С. Гудзенко.
На театральных подмостках шли бездарные пьесы типа «Зеленой улицы» А. Сурова и «Московского характера» А. Софронова. В июне 1949 года был изгнан из своего театра режиссер A. Таиров, в августе – Н. Акимов. Этому предшествовала статья в «Правде» «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Она была направлена, в частности, против критика И. Юзовского, известного своими работами о Горьком. Не нравилось, как он истолковывал образ Нила в «Мещанах», а главное – непочтительно отозвался о пьесе А. Сурова «Далеко от Сталинграда» и пьесе Б. Чирскова «Победители», награжденной Сталинской премией.
Композиторы в лице Т. Хренникова выявляли космополитов-музыковедов. Шла чистка в театральных коллективах и издательствах. За упадочнические настроения критиковали знаменитое стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату», ставшее народной песней. Написанная им в 1946 году поэма «Сказка о правде» долгие годы оставалась «в столе».
Руководящая идея была сформулирована критиком В. Ермиловым, утверждавшим, что прекрасное и реальное уже воссоединились в жизни советского человека. Со страниц книг, со сцены и экрана хлынули бесконечные варианты борьбы лучшего с хорошим. Литературные издания заполонил поток бесцветных посредственных произведений. Социальные типы, модели поведения героев «положительных» и «отрицательных», набор проблем, волновавших их, – всё это кочевало из одного произведения в другое. Всячески поощрялся жанр «советского производственного романа» с характерными названиями («Сталь и шлак» B. Попова, например).
Не отставала от прозы и драматургия, наводняя театральные подмостки пьесами типа «Калиновой рощи» А. Корнейчука, в которой председатель колхоза спорит с колхозниками на важную тему: какого уровня жизни им добиваться – просто хорошего или «еще лучшего».
Энтузиастами социалистического строительства изображены герои романа В. Ажаева «Далеко от Москвы». Речь здесь идёт об ускоренном строительстве нефтепровода на Дальнем Востоке. Ажаев, сам узник ГУЛАГа, прекрасно знал, какими средствами велись подобные работы, но написал как требовалось, в результате чего произведение получило Сталинскую премию. По свидетельству В. Каверина (см. его «Эпилог»), в бригаде Ажаева был поэт Н. Заболоцкий, у которого остались иные впечатления от «ударных» зэковских строек:
Там в ответ не шепчется берёза, Корневищем вправленная в лёд. Там над нею в обруче мороза Месяц окровавленный плывёт.Надуманные сюжеты, откровенная конъюнктурность, схематизм в трактовке образов, обязательное восхваление советского образа жизни и личности Сталина – таковы отличительные черты литературы, официально пропагандируемой административно-командной системой в период 1945–1953 годов.
Ближе к 50-м годам ситуация несколько переменилась: начали критиковать бесконфликтность и лакировку действительности в искусстве. Теперь романы С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землей», удостоенные всяческих наград, обвинялись в приукрашивании жизни. На XIX съезде партии (1952 год) секретарь ЦК Г. Маленков заявил: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни всё отрицательное, прогнившее, омертвевшее, всё то, что тормозит движение вперёд». Последовали новые постановления. В «Правде» появились редакционные статьи «Преодолеть отставание в драматургии» и приуроченное к столетней годовщине со дня смерти Н.В. Гоголя обращение к художникам с призывом развивать искусство сатиры.
В искренность этих призывов трудно было поверить – родилась эпиграмма:
Мы за смех, но нам нужны Подобрее Щедрины И такие Гоголи, Чтобы нас не трогали.Благородное искусство сатиры пытались использовать для поисков и разоблачения очередных «врагов».
Разумеется, художественная жизнь страны в 40—50-е годы не исчерпывалась лакировочными поделками, но судьба таких произведений складывалась непросто.
Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 году, была удостоена Сталинской премии в 1947 году, но уже через год её критиковали в печати за «недостаток идейности». Об истинной причине практического запрещения книги точно сказал В. Быков: «Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и утвердил его правоту и его значение как носителя духовных ценностей…»
В 1949–1952 годах в центральных «толстых» журналах было опубликовано всего одиннадцать произведений о войне. И вот в то время, когда большинство художников, следящих за конъюнктурой, штамповали бесконечные «производственные» романы и повести, В. Гроссман принес в журнал роман «За правое дело». Первоначально он хотел назвать его «Сталинград», но А. Фадеев передал писателю указание «свыше» переделать произведение, якобы умаляющее подвиг сталинградцев и направляющую роль Ставки. От автора требовали помпезности, но Гроссман сохранил свой замысел. Полностью воплотить его при сложившихся обстоятельствах он не мог, но продолжал работать. Так появилась дилогия «Жизнь и судьба» – эпическое произведение, текст которого в шестидесятые годы был арестован и увидел свет лишь в восьмидесятые.
Роман «За правое дело» обсуждался на многочисленных заседаниях редколлегий с 1949 по 1952 год. Рецензенты, консультанты, редакторы настаивали каждый на своих замечаниях, даже комиссия Генштаба визировала текст произведения. Пугала суровая правда, от которой Гроссман не хотел отказываться. Нападки продолжались и после публикации романа. Особенно опасными для дальнейшей творческой судьбы писателя были отрицательные отзывы в центральных партийных изданиях – газете «Правда» и журнале «Коммунист».
Административно-командная система сделала все возможное для того, чтобы направить развитие искусства и литературы в нужное ей русло. Только после смерти Сталина (март 1953-го) литературный процесс несколько оживился. В период с 1952 по 1954 год появились роман Л. Леонова «Русский лес», очерки В. Овечкина «Районные будни», «Записки агронома» Г. Троепольского, начало «Деревенского дневника» Е. Дороша, повести В. Тендрякова. Именно очерковая литература позволила, наконец, авторам открыто высказать свою позицию. Соответственно в прозе, поэзии, драматургии усилилось публицистическое начало.
Это пока были лишь ростки правды в искусстве. После XX съезда КПСС начался новый этап в жизни общества. Вспомнили то, что было написано в военные и послевоенные годы Ахматовой, Пастернаком, Заболоцким, Берггольц, Твардовским.
В целом провинциализм, оторванность от мирового литературного процесса, приверженность установкам социалистического реализма существенно ограничили возможности русской литературы в 40—50-е годы.
Раздел II Эволюция литературы (1954–1990)
1
Еще в 1948 году было опубликовано стихотворение Н. Заболоцкого «Оттепель». Описывалось известное природное явление, но в контексте происходивших тогда в общественной жизни событий оно воспринималось как метафора:
Оттепель после метели. Только утихла пурга, Разом сугробы осели И потемнели снега… Пусть молчаливой дремотой Белые дышат поля, Неизмеримой работой Занята снова земля. Скоро проснутся деревья, Скоро, построившись в ряд, Птиц перелетных кочевья В трубы весны затрубят.В 1954 году появилась повесть И. Эренбурга «Оттепель», вызвавшая тогда бурные дискуссии. Написана она была на злобу дня, теперь почти забыта, но заголовок ее отразил суть перемен: «Многих название смущало, потому что в толковых словарях оно имеет два значения: оттепель среди зимы и оттепель как конец зимы, – я думал о последнем» – так объяснил свое понимание замысла книги И. Эренбург.
Процессы, происходившие в духовной жизни общества, нашли свое отражение в литературе и искусстве тех лет. Развернулась борьба против лакировки, парадного, облегчённого показа действительности.
В журнале «Новый мир» были опубликованы первые очерки В. Овечкина «Районные будни», «В одном колхозе», «В том же районе», посвящённые сельским темам. Автор правдиво описал трудную жизнь колхоза, деятельность секретаря райкома, бездушного, спесивого чиновника Борзова, при этом в конкретных подробностях проступали черты социального обобщения. В те годы для этого требовалась беспримерная смелость. Книга Овечкина стала злободневным фактом не только литературной, но и общественной жизни. Ее обсуждали на колхозных собраниях и партийных конференциях.
На взгляд современного читателя, очерки могут показаться схематичными и даже наивными, но для своего времени они значили много. Опубликованные в ведущем «толстом» журнале и частично перепечатанные в «Правде», они положили начало преодолению жестких канонов и штампов, утвердившихся в литературе.
Время настоятельно требовало глубокого обновления. В двенадцатом номере журнала «Новый мир» за 1953 год была напечатана статья Вл. Померанцева «Об искренности в литературе». Он одним из первых заговорил о крупных просчетах современной литературы – идеализации жизни, искусственности сюжетов и характеров: «История искусства и азы психологии вопиют против деланных романов и пьес…» Казалось бы, речь идет о вещах тривиальных, но в контексте 1953 года эти слова звучали иначе. Удар наносился по самому «больному» месту социалистического реализма – по ангажированности. Критика была конкретна и направлена на некоторые превозносимые в то время книги – романы С. Бабаевского, М. Бубеннова, Г. Николаевой и др. В. Померанцев выступил против рецидивов конъюнктурщины, перестраховки, глубоко укоренившихся в сознании части писателей. Однако старое не сдавалось без бон.
Статья В. Померанцева вызвала широчайший резонанс. О ней писали в журнале «Знамя», в «Правде», в «Литературной газете» и других изданиях. Рецензии носили в большинстве своём разносный характер. Вместе с Померанцевым подвергались критике Л. Зорин (пьеса «Гости»), М. Лифшиц (памфлет «Дневник Мариетты Шагинян»), В. Панова (роман «Времена года»), М. Щеглов (рецензия на роман Л. Леонова «Русский лес»).
Ф. Абрамов сопоставил романы Бабаевского, Медынского, Николаевой, Лаптева и других сталинских лауреатов с реальной жизнью и пришел к выводу: «Может показаться, будто авторы соревнуются между собой, кто легче и бездоказательнее изобразит переход от неполного благополучия к полному процветанию». М. Лифшиц высмеял «творческие десанты» писателей на новостройки и промышленные предприятия, в результате которых в печати появлялись лживые репортажи.
Молодой талантливый критик М. Щеглов положительно отозвался о романе Л. Леонова «Русский лес», но усомнился в трактовке образа Грацианского, который в молодости был провокатором царской охранки. Щеглов предлагал истоки нынешних пороков искать отнюдь не в дореволюционной действительности.
На партийном собрании московских писателей статьи В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица объявили атакой на основополагающие положения метода социалистического реализма, подвергли критике редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского, благодаря которому до читателя дошли многие значительные произведения.
В августе 1954 года было принято решение ЦК КПСС «Об ошибках “Нового мира”». Опубликовали его как решение секретариата Союза писателей. Статьи Померанцева, Абрамова, Лифшица, Щеглова были признаны «очернительскими». Твардовского сняли с поста главного редактора. Набор его поэмы «Тёркин на том свете», готовившийся для пятого номера, рассыпали, а ведь её ждали! Л. Копелев свидетельствует: «Мы воспринимали эту поэму как расчёт с прошлым, как радостный, оттепельный поток, смывающий прах и плесень сталинской мертвечины».
На пути новой литературы к читателю, который её ждал, встала идеологическая цензура, всячески поддерживавшая прежние порядки. 15 декабря 1954 года открылся II Всесоюзный съезд советских писателей. С докладом «О состоянии и задачах советской литературы» выступил А. Сурков. Он подверг критике повесть И. Эренбурга «Оттепель», роман В. Пановой «Времена года» за то, что их авторы «встали на нетвёрдую почву абстрактного душеустроительства». За «повышенный интерес к одним теневым сторонам жизни» в адрес этих же авторов высказал упреки и К. Симонов, делавший содоклад «Проблемы развития прозы».
Выступавшие в прениях довольно четко разделились на тех, кто развивал мысли докладчиков, и тех, кто пытался отстоять право на новую литературу. И. Эренбург заявил: «Общество, которое развивается и крепнет, не может страшиться правдивого изображения: правда опасна только обречённым».
В. Каверин рисовал будущее советской литературы: «Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позором и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии. Я вижу литературу, которая не отстает от жизни, а ведет её за собою». С критикой современного литературного процесса выступили также М. Алигер, А. Яшин, О. Берггольц. Съезд продемонстрировал, что подвижки налицо, но инерция мышления еще очень сильна.
Центральным событием 50-х годов стали XX съезд КПСС и выступление на нём Н.С. Хрущёва с докладом «О культе личности и его последствиях»:
«Доклад Хрущёва подействовал сильнее и глубже, чем всё, что было прежде. Он потрясал самые основы нашей жизни. Он заставил меня впервые усомниться в справедливости нашего общественного строя.
Потрясение рождало и новые надежды.
На обложке красной брошюры значилось: “По прочтении немедленно вернуть в райком…” Но этот доклад читали на заводах, фабриках, в учреждениях, в институтах. Не будучи опубликован, он стал всенародным секретом…
Даже те, кто и раньше многое знали, даже те, кто никогда не верили тому, чему верила я, и они надеялись, что с XX съезда начинается обновление», – вспоминала известная правозащитница Р. Орлова.
События в общественной жизни обнадеживали, окрыляли. В жизнь вступало новое поколение интеллигенции, объединённое не столько возрастом, сколько общностью взглядов, так называемое поколение шестидесятников, которое восприняло идеи демократизации и десталинизации общества и пронесло их через последующие десятилетия.
Пошатнулся сталинский миф о единой советской культуре, о едином и самом лучшем методе советского искусства – социалистическом реализме. Оказалось, что не забыты ни традиции Серебряного века, ни импрессионистические и экспрессионистические поиски 20-х годов. Проза В. Аксёнова («Затоваренная бочкотара» и т. п.), выставки художников-авангардистов, экспериментальные театральные постановки, условно-метафорический стиль поэзии А. Вознесенского, Р. Рождественского, В. Сосноры тех лет, возникновение «лианозовской» школы живописи и поэзии, СМОГа – это явления одного порядка. Налицо было возрождение искусства, развивающегося по имманентным законам, посягать на которые не имеет права государство.
Этой новой культуре, только начинавшей формироваться, противостояли мощные силы в лице причастных к управлению искусством «идеологов» из ЦК и протежируемых ими критиков, писателей, художников. Противостояние этих сил прошло через все годы «оттепели», делая каждую журнальную публикацию, каждый эпизод литературной жизни актом идеологической драмы с непредсказуемым финалом.
И всё же искусство «оттепели» жило надеждой. В поэзию, в театр, в кино, в изобразительное искусство и музыку ворвались новые имена; Б. Слуцкий, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Н. Матвеева. Заговорили долго молчавшие Н. Асеев, М. Светлов, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов…
Возникли новые театры: «Современник» (1956 год; режиссер О. Ефремов), «Театр драмы и комедии на Таганке» (1964 год; режиссер Ю. Любимов), театр МГУ… В Ленинграде возобновили работу Г. Товстоногов и Н. Акимов; на подмостки возвратились «Клоп» и «Баня» В. Маяковского, «Мандат» Н. Эрдмана… Посетители музеев увидели картины К. Петрова-Водкина, Р. Фалька, раскрывались тайники спецхранов, запасники в музеях.
В кинематографии появился новый тип киногероя – рядового человека, близкого и понятного зрителям. Подобный образ был воплощен Н. Рыбниковым в фильмах «Весна на Заречной улице», «Высота» и А. Баталовым в фильмах «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Девять дней одного года».
После XX съезда партии появилась возможность по-новому осмыслить события Великой Отечественной войны. До истинной правды, конечно же, было ещё далеко, но на смену ходульным образам в произведениях на военную тему приходили обыкновенные, рядовые люди, вынесшие на своих плечах всю тяжесть войны. Утверждалась правда, которую иные критики презрительно и несправедливо называли «окопной». В эти годы были опубликованы книги Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», «Тишина», «Последние залпы»; Г. Бакланова «Южнее главного удара», «Пядь земли»; К. Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»; С. Смирнова «Брестская крепость» и др.
Военная тема по-новому прозвучала в первом же программном спектакле «Современника» «Вечно живые» по пьесе В. Розова.
Лучшие советские фильмы о войне получили признание не только в нашей стране, но и за рубежом: «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека».
Особое звучание в период «оттепели» приобрела проблема молодёжи, её идеалов и места в обществе. Кредо этого поколения выразил В. Аксёнов в повести «Коллеги»: «Моё поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперёд и назад, и себе под ноги… Мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято».
В «оттепельные» годы к читателю вернулись талантливые проза и поэзия. Публиковались стихи А. Ахматовой и Б. Пастернака, возродился интерес и к их раннему творчеству, вновь вспомнили об И. Ильфе и Е. Петрове, С. Есенине, М. Зощенко, были изданы еще недавно запретные книги Б. Ясенского, И. Бабеля, Б. Пильняка… 26 декабря 1962 года в Большом зале ЦДЛ прошел вечер памяти М. Цветаевой. Перед этим вышел небольшой сборничек её стихов. Современники воспринимали это как торжество свободы.
Возникали новые издания, в старые приходили более прогрессивные редакторы: «Новый мир», вновь возглавляемый А. Твардовским, «Юность», «Москва», «Литературная газета», альманахи «Литературная Москва» и «Тарусские страницы»… Здесь увидели свет первые произведения новой русской литературы.
В начале сентября 1956 года впервые во многих городах был проведен Всесоюзный День поэзии. Известные и начинающие поэты «вышли к народу»: стихи читались в книжных магазинах, в клубах, в школах, институтах, на открытых площадках. В этом не было ничего общего с пресловутыми «творческими командировками» от Союза писателей прежних лет.
Стихи ходили в списках, переписывались, заучивались наизусть. Поэтические вечера в Политехническом музее, концертных залах и в Лужниках, на многотысячных стадионах, собирали огромные аудитории любителей поэзии.
Поэты падают, дают финты меж сплетен, патоки и суеты, но где б я ни был – в земле, на Ганге, — ко мне прислушивается магически гудящей раковиною гиганта ухо Политехнического! —так в стихотворении «Прощание с Политехническим» определил А. Вознесенский взаимоотношения поэта и его ценителей.
Пафос времени выразил Евг. Евтушенко в поэме «Братская ГЭС»: «Еще не всё – технический прогресс, / Ты не забудь великого завета: / “Светить всегда!“ Не будет в душах света – / Нам не помогут никакие ГЭС!»
Причин поэтического бума было немало. Это и традиционный интерес к поэзии со времен Пушкина, Некрасова, Есенина, Маяковского, и память о стихах военных лет, которые помогали выстоять, и гонения на лирическую поэзию в 30-е и послевоенные годы… Поэтому, когда начали печатать стихи, свободные от морализаторства, публика потянулась к ним. Особый интерес вызывали «эстрадники», стремившиеся осмыслить прошлое, разобраться в настоящем. Их задиристые стихи будоражили, заставляли включаться в диалог, напоминали о поэтических традициях В. Маяковского. В библиотеках выстраивались очереди. Всё это воспринималось современниками как приметы духовного обновления.
Возрождению традиций «чистого искусства» XIX века, модернизма начала XX века способствовали издание и переиздание, хотя и в ограниченных объемах, произведений Ф. Тютчева, А. Фета, Я. Полонского, Л. Мея, С. Надсона, А. Блока, А. Белого, И. Бунина, О. Мандельштама, С. Есенина.
«Запретные» ранее темы начали интенсивно осваиваться литературоведением. Труды о символизме, акмеизме, литературном процессе начала XX века, о Блоке и Брюсове еще нередко страдали социологизаторским подходом, но все же вводили в научный оборот многочисленные архивные и другие историко-литературные материалы, открывали тайны отечественной поэтической истории. Небольшими тиражами, но публиковались работы М. Бахтина, труды Ю. Лотмана, молодых ученых, в которых билась живая мысль, шли поиски истины.
Интересные процессы происходили в прозе. В 1955 году в «Новом мире» был напечатан роман В. Дудинцева «Не хлебом единым». Энтузиасту, изобретателю Лопаткину всячески мешали бюрократы тина Дроздова. Роман заметили: о нём говорили и спорили не только писатели и критики. В коллизиях книги читатели узнавали самих себя, друзей и близких.
В Союзе писателей дважды назначали и отменяли обсуждение романа на предмет издания его отдельной книгой. В конце концов большинство выступающих роман поддержало. К. Паустовский увидел заслугу автора в том, что он сумел описать опасный человеческий тип: если бы не было дроздовых, то живы были бы великие, талантливые люди – Бабель, Пильняк, Артём Весёлый… Их уничтожили дроздовы во имя собственного благополучия… Народ, который осознал свое достоинство, сотрёт дроздовых с лица земли. Это первый бой нашей литературы, и его надо довести до конца. Каждая публикация подобного рода воспринималась в контексте времени как победа над старым, прорыв в новую действительность.
Трагическим событием и для автора, и для дальнейшего развития литературного процесса в стране стала травля Б.Л. Пастернака в связи с присуждением ему Нобелевской премии. В романе «Доктор Живаго» Пастернак утверждал, что свобода человеческой личности, любовь и милосердие важнее революции. Человеческая судьба – судьба отдельной личности – выше идеи всеобщего коммунистического блага. Пастернак оценивал события революции вечными мерками общечеловеческой нравственности в то время, когда наша литература все больше замыкалась в социальных рамках.
31 октября 1958 года в Доме кино состоялось общее собрание московских писателей. Критиковали роман, который почти никто не читал, всячески унижали автора Сохранилась стенограмма собрания (она опубликована в книге В. Каверина «Эпилог»).
Пастернака вынудили отказаться от Нобелевской премии. В 1959 году он написал горькое и провидческое стихотворение:
Что же сделал я за пакость, Я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у фоба, Верю я, придёт пора, Силу подлости и злобы Одолеет дух добра.Самым значительным достижением «оттепельной» прозы стала публикация в 1962 году рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Он произвел на А.Т. Твардовского, который вновь возглавлял «Новый мир» (с 1958 по 1970 год), сильное впечатление. Решение публиковать пришло сразу же, но потребовался весь дипломатический талант Твардовского, чтобы осуществить задуманное. Он собрал восторженные отзывы самых именитых писателей – С. Маршака, К. Федина, И. Эренбурга, К. Чуковского, назвавшего произведение «литературным чудом», написал введение и передал текст Генеральному секретарю, который склонил Политбюро разрешить публикацию рассказа «Один день Ивана Денисовича».
По свидетельству Р. Орловой, «Иван Денисович» вызвал потрясение, не сравнимое ни с чем, испытанным раньше. Заколебались такие слои, показалось, даже устои,' которых не затронули ни Дудинцев, ни «Доктор Живаго», ни все открытия самиздата. Хвалебные рецензии опубликовали не только К. Симонов в «Известиях» и Г. Бакланов в «Литгазете», но и В. Ермилов в «Правде», А. Дымшиц в «Литературе и жизни». Недавние твердокаменные сталинцы, бдительные «проработчики» хвалили ссыльного, узника сталинских лагерей.
Сам факт публикации рассказа Солженицына вселял надежду, что появилась возможность говорить правду. В январе 1963 года «Новый мир» напечатал его рассказы «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Союз писателей выдвинул Солженицына на Ленинскую премию.
Эренбург публиковал мемуары «Люди, годы, жизнь». Мемуарное произведение, формально отодвинутое временем действия в прошлое, воспринималось современней злободневных романов. Из глубины десятилетий писатель предлагал свой взгляд на жизнь страны, выходящей из немоты сталинской тирании. Эренбург предъявлял счет и самому себе, и государству, нанёсшему тяжкий урон отечественной культуре. В этом суть покаянного. смысла и острейшей общественной актуальности этих мемуаров, которые вышли всё же с купюрами, восстановленными только в конце 80-х годов.
В эти же годы А.А. Ахматова решилась впервые записать «Реквием», который долгие годы существовал лишь в памяти автора и близких ему людей. Лидия Корнеевна Чуковская готовила к печати «Софью Петровну» – повесть о годах террора, написанную в 1939 году. Литературная общественность делала попытки отстоять в печати прозу В. Шаламова, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, добивалась реабилитации О. Мандельштама, И. Бабеля, П. Васильева, И. Катаева и других репрессированных писателей и поэтов.
В 1961 году состоялся XXII съезд КПСС. На нем было объявлено: «…наше поколение советских людей будет жить при коммунизме». Съезд разработал программу подъёма экономики и принял «Моральный кодекс строителей коммунизма»:
Партия считает, что моральный кодекс строителя коммунизма включает такие нравственные принципы:
– преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине, к странам социализма;
– добросовестный труд на благо общества; кто не работает, тот не ест;
– забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
– высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушению общественных интересов;
– коллективизм и товарищеская помощь, каждый за всех, все за одного;
– гуманные отношения и взаимное уважение между людьми; человек человеку – друг, товарищ и брат;
– честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;
– взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
– непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
– дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
– непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
– братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами25).
Откровенно утопический характер этих мероприятий тем не менее позволял надеяться какой-то части интеллигенции, что будет преодолено хотя бы одно из самых тяжких последствий сталинизма – двоемыслие в сознании людей. Об этом развращающем пороке тоталитаризма писали в свое время В. Шкловский в «Гамбургском счете» и Дж Оруэлл в «1948» и в «Скотном дворе». Показательно, что для борьбы с этим пороком не было привлечено искусство, по природе своей не совместимое с двоемыслием, а решили действовать привычным административным путем. Помнится, повсюду были развешены лозунги – на красном золотом написаны заповеди «Морального кодекса» – в магазинах, парикмахерских, столовых и т. п. Впрочем, длилось все это очень недолго из-за прямой несовместимости заповедей с тем, что происходило в реальной жизни.
С другой стороны, «Моральный кодекс строителей коммунизма» в своё время, возможно, помог пройти цензуру произведениям Ю. Трифонова, В. Тендрякова, Ю. Домбровского и других авторов, в которых они исследовали духовный мир советского человека, его нравственно-эстетические принципы, до той поры остававшиеся вне поля зрения современного искусства Идеологические стереотипы прошлого продолжали сдерживать развитие литературно-критической мысли. В передовой статье журнала ЦК КПСС «Коммунист» официально подтверждалась незыблемость принципов, провозглашённых в постановлениях 1946–1948 годов по вопросам литературы и искусства (постановления о М. М. Зощенко и А.А. Ахматовой были дезавуированы только в конце 80-х годов).
Резким нападкам был подвергнут роман В. Дудинцева «Не хлебом единым». Автора обвиняли в том, что его произведение «…сеет уныние, порождает анархическое отношение к государственному аппарату».
Ещё в мае 1957 года на правительственной даче состоялась первая встреча Хрущева и членов Политбюро с писателями, художниками и артистами, описанная в рассказе В. Тендрякова «На блаженном острове коммунизма».
Нормативная эстетика социалистического реализма, сложившаяся в предшествующие годы, была серьёзным препятствием на пути к зрителю и читателю многих талантливых произведений, в которых нарушались принятые каноны в изображении исторических событий или затрагивались запретные темы, велись поиски в области формы. Административно-командная система жестко регламентировала уровень критики существующего строя.
В Театре сатиры поставили комедию Н. Хикмета «А был ли Иван Иванович?» о простом рабочем парне, который становится карьеристом, бездушным чиновником. После третьего показа спектакль был запрещён.
Закрыли альманах «Литературная Москва». Редакция была общественная, на добровольных началах. Имена её членов гарантировали высокий художественный уровень публикуемых произведений, а также обеспечивали полную меру гражданской ответственности (достаточно назвать К. Паустовского, В. Каверина, М. Алигер, А. Бека, Э. Казакевича). Первый выпуск вышел в декабре 1955 года. Среди его авторов были К. Федин, С. Маршак, Н. Заболоцкий, А. Твардовский, К. Симонов, Б. Пастернак, А. Ахматова, М. Пришвин и др.
По свидетельству В. Каверина, над вторым сборником работали одновременно с первым. В частности, в нём напечатали большую подборку стихов М. Цветаевой и статью о ней И. Эренбурга, стихи Н. Заболоцкого, рассказы Ю. Нагибина, интересную статью М. Щеглова «Реализм современной драмы», рассказ А Яшина «Рычаги», статью А. Крона «Заметки писателя».
Первый выпуск альманаха продавался с книжных прилавков в кулуарах XX съезда. Дошел до читателя и второй выпуск. Для третьего выпуска «Литературной Москвы» предоставили свои рукописи К. Паустовский, В. Тендряков, К. Чуковский, А. Твардовский, К. Симонов, М. Щеглов и другие писатели и критики. Однако этот выпуск альманаха был запрещён цензурой, хотя в нём, как и в первых двух, не было ничего антисоветского. Принято считать, что поводом к запрещению были опубликованные во втором выпуске рассказ А. Яшина «Рычаги» и статья А. Крона «Заметки писателя». В. Каверин называет ещё одну причину:
Марк Щеглов затронул в своей статье амбиции одного из влиятельных тогда драматургов.
В рассказе А. Яшина четверо крестьян в ожидании начала партсобрания откровенно разговаривают о том, как трудно живется, о районном начальстве, для которого они – только партийные «рычаги в деревне», участники кампаний «по разным заготовкам да сборам – пятидневки, декадники, месячники». Когда пришла учительница – секретарь парторганизации, их словно подменили: «Всё земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир». Страх – вот то страшное наследие тоталитаризма, которое продолжало владеть людьми, превращая их в «рычаги» и «винтики». Таков смысл рассказа.
А. Крон выступил против идеологической цензуры: «Там, где истиной бесконтрольно владеет один человек, художникам отводится скромная роль иллюстраторов и одописцев. Нельзя смотреть вперед, склонив голову».
Запрещение «Литературной Москвы» не сопровождалось всенародным судилищем, как это было сделано с Пастернаком, но было созвано общее собрание коммунистов столицы, на котором у общественного редактора «Литературной Москвы» Э. Казакевича требовали покаяния. Оказывалось давление и на других членов редколлегии.
Через пять лет ситуация повторилась с другим сборником, также составленным по инициативе группы писателей (К. Паустовского, Н. Панченко, Н. Оттена и А. Щтейнберга). «Тарусские страницы», изданные в Калуге в 1961 году, включали в себя прозу М. Цветаевой («Детство в Тарусе»), повесть Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!», рассказы, стихи, эссе других авторов. Цензоры распорядились уничтожить тираж, хотя в «Тарусских страницах» уже не было резкостей и свободомыслия А. Крона и М. Щеглова из «Литературной Москвы». Пугал сам факт инициативы писателей «снизу», их самостоятельность, нежелание быть «рычагами» в политике партийных чиновников. Авторитарная система лишний раз пыталась продемонстрировать своё могущество, преподать урок непокорным.
Но группа московских писателей продолжала активную деятельность. Они настаивали на публикации романа А. Бека «Онисимов» (под названием «Новое назначение» роман был опубликован во второй половине 80-х годов), добивались публикации без купюр мемуаров Е. Драбкиной о последних месяцах жизни Ленина (это стало возможным только в 1987 году), встали на защиту романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», провели в ЦДЛ вечер памяти А. Платонова. За доклад на этом вечере Ю. Карякин был исключен из партии. Восстановили его в парткомиссии ЦК только после письма в его защиту, подписанного десятками писателей-коммунистов Москвы. Отстаивали они и книгу В. Гроссмана в ноябре 1962 года, когда заведующий отделом культуры ЦК Д. Поликарпов обрушился на него с несправедливой критикой. Роман Гроссмана «Жизнь и судьба» был уже к тому времени арестован, «главный идеолог страны» М. Суслов заявил о том, что это произведение будет напечатано не раньше, чем через двести лет. Писатели требовали ознакомить их с текстом арестованного романа, защищали честное имя художника.
В марте 1962 года состоялись очередные встречи Политбюро с писателями и художниками. Хрущёв вел себя вызывающе, кричал, прерывал А. Вознесенского, Е. Мальцева, В. Аксёнова.
И все же литературная жизнь не остановилась. Произведения обруганных авторов продолжали печатать. Твардовский в «Новом мире» поместил очерки Е. Дороша, повесть С. Залыгина «На Иртыше», где впервые в легально опубликованной литературе правдиво рассказывалось о коллективизации. Появились первые произведения В. Войновича, Б. Можаева, В. Семина и ряда других интересных писателей.
30 ноября 1962 года Хрущёв посетил выставку художников-авангардистов в Манеже, а потом на встрече руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией злобно говорил об искусстве, «непонятном и ненужном народу». На следующей встрече удар пришелся по литературе и литераторам. Обе встречи готовились по одному сценарию.
Однако художников, почувствовавших, как нужно их слово народу, трудно было заставить замолчать. В 1963 году Ф. Абрамов в очерке «Вокруг да около» на ином, чем в романе «Братья и сестры», уровне правды и бесстрашия вернулся к разговору о деревенской действительности. Он писал об изнанке половинчатых и сумасбродных преобразований в деревне, долго страдавшей от «беспаспортного» рабства. В результате Абрамов, как и опубликовавший за два месяца до него очерк «Вологодская свадьба» А. Яшин, вызвал на себя шквал разгромных рецензий. Активно действовал оппозиционный «Новому миру» и другим прогрессивным изданиям журнал «Октябрь» (редактор В. Кочетов). Именно с этим печатным органом были связаны тенденции сохранения идеологических схем и установок недавнего прошлого, продолжения административного вмешательства в культуру. Тенденции прослеживались прежде всего в подборе авторов, в «идейно-художественной» (характерный термин того времени) направленности публикуемых произведений.
С середины 60-х годов стало очевидно, что «оттепель» неотвратимо сменяется «заморозками». Усилился административный контроль за культурной жизнью. Деятельность «Нового мира» встречала всё больше препятствий. Журнал стали обвинять в очернительстве советской истории и действительности, усилился бюрократический нажим на редакцию. Каждый номер журнала задерживался и приходил к читателю с опозданием. Однако смелость и последовательность в отстаивании идей «оттепели», высокий художественный уровень публикаций создали большой общественный авторитет «Новому миру» и его главному редактору А. Твардовскому. Это свидетельствовало, что высокие идеалы русской литературы продолжали жить, несмотря на попытки скомпрометировать их.
Понимая, что произведения, затрагивающие основы существующего строя, не будут опубликованы, писатели продолжали работать «в стол». Именно в эти годы создал многие произведения В. Тендряков. В повестях и рассказах, увидевших свет при его жизни, он касался разных сторон жизни нашего общества. Но только сегодня можно по достоинству оценить его правдивые произведения о коллективизации («Пара гнедых», «Хлеб для собаки»), о трагической судьбе русских солдат отечественной войны («Донна Анна» и др.).
В публицистической повести «Всё течёт» Гроссман исследовал особенности структурной и духовной природы сталинизма. Он оценивал его в исторической перспективе как вил. национал-коммунизма. В редакции «Нового мира» уже лежала в это время рукопись книги А. Солженицына «В круге первом», где не только репрессивная система, но и всё общество, возглавлявшееся Сталиным, сопоставлялось с кругами Дантова ада. Шла работа над художественно-документальным исследованием «Архипелаг ГУЛАГа (1958–1968). События в нем прослеживаются, начиная с карательной политики и массовых репрессий 1918 года. Все эти и многие другие произведения так и не дошли до своего читателя в шестидесятые годы, когда они так нужны были современникам.
Осенью 1964 года был снят с поста Генерального секретаря КПСС Н.С. Хрущев. Началось постепенное отвоевывание неосталинизмом одной позиции за другой. Из газет исчезают статьи о культе личности Сталина, появляются статьи о волюнтаризме Хрущева, редактируются мемуары. В третий раз переписываются учебники истории. Из издательских планов спешно вычеркиваются книги о сталинской коллективизации, о тяжелейших ошибках периода войны. Приостанавливается реабилитация многих учёных, писателей, полководцев. До читателя тогда так и не дошли прекрасные образцы «задержанной» литературы 20—30-х годов. Русское зарубежье, куда в скором времени суждено будет отправиться многим из поколения «шестидесятников», по-прежнему осталось вне круга чтения советского человека.
«Оттепель» заканчивалась грохотом танков на улицах Праги, многочисленными судебными процессами над инакомыслящими – И. Бродским, А. Синявским, Ю. Даниэлем, А Гинзбургом, Е. Галансковым и др. Еще в 1958 году была вновь арестована и отправлена в ГУЛАГ поэтесса А. Баркова. Видимо, по мнению партийного руководства, все это вполне вписывалось в программу строительства коммунизма, не прютиворечило моральному кодексу.
Всколыхнувшееся общественное сознание привело к изменениям в литературной жизни. «Оттепель» многим открыла глаза, заставила о многом задуматься. Это был лишь «глоток свободы», но он помог нашей литературе сохранить себя в течение следующих двадцати леи' стагнации.
Литературный процесс периода «оттепели» тем не менее оказался лишенным условий для естественного развития. Государство строго регламентировало не только проблемы, которых можно было касаться художникам, но и формы их воплощения. В СССР запрещали произведения, представлявшие «идеологическую угрозу». Под запретом оказывались образцы иных эстетических систем (книги Сартра, Камю, Беккета, Ионеско, Набокова). Советские читатели были отрезаны не только от современной им литературы, но и от мировой литературы вообще, так как даже то, что переводилось, часто содержало купюры, а критические статьи фальсифицировали истинный ход развития мирового литературного процесса.
В результате всего этого усиливалась национальная замкнутость русской литературы. Это тормозило творческий процесс художников, уводило культуру с магистральных путей развития мирового искусства.
Период «оттепели» явно носил просветительский характер, был ориентирован на возрождение гуманистических тенденций в искусстве, и в этом его основное значение и заслуга.
2
Последнее тридцатилетие XX века оказалось совершенно непохожим на предшествующее время. В нем отчетливо различаются три периода: советский (до 1985 года); перестроечный, носивший переходный характер (1985–1991); и постсоветский (с 1992 года). В стране происходили принципиальные общественно-политические и экономические изменения. Время с конца 1960-х и до 1985 года принято считать застойным. Но если процессы стагнации поразили политику и экономику, то публикуемую словесность они, исключая наиболее консервативную ветвь социалистического реализма, не затронули. Иное дело – вторая половина периода: перестройка, гласность, распад СССР, становление российской государственности оказали на литературу прямое и сильное воздействие.
Словесность 70—80-х годов представлена талантливыми прозаиками, поэтами и драматургами, чьим произведениям уготована долгая жизнь в искусстве. По богатству творческих индивидуальностей, широте тематического репертуара, разнообразию художественных приемов литература этого времени сопоставима разве что с литературой начала века или 1920-х годов.
Значение эпохи, которая предшествовала современной, эпохи «оттепели», очевидным образом переоценивалось. Её подчас объявляли чуть ли не ренессансом русской литературы, пришедшим на смену мрачной эпохе тоталитаризма. Действительно, расстреливать писателей перестали, ослабли цензурные ограничения, была разрешена публикация книг И. Бунина, Б. Пильняка, И. Бабеля и некоторых других авторов, открылись новые журналы и альманахи. Общая обстановка в литературе явно изменилась к лучшему. Но нельзя забывать, что во время «оттепели» травили Б. Пастернака, В. Дудинцева, В. Гроссмана, громили «Литературную Москву» и «Тарусские страницы». На «встречах» в Кремле генсек в лучших традициях недавнего прошлого поучал художников, о чем и как им писать, какие книги и фильмы нужны, а какие нет и т. п. И все же расцвета литературы 70—80-х годов не произошло бы без этой кратковременной передышки. И хотя новые времена начались с очередного «похолодания», возврат к прошлому оказался невозможным. Его уже не смогли реанимировать ни громкие судебные процессы над А. Синявским и Ю. Даниэлем, ни преследование и ссылка И. Бродского, ни разгром «Нового мира» и «МетрОполя», ни исключения из Союза писателей, ни тирания цензуры.
Даже очередная волна вынужденной писательской эмиграции, «разрешённой» или организованной властями (А. Солженицын, В. Войнович, А. Гладилин, В. Аксёнов, Г. Владимов и др.), не дала ожидаемого эффекта. В отличие от памятных лет, когда читатель был полностью изолирован от «крамольных» произведений железным занавесом и системой непроницаемых цензурных заглушек, возник андеграунд, который через десятилетия глухого молчания принял эстафету от обэриутов 20-х – начала 30-х годов и «молодежной» прозы 1960-х, появился самиздат, позволивший хотя бы части читателей быть в курсе литературных новинок.
Перепечатывались на машинках, переписывались от руки по частям и главам «Раковый корпус» А. Солженицына или «Остров Крым» В. Аксёнова, которые потом распространялись между доверенными людьми и «проглатывались» ночами. Тонкий ручеек запрещённой литературы просачивался через таможни на государственных границах. Зарубежные издательства («тамиздат») тоже делали свое дело вкупе с разными радиоголосами. К концу 80-х годов разными путями и способами наиболее яркие талантливые художественные произведения писателей русского зарубежья стали широко проникать к интересующимся читателям. Во второй половине 1980-х годов, когда был провозглашен курс на перестройку и гласность, уже многое было сделано по возвращению в литературу запретных, забытых и полузабытых имен. Искусство вновь обретало краски и звуки, способность к полноценному художественному видению прошлого и настоящего.
В этот период, с одной стороны, в официально издававшейся литературе функционировал социалистический реализм, очевидным образом расколовшийся на две ветви. Худшие традиции литературы 40—50-х годов («Кавалер Золотой звезды», «Сталь и шлак» и т. п.) продолжила так называемая «секретарская*– литература. Пользуясь своим служебным положением, секретари Союза писателей – Г. Марков, В. Кожевников, А. Чаковский и др. – буквально наводнили книжные магазины и библиотеки своими объёмистыми сочинениями, большинство из которых не имело отношения к искусству и служило исключительно целям партийной пропаганды. В более или менее «облагороженном» виде социалистический реализм представал в произведениях В. Липатова, Е. Исаева, Ю. Бондарева, М. Колесникова, А. Гельмана, И. Дворецкого, Г. Бокарева, В. Федорова и других писателей, пытавшихся учесть новые веяния.
С другой стороны, в андеграунде всё настойчивее и чаще стали звучать слова – соц-арт, поп-арт, концептуализм, постмодернизм. Появились писатели и произведения, полностью отвергавшие основополагающий принцип социалистического реализма, принцип ангажированности художественного творчества.
Еще в 60-е годы на северной окраине Москвы нашла себе приют группа молодых поэтов и живописцев (Г. Сапгир, Л. Кропивницкий, И. Холин и др.), исповедовавшая модернистские принципы в искусстве и получившая название «лианозовской» школы. Тогда же в рамках неоавангардизма заявил о себе СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев, или Смелость – Мысль – Образ – Глубина) – В. Алейников, Л. Губанов, Ю. Кублановский. На рубеже 60—70-х годов появились оригинальные книги А. Битова – «Пушкинский дом», Венедикта Ерофеева – «Москва – Петушки», Саши Соколова – «Школа для дураков».
Литературный процесс 1970—1980-х годов с самого начала обозначил свою нетрадиционность, непохожесть на предшествующие этапы развития художественного слова
В литературах Запада, свободных от тоталитарного давления, новые нереалистические тенденции проявились гораздо раньше (пьесы Э. Ионеско, «Улисс» Д. Джойса, романы Ф. Кафки и др.). Фундаментальные труды: «Семиотика. Поэтика» Р. Барта, «Заметки на полях «Имени розы» У. Эко, «Что такое автор?» М. Фуко, «Злой демон образов» Ж. Бодрийяра и ряд других обозначили новый этап в развитии литературоведения.
Стало очевидным, что литературный процесс в своем прежнем виде – цепочки направлений-течений, следующих друг за другом: классицизм – сентиментализм – романтизм – реализм – символизм и т. п., – продолжаться не может. Постмодернизм, к примеру, – не очередное литературное направление, пришедшее на смену где экзистенциализму, где социалистическому реализму, а особый тип творческого сознания, продукт которого – художественный текст – обладает рядом специфических черт. Причем эти черты обнаруживаются не только в литературе, но и в других видах искусства, в философии, т. е. в культуре в целом.
Объектом художественного исследования в реалистическом произведении обычно выступают, по слову Л. Толстого, «сцепления», детерминированные причинно-следственные и пространственно-временные связи, раскрывающие отношения между персонажами и их взаимодействие с эпохой.
В художественном мире писателя-модерниста причины и следствия либо не обозначаются, либо легко меняются местами. У него размыты представления о времени и пространстве, нарушены привычные отношения автора и героя. Важным элементом постмодернистской поэтики выступает центон, т. е. цитата-фрагмент из хорошо известного сочинения. Для постмодернистских сочинений характерна специфическая образность, так называемые симулякры.
В литературе 1970—1980-х годов наблюдаются и целостные новые явления модернистского толка, такие, как концептуализм, метареализм и отдельные элементы прежних – авангардизма, сюрреализма, экспрессионизма и т. п. Выйдя в конце 80-х годов из российского андеграунда, они получили возможность свободного развития и распространения.
Критика догматических подходов, утверждение приоритета общечеловеческих ценностей перед классовыми, сопровождавшие горбачевскую перестройку, помогли художественной литературе возвратить себе статус искусства. В конце XX века наконец-то начался процесс воссоединения русской литературы, распавшейся после 1917 года на советскую, эмигрантскую и «подпольную», писавшуюся «в стол». В годы перестройки широкому читателю открылись неизвестные ему ранее произведения Б. Пильняка и Е. Замятина, М. Булгакова и А. Платонова, A. Ахматовой и Б. Пастернака, В. Гроссмана и В. Дудинцева. М. Цветаевой и О. Мандельштама, Ю. Домбровского и В. Шаламова и многих других. Свершилось и то, о чем совсем недавно нельзя было и мечтать. Возвратились и продолжают возвращаться на родину сочинения эмигрантов первой волны – И. Бунина, B. Ходасевича, В. Набокова, И. Шмелёва, Б. Зайцева и других; изданы книги писателей, вынужденных уехать из СССР в относительно недавнее время, – А. Солженицына, В. Аксёнова, В.Войновича, Г. Владимова. Восстанавливались без идеологических ограничений связи с мировой литературой.
Решительно обновлялись содержание и форма новых литературных произведений. Смещение литературы в сторону гуманистического сознания стало очевидным. В центре современных книг оказались проблемы нравственные и философские, иллюстративное начало уступало место аналитическому. Художественная литература возвращала себе исследовательский пафос.
Теория и практика социалистического реализма отодвигали на второй план роль вымысла и фантастического начала в творческой работе писателя. В современной художественной литературе начиная с 70-х годов пространство и время вновь обретали необходимые им глубину, перспективу, стереоскопичность. Литература не желала более ограничиваться простым описанием событий и переживаний. Все настойчивее она требовала от читателя сотворчества, активизации ассоциативного мышления.
Круг авторов, прибегавших к использованию фантастики в реалистическом произведении, значительно расширился – Ч. Айтматов, В. Маканин, А. Ким, В. Крупин, М. Кураев, Вл. Орлов, В. Распутин, Вяч. Пьецух и др.
Все эти творческие процессы затронули не только прозу, но и поэзию, и драматургию. Более того, в 70—80-е годы активизировался процесс синтеза искусств. Взаимовлияние и взаимопроникновение музыки, живописи, литературы, кино, телевидения благотворно сказались на развитии авторской песни, рок-поэзии, появились произведения, в которых художественный эффект достигался слиянием рисунка и слова (видеомы А. Вознесенского), возникло «новое» кино – А. Тарковский, С. Соловьёв, Т. Абуладзе.
3
В литературе 70—80-х годов заметным явлением стала так называемая другая проза. В конце 80-х годов литературовед Г. Белая в статье «“Другая” проза: предвестие нового искусства» предложила свой вариант ответа на вопрос кого же относят к «другой» прозе и назвала самых разных писателей: Л. Петрушевскую и Т. Толстую, Венедикта Ерофеева, В. Нарбикову и Е. Попова, Вяч. Пьецуха и О. Ермакова, С. Каледина и М. Харитонова, Вл. Сорокина и Л. Габышева и еще некоторых.
Проза перечисленных писателей настолько различна по своему художественному облику, что о причислении их к какому-то одному направлению – реалистическому или постмодернистскому, – действительно, не может быть и речи. Различны и судьбы их книг. Одни до гласности так и не вышли из андеграунда, другие сумели пробиться в печать ещё в пору существования цензуры. Роднит же их одно очень существенное обстоятельство. Они острополемичны по отношению к советской действительности и ко всем без исключения рекомендациям социалистического реализма насчет того, как эту действительность изображать, в первую же очередь к его назидательно-наставительному пафосу.
Когда и в каком пространстве происходило обычно действие в произведениях социалистического реализма? Главным образом на работе и праздниках: в цехах, на колхозных полях, в учреждениях, в парткомах, райкомах, обкомах, в торжественных залах и т. п. Кто был героем этих произведений? Передовик производства, ударник коммунистического труда, партийный и советский руководитель, участковый милиционер, отец и благодетель опекаемых граждан, отличник боевой и политической подготовки и т. п.
«Другая» проза перемещала читателя в иные сферы, к другим людям. Ее художественное пространство размещалось в замызганных общежитиях для «лимиты», в коммуналках, на кухнях, в казармах, где властвовала дедовщина, на кладбищах, в тюремных камерах и в магазинных подсобках. Ее персонажи – большей частью маргиналы: бомжи, люмпены, воры, пьяницы, хулиганы, проститутки и т. п.
В произведениях социалистического реализма любовные сцены, интимная жизнь персонажей изображались, как правило, очень скупо либо совсем не показывались. Иногда лишь читатель мог отвлечься, следя за романом главного инженера с замужней женщиной-технологом. Критика даже изобрела специальный термин – «оживляж», которым оценивались подобные ситуации.
В произведениях «другой» прозы, напротив, редко обходилось без постельных сцен одна откровеннее другой. Складывалось впечатление, что именно в области секса в первую очередь может реализоваться и реализуется свобода, какую обретает человек с избавлением от тоталитаризма. Отсутствие чувства меры сказалось и в том, что на страницы литературных произведений в изобилии высыпалась ненормативная лексика. Причем некоторые авторы ничтоже сумняшеся выдавали её прямым текстом, избегая обычных в подобных случаях многоточий, принятых в цивилизованном мире и освященных многовековыми традициями.
Вл. Сорокин в книгах «Очередь», «Тридцатая любовь Марины», «Роман» и другие реализовал оба главных приема «другой» прозы – иронию и пародию.
В «Очереди» герой, идя по своим делам, натыкается на громадную толпу людей, выстроившуюся к какому-то, издалека не разглядеть, магазину, и занимает очередь, хотя никто не может ему сказать, что именно там «дают». Писатель ядовито высмеивает всё, что связано с этим непременным атрибутом советского образа жизни. Потом герой знакомится с продавщицей этого магазина, которая обещает ему по блату достать продававшийся товар, и дело заканчивается любовной оргией.
Сорокин квалифицировался литературоведением как постмодернист. Его Роман из одноименного произведения – типичный симулякр, т. е. копия без оригинала В облике, в языке Романа, в ситуациях, в которые он попадает в начале повествования, сквозит что-то неуловимо тургеневское, хотя подобного героя у И.С. Тургенева нет и быть не может. Однако неожиданно, совершенно немотивированно, по контрасту мягкие элегические картины русской провинциальной жизни позапрошлого столетия резко сменяются жуткими многостраничными сценами кровавых убийств и насилия.
Г. Белая справедливо назвала «чернуху», т. е. изображение низменного в человеческой жизни, одной из главных примет «другой» прозы. Жестокая правда об обществе была призвана обнажить ложь, фальшь, приукрашивание действительности, лицемерие и демагогию, распространённые и в советской жизни, и в произведениях социалистического реализма.
В 70—80-е годы важное место понемногу занимает деревенская проза.
В течение многих столетий Россия была по преимуществу страной крестьянской. Еще в 1897 году городское население составляло всего-навсего 12,7 % общего числа российских граждан. Дело, однако, не только в количественном соотношении. В России, в прошлом, думать и говорить о народе всегда означало думать и говорить о крестьянстве. Какие бы нравственные, эстетические, философские, а позднее и экологические проблемы ни поднимались русскими художниками, они чаще всего соотносились с сельской жизнью. Деревня в общественном сознании всегда была хранительницей национальных духовных ценностей. Лучшие черты русского человека, его мужество, благородство, трудолюбие, терпение, закономерно связывались с обликом крестьянина-труженика. Литература XIX века, о чем бы она ни трактовала, писала о народе, для народа и высшим критерием оценки для нее была народность.
Двадцатый век изменил ситуацию радикально! После двух мировых войн и одной Гражданской, после коллективизации, после попыток построить социализм обезлюдела, обнищала русская деревня. Целые села зияют пустыми окнами и зарастают бурьяном. По прогнозам конца 70-х, сельское население должно было к концу века составить лишь 10 % населения страны. Время внесло свои коррективы: русские беженцы из бывших республик распавшегося Союза, фермерское движение замедлили этот процесс.
Тем не менее приходится признать, что в кратчайший исторический срок, на протяжении смены всего двух-трех поколений в России изменился образ жизни целого народа. Поистине всё переворотилось в стране, да только вот никак не укладывается! Ведь с изменением образа жизни меняются образ мыслей, система жизненных ценностей, социальных и профессиональных ориентаций и т. п.
При этом нельзя не учитывать обстоятельств, в которых протекали все эти процессы. Ещё в начале века главные русские марксисты – Г. Плеханов и В. Ленин, а из писателей – М. Горький видели в крестьянах косную консервативную массу, мешавшую революционному прогрессу, подтверждение чему легко обнаружить в их сочинениях. Начиная с 1917 года крестьянство, если судить не по словам и лозунгам, а по реальной политике, испытывало мощное давление, имевшее целью, как выражались позднее, в 60-е годы, превратить деревню в «кормоцех страны».
С правами личности, проживавшей в деревне, никогда особенно не церемонились. Та часть крестьян, что после революции получила земельный надел («Земля – крестьянам!») и честно на нем работала, в 1929 году была объявлена кулаками – «самыми страшными непримиримыми врагами советской власти» И уничтожена как класс. Ловушка захлопнулась! Затем разразился страшный голод 1932–1933 годов. Затем Отечественная война, снова унесшая миллионы жизней. Затем фактическое возвращение крепостного права – депаспортизация. Отобрав паспорта, власти пытались удержать в деревне хлынувших оттуда крестьян, в первую очередь вернувшихся с войны солдат и офицеров. Затем научно-техническая революция, когда волевыми решениями у колхозников были отняты плодородные земли, ушедшие под заводские постройки и на дно многочисленных водохранилищ. От сердца вырвались слова Дарьи, героини книги В. Распутина «Прощание с Матёрой»: «Нонче свет пополам переломился».
Естественно возникает вопрос: почему столько бед обрушилось на русское крестьянство? Дело в том, что по своей природе, по образу мыслей крестьянин – собственник. Кондрат Майданников из «Поднятой целины» М. Шолохова ночь не спал перед тем, как отвести своих быков на колхозный двор: «с кровью рвал Кондрат пуповину, соединяющую его с собственностью». А кто может быть опаснее для тоталитарного режима, чем собственник, человек самостоятельный, независимый, кого уж никак не заставишь выполнять нелепые распоряжения партийного начальства?
Герой хроники А. Платонова «Впрок» (1931 год) имел скептическое мнение по поводу коллективизации. Этого было достаточно, чтобы писатель получил на свое произведение от первой персоны государства краткую рецензию в одном слове – «сволочь». С тех пор и почти на четверть века из деревенской прозы исчез человек. Трактористы, животноводы, кузнецы и прочие сельские умельцы попадались, а вот человека во всей сложности его внутреннего мира, с его сомнениями и раздумьями, живого человека не было.
Сельская нива в литературе была предметом неусыпного бдения идеологического начальства и цензуры. На ней особенно старательно выпалывались любые ростки живого правдивого слова. И не случайно именно здесь буйно произрастали бесконфликтные сорняки, посеянные С. Бабаевским, Г. Николаевой и другими «сеятелями».
Правда о деревне в урезанном виде стала проникать в литературу только в 50-е годы в очерковых книгах В. Овечкина, Е. Дороша, Г. Троепольского, в рассказах и повестях В. Тендрякова. К 70-м годам уже было создано немало талантливых произведений о деревне, и один из мастеров этого жанра, В.И. Белов, получил право заявить: «Деревенская тема общенациональна».
Деревенская проза 70—80-х годов – это нечто большее, чем книги на сельскую тему, которых и раньше, и позже было в русской литературе предостаточно. Это не просто книги о сельском жителе, но и произведения о русском человеке во всей сложности его бытия в двадцатом столетии, о тех коллизиях, что неизбежно следовали за катаклизмами в русской деревне. Ведь многие горожане были в эти годы переселенцами из деревни. Ф. Абрамов с полным основанием утверждал, что в этих книгах подняты проблемы нашего национального развития, исторических судеб.
В разработке названного круга проблем были задействованы все виды прозаических произведений – от публицистического очерка до романа-эпопеи, все жанры – исторические, социальные, философские, психологические, бытовые, сатирические, лирические и т. п.
Деревенская проза обогатила литературу рядом художественных открытий, создав запоминающиеся характеры мужественных и трудолюбивых Пряслиных, героически преодолевающих бедность, трудности и лишения, что из года в год омрачали их жизнь (тетралогия Ф. Абрамова); образы мудрых старух у В. Распутина («Последний срок», «Прощание с Матёрой»), образ бабушки в «Последнем поклоне» В. Астафьева, хранительницы народной мудрости и вековых традиций высокой нравственности.
Деревенская проза выдвинула яркие образы «бунтарей», пытающихся, несмотря на явное неравенство сил, утвердить в жизни свои принципы социальной справедливости и совестливости, – не желавших мириться с бюрократическим мышлением, с отношениями людей, основанными на голом расчете и соображениях выгоды. Таковы персонажи книг В. Тендрякова, Б. Можаева, чудики В. Шукшина.
Проза нового времени не прошла мимо событий коллективизации, когда откровенным попранием справедливости, насилием над беззащитными, ложью и демагогией подрывались основы народного благосостояния и нравственности. Различные аспекты этой темы затронуты В. Беловым, М. Алексеевым, В. Тендряковым, С. Антоновым, Б. Можаевым и многими другими.
Привлекла внимание повесть В. Тендрякова «Кончина». Умер Евлампий Лыков – председатель колхоза. Что он оставил людям? Приемом ретроспекции писатель восстанавливает жизненный путь колхозного самодержца в сталинском кителе, описывая на примере его колхоза историю русской деревни XX века. Последствия «царствования» Лыкова ужасны: много лет он управлял людьми, разлагая их души цинизмом, демагогией, лицемерием. Тяжко наследие лыковых. Исчезнет ли оно после смерти тирана? – вопрос, который не дает покоя писателю.
Подлинным событием в литературе было появление повести В. Белова «Привычное дело». Вместо стандартных типов – представителей работников «кормоцеха» – перед читателем предстал Иван Африканович Дрынов, характер живой и полнокровный. Белов сказал о крестьянине правда не искажая и не приукрашивая его облика. В частности, он вернулся к старому спору, что велся со времен «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина, спору о почве и асфальте, как его представляла современная критика. Что благотворнее для человека – воздух деревенский или городской? У Карамзина сельская жительница Лиза, воплощение многочисленных добродетелей, гибнет после знакомства с Эрастом, олицетворявшим пороки и гнусности городской жизни. Вот кто действительно «любить умеет», так это Катерина, жена Ивана Африкановича. Ее самоотверженная жизнь и трагическая гибель убеждают в этом куда больше, чем самоубийство бедной Лизы.
Позже Белов написал роман «Всё впереди». Его персонажи, городские да с высшим образованием, не выдерживают никакого сравнения с Иваном Африкановичем. Были у Белова среди писателей единомышленники, полагавшие, что все беды России проистекают из города. Их называли «почвенниками», и группировались они вокруг журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник».
Спор о почве и асфальте велся долго и страстно, но, похоже, был исчерпан после публикации рассказа В. Астафьева «Людочка». Выросшая в деревне среди нищеты и пьянства, жестокости и безнравственности, героиня рассказа ищет спасения в городе. Но став жертвой грубого насилия, в обстановке всеобщего распада, гниения и маразма, Людочка кончает жизнь самоубийством. Так где же лучше? В деревне? В городе?
В. Астафьев был одним из видных мастеров современной литературы, и он не умещался в рамки деревенской, военной или какой-нибудь еще прозы. Сельская тема, в частности, связана у него с экологическими проблемами. В первую очередь привлекает внимание его «повествование в рассказах», как он сам определил жанр своего сочинения, «Царь-рыба». Люди у Астафьева не делятся на городских и деревенских. Он различал их по отношению к природе. Дикой представляется писателю мысль о покорении природы, о её враждебности людям. Астафьев находился на уровне современных представлений о человеке как органической части космоса и требовал от него разумного отношения к природе. Перо писателя обретало несвойственные ему сатирические краски, когда он писал о браконьерах – сельских ли, городских ли. Для него слово «браконьер» означало потребительское, грабительское отношение к окружающему миру.
Излюбленный приём Астафьева – символ. Енисей, осётр, цветок в тундре – за каждой деталью большое художественное пространство, предоставлявшее читателю богатые возможности для раздумий.
Немалый вклад в деревенскую прозу 80-х годов внесли публицисты. В отличие от изящной словесности и беллетристики, где отдавалось предпочтение нравственно-психологическому и философскому подходам, публицистика в основной своей части исследовала хозяйственный – земледельческий, животноводческий, экономический – и бытовой аспекты сельской темы. Многие выступления публицистов оказывались событиями в жизни общества: они откровенно и остро говорили о проблемах, измучивших страну, которая некогда кормила полмира, а теперь сама обращалась к миру с протянутой рукой. Таковы «Русская земля» И. Васильева, «Ржаной хлеб» и «Про картошку» Ю. Черниченко, «В гостях у матери» А. Стреляного.
Похоже, что публицисты на какое-то время «приостановили» тему, и в 90-е годы термин «деревенская проза» в разговорах о новых книгах стал употребляться все реже и реже, обозначая главным образом произведения конкретного времени – 70—80-х годов.
Городская тема имеет давние традиции в русской литературе и связана с именами Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Горького, М. Булгакова и многих других известных писателей. Но, пожалуй, только в 70—80-е годы XX века произведения на эту тему могут быть объединены рубрикой «городская проза». Стоит напомнить, что определения типа деревенская, городская, военная носят условный характер. Это – не научные термины, а своеобразные метафоры, позволяющие установить самую общую тематическую классификацию литературного процесса. Филологический анализ, целью которого является изучение особенностей стилей и жанров, своеобразие психологизма, типов повествования, отличительных признаков в использовании художественного времени и пространства и, конечно же, языка прозы, предусматривает иную терминологию.
Что стало причиной возникновения городской прозы в её новом качестве? В 60—70-е годы по причинам, о которых речь шла выше, в России активизировались миграционные процессы. Городское население стало быстро увеличиваться.' Состав и интересы читательской аудитории изменялись. В те годы роль серьезной литературы в общественном сознании была значительно активнее, чем теперь. Естественно, что привычки, манера поведения, образ мыслей, вообще психология городских аборигенов привлекали к себе повышенное внимание. С другой стороны, жизнь новых горожан-переселенцев, в частности так называемых лимитчиков, предоставляла писателям широкие возможности для художественного исследования новых областей человеческого бытия.
Колумбом новой городской прозы стал Ю.В. Трифонов. Его повести 70-х годов – «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной» – изображали каждодневную жизнь московской интеллигенции. Впечатление, что писатель сосредоточивался исключительно на бытовой стороне жизни, обманчиво. В его повестях действительно не происходит никаких крупных общественных событий, потрясений, трагедий. Нравственность человека испытывается в них на будничном семейном уровне, но оказывается, что выдержать подобные испытания ничуть не легче, чем экстремальные ситуации. На пути к идеалу, о котором мечтают все герои Трифонова, оказываются мелочи жизни. Выразительны в этом плане названия повестей.
В повести «Обмен» инженер Дмитриев решил обменять жилплощадь, чтобы съехаться с больной матерью. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что мать он предал. Обмен произошел прежде всего в плане духовном – герой «обменял» порядочность на подлость.
В «Предварительных итогах» исследуется распространенная психологическая ситуация, когда человек, неудовлетворенный прожитой жизнью, собирается подвести черту под прошлым и с завтрашнего дня начать всё сызнова. Но у переводчика Геннадия Сергеевича предварительные итоги, как это часто бывает, оказываются окончательными. Он сломлен жизнью, воля его парализована, бороться за свои идеалы, за себя он не в состоянии.
Не удается сразу начать «другую жизнь» и Ольге Васильевне, персонажу одноимённой повести, похоронившей сорокалетнего мужа.
В этих произведениях Трифонова особенно удачно использован прием несобственно-прямой речи, помогающий создать внутренний монолог героя, показать его духовные искания. Только через преодоление мелкой житейской суеты, «наивного эгоизма» во имя какой-то высокой цели может быть реализована мечта о другой жизни. Психологический реализм Ю. Трифонова заставляет вспомнить рассказы и повести А.П. Чехова. Творческая связь этих художников несомненна.
Во всем своем богатстве, многогранности городская тема раскрылась в произведениях Л. Петрушевской, В. Маканина, Вяч. Пьецуха, С. Довлатова, С. Каледина, М. Кураева. Она предоставила наилучшие возможности для реализации творческих принципов «другой» прозы.
В рамках городской темы обнаружил себя феномен женской прозы. Никогда еще не являлось читателю сразу столько талантливых писательниц.
В 1990 году вышел очередной сборник «Не помнящая зла», представивший творчество Т. Толстой. Л. Ванеевой, В. Нарбиковой, В. Токаревой, Н. Садур и др. Со временем к ним прибавлялись все новые и новые имена, и женская проза вышла далеко за рамки городской.
В условиях тоталитарного идеологизированного общества особое место принадлежало военной прозе. Ей отдавалось преимущество в планах литературно-художественных издательств и журналов. Она играла видную роль в системе всепроникающего военно-патриотического воспитания (школьная игра «Зарница» и т. п.) Не последнюю роль играло то обстоятельство, что в годы застоя 70 % отечественной промышленности входило в ВПК, а это миллионы и миллионы рабочих, инженеров, служащих, конструкторов, ученых, занятых изготовлением разного рода оружия, патронов и гранат, танков и БТР, ракет и боевых самолетов и т. д., и т. п. Однако не стоит только этим объяснять тиражи и широкое распространение военной прозы.
Отечественная война – незаживающая рана в памяти народа. Нет, наверное, семьи, где она не оставила бы свой страшный след. События того времени еще долго не утратят притягательной силы. Есть и еще одна, профессиональная, так сказать, причина Главным объектом изображения писателя становится внутренний мир человека, его неповторимость, его тайна. В экстремальных обстоятельствах, какие непрерывно являет война, обостряются чувства, до конца раскрываются характеры, обнажаются самые потаенные мотивы поведения, скрытые подчас даже от самого человека. Трудно представить себе более «выгодный» для художника материал.
Во второй половине XX века в военной прозе произошли серьёзные изменения. От художественно-документальной литературы первых послевоенных лет к «окопной правде» 60-х годов, от описания собственно боевых действий в толстых книгах 60—70-х годов к примечательному факту: в рассказах и повестях 70—80-х со страниц произведений постепенно стали исчезать военные реалии, все меньше описывались сражения, реже стреляли, реже грохотали разрывы бомб и снарядов – центр тяжести переместился в область психологии человека, побывавшего на войне. Такой видится эволюция военной прозы.
В повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы» действие происходит в деревне, услышавшей трагическую новость и снаряжавшую своих шлемоносцев на защиту Отечества. Его рассказ «Красное вино победы» рисует события в тыловом госпитале.
Одним из лучших произведений военной прозы семидесятых, безусловно, стал «Сашка» В. Кондратьева, где в центре повествования внутренние переживания героя. Тяжелые последствия войны описывал В. Распутин в повести «Живи и помни». Свой аспект в исследовании трагической триады: любовь – долг – смерть нашли Б. Васильев («А зори здесь тихие»), Е Бакланов («Навеки девятнадцатилетние»), В. Богомолов («Момент истины»),
В 80-е годы вновь активизировался читательский интерес к документальным книгам о войне: вышли в свет мемуары прославленных полководцев Отечественной войны. Подлинным событием явились книга А. Адамовича «Каратели» и «Блокадная книга», написанная им совместно с Д. Граниным. Большой общественный резонанс имела книга С. Алексиевич «У войны не женское лицо».
Значительно обогатился тематический диапазон военной прозы – появились книги об армии в мирное время («Сто дней до приказа» Ю. Полякова, «Стройбат» С. Каледина), сатирические сочинения («Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича).
Вернулся на родину роман «Генерал и его армия» Г. Владимова, продолжалась работа над повествованием В. Астафьева «Прокляты и убиты».
К концу периода были написаны книги о войне в Афганистане. Знаменитая книга С. Алексиевич «Цинковые мальчики», из-за чеченских событий, увы, не потеряла актуальности.
Вся история русской военной прозы в двадцатом столетии есть драматическая история поисков правды и борьбы за истину, продолжавшая традиции великого мастера батальных сцен Л.Н. Толстого.
Литературу 70–80 годов невозможно представить себе без произведений на исторические темы. Жанры исторической прозы, тесно связанные с общественно-политической ситуацией времени создания и вместе с тем сохраняющие память о традициях мирового искусства, предстали в современную эпоху как богатое и сложное явление.
Возрастание интереса к минувшему связано с актуализацией проблемы исторической памяти в общественном сознании. В условиях драматически развивающейся действительности второй половины XX века, в поисках путей в будущее человечество стремится обрести чувство «устойчивости, стабильности своего существования на земле» (Д. Лихачёв), постигая единство настоящего и прошлого.
На первый взгляд может показаться странным, что в то время как историческая наука находилась в глубоком кризисе, историческая проза переживала несомненный ренессанс. Губительные препоны, мешавшие в период «застоя» работе ученых, преодолевались в исторической прозе благодаря её специфике. Новое поколение писателей, вошедшее в литературу в «оттепельные» 50—60-е годы, ощутило потребность восстановить «оболганную историю» (А. Солженицын).
Особенностью осмысления исторических тем и сюжетов в новейшей прозе является интерес писателей к вечным, нравственным вопросам, к которым обернулась вся литература– Проблемы совести, долга, жизни и смерти, любви и ненависти приобретают особую масштабность и значимость при проекции на события, от которых зависят судьбы отдельных людей и целых народов. Избрав путь нравственно-философского постижения минувшего, Д. Балашов, В. Шукшин, Ю. Давыдов, Ю. Трифонов, Б. Окуджава и другие писатели вступили в диалог с читателем по проблемам политики и нравственности, народа и власти, личности и государства.
Современные исторические романисты в изображении минувшего оказались ближе к традициям русской классики (А. Пушкину, Л. Толстому) и копыту интеллектуального романа XX века (Т. Манну, Л. Фейхтвангеру, Д. Мережковскому, М. Алданову), нежели к своим непосредственным предшественникам по советской литературе. В центре их внимания находится человек, сложные соотношения личности с объективным историческим процессом.
Развитие исторической прозы 70—80-х годов шло по линии преодоления односторонности, эстетической узости произведений этого жанра предшествующего периода, преодоления тенденциозности в отборе фактов, отказа от политизации и непременной героизации истории, от идеализации исторических личностей.
На характер осмысления минувшего в исторической прозе, безусловно, повлиял противоречивый облик времени, отмеченный, с одной стороны, пафосом внутреннего высвобождения, а с другой – моментами торможения и застоя, возобладавшими в социально-политической, экономической, идеологической сферах.
Потребность в правде и невозможность её появления в подцензурной печати без умолчаний побуждали художников искать в истории ответы на злободневные вопросы. В условиях «застойного» времени историческая проза была для многих писателей еще и формой ухода из идеологизированной современности. Нередко история становилась своеобразным средством разрешения острейших социально-политических и нравственно-философских проблем текущей действительности.
В атмосфере нравственных и эстетических исканий 70—80-х годов сложились ведущие типы исторических повествований: собственно исторические романы, в которых исследуются переломные эпохи отечественной истории, «судьба человеческая, судьба народная» (произведения Д. Балашова, Н. Задорнова,
В. Лебедева, А. Солженицына и др.); книги, ищущие ответа на современные вопросы в прошлом (произведения В. Шукшина, Ю. Трифонова, Ю. Давыдова и др.); параболические сочинения, обращенные к вечным вопросам, конкретизированным историей (произведения Б. Окуджавы, О. Чиладзе, Ч. Амирэджиби).
Своеобразным предвестием нынешнего расцвета массовой литературы стали исторические книги В. Пикуля. Его романами «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Битва железных канцлеров», «У последней черты», «Фаворит» увлекались читатели, отлученные от «Историй» Н. Карамзина и В. Ключевского, от произведений М. Алданова и Р. Гуля. Увлекательная интрига романов, знакомящих с фактами, недоступными прежде, атмосфера запретности и литературного скандала, сопутствующего публикациям, способствовали рождению феномена В. Пикуля. Массовый читатель, которого обременяла эрудиция Д. Балашова, оставлял равнодушным тонкий психологический рисунок Ю. Давыдова и Ю. Трифонова, не затрагивал фантастико-гротесковый изыск Б. Окуджавы, массовый читатель, всегда нуждавшийся в легком, увлекательном повествовании, любивший Дюма и Дрюона, легко прощал Пикулю то, чего прощать было нельзя: вторичность и недостоверность информации, невзыскательность вкуса, доходившую порой до откровенной пошлости, отсутствие сколько-нибудь серьезных концепций, объясняющих движение истории.
В целом же историческая проза этого времени привлекает многообразием подходов к минувшему, самостоятельностью исторических и философских концепций, неповторимостью художественных решений, а главное – поиском правды о человеке и мире.
Особое место в литературе 70—80-х годов принадлежит книгам о ГУЛАГе. Все началось с публикации осенью 1962 года в «Новом мире» рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Значительно позднее увидел свет написанный им ранее роман «В круге первом». Но главное из созданных писателем на эту тему сочинений – художественно-документальное исследование «Архипелаг ГУЛАГ», получившее Нобелевскую премию, но изданное в России только в 1990 году. Солженицын писал: «Эту книгу непосильно было создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага – шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах (перечень 227 имён).
Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым».
Заявили о себе авторы многочисленных мемуарно-автобиографических книг о ГУЛАГе – Е. Гинзбург «Крутой маршрут», А. Жигулин «Черные камни», О. Волков «Погружение во тьму». Эти книги написаны людьми, выплеснувшими на страницы своих книг тяжелую обиду на вопиющую несправедливость, пережившими ужасающие страдания и унижения. Напоминание и предостережение – вот пафос этих книг, сохранивших звучание подлинных, исторически достоверных документов.
Свои свидетельства оставили также В. Шаламов («Колымские рассказы»), Г. Владимов («Верный Руслан»), А. Рыбаков («Дети Арбата»), Ю. Домбровский («Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей»).
Двадцатый век достойно продолжил традиции русской классики – «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, «Остров Сахалин» А.П. Чехова.
И уже в 80-е годы зазвучали голоса, утверждавшие, что тема ГУЛАГа будто бы исчерпана. Опровержением могут служить книги Евг. Федорова и В. Зубчанинова, появившиеся в 90-е годы.
Только в последней трети XX века в русскую литературу вошли художественные произведения об учёных и их работе, дающие основания утверждать, что рядом с деревенской, военной, исторической получила право на существование и проза научная. Почему этого не случилось раньше и в больших масштабах? Объяснение лежит на поверхности. Все, что связано с мало-мальски серьезными научными исследованиями, в стране было строго засекречено. Говорили иногда о результатах, сам же процесс научных поисков и всё, что ему сопутствовало, оставались за семью печатями. При том, что художественную литературу, естественно, менее всего интересовала техническая сторона научных открытий и изобретений.
Современной художественной прозе за короткий срок удалось превзойти тот уровень, который был достигнут в недавнем прошлом отдельными сочинениями на эту тему: В. Каверин «Открытая книга», Д. Гранин «Иду на грозу». Научная проза 70—80-х годов являет собой богатый в тематическом, стилевом, жанровом отношениях пласт произведений, исследующих разные аспекты бытия науки и учёных.
Во-первых, это научно-художественная проза, на современном этапе достигшая особенных успехов в биографическом жанре. Большой интерес представляют жизнеописания крупных учёных, которые позволяют войти в круг идей той или иной науки, ощутить противоборство мнений, остроту конфликтных ситуаций в большой науке. Известно, что XX век – не время гениальных одиночек. Успех в современной науке чаще всего приходит к группе, коллективу единомышленников. Однако и роль лидера огромна. Научно-художественная литература знакомит с историей того или иного открытия и воссоздает характеры руководителя и его ведомых во всей сложности их взаимоотношений. Таковы книги Д. Данина о датском физике – «Нильс Бор», Д. Гранина – «Зубр», о сложной судьбе знаменитого биолога Н.В. Тимофеева-Ресовского и его же повесть «Эта странная жизнь» о математике Любищеве. Это и вернувшееся на родину повествование М. Поповского об удивительной, трагической, многострадальной и такой типичной для XX века судьбе выдающегося человека – «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» (1990).
Во-вторых, это, условно говоря, бытовая проза, живописующая будни учёных и людей, их окружавших, во всем разнообразии проблем, конфликтов, характеров, интересных и острых психологических коллизий. Таковы романы И. Грековой «Кафедра» и А. Крона «Бессоница».
В-третьих, это книги, исследующие особенности технократического сознания, когда наука становится средством утверждения «сильной личности», попирающей нравственные принципы ради карьеры, привилегий, славы, власти. Таков нравственно-философский роман В. Дудинцева «Белые одежды» и книга В. Амлинского «Оправдан будет каждый час».
В годы тоталитаризма многие литературные жанры либо влачили жалкое существование, либо исчезали вообще. Так, строителям социализма оказалась ненужной сатира. Блестящие романы И. Ильфа и Е. Петрова подвергались запрету, о судьбе М. Зощенко и говорить не приходится. И только начиная с 60-х годов, постепенно, русская литература возвращала к жизни один из своих излюбленных жанров. Об её успехах свидетельствует талантливая плеяда сатирических дарований, появившаяся в 70—80-е годы: В. Войнович, Ф. Искандер, Гр. Горин, Вяч. Пьецух, И. Иртеньев, И. Ивановский и др.
Возродились жанры антиутопий – В. Аксёнов, А. Гладилин, А. Кабаков, В. Войнович, а также научной фантастики – И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие, А. Казанцев.
Возник совершенно новый для русской литературы жанр фэнтези. Все большая роль в творческом облике литературы стала принадлежать мифам, легендам, притчам.
4
Поэтический бум 60-х годов остался да, видимо, и останется уникальным явлением в истории русской литературы. Все-таки А. Пушкин был прав: «…Поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде»26). Поэтому возвращение поэтической реки после бурного половодья в обычные берега не может оцениваться как регресс.
Поэзия 70—80-х годов, лишившаяся массовой аудитории, не остановилась. Творческие поиски были продолжены, и результат говорит сам за себя.
Начало периода характеризуется преобладанием «традиционной поэзии», представленной именами Ю. Друниной и С. Орлова, А. Тарковского и Л. Мартынова, Д. Самойлова и Б. Слуцкого, К. Ваншенкина и Б. Чичибабина, В. Соколова и Е. Винокурова. Не смолкли и голоса шестидесятников – А. Вознесенского, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко.
Ближе к сегодняшнему дню, сначала в андеграунде, а затем и открыто зазвучали голоса модернистов самых различных ориентаций. Традиции лианозовской школы были продолжены и развиты в поэзии метареалистов (О. Седакова, И. Жданов, Е. Шварц) и концептуалистов (Л. Рубинштейн, Д. Пригов, Н. Искренно, Т. Кибиров). Нашли своего читателя создатели иронической поэзии (И. Иртеньев, В. Вишневский, И. Ивановский).
Общая для литературы 70—80-х годов тенденция взаимодействия искусств обнаружила себя в оригинальных жанрах авторской песни (А. Галич, Н. Матвеева, В. Высоцкий и др.), рок-поэзии (А. Башлачев, Б. Гребенщиков, А. Макаревич и др.), видеом (А. Вознесенский).
Оригинальным, ярким событием в поэзии конца века стало творчество И. Бродского, удостоенного Нобелевской премии.
Поэзия этого времени представляет собой органический сплав в самом широком диапазоне реалистических и модернистских тенденций. Ей равно присущи новые ритмы, размеры, рифмы и опора на уже известные, традиционные образы и приемы.
Знаменательная особенность – возрождение духовной лирики (3. Миркина, С. Аверинцев, О. Николаева, Ю. Кублановский).
Русская поэзия, несмотря на страшный урон, понесенный в годы тоталитаризма, понемногу восстанавливается. Достаточно перелистать толстые журналы за несколько последних лет: много новых и полузабытых имен, много отличных стихов. Не кажется преувеличением попытка ряда критиков и литературоведов именовать стихи последних лет «бронзовым веком» русской поэзии. Однако язык – этот надежный и точный индикатор – свидетельствует: в обществе идут разные процессы. Да, ведется борьба за культуру, за духовность, за нравственность. Но язык! Язык неопровержимо доказывает, как ещё долог будет и труден путь. Н. Заболоцкий был прав: «Душа обязана трудиться»… Здесь спасение! Живое слово должно восторжествовать!
Творчество Д. Самойлова может служить одним из примеров эволюции художника в необходимом направлении. Настроение его ранней поэзии выразилось в поэтической строке: «Война, беда, мечта и юность». Единственный из военного, «неполучившегося», как он его называл, поколения поэтов-современников, Самойлов мало писал о войне.
Его кумиром, как и большинства поэтов его времени, в молодости был В. Маяковский. С годами он ушел от него к Пушкину и Ахматовой, от узкосоциальной тематики к общечеловеческой.
Самойлов – автор целого ряда поэтических сборников и поэм. Особое внимание обращает на себя книга под пушкинским названием «Волна и камень», в которой явственно обнаружились экзистенциальные мотивы, а излюбленная историческая тема выступила в характерно самойловской интерпретации.
Самойлов воспитывает своего читателя в духе свободных ассоциаций, парадоксов, неожиданных и странных поворотов судеб своих героев. При этом он мастерски владеет стихом, всеми его видами, рифмами, строфикой. Написанная им «Книга о русской рифме» – труд, единственный в своем роде.
В итоговой книге поэта «Голоса за холмом» звучат грустные мотивы:
Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прикасаться к победам. Мне выпало горе родиться в двадцатом, Проклятом году и в столетье проклятом. Мне выпало всё…27)Самойлов скоропостижно скончался на поэтическом вечере, посвященном памяти Б. Пастернака
По прошествии недолгого времени стало очевидно, что Давид Самойлов – одна из авторитетных фигур в русской поэзии второй половины XX века.
5
Драматургия 70—80-х годов представляла собой весьма разнородную картину. С одной стороны, творческий подъём, пережитый театром в годы «оттепели», вдохновлял на новые успехи. Продолжали активно работать Товстоногов, Любимов, Ефремов, Волчек и другие талантливые режиссеры. Но представлять на сцене результаты своей творческой деятельности им становилось всё труднее: в стране воцарялся застой. Лишь единичные постановки вызывали у зрителя прежний энтузиазм. На первых порах драматургия как бы выстроилась в затылок прозе. Дело не только в том, что на подмостках появились в большом количестве инсценировки прозаических произведений. Драматурги тоже последовали за прозаиками и вывели на сцену персонажи, известные отчасти по романам и повестям.
Кажется, не было театра, который не обратился бы к пьесам И. Дворецкого и А. Гельмана. «Производственные» пьесы заполонили репертуар. И надо отдать должное драматургам: их продукция была поинтереснее, чем прозаические «шедевры». И. Дворецкому в пьесе «Человек со стороны» удался характер инженера Чешкова. Пьесы А. Гельмана «Протокол одного заседания», «Мы, нижеподписавшиеся» вызвали неподдельный интерес у зрителя. К Однако многочисленные попытки других драматургов-производственников подобного успеха не имели.
Второе место в театральном репертуаре тех лет принадлежало политической драме, жанру остроконфликтному, во многом публицистическому. Здесь лидерство закрепилось за М. Шатровым. Спектакли по этим пьесам назывались, как правило, «датскими», поскольку приурочивались во всякого рода юбилейным датам. Так, столетие В. Ленина в 1970 году открыло своеобразную драматургическую лениниану, не ограничившуюся одним годом. Со временем оценка деятельности Ленина изменялась. Это изменение можно проследить по пьесам М. Шатрова, цикл которых он назвал «Недорисованный портрет». Наибольшей популярностью пользовались его «Синие кони на красной траве».
Социально-психологическая драма возродилась благодаря появлению А. Вампилова, к сожалению, рано погибшего. Критика считала, что ему удалось «угадать» главного героя безгеройного времени. Он утвердил право театра на анализ души «средненравственного» персонажа («Утиная охота»), Вампиловские пьесы породили целую волну подражаний, так называемую поствампиловскую драму (Л. Петрушевская, В. Арро, А. Галин, Л. Разумовская и др.) К концу 80-х годов поствампиловцы фактически определяли репертуар большинства театров.
Вслед за прозой театр обращается к мифу, сказке, легенде, притче (А. Володин, Э. Радзинский, Г. Горин, Ю. Эдлис).
В конце 80-х годов в драматургии, как и литературе в целом, наблюдается своеобразная эйфория: появилась возможность заговорить со сцены о вещах, еще недавно запрещённых – о ГУЛАГе, например; предложить зрителю спектакль абсурдистского театра; на сцене в изобилии появились маргиналы, ранее обитавшие в произведениях «другой» прозы.
Современный театральный репертуар по-прежнему свидетельствует о редкой эстетической пестроте интересов и вкусов как режиссуры, так и зрителя.
6
К началу 90-х годов Советский Союз, несмотря на объявленную перестройку, все еще находился в состоянии глубокого застоя в экономической и общественной жизни. На этом фоне феноменом выглядело бурное развитие словесности, связанное с возвращением на родину литературы русского зарубежья и ослаблением цензуры.
Литература 70—80-х годов многое сделала для исправления сложившегося положения, для восстановления мирового авторитета русской словесности.
И самым ценным на этом пути безусловно, стала попытка восстановить разорванные связи, хотя бы частично возродить те эстетические традиции, вне которых художественная литература теряет способность к саморазвитию, перестает быть искусством слова.
Выше на многих примерах было показано, как начинался и протекал процесс возвращения литературных стилей, жанров, художественных средств и приемов, как восстанавливались в своих правах десятки репрессированных имен и названий, как медленно, но неуклонно реализовывалась идея воссоединения русской литературы XX века в одно единое эстетическое целое. Пришло время понять, что в словосочетании «литература русского зарубежья» акцент должен быть поставлен на слове «русского».
Было бы, однако, ошибкой считать последний этап развития русской прозы только временем реставрации: одновременно шел процесс создания новых и немалых художественных ценностей. В содержательном плане – по количеству и разнообразию талантливых писательских индивидуальностей, впечатляющих ярких произведений – 70—80-е годы вполне сопоставимы с литературой 20-х годов. В эстетическом плане есть все основания говорить и об обогащении поэтики традиционной литературы, и о достижениях модернистского искусства.
И все же мрачное пророчество футуристов сбылось. В XX веке с Парохода современности были брошены десятки писателей, тысячи литературных произведений. Многие утрачены навсегда. Резкий поворот российской истории предоставил словесности возможность частичной реабилитации. И здесь возникает некий парадокс: при возвращении на книжные полки целого ряда произведений (например, Булгакова, Замятина, Набокова и др.) стал ощутим недостаток заинтересованного и компетентного читателя. Это преимущественно следствие обучения в советской школе, которая формировала самые превратные представления о природе, особенностях и функциях словесности.
Надо заметить, что в разное время видные советские писатели не раз обращали внимание на бедственное положение литературы в школе. «Существующие учебники по литературе содержат главным образом пересказы биографий писателей, пересказы их произведений, пересказы литературоведческих исследований и критических работ, – сетовал А.Н. Толстой еще в 1938 году. – Учебники изобилуют вульгарно-социологическими дефинициями. Изложение тяжёлое, неудобоваримое. Существующие учебники превращаются в преграду между художественной литературой и учащимися. Авторы учебников словно стремятся превратить школьников в скучных литературных начетчиков. Из такой затеи не получается ничего, кроме вреда.
Элементарный курс литературы должен ставить перед собой совсем иные цели. Вовлекая учащихся в мир художественной литературы, он помогает правильному восприятию явлений искусства, воспитывает художественный вкус. Он способствует развитию живого интереса к литературе, помогает представить весь путь развития литературы народов СССР в связи с их гражданской историей, а также в связи с развитием литературы мировой»28).
А.Т. Твардовский, выступая на Всероссийском съезде учителей в 1960 году, говорил о ключевом положении литературы во всём процессе обучения и воспитания школьников. Секрет успеха в преподавании литературы он видел в такой любви к художественной литературе, когда следует любить произведение искусства «не с намерением препарировать его, разнимать на части, разбирать и собирать, а получать от него живое наслаждение»29).
К глубокому сожалению, положение литературы в школах и вузах, где ее изучают, не только не улучшилось, но, пожалуй, ещё и усугубилось. Сложилась парадоксальная ситуация. Все запреты сняты. Любое произведение любого времени из любой национальной литературы, в принципе, доступны читателю. А он, читатель, к восприятию и оценке изящной словесности попросту не готов. Не отсюда ли тяга к массовой литературе, не требующей серьезных интеллектуальных и духовных усилий?
Пора, наконец, понять, что «проходить» литературу – преступление. Чтение художественной литературы – процесс творческий. Научить этому творческому чтению – задача серьезная и важная. Помощь в решении этой задачи – цель настоящего пособия.
Раздел III «Цель художества есть идеал, а не нравоучение»
«Цель художества есть идеал, а не нравоучение»
А.С. ПушкинСтруктура художественной литературы
На протяжении всей истории развития художественная литература избегала окончательных, застывших навсегда форм. Даже в тех случаях, когда некоторые из них исчерпывали себя на каком-то этапе, нельзя было исключать возможности возрождения уже забытого в той же литературе или в какой-то другой.
К началу XX века большинство литераторов и читателей отделили художественную литературу от специальной – политической, экономической, философской, не говоря уже о литературе научной – медицинской, математической, географической и т. п. Вырабатывались особые приемы чтения для каждой из этих литератур. Определилась и структура художественной литературы.
Общим понятием «художественная литература» определяются различные виды словесного творчества: собственно художественная литература, или, как ее называли прежде, изящная словесность; беллетристика; публицистика; научно-художественная литература; литературная критика; некоторые виды мемуарной литературы и т. п. Различия между ними зависят главным образом от того, для чего и как в них используется художественный образ. Остановимся на первых трёх, основных. И не будем забывать, что более всего в годы советской власти пострадала изящная словесность. На восстановление её структуры и особенностей функционирования и следует направить основные усилия.
Многие читатели воспринимают публицистику и художественную литературу в противопоставлении: публицистика, дескать, – по преимуществу продукт логического мышления, а художественная литература – образного. Это не совсем так. Публицист воздействует на читателя фактом, логикой, образом-картиной, убеждая его понять и почувствовать свою собственную, личную точку зрения. Художник воздействует на читателя картиной, образом, логикой, убеждая его почувствовать и понять точку зрения повествователя, персонажа или лирического героя и только всей совокупностью особенностей содержания и формы художественного произведения – свою собственную. Последовательность этих действий → понять → почувствовать и почувствовать → понять – имеет принципиальное значение, хотя и её абсолютизировать не стоит. Главное в том, что позиция публициста, как правило, выражается прямо, а позиция художника – опосредованно. Функция образа в публицистике служебная, вспомогательная.
Каждый вид литературы требует особенных методик изучения, специфических критериев. Своя компетенция, своя сфера, своя система оценок у публицистики, у изящной словесности, у беллетристики. Но пропасти между ними нет.
В «Войне и мире» есть публицистические страницы, где Л.Н. Толстой излагает свою философию истории, а в его трактате «Не могу молчать» дана яркая художественная картина казни через повешение.
Писатель и ученый, художник и философ, случается, выступают в одном лице, «эксплуатируя» по мере надобности различные грани своего дарования. Особенно тесно переплелись различные виды словесного творчества в современной литературе.
Термином беллетристика пользуются давно, но смысл в него вкладывается разный. Иногда им пользуются для характеристики книг, предназначенных для так называемого лёгкого чтения, а иногда беллетристическими называются произведения преимущественно повествовательного характера с увлекательным сюжетом. Но чтобы понять, что же такое беллетристика, этого явно недостаточно.
В свое время А.С. Пушкин писал: «Если век может идти себе вперёд, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, – то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель её одна, средства те же. И между тем, как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарелись и каждый день заменяются другими, произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны»30).
Беллетристика обращена к такому кругу проблем и так их освещает, что обладает притягательной силой только для современников автора и утрачивает её в глазах потомков. Произведения беллетристов ждет и постигает та же судьба, что и труды даже великих представителей старинной физики и других наук. Но свежими и вечно юными были и остаются произведения изящной словесности – «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени», «Война и мир» и «Братья Карамазовы», «Тихий Дон» и «Мастер и Маргарита».
Было бы ошибкой, однако, сравнивать беллетристику с изящной словесностью. У каждого вида творчества, как сказано, свои цели, свои пути их достижения, свои способы воздействия на читателя. В изящной словесности у художественного образа преобладают функции исследовательские, в беллетристике – иллюстративные.
Было время, когда в библиотеках стояли очереди за романом А. Коптяевой «Иван Иванович». Записываться следовало чуть ли не за месяц. Прошли годы. Сменились читательские привязанности. Взошла звезда Ю. Германа, его трилогия имела ошеломляющий успех. Миновал и он. Аналогична судьба совсем недавно прогремевших «Детей Арбата» А. Рыбакова.
Каково будущее этих и подобных им книг? Те из них, что обладают незаурядными художественными достоинствами, имеют шанс на аналогичном витке истории общества вновь оказаться в фокусе читательского внимания. Остальные, послужив своему времени, навечно канут в Лету. Говоря о художественных достоинствах, следует иметь ввиду не только красоты стиля (вообще формы), а и объект изображения.
Цель изящной словесности – исследование внутреннего мира человека, его души. Для этого писатель обращается к изучению многочисленных связей личности («сцеплений», как называл их Л.Н. Толстой), с окружающим миром. Художник подвергает анализу обстоятельства бытия своего героя, его занятия, интересы, ценности. При этом наблюдения и выводы беллетриста связаны по преимуществу с конкретным историческим временем и с конкретными историческими обстоятельствами. Увидеть и показать общечеловеческий смысл описываемого он затрудняется или не ставит перед собой такой цели. Произведения А. Коптяевой, Ю. Германа, А. Рыбакова были насущно необходимы текущему дню, в котором они жили. В них высвечены узловые проблемы, человеческие типы, определяющие течение и смысл жизни их времени. Но время ушло, и они ушли вместе с ним.
У рассматриваемой проблемы есть еще один аспект – многообразие читательских индивидуальностей. Изящная словесность, как правило, требует высокой читательской культуры, беллетристика доступна всем: «Вы говорите, что в последнее время заметно было в публике равнодушие к поэзии и охота к романам и повестям и тому подобному Но поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде?»31) А.С. Пушкин противопоставляет здесь изящную словесность и беллетристику, исходя из состояния русской литературы своего времени. Но именно ему принадлежит заслуга создания таких повестей и романов, какие по праву могут быть названы лучшими образцами изящной словесности.
В наследии А.П. Чехова встречается немало интересных мыслей о взаимоотношениях писателя и читателя: «Иногда бывает: идёшь мимо буфета III класса, видишь холодную, давно жареную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта неаппетитная рыба? Между тем, несомненно, эта рыба нужна и её едят, и есть люди, которые находят её вкусной. То же самое можно сказать о произведениях Баранцевича. Это буржуазный писатель, пишущий для чистой публики, ездящей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы. Публика, которая с наслаждением ест солонину с хреном и не признает артишоков и спаржи. Станьте на её точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентных дам, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов – и вы поймете Баранцевича и его читателей»32).
Мировой литературный процесс развивается неравномерно. В какие-то периоды одно за другим являются читателю произведения высокого искусства, другое время рождает преимущественно беллетристику, третье – публицистику. Но это не основание для квалификации одного времени как эпохи расцвета искусства, а другого – как его падения. Хорошая честная беллетристика, умная острая публицистика – это тоже искусство достаточно высокое. Для нашего времени главное в другом. Культурологический по преимуществу подход к изучению литературы, лежащий в основе целого ряда современных методик, значительно сужает её возможности, обедняет восприятие. Художественная литература, о какой бы её разновидности ни шла речь, прежде всего и главным образом должна восприниматься и оцениваться как явление искусства.
Читающие и читатели
Поэту П.А. Вяземскому (1792–1880), несмотря на то, что число грамотных в России в его время было ничтожно, принадлежит интересное наблюдение: «Публика делится на два разряда, а именно читающих и читателей. Тут почти та же разница, что между пишущими и писателями. Нечего и говорить, что в том и в другом случае большинство на стороне первых»33).
В XX веке, когда читать научились практически все, различать чтение просто текстов и текстов художественных стало очевидной необходимостью. Принципиальное различие этих «чтений» обнаруживается при сравнении процессов, протекающих в сознании читателя и читающего. Получая и осмысляя необходимую информацию, читающий откладывает её до востребования в кладовую своей памяти. Читатель же с помощью воображения, фантазии, интуиции воссоздает и хранит в своем сознании художественный мир писателя, становясь таким образом его сотворцом, соавтором.
Лев Николаевич Толстой был убежден, что формирование основных нравственно-психологических особенностей личности человека завершается на пятом году его жизни. В дальнейшем происходят главным образом количественные изменения. Но и в том, и в другом процессе он высочайшим образом ценил роль художественного слова как письменного, так и устного. Писатель хорошо понимал, что чтение-восприятие «Войны и мира» или «Воскресения» потребует особых навыков, высокой культуры, жизненного опыта. Поэтому среди его сочинений важное место принадлежит рассказам и повестям, рассчитанным на разные возрасты и разные уровни интеллектуального и эстетического развития. Они вошли в его «Азбуку», состоящую из «Четырех русских книг для чтения», и «Новую азбуку», а также в цикл так называемых «народных рассказов». Один из них – «Чем люди живы» – через сто лет перевернул душу персонажа романа А. Солженицына «Раковый корпус». Нужно очень пожалеть о том, что XX век недооценил эту часть художественного наследия великого человека и великого писателя.
Таким виделся естественный порядок вещей. Чтение художественной литературы было и остается одним из любимейших увлечений русской интеллигенции, непременной частью её духовной жизни. Но к концу XX века положение художественной литературы в России существенно изменилось. В марте 1999 года группа депутатов Государственной думы внесла предложение об изъятии литературы из школьной программы – за ненадобностью. Кто-то возмутился: деятели культуры во главе с академиком Д.С. Лихачевым выступили в печати с доказательствами абсурдности депутатских инвектив. Кому-то эта акция напомнила давнюю попытку футуристов «бросить Пушкина, Толстого, Достоевского с Парохода современности». Но когда эмоции угасли, обнаружилось, что в некоторых доводах депутатов всё-таки был свой резон. Преподавание литературы в большинстве школ оставляет желать лучшего. Это признают многие, учителя и ученики – в первую очередь. Художественная литература – единственный вид искусства, с которым школьник постоянно общается на протяжении 10–11 лет. И каких лет! Придя к учителю ребёнком, он расстается с ним взрослым человеком. Литература должна принимать самое активное участие в формировании личности, её нравственно-эстетических принципов. Принимает ли?
На положение литературы в школе самое непосредственное влияние оказывает культурная жизнь в семье и в стране. В свою очередь, могут играть роль особенности текущего литературного процесса, отношение к классике, место телевидения и других подобных развлечений.
В своё время, когда главным общим делом России было объявлено строительство социализма и следовало догнать и перегнать капиталистические страны, литературе предложили «занять своё место в рабочем строю». Подобное решение имело тяжелые последствия. Скажем здесь только о том, что таким образом писатель лишался внутренней свободы, без которой деятельность в искусстве невозможна. Но многовековой опыт развития мирового искусства и литературы игнорировался. Основным критерием оценки художественного произведения становилось его соответствие указаниям партии и правительства.
С начала 30-х годов литература начала на глазах терять свою привлекательность. Сужались тематические рамки, потому что строительству социализма в первую очередь нужны были книги
о трудовых подвигах, об отечественных прошлых и будущих военных успехах, о внутренней и внешней политике и т. д., и т. п. Уходили на второй план и исчезали лирико-романтические, фантастические, сатирические произведения. На глазах беднел язык. Талантливые книги, не нашедшие себе места «в рабочем строю», независимо от времени их создания безжалостно изымались из употребления. Были запрещены Ф. Достоевский и Н. Лесков, С. Есенин и А. Ахматова, М. Булгаков и А. Платонов – сей скорбный перечень можно продолжать долго.
Всё это сказалось и на положении литературы в учебных заведениях. Труды В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова, М.А. Рыбниковой и многих других методистов к тому времени создали серьезную научную базу для изучения литературы и подготовки читателя, но уже в 20-е годы от их наследия пришлось отказаться: они противоречили инструкциям Наркомпроса. Советский ребенок должен был знать, что в поэме Н. Гоголя «Мертвые души» обличается царская Россия, крепостное право и т. н., при этом «Выбранные места из переписки с друзьями» ему были совершенно не нужны. Пушкинскую «Капитанскую дочку», не обращая внимания на эпиграф, школьнику представляли исключительно как произведение о восстании Пугачева, который оказывался главным героем произведения. Подобной обработке подвергались все книги, входившие в школьную программу. После неё оказывались практически снятыми нравственно-эстетические проблемы произведения. Читать его было необязательно, достаточно запомнить несколько строчек из учебника.
Всё это отнюдь не противоречило той программе ликвидации безграмотности, которая развернулась в стране в 20—30-е годы. Руководители страны понимали, что догнать капиталистические государства и построить социализм в стране, где население в массе своей было неграмотным, невозможно. Сразу после окончания Гражданской войны была развернута кампания по ликвидации безграмотности, – создавались специальные школы для взрослых, заработали так называемые ликбезы – и в 1936 году, когда было объявлено, что социализм у нас в основном построен, все узнали, что неграмотных в стране больше нет. Мысль о том, что можно научиться складывать из букв слова, из слов предложения и оставаться при этом человеком невежественным и безнравственным, как-то не возникала.
Таким образом, с подготовкой читающих что в школах, что в ликбезах дело обстояло более или менее благополучно. С читателями же была настоящая катастрофа. В XX веке несколько их поколений выросли под мощным идеологическим прессом. С помощью постановлений, государственных премий, орденов, арестов, судебных процессов, высылки из страны, сервильной литературной критики и т. п. им внушались превратные представления о том, что такое художественная литература и каково её место в духовной жизни человека. Читатель был постоянно вынужден оставаться в строго очерченных рамках истолкования текста, который в этом случае переставал быть целостным художественным произведением и оборачивался в своих частях пособием по истории, по обществоведению, по психологии и т. п. При этом навыки реципиента, человека, воспринимающего искусство, оставались невостребованными. Свою роль сыграла школа, где книги перестали читать, – их учились «проходить».
Подоспели изменения в системе подготовки учителей литературы. На время или постоянно из учебных планов вузов и педучилищ исчезали введение в литературоведение, литературная критика, выразительное чтение и другие дисциплины. К настоящему времени более чем наполовину в сравнении с прошлым сократился объём часов, отводимых на изучение профилирующей учебной дисциплины – истории русской и зарубежной литературы.
В большой степени судьба литературы зависит сегодня от чиновников системы народного образования. Торжественно назвав педагогические вузы университетами, они в то же время своими «реформами» низвели филологические факультеты до положения приснопамятных ликбезов, отняв у них право самостоятельно организовывать учебный процесс. В таких учебных заведениях читатель может появиться только в порядке редкого исключения. Система «образованщины», которой возмущался А. Солженицын, действует. Ей нужно противостоять! Тем более что есть и другие обстоятельства, не менее существенные.
Сегодня, когда обсуждается положение с чтением серьезной литературы, часто можно услышать: «А что вы хотите, время-то пришло другое: кино, телевидение, видео, компьютер, Интернет. Некогда читать, да и незачем: всё, что нужно, можно получить с их помощью. Век художественной книги закончился». Спорить с подобными, достаточно распространёнными утверждениями непросто. Эмоциями здесь никого не убедишь. Нужен глубокий доказательный анализ, который засвидетельствует, что художественное слово, когда им пользуются со знанием дела, абсолютно незаменимо в процессе формирования гуманной, нравственно и эстетически совершенной личности. Такой вот парадокс – то, что было очевидно Л.Н. Толстому, иному современному человеку требуется разъяснять. Чтобы стать читателем, нужно этому учиться. Теперь – прежде всего самому.
Человек, единственное из живых существ на земле, наделен даром речи. Успехи в овладении этим даром определяют духовный, интеллектуальный и эстетический уровень личности. И здесь роль художественной литературы переоценить невозможно! Поэтому так важно постоянно сохранять за художественной литературой все достоинства высокого искусства, помогать читателю в постижении всей её многозначности, глубины и диалектичности.
Но и судьба литературы зависит от читателя. Трагически сложился жизненный и творческий путь А. А. Ахматовой. Видимо, это обстоятельство позволило ей лучше других оценить роль читателя в творческой жизни художника:
Наш век на земле быстротечен И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен — Поэта неведомый друг34).Студенту, школьнику, любому, желающему овладеть искусством читать, среди прочего обязательно нужно иметь в виду важное обстоятельство. О художественной литературе написано гораздо больше, чем создано ею произведений. Бесчисленное множество монографий, статей, учебников, учебных пособий, энциклопедий, справочных изданий и т. д., и т. п. всегда к услугам желающих. Нельзя забывать только, что вся эта масса учебной, критической, научной литературы вторична по отношению к художественным текстам. Она носит служебный, вспомогательный характер. И заменять чтение произведений искусства знакомством с ними по всякого рода толкованиям их, как это иногда происходит, – недопустимо. Продукт, получаемый в результате такого рода операций, не просто бесполезен. Он вреден. Каждый должен сам определить для себя такое соотношение художественной литературы и литературоведения, которое позволит сохранить в чистоте непосредственность восприятия произведений искусства и оградить их от навязываемых подчас политических и эстетических спекуляций.
Слово и образ
Художественный мир возникает под пером писателя благодаря способности человеческого сознания создавать в воображении живые картины и образы действительности. Материалом и инструментом художника является слово:
Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Проглянет день как будто поневоле И скроется за край окружных гор35).Что можно увидеть и услышать в этом описании? Глаз радуется великолепию осенних красок, увиденных поэтом. Слух улавливает чуть слышный звук: хрустят под ногой тронутые первым морозом скошенные былинки на увянувшем поле. Звук этот передан тончайшей аллитерацией «с-р-р-р-з» в словах «сребрит мороз». Сердце сжимается от восторга перед красотой природы.
Художественный мир литературного произведения должен раскрываться перед читателем во всем доступном его разумению богатстве мыслей, красоте звуков и красок. Одно или несколько, пусть и самых важных наблюдений, схваченных в процессе чтения, не должны заменять всей полноты ощущений, какие можно пережить над страницами художественного произведения.
Слово – сигнал, побуждающий к работе воображение. В художественном тексте слово обнаруживает свои смысловые, эмоциональные и изобразительные возможности благодаря ассоциациям и реминисценциям, специальным выразительным средствам, особой ритмической и звуковой организации речи, системе символов и т. п.
На столе лежит уникальное произведение искусства – прославленный роман знаменитого писателя. Но не останется ли он простой пачкой печатной переплетенной бумаги? Оживут ли его герои? Наполнится ли созданный писателем художественный мир живыми звуками, красками, запахами? И откроется ли перед читателем вся глубина содержания книги, вся красота его формы – композиции, языка, стиха?
Художественная книга в известном смысле содержит только потенциальную возможность стать произведением искусства. Эта возможность реализуется или не реализуется благодаря читателю. Писатель изображает в слове живой мир, возникший в его воображении. Читатель совершает как бы обратный перевод слова в образ. Интересный эксперимент описан С. Львовым в его «Книге о книге». Психолог рисует слушателям картину: «Представьте себе, что передо мной на тарелке лежит лимон, жёлтый, но ещё не совсем зрелый, с зелёными пятнами на шкурке. Я беру нож, разрезаю лимон пополам. На кончике ножа повисает мутная капля сока. Я отрезаю от одной из половинок небольшую дольку, кладу в рот и начинаю жевать»36).
В этот момент нужно следить за присутствующими. Примерно половина из них начинает судорожно сглатывать слюну, лица их морщатся от кислого лимона так, как будто он действительно находится у них во рту. Но вот вторая половина, что называется и бровью не новела. Они глухи и слепы. Их воображение не проснулось, и за словом не встал образ. Возможности таких читателей художественной литературы ограниченны.
А.Н. Толстой утверждал, что цель литературы достижима только при условии участия в творческом процессе обеих сторон – писателя и читателя: «Словесная ткань, слова, сочетания слов должны быть расшифрованы читателем, должны снова превратиться в духовную энергию, иначе они навсегда останутся черными значками на белой бумаге, как некоторые навсегда закрытые письмена давно умерших народов»37).
Но дело не ограничивается простым воссозданием предложенного писателем: «Когда я пишу, – свидетельствовал А.П. Чехов, – я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам»38).
Подобный расчёт обнаруживается и в творческих планах Ф.М. Достоевского. Размышляя о судьбах героев романа «Бесы», писатель приходит к решению: характеров их «не разъяснять». В подготовительных материалах к роману прямо заявлено: «Пусть потрудятся сами читатели»39).
Смысл художественной литературы – в исследовании внутреннего мира личности, в утверждении нравственных и эстетических ценностей, как их понимает автор. Цель читателя заключается в том, чтобы измерить, осознать и почувствовать неповторимость художественного слова конкретного писателя, понять его правду о человеке, пройти с его героями отмеренный им жизненный путь, перестрадать их страданиями, пережить их восторги. Душа читателя должна быть открыта богатству и разнообразию художественного мира писателя, должна быть готова к восприятию самых разных способов его изображения независимо оттого, почерпнуты ли эти богатства и разнообразие из реальной действительности или они – плод художественного вымысла.
Достичь этой цели невозможно, если читатель не обладает «чувством языка», способностью видеть за словом образ, умением заметить и оценить выразительные и изобразительные достоинства этого слова.
Слово-образ – проблема сложная, не имеющая одного истолкования на все времена и на все случаи. Вот один из её аспектов, обративший на себя особое внимание в начале 20-х годов. Художественное слово – необыкновенно чуткий инструмент, тонко улавливающий изменения в обществе. Понимание того, что смысловые и изобразительные ресурсы слова корректируются конкретными историческими обстоятельствами, – непременное условие адекватного или близкого к адекватному восприятию художественного текста.
Русская художественная литература немедленно отреагировала на процессы, начавшиеся после 1917 года. Вначале это было естественное обогащение словаря за счет слома социальных перегородок между различными слоями населения. Но вскоре, по мере того как страна начала движение к тоталитаризму, в языке художественной литературы появились характерные приметы. В самом воздухе послереволюционного времени было растворено ощущение:
Но забыли мы, что осиянно Только слово средь земных тревог И в Евангелии от Иоанна Сказано, что слово это – Бог. Мы ему поставили пределом Скудные пределы естества, И, как пчелы в улье опустелом, Дурно пахнут мертвые слова40).В 20-х годах в русской литературе появился уникальный эстетический феномен – проза А.П. Платонова. Это было время, когда в России провозглашались утопические идеи построения общества благоденствия. И. Бродский оценил язык Платонова как «пик, с которого шагнуть некуда». Разъясняя свою мысль, он писал: «…первой жертвой разговоров об утопии прежде всего становится грамматика, ибо язык не поспевает за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности.
Таков, на мой взгляд, язык прозы Андрея Платонова, о котором с одинаковым успехом можно сказать, что он заводит русский язык в смысловой тупик или – что точнее – обнаруживает тупиковую философию в самом языке…
Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость»41).
Действительно, язык писателя не только воссоздает образы, картины, процессы реальной жизни, но активно формирует мир, который, несмотря на свою «фиктивность», существенным образом влияет на происходящее вокруг.
Сплавленные воедино талантом А. Платонова осколки дореволюционной речи, обрывки современных лозунгов, стилистические штампы из газетной и речевой стихии, канцеляризмы, кальки с крестьянского и мещанского просторечия и т. п. вошли в несомненно русский, но какой-то необычный язык, ставший знамением не одного только своего времени и не одной только конкретной ситуации, возникшей в нашей стране на рубеже 20—30-х годов. Вот как изъяснялись, например, герои «Чевенгура»:
«Говори безгранично, до вечера времени много, – сказал Копенкину председатель. Но Копенкин не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что ему лезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове.
Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны “Дружба бедняка” – усложнение жизни в целях создания запутанности дел и отпора всей сложностью притаившегося кулака. Когда будет все сложно, тесно и непонятно, – объяснял Копенкин, – тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, – поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, – а потому я предлагаю созывать общие собрания коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки: во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-нибудь без всякого внимания, – мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне.
Копенкин остановился в засохшем потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением»42).
Когда предложение Копенкина «голосовалось», «рыжеватый член коммуны с однообразным массовым лицом» воздержался «для усложнения».
В сознание человека внедряются готовые стереотипы о классовой непримиримости, коллективизме, оптимизме и т. п. Платонов обнаруживает, что личность утрачивает свою индивидуальность, растворяется в массе. Возможен ли какой-нибудь другой способ, прием, средство, кроме художественного слова, чтобы столь полно, ярко, глубоко выявить и изобразить начавшийся в сознании людей поворот к новому образу мыслей?
Разные стороны этого процесса по-разному отразились в литературе того времени.
В 1928 году читателю явилась людоедка Эллочка из романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Она поражала воображение способностью обходиться в жизни всего тридцатью словами: «Хамите», «Хо-хо!», «Знаменито», «Мрачный», «Жуть» и т. н. Удивительно, но тогда эта фигура воспринималась только как карикатура, не имеющая какой бы то ни было связи с реальной действительностью. Впрочем, аналогичным образом оценивалась официальной критикой и дилогия сатириков в целом. А ведь она неслучайно, подобно «Горю от ума», вся разошлась на пословицы и поговорки, не исчезающие и поныне из русской речи. Имена её героев давно стали нарицательными.
Процесс наступления бездуховности запечатлён своеобразно и по-своему уникально в языке персонажей М.А. Булгакова, Е.И. Замятина, М.М. Зощенко, Б.А Пильняка, А. П. Платонова и других писателей.
Пройдет двадцать лет, и английский писатель Дж. Оруэлл в романе «1984» покажет миру анатомию и физиологию тоталитарного государства во главе со Старшим Братом. В других случаях Старший Брат мог именоваться Благодетелем, Генсеком, Фюрером или как-нибудь ещё – суть от этого не менялась. Везде рождение тоталитаризма сопровождалось появлением нового языка – новояза. «…Выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял, – считал Дж. Оруэлл. – …Помимо отмены неортодоксальных смыслов сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму»43*.
Зачем метаться, мучаться в поисках истины? Зачем сомнения и колебания? Что делать? Кто виноват? – прочь вопросы. Старший Брат обо всем подумал за вас. Благодарите Старшего Брата!
Исчезли совесть и справедливость? Любовь? Что ж, короче будет путь к цели.
Обо всем этом и предупреждали каждый по-своему: и А. Платонов, в языке которого нельзя не видеть элементов пародии на советский новояз, и Евг. Замятин, создавший в романе «Мы» убийственную картину «расчеловеченного рая», и М. Булгаков, выведший в повести «Собачье сердце» типы Шарикова и Швондера, носителей «пролетарского» миропонимания, изъяснявшихся на соответственном волацюке, и М. Зощенко с его галереей персонажей, речь которых указывает на крайнюю степень их духовного оскудения.
Но всё было тщетно. Эллочка Щукина, «резиновый» Полыхаев, Остап Бендер, лихо и с успехом торговавший «Торжественным комплектом, незаменимым пособием для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей», засвидетельствовали наличие в языке тревожных симптомов.
Книги, журналы, газеты конца 20-х – начала 30-х годов дают возможность проследить процесс внедрения в русскую речь опасных метастазов новояза. И вот уже в печати появляются «художественные» произведения: повести и романы, стихи и поэмы, написанные по рецептам О. Бендера, – убогие по мысли, серые по языку. Ныне, естественно, они прочно и навсегда забыты, хотя в свое время некоторые авторы получили за них от тоталитарного государства шумное признание и рекламу.
Против обеднения языка, против косноязычия боролись писатели, журналисты, учёные, учителя, артисты. Ими сказано и написано немало справедливого. Достаточно вспомнить гневные обличения К. Паустовского: «Я думал, до какого же холодного безразличия к своей стране, к своему народу, до какого же невежества и наплевательского отношения к истории России, к её настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский язык речевым мусором»44). В годы «оттепели» появилась книга К.И. Чуковского «Живой как жизнь» – убийственное разоблачение отечественного новояза. Все они не могли молчать, хотя, думается, понимали: обличение следствий без указаний на причины вряд ли могло изменить ситуацию. Но причины находились вне пределов их досягаемости.
К чести русской культуры – она долго сопротивлялась наступлению на красоту и образность русской речи, намерению свести все богатство духовной жизни человека к убогой, тупиковой философии «винтика», объяснить всё разнообразие, сложность, противоречивость жизни мертвящими догмами-установками свыше.
Но и сегодня язык современной русской литературы, этот точный и надежный индикатор свидетельствует: в обществе идут разные процессы. Да, ведется борьба за культуру, за духовность, за нравственность, за милосердие. Но язык неопровержимо доказывает, как ещё долог и труден будет путь к успеху в этой борьбе. Новояз не отступает.
Правильный подход к решению одной из основных проблем художественной литературы заключается в том, что слово-образ имеет важнейшее значение для полноценного восприятия и верного истолкования произведений этого вида искусства. От читающего к читателю – естественный путь духовного развития человека. Важно пройти его вовремя.
«И Бога глас ко мне воззвал…
Художник – личность необыкновенная. Природа наделяет его мощным воображением. Его память колоссальна. Однако рождение художественного образа – процесс в основном интуитивный. Начало этого процесса оказывается результатом не интеллектуального усилия, а своеобразного озарения:
…Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко мне воззвал: Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей45).В процессе творческой работы художник переживает состояние вдохновения. Л.Н. Толстой говорил, что вдохновение – это когда вдруг открывается то, что можно сделать. Для многих художников вдохновение олицетворялось – чаще в девятнадцатом веке, реже в двадцатом – в образе прекрасной юной девы-музы:
Муза
В младенчестве моём она меня любила И семиствольную цевницу мне вручила; Она внимала мне с улыбкой, и слегка По звонким скважинам пустого тростника Уже наигрывал я слабыми перстами И гимны важные, внушённые богами, И песни мирные фригийских пастухов. С утра до вечера в немой тени дубов Прилежно я внимал урокам девы тайной; И радуя меня наградою случайной, Откинув локоны от милого чела, Сама из рук моих свирель она брала: Тростник был оживлен божественным дыханьем И сердце наполнял святым очарованьем46).Каждое слово этого стихотворения подарено поэту вдохновением, и потому оно полновесно, значительно, прекрасно, истинно. Позднее А.С. Пушкин подчеркнет особый статус вдохновения для художника: «Не продается вдохновенье, / но можно рукопись продать»47).
История русской литературы располагает убедительными доказательствами справедливости пушкинского тезиса о вдохновении. Н.В. Гоголь, конечно, не «продавал» своего таланта. Он пал жертвой собственного мудрствования – придуманного им искусственного замысла композиции «Мёртвых душ». Посчитав первый том поэмы всего лишь крыльцом к грандиозному зданию, во втором томе он собирался показать Русь на пути к исправлению, в третьем – Русь идеальную.
После феноменального успеха первого тома в 1845 году русское общество было ошеломлено известием: второй том сожжён.
Много выстраивалось различных предположений о причинах столь неожиданного акта. Гоголь сам объяснил подробно и обстоятельно свой поступок: «…бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе “Мёртвых душ”, а оно должно было быть едва ли не главное, а потому он и сожжён»48).
Заговорили о переломе в мировоззрении Гоголя. На свет появилась книга «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846) – попытка объясниться с читателями. Можно предположить, что все те мысли и образы, с помощью которых писатель пытался указать своим героям путь к высокому небесному гражданству, он изложил в «Выбранных местах…». Большинство писем носило нравственно-религиозный нравоучительный характер. От Гоголя ждали произведения искусства – он дал проповедь. «Выбранные места..» по-новому разделили его друзей и врагов. В знаменитом письме Белинского содержалась особенно резкая критика – упреки писателя в измене прежним идеалам: «Вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние»49).
Не только демократ Белинский, но и славянофил С. Аксаков негодовал по поводу «Выбранных мест…»: «Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его… Книга его может быть вредна многим. Вся она проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, её красоте, её прелести; он льстит Жуковскому, он льстит власти»50).
Им решительно возражал П.А. Плетнев: «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние своё только над избранными; прочие не найдут пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Всё, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Чтобы ни говорили другие, – иди своей дорогою… В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний»51).
Дискуссия по поводу «Выбранных мест» продолжалась до начала XX века. Русское общество, которое знакомилось с этим сочинением в основном по статье Белинского, надолго сохранило неприязнь к нему, считая его следствием болезни Гоголя. Но были и другие, как только что можно было убедиться, мнения. В частности, А. Блок успел высказать свое суждение: «Наша интеллигенция – от Белинского до Мережковского – так и приняла Гоголя: без “Переписки с друзьями”, которую прокляли все, и первый – Белинский в своем знаменитом письме.
…Если бы я был историком литературы, бесстрастным наблюдателем, я, может быть, оценил бы Белинского, но пока я страстно ищу в книгах жизни, жизни настоящей (в обоих смыслах), а не прошлой, я не могу простить Белинскому; я кричу: “Позор Белинскому!”»52)
В XX веке в России по известным причинам о «Выбранных местах…» не дискутировали.
Почему же все-таки был сожжён второй том «Мёртвых душ?» Высказывались предположения, что сатирический характер таланта Гоголя не позволил ему художественно убедительно обрисовать задуманное: Русь на пути к исправлению. Действительно, несмотря на несомненные художественные Достоинства первых глав второго тома, нельзя было не заметить, что Тентетников, своеобразный предшественник Обломова, в чем-то явно повторял Манилова; Пётр Петрович Петух напоминал Собакевича. Прочие персонажи удались писателю еще меньше.
«Выбранные места…», конечно же, не смогли заменить второго тома. Лучше всех это понимал Гоголь, вернувшийся через несколько лет к уничтоженной работе. Во время работы над «Ревизором» он признавался Жуковскому: «Кто-то незримый пишет передо мной могущественным жезлом»53). Аналогичные признания содержатся в наследии многих классиков. Попытка разгадать тайну творчества предпринималась неоднократно, но безуспешно, и надо думать, эта тайна таланта не будет раскрыта никогда.
Гоголь глубоко страдал оттого, что исчезла та легкость, с которой из-под его пера появлялись чудесные живые образы. «Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чём… Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять», – жаловался он тому же Жуковскому в письме от 12 ноября 1836 года54).
Ещё в молодости он считал, что «кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душой». Теперь Гоголь был убежден, что неудачи – следствие его личного несовершенства: «Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока… но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я не встречал доселе ни в одном человеке». Он совершает паломничество к святым местам в Иерусалим, чтобы очиститься от греховности. Из записок С. Аксакова известно, что в январе 1850 года Гоголь неоднократно читал главы вновь начатого второго тома «Мёртвых душ». Но своему священнику отцу Матвею он признавался: «Никогда не чувствовал так бессилия своего и немощи. Так много есть, о чем сказать, а примешься за перо – не поднимается. Жду, как манны, орошающего освежения свыше. Видит Бог, ничего бы не хотелось сказать кроме того, что служит к прославлению святого имени»55).
В последние два года жизни Гоголь много путешествовал по России, по монастырям, особенно часто бывал в Оптиной пустыни. Несмотря на болезнь, он очень напряженно работал. Это выяснилось, когда после смерти в его бумагах обнаружились две книги, которым были даны названия «Размышления о Божественной литургии» и «Авторская исповедь». К сожалению, эти книги до сих пор малодоступны широкому читателю: они публикуются лишь в собраниях сочинений да еще в последние годы на помощь пришел Интернет.
Тем временем продвигалась работа над вторым томом. Вот что писал Гоголь об этом за полтора года до смерти: «В остальных частях “Мёртвых душ”, над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Многое, нами позабытое, пренебрежённое, брошенное, следует выставить ярко, в живых говорящих примерах, способных подействовать сильно. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности»56).
Но удостовериться в сказанном не было дано никому. В феврале 1852 года перед смертью Гоголь снова сжёг всё написанное.
Полностью передоверив решение своих сокровенных проблем разуму, справиться с собственным замыслом писатель не смог. Увы! Перо не поднялось!
В XX веке, когда в России утвердился тоталитаризм, факты измены писателя своему таланту по понятным причинам участились. Последствия этого ощутили на себе даже такие крупные писатели, как М. Горький и В. Маяковский, А. Толстой и К. Федин, А. Фадеев и Н. Тихонов. Что уж говорить о многих других!
Н. Тихонов был учеником Н. Гумилева. Его первые стихотворные сборники – «Орда» и «Брага» (1922 год) получили признание самых тонких ценителей поэзии. Тихонов с успехом работал в жанрах баллады и поэмы. Но уже к концу 20-х годов творческие поиски отошли на второй план, место высокой поэзии у него заняла рифмованная публицистика и проза. В дальнейшем Тихонов избрал карьеру литературного чиновника. Поэтический талант более не проснулся в нем вплоть до смерти в 1979 году, исключая разве что некоторые попытки возрождения в сороковые годы.
Ещё поразительнее падение таланта А.Н. Толстого. В воспоминаниях людей, хорошо знавших его, он предстает личностью незаурядной, щедро одарённой от природы. Его яркий артистический талант обнаруживал себя во всём: в манере общаться с людьми, в искусстве создания интерьера, в самом образе его жизни и, конечно же, в литературном творчестве. Одним из слагаемых его успеха, по единодушному свидетельству современников, была редкая трудоспособность. Весьма скептически относившийся к Толстому И.А. Бунин тем не менее отдавал ему должное: «Работник он был первоклассный».
Художественное творчество Толстого удивляет жанровым и тематическим разнообразием. В собрании его сочинений представлены романы и повести, рассказы и очерки, пьесы и киносценарии, лирические стихотворения и публицистические статьи. Среди персонажей книг Толстого представители всех слоев русского общества. Действие произведений охватывает более пяти веков русской истории, причем особенное внимание писателя привлекают её поворотные, решающие моменты.
Индивидуальность Толстого-писателя сложилась ещё до 1917 года. Выпустив вначале два сборника лирических стихотворений, он завоевал всероссийскую известность своими рассказами (цикл «Заволжье» 1911), повестями и романами об умирании дворянских гнезд («Чудаки» 1911, «Хромой барин» 1912 и др.), пьесами («Нечистая сила», «Касатка», обе – 1916).
Февраль 1917 года Толстой приветствовал, выражая надежду и веру в благотворность для России «гулкого ветра революции». События Октября и Гражданской войны он оценил негативно и, переехав летом 1918 года из Москвы в Одессу, следующей же весной эмигрировал за границу. Как выяснилось позже, для него это было ошибкой, хотя на интенсивности творчества это никак не сказалось. В эмиграции им были написаны роман «Аэлита» и начаты «Хождения по мукам», созданы повести «Детство Никиты» и «Повесть смутного времени», рассказы «Наваждение», «День Петра», пьеса «На дыбе».
Но возвращение на родину становилось для писателя насущной необходимостью. В открытом письме Н.В. Чайковскому, который был одним из руководителей эмиграции, Толстой изложил мотивы своего решения: «Хоть гвоздик собственный вколотить в потрёпанный бурями корабль». В недавно опубликованных мемуарах писателей-эмигрантов говорится ещё об одном немаловажном соображении, побудившем не только Толстого, но и Горького к возвращению в Россию, – о состоянии их финансовых дел. Судьба уехавших складывалась нелегко. Многие подумывали о возвращении, но одних смущала мысль о неизбежных компромиссах с новой властью, другие опасались репрессий.
В августе 1923 года Толстой с семьёй возвращается в Петроград, а уже в октябре он посещает строительство Волховской гидроэлектростанции и пишет очерк «Волховстрой». Толстой признавался, что ему понадобились две свои собственные пятилетки, чтобы в новую эпоху стать новым писателем, перейти из мира гуманитарных идей в мир идей диалектического материализма.
Это откровенное признание объясняет, почему и какие перемены произошли в эстетике писателя после возвращения. О них можно судить по творческой истории романа «Хождение по мукам», писавшегося на протяжении 1919–1921 годов в антибольшевистском духе. Тогда он ещё не мыслился как трилогия, и его герои мучались совсем не теми проблемами, которые волнуют знакомых теперь всем персонажей широко известного произведения: «Авторское нерасположение и недоверие к большевикам не только помешало ему увидеть подлинных организаторов народной силы на борьбу с общественным разложением, – оно подсказало ему несправедливое, глубоко неправильное, злобное истолкование программы социализма и тактики большевиков в 1917–1918 годах: в первоначальной редакции романа большевики – Акундин, Гвоздев – апологеты казарменного общественного строя; их влияние на массу автор склонен объяснить демагогией; в его изображении они не прочь опереться на разбойничьи, анархистские элементы. Толстой утверждал тогда, что большевики развязали анархию и растворились в ней…»57)
Если эти взгляды Толстого в 1919–1921 годы «несправедливы», «глубоко неправильны» и т. п. (сомневаться в этом нет оснований), то нужно признать, что после возвращения на родину в мировоззрении писателя произошел поворот на 180 градусов. Это, собственно, и подтверждает его признание о переходе из мира гуманистических идей в мир идей диалектического материализма. Теперь заранее можно было сказать, что герои книги должны будут прийти к признанию правоты большевиков. И они пришли! Вернее, их привел писатель. Тот самый, что, подтверждая известный закон творчества, заявлял: «Я в самом разгаре работы не знаю, что скажет герой через пять минут, я слежу за ним с удивлением»58). Но в сложившейся в романе ситуации никаких откровений от героев ждать не приходилось: они говорили то, что нужно было их создателю. Вместо творческого поиска, вдохновенных открытий, неожиданностей, чем всегда ранее отличалась проза Толстого, наметилась незамысловатая схема: дано – трагедия русской интеллигенции и всего народа в годы революции и Гражданской войны, требовалось доказать – только большевики их могли спасти и спасли.
Вступив на путь предвзятости, заданности, любой художник рискует своим талантом. Толстой не стал исключением. Этот сомнительный выбор в последующем привел его к серьезным творческим поражениям, к неоправданным призывам пересмотреть давно сложившиеся традиции художественного творчества. Трудно поверить, но Толстой, писатель самобытного и мощного дарования, смог в 1939 году официально потребовать от Союза писателей поддержки своей малоудачной пьесы «Чертов мост»: «Я говорю не о том, нравится или не нравится кому-либо эта пьеса, а о необходимости её в нашей борьбе с фашизмом… Брошенная тема не поднята. Правильно это? Получается более чем странно и непонятно. Ещё раз подчеркиваю – меня бесконечно меньше интересуют вопросы чисто эстетические, меня почти исключительно волнуют вопросы проблемные, философские, социальные, поднятые в этой пьесе»59).
Когда эстетические проблемы отодвигаются в сторону, художник перестает быть художником: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нём нет поэзии, – в нём не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и всё, что можно заметить в нём, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное»60). Эти замечательные слова Белинского и сегодня как нельзя лучше характеризуют главную движущую силу творческого процесса любого художника – стремление к истине, к совершенству, к прекрасному.
В отсутствии этой движущей силы и надо искать ответ на вопросы: почему от книги к книге угасал в «Хождении по мукам» талант Толстого, почему остался неоконченным замечательный роман «Пётр Первый», почему из-под пера признанного мастера могли появиться откровенно конъюнктурные произведения, вроде повести «Хлеб». В противоестественной борьбе таланта и мировоззрения Толстой-художник, случалось, брал верх, но сожаление о нераскрытом до конца потенциале этого писателя не покидает читателя.
За 70 лет в советской школе основательно забыли о том, что изящная словесность должна располагать абсолютным доверием читателя, что ей противопоказаны произведения, появившиеся в результате социального заказа, что только свободное вдохновение рождает подлинное творчество. Об этом всем напомнил Булат Окуджава:
Вымысел – не есть обман. Замысел – ещё не точка, Дайте дописать роман До последнего листочка. И пока ещё жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке: каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, Не стараясь угодить… Так природа захотела. Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить61.«Веленью Божию, о муза, будь послушна…»
1
«Цель поэзии – поэзия», – восклицал А.С. Пушкин. Суждения поэта о назначении искусства, о его роли в жизни человека и общества были и остаются наиболее близкими к истине. Они многократно подтверждены творческой практикой и высказываниями писателей разных эпох и направлений.
…Зависеть от царя, зависеть от народа — Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам И пред созданьями искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья, Вот счастье! Вот права…62) —таково мнение Пушкина.
Ему вторил А.А. Блок:
Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе!63)Тайная внутренняя свобода есть главная ценность художника. Творческий процесс без нее невозможен. Решительно отстаивая независимость искусства, А.П. Чехов писал: «Скажут, а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от неё»64).
Чехов как будто предчувствовал, что в Советской России возобладает другая точка зрения. Тоталитарная система настаивала прежде всего на идеологическом соответствии писателя текущему политическому моменту. Талант, художественность, свободное творческое воображение в качестве критериев для оценки литературных произведений фактически были изъяты из обращения. И весь громадный опыт мирового искусства оказался в забвении. Последствия не замедлили явиться: искажалась сама природа художественной литературы, деформировались отношения читателя и писателя.
Понимая противоестественность положения, при котором искусство, обречённое исключительно на выполнение социального заказа, переставало быть искусством, писатели пытались убедить самих себя и окружающих в целесообразности избранного пути, как-то оправдать свою позицию: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим искусством»65), – утверждал М. Шолохов. Но творческая практика убедительно опровергала подобные попытки. Многие советские художники переставали быть писателями и превращались в пишущих задолго до физической смерти.
Под мощным идеологическим прессом выросли и несколько поколений русских читателей. С помощью разного рода постановлений, государственных премий, орденов, арестов, судебных процессов, высылки из страны, сервильной литературной критики и т. п. им внушались превратные представления о том, что такое художественная литература.
Процесс восприятия искусства носит интимный характер и предполагает различный эффект при чтении разными людьми одного и того же сочинения. Возможно ли такое по команде? Чтобы стать «народа водителем и одновременно народа слугой», В. Маяковскому пришлось приспосабливаться. Книги, созданные без вдохновения, «сделанные» в угоду конъюнктуре (а их оказалось немало), если и функционировали, то уже за пределами искусства. Но сплошь и рядом именно они провозглашались советской властью образцовыми. Тот же Шолохов сетовал: «… остаётся нашим бедствием серый поток бесцветной, посредственной литературы, который в последние годы хлещет со страниц журналов и наводняет книжный рынок.
Пора преградить дорогу этому мутному потоку, общими усилиями создав против него надёжную плотину, – иначе нам грозит потеря того уважения наших читателей, которое немалыми трудами серьёзных литераторов завоевывалось на протяжении многих лет»66).
Уважение терялось еще и потому, что читателя ориентировали на сугубо утилитарные цели «использования» произведений художественной литературы: для сдачи зачета или экзамена, для подготовки сочинения или доклада и т. п. В библиотеках можно было получить рекомендательные списки художественной литературы: что следует читать по проблемам сельского хозяйства, что по промышленности, что на военную тему и т. п. То обстоятельство, что при таком обращении с книгой смысл чтения художественного произведения попросту терялся, составителей подобных списков не волновало.
Навязанная обществу в качестве «колесика и винтика» государственного механизма художественная литература в советской стране переставала быть искусством и превращалась в беллетризованную инструкцию по воспитательной работе. Её произведения, чаще веет раздробленные на части, использовались как словесные иллюстрации по обществоведению, по гражданской и военной истории, по психологии и этнографии и т. п.
Означает ли это, однако, что всякая связь художника с обществом губительна для его таланта? Отнюдь! Нужно только, чтобы искусство служило своим гуманным вековым целям.
А.С. Пушкин писал;
И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал67).Священна творческая внутренняя независимость художника. Плоды же его труда – достояние всех желающих. О весьма конкретных целях искусства говорил Чехов: «Надобно воспитывать в людях совесть и ясность ума»68).
Читателю художественной литературы необходимо понимать и чувствовать громадную дистанцию между законтрактованностью и свободным служением свободно избранным общечеловеческим идеалам.
2
Зачем человек читает художественную книгу? Да ещё, случается, одну и ту же и по многу раз? Конечно, у разных людей и предпочтения могут быть разные, но это ничего не меняет.
Существуют, видимо, определённые духовные потребности, какие-то ценностные ориентации, дающие возможность читателю найти «своего» писателя. Книги такого художника особенно много говорят уму и сердцу, и встреча с ними всегда желанна и необходима. В свою очередь, и писатель знает о существовании «своего» читателя, дорожит его вниманием, вдохновляется его интересом. Чаще всего человек обращается к художественной литературе в силу потребностей, подчас даже не осознаваемых как цель.
Художественная литература существует несколько тысячелетий. Были периоды, когда она уходила в тень, не оказывая практически никакого влияния на ход дел в человеческом сообществе. В иные времена именно художественная литература становилась существенным моментом в духовной жизни того или иного народа. Но функционировала она всегда. Имелись, следовательно, какие-то постоянные общечеловеческие потребности, раз за разом вызывавшие к жизни всё новые и новые произведения, независимо от географических, национальных, политических и т. п. особенностей места и времени их появления. Определение этих потребностей немаловажно для ответа на вопрос: «Каковы же функции художественной литературы? Зачем она?» На очередном витке истории неизбежны сомнения в аксиомах, уточнение содержания понятий, давно и всем хорошо известных.
«Человек есть тайна!» – утверждал один из выдающихся мастеров художественной литературы около 150 лет тому назад. За полтора века наука ушла далеко вперед. Сегодня очевидно, что загадки и законы окружающего мира раскрываются ею куда успешнее, чем тайна, провозглашённая Ф.М. Достоевским. Но дальнейший прогресс нашей цивилизации сомнителен, если не будет конкретным и научным в своей основе воспитание человека, если не декларируемые только, а действенным и реальным образом функционирующие принципы добра и справедливости, принципы гуманизма не станут определять отношения людей между собой. Этим целям могут хорошо послужить духовные богатства, аккумулированные в художественной литературе. Но как к ним подступиться? Вопрос далеко не простой. Художественная литература выполняет в обществе, среди прочих, и функции воспитателя. Чем объяснить, однако, что иные люди, связанные с ней профессионально, зачастую ни в нравственном, ни в эстетическом отношении никак не отличаются от тех, кто о Шекспире и Пушкине знают в лучшем случае только то, что они писатели?!
Почему более пяти тысяч лет назад (по современным сведениям) появилась художественная литература? Почему с течением времени она не исчезла, а напротив, успешно сосуществует как со старыми традиционными видами искусства – музыкой, живописью, – так с относительно недавно появившимися кино, телевидением?
Разумеется, объяснить возникновение и развитие художественной литературы какой-то одной человеческой потребностью-причиной нельзя. Но три (как минимум) основных представляются наиболее существенными.
Прежде всего это потребность в самопознании, потребность разгадать человеческую тайну, проникнуть в мотивы поведения, понять логику или алогичность мыслей и поступков, приблизиться к пониманию смысла жизни и смерти человека.
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? —терзался Ф.И. Тютчев69).
Художественное пространство и время в литературном произведении являют собой образцовый полигон для испытания человеческих характеров, обнаружения в них скрытых подчас от самого человека причин и следствий его мыслей, слов, поступков. Как это происходит?
В марте 1873 года Софья Андреевна Толстая писала сестре о работе Льва Николаевича над новым романом: «…А все лица из времен Петра Великого у него готовы, одеты, наряжены, посажены на своих местах, но ещё не дышат. Я ему вчера сказала, и он согласился, что правда. Может быть, и они задвигаются и начнут жить, но ещё не теперь»70).
Читателю важно знать, что до начала действия в произведении писатель представляет себе (кто более, кто менее) основные черты мировоззрения и характера персонажей, их расстановку и взаимоотношения, но после того, как они начали «жить и дышать», власть художника над ними ограниченна. Только наивные люди могут думать, что писатель распоряжается героями произведения произвольно, по своему усмотрению, – захотел женил, захотел убил. Следует видеть глубокий смысл в главе «Бунт героев» из «Золотой розы» К.Г. Паустовского: «Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив броситься под поезд.
Толстой улыбнулся и ответил: «Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: “Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее”. То же самое я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется».
Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. Вспомним: «Я в самом разгаре работы, – говорил Алексей Николаевич Толстой, – не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением»71).
И действительно: если бы писатель не следовал за героем, наблюдая за ним в ситуациях, которые придумывал и использовал для выявления мотивов его поведения, особенностей мировосприятия, психологии, иерархии ценностей и т. п.; если бы ему, писателю, всё было известно о герое еще до начала работы, художественная литература просто потеряла бы смысл.
Другое дело, что истории литературы ведомы случаи, когда писатели подгоняли «задачку под ответ», когда герои говорили и совершали то, что было нужно их творцу, а не то, что вытекало из логики их характеров. Но ведь и итог всегда был печален: такое несовпадение уничтожало художественное произведение, переводило его в разряд окололитературных поделок.
Свою книгу о сюжете В.В. Шкловский назвал словами Л. Н. Толстого – «Энергия заблуждения». Во многих художественных произведениях героями движет желание отыскать истину, преодолеть свои ошибки и заблуждения, разобраться в себе, что вместе с ними совершает и читатель.
В рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой» обнаруживается оппозиция: «казалось – оказалось». Гурову казалось, что любви, как о ней пишут в книгах, нет, что это красивые выдумки для обмана, но встреча с Анной Сергеевной перевернула его душу: оказалось, что любовь есть и что это – счастье.
Изящная словесность выступает своеобразной моделью жизни. Как в науке и технике те или иные идеи, изобретения испытываются сначала в лабораториях, в миниатюре и лишь затем становятся достоянием каждодневной практики, так и в литературе – писатель обнаруживает какие-то черты, свойства, особенности психологии и поведения человека, которые впоследствии осмысливаются как общечеловеческие. Выявленные сначала на модели, они затем открывались всем, и читатели говорили: хлестаковщина, обломовщина, карамазовщина и т. п. Это тот случай, когда литературное произведение заслуживает высшей оценки: в нем совершено художественное открытие – выявлено, исследовано нечто новое, ранее в человеке незамеченное или неоценённое. Именно в этом моменте наиболее ярко высвечиваются уникальность, неповторимость изящной словесности: ничто не может сравниться с ней в деле познания человека, ибо она воссоздает процесс его эволюции, движения во всех ипостасях, обнаруживающихся в духовном мире личности. Ситуации, которые для этого подбирает писатель, призваны способствовать решению главной задачи любого художественного произведения – исследованию внутреннего мира персонажей, демонстрируя читателю причины и следствия человеческих поступков и слов, заставляя его самого тоже задумываться над судьбами героев и тем самым удовлетворять свою потребность в самопознании.
Гуров – филолог, но служит в банке. Как этот вроде бы незначительный факт «работает» на понимание рассказа в целом?
В подлинно художественном произведении нет мелочей, нет ничего, что не имело бы значения. Размышляя над ним в целом или в деталях, читатель должен пройти тот же или близкий путь, каким шел писатель, разрабатывая и раскрывая систему связей, «сцеплений», в которых обнаруживается в итоге процесс бытия неповторимой человеческой личности – цель предпринятого художественного исследования. При этом в высшей степени важно понимать, что для читателя художественная литература таит в себе возможность всё новых открытий в произведениях, давно и досконально изученных.
В.Г. Белинским было указано, что в романе «Евгений Онегин» «Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная»72). Однако только сравнительно недавно эта особенность романа, отразившаяся и в характере главного героя, могла быть в полной мере оценена как настоящее художественное открытие.
Кто много читает, тот много знает, – аксиома, не нуждающаяся в ревизии. Но уточнения необходимы. Кто умеет читать изящную словесность, тот много знает о человеке как личности, индивиде и члене общества, знает об истоках и сути его мировоззрения, о побудительных мотивах поступков и речей, склонностях и привычках, тот с интересом разгадывает вечную тайну человеческой души. Всякое иное знание носит прикладной характер и не может иметь в произведении самостоятельного значения.
Рожденная из потребности самопознания художественная литература и сегодня помогает человеку разобраться в себе самом и в окружающих людях, благо нужда в этом всё увеличивается. Но она бесполезна для самодовольных и самоуверенных. Литература бесценна для ищущих и сомневающихся.
Мысль, что красота спасет мир, в той или иной форме уже много веков обнадёживает человечество. Нет никакого резона отказываться от нее и в наши дни. Изящная словесность сегодня доступна читателю в самом широком выборе, а значит, удовлетворение второй потребности, потребности в прекрасном, возможно для каждого желающего.
Прекрасными в искусстве выступают истина, гуманизм, нравственность, эстетическое совершенство. Искусство убеждает, что в «человеке всё должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли»73).
Возникновение и функционирование изящной словесности впрямую связаны с эстетическими потребностями читателя. Здесь нет необходимости говорить о характере этих потребностей. Заметим только, что они несколько отличаются от тех, что удовлетворяются другими видами искусства. Процесс постижения прекрасного в художественной литературе и через художественную литературу носит специфический характер.
Оставим в стороне и вопрос воспитания художественного вкуса, хотя совсем небезразлично, «когда мужик не Блюхера и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесёт». Существенно другое. Процесс восприятия прекрасного в произведении изящной словесности носит скрытый, интимный характер и протекает в ряде случаев на уровне интуиции, безотчетно. В первую очередь, конечно, сказанное относится к форме литературного произведения. Нельзя не заметить, к слову, что в последнее время гармония оказалась нарушенной: эстетические чувства читателей чаще всего обращаются к содержанию, игнорируя его конкретную художественную форму.
Эстетические потребности заложены в природе человека от рождения. Сначала обстоятельства жизни, а затем и сам человек определяют уровень развития этих потребностей. Художественная литература в своих лучших образцах дает для этого развития универсальный материал. Каждый ищет и находит свой источник удовлетворения своей жажды. Кстати, именно эстетическая потребность объясняет отчасти феномен перечитывания. В самом деле, чем объяснить многократное возвращение к одной и той же книге, когда, кажется, что она уже наизусть выучена, когда точно помнится, что Бегемот с Коровьевым безобразничали в торгсине на правой странице внизу, а роман, несмотря на это, все-таки снова и снова читается с неизменным удовольствием. Что уж говорить о стихах!
Третья потребность, обеспечивающая жизнедеятельность художественной литературы, – это потребность в самовыражении, в творчестве. И она тоже обусловлена генетически.
Ведь бездарных людей нет: у каждого свой талант. И жизнь должна сложиться уж слишком неудачно, чтобы этот талант не был обнаружен или был совсем задавлен. Сфера приложения любого таланта – творчество, т. е. самовыражение. Каждому человеку свойственно заявлять о себе, обнаруживать особенные, индивидуальные, одному ему свойственные качества. И в этой области изящная словесность сильна своей демократичностью, открытостью. Природа может лишить человека музыкального слуха, способности рисовать, танцевать, способностей к ручным ремеслам и т. п., и тут уж ничего не поделаешь, лишь единицы в этом случае упорством, силой воли достигают желаемого. Но есть область творчества, открытая для всех. Это внутренний мир человека, его воображение, его фантазия, его мечты.
Выше уже говорилось о том, что многие писатели видят в читателях своих соавторов и без их участия не представляют себе жизни художественного произведения. Но если читатель глух и слеп и только равнодушно констатирует описываемые в произведении факты и события? Тогда самые высокие достижения человеческого ума, самые тонкие и сильные чувства, самые искусные приемы, присутствующие в тексте, будут восприниматься им как нечто не органичное, постороннее, лично его не касающееся, что читать приходится лишь по суровой необходимости, не по внутренней потребности! О каком сотворчестве в этом случае может идти речь?
Мысль о творческом характере чтения художественной литературы должна быть определяющей и руководящей в действиях всех тех, кто учится и учит изящной словесности. Потребность в самопознании, потребность в прекрасном, потребность в творчестве необходимо пробуждать и развивать в ребенке в первую очередь для того, чтобы он вырос Личностью. Изящная словесность должна стать его постоянным и любимым спутником. Вот – готовая программа деятельности для учителя словесности, обязанного помочь своим ученикам овладевать непростым искусством читать художественные книги.
* * *
Молодая учительница давала открытый урок. На нем присутствовали студенты и её бывший преподаватель. Всё было продумано, взвешенно. Урок прошел хорошо, довольны остались все. И случился на уроке интересный эпизод.
Необходимые меры предосторожности были приняты заранее: темпераментные молодые люди были перемещены с задних парт на передние, поближе к учительскому столу. Но в этот раз испытанный способ не срабатывал: объект не реагировал ни на строгие взгляды, ни на постукивание карандашом по столу, ни на увещевания. И тогда молодая учительница исполнила заранее задуманный, как выяснилось позже, воспитательный этюд. Она вызвала к доске буяна, достала из портфеля книгу и обратилась к присмиревшему мальчишке: «Я хочу, чтобы ты прочитал эту книгу внимательно, не торопясь, чтобы ты хорошенько подумал над ней. Я уверена, что после этого ты просто не сможешь позволить себе то, что позволял сегодня». И она вручила ему книгу Н. Островского «Как закалялась сталь».
На обсуждении урока мнения об этом эпизоде разделились: «Какая возвышенная убежденность, какая святая вера в неотразимое воспитательное воздействие художественного слова!» – говорили одни. «Какая наивность, какое простодушие! Если бы всё решалось так просто!» – возражали им другие.
Только когда читатель «отрешается» от окружающей действительности и оказывается в мире, созданном художником, когда включаются его интеллект, воображение, органы чувств, эмоции, интуиция, когда он вместе с героями книги борется и побеждает, страдает и терпит неудачи, переживает взлёты и падения, восторги и кризисы, только тогда и совершается приобщение к искусству, чудо преображения его души.
Назидательность, дидактичность противопоказаны искусству: «цель художества есть идеал, а не нравоучение»74).
Особенности восприятия изящной словесности
Искусство воспринимать изящную словесность требует специальных знаний и навыков. Каких?
В процессе чтения художественного текста должны работать четыре как минимум психологических механизма: воображение, эмоции, интеллект, интуиция. Бездействие хотя бы одного из них существенно влияет на результат чтения.
* * *
Приходит в библиотеку ученик и просит сотрудницу: «Дайте, пожалуйста, драму А.Н. Островского “Гроза”». Получив нужную книгу и спрятав её в портфель, он обращается к библиотекарю вторично: «А теперь дайте что-нибудь почитать». (Сцену наблюдал и рассказал о ней писатель И. Меттер.)
Этот эпизод без всякой натяжки мог быть продолжен таким диалогом участвующих сторон:
– Позвольте! Вы просите что-нибудь почитать. Но для чего же Вы взяли «Грозу»? С ней Вы что собираетесь делать?
– «Грозу» но программе мы проходим в школе.
Последствия такого отношения к литературе были обнаружены с помощью социологических исследований:
«В школе и речи не могло быть, чтобы получить удовольствие от “Евгения Онегина” и “Войны и мира”, – отвечал на анкету студент третьего курса технического вуза. – В то время когда в школе проходили Толстого, я с усилием заставлял себя читать “Войну и мир”. Тогда я не видел в романе ничего, кроме “образов”, “общественных отношений” и “показа” героизма русского народа. За “образами” я не видел людей, за “общественными отношениями” – мысли, а за “показом” – самого героизма. Недавно я перечитал роман и, увидев все это, был поражён, потрясён»75).
«Раньше в школе, когда Пушкина проходили, – вторил студенту двадцатичетырехлетний крестьянин, – не нравился он мне, а вот недавно случайно он мне в руки попался, я взял и прочитал. “Онегин”, оказывается, – это очень здорово, да и дальше начал читать, и сказки понравились, а уж “Повести Белкина” совсем интересно»76) (разрядка моя. – Л.К.).
Очевидно, что отвечавшие на вопросы анкеты в своё время были ориентированы только на логическое восприятие художественного текста. Их воображение, эмоции, интуиция не включались, работал только интеллект. В результате они, каждый на своём уровне, может быть, и поняли, что хотел сказать писатель, но его художественный мир в их сознании не отразился. Они не почувствовали, не пережили, не ощутили и, следовательно, не восприняли всего духовного богатства произведения. Некоторые из них отчасти восполнили этот пробел впоследствии. Но это, увы, случается редко.
Произведения изящной словесности неисчерпаемы. Их можно перечитывать многократно, всякий раз открывая для себя что-то новое и удивляясь, что не заметил этого прежде. Происходит это потому, что человек, как правило, не останавливается в своём духовном развитии. На каждом этапе у него возникают новые потребности. При этом первоначальный стимул – желание вновь пережить комплекс ощущений, испытанных при прежнем чтении, – сохраняет свою силу.
Каждый видит, чувствует, понимает в произведении искусства то, что может и умеет, что удовлетворяет его духовные потребности именно в этот момент. Но уровень потребностей меняется в зависимости от самых равных обстоятельств.
По-своему правы: мальчишка, которому в пушкинском «Борисе Годунове» больше всего нравится сцена в корчме: «Вот Гришка, это да! Его вот-вот схватят, а он к-а-а-к окно вышибет! Р-р-аз и убежал»; юноша, очарованный сценой у фонтана и выучивший её наизусть: «Какая любовь, какие слова!»; умудрённый муж, потрясённый драмой Бориса Годунова: «Сколько лет России не везло на царей – то грозные, то юродивые, но все только о себе, только для себя! И вот сел на престол царь с думами о государстве и народе, и такое несчастье!». Наконец, есть и такой читатель, который оценит всё богатство трагедии и при этом будет потрясен какой-то удивительной гармонией, соразмерностью её композиции, богатством и красотой языка. Ему, наконец, откроется, что Борис Годунов является перед ним в четвёртой сцене от начала, исчезает в четвёртой сцене от конца, Самозванец же соответственно – в пятой, и при этом появляется, просыпаясь, а исчезает, засыпая. Читатель убедится, что интуиция его не обманула: архитектоника трагедии тщательно выверена, гармония здесь строго поверена алгеброй и, самое удивительное, что поэт не пользовался для этого никакими счётно-решающими устройствами.
Искусство чтения изящной словесности – не простая сумма методов и приёмов, овладев которыми любой человек может быть уверен, что нашел волшебное слово «сезам» и теперь все сокровища мировой литературы сами раскроются перед ним. Приемы и методы, конечно, существуют. Но процесс воспитания читателя может идти плодотворно только параллельно с ростом общей культуры человека, с расширением его эстетического кругозора, с совершенствованием художественного вкуса. Философ В.Ф. Асмус отмечает: «…творческий результат чтения в каждом отдельном случае зависит не только от состояния и достояния читателя в тот момент, когда он приступает к чтению вещи, но и от всей духовной биографии меня, читателя. Поэтому два читателя перед одним и тем же произведением – все равно, что два моряка, забрасывающие каждый свой лот в море. Каждый достигнет глубины не дальше длины лота. Сказанным доказывается относительность того, что в искусстве, в частности в чтении произведений художественной литературы, называется “трудностью понимания”. Трудность эта – не абсолютное понятие. Моя способность понять “трудное” произведение зависит не только от барьера, который поставил передо мной в этом произведении автор, но и от меня самого, от уровня моей читательской культуры, от степени моего уважения к автору, потрудившемуся над произведением, от уважения к искусству, в котором этому произведению может быть суждено сиять в веках, как сияет алмаз»77).
Большую положительную роль в воспитании культуры чтения может сыграть знакомство с творческой лабораторией писателя. Конечно, само по себе изучение творческого процесса не может претендовать на роль радикального и универсального средства повышения культуры чтения, но в ряду других оно безусловно будет эффективным.
Ознакомление с основными этапами создания художественной книги показывает читателю, как наивен и несостоятелен бывает подход к повести или поэме с целью извлечения «идеи», препарирования образов, характеристики художественных особенностей. Изучение творческого процесса, знакомство с психологией творчества помогает бороться с примитивными, вульгарно-грубыми представлениями о работе художника, раскрывает всю глубину, тонкость и сложность происходящего в его сознании в момент творчества, нейтрализует в известной мере попытки голого социологизаторства, учит целостному восприятию произведений художественной литературы. Знакомство с творческим процессом позволяет читателю глубже осмыслить замысел писателя, оценить его исполнение и, наконец, со знанием дела управлять своим восприятием, самостоятельно воспитывать свою читательскую культуру. Всё это тем более важно, что от неверного понимания специфики творческого процесса страдают в первую очередь высокохудожественные произведения.
Сознание человека, нацеленное на восприятие художественного произведения, может быть уподоблено всем известному инструменту со сменной насадкой. Приступая к работе, мастер подбирает соответствующую в зависимости от того, с каким материалом ему предстоит работать: с деревом, металлом, бетоном или чем-нибудь ещё.
Читатель интуитивно настраивается на восприятие художественного произведения в первую очередь в зависимости оттого, что перед ним – проза, поэзия или драматургия. Но это только самое начало, к тому же совсем необязательное. Квалифицированный читатель многократно сменит эту «насадку» в зависимости от материала. А. Пушкин, Л. Толстой, А. Ахматова, А. Платонов – каждый читатель использует свои индивидуальные способы-приемы чтения каждого из них. Иначе он рискует остаться лишь при самом общем представлении о прочитанном. Художественный мир автора не раскроется перед ним. Эти приемы могут быть отысканы в литературоведческих работах, а могут быть найдены интуитивно, что чаще всего и случается.
Особенно требовательна, даже капризна, в ожиданиях талантливого читателя – поэзия:
Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээоо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо76).Иные читатели без раздумий откладывают в сторону это стихотворение В. Хлебникова. Оно представляется им бессмыслицей, непонятным набором звуков. А вот B.C. Баевский (см. его книгу «История Русской Поэзии. 1730–1980». М., 1996), исходя из лексики стихотворения – губы, брови, взоры, – увидел в нём портрет человека и даже посчитал, что это портрет скорее женский, чем мужской. Звукопись позволила его интуиции увидеть губы – бобэоби – толстыми, чувственными, глаза – вээоми – круглыми, брови – пиээоо – густыми, прямыми и т. п.
Конечно, дело не только в интуиции. Если бы Баевский не был хорошо осведомлён в поэтике Хлебникова, подобные умозаключения могли просто не сложиться. К тому же это, конечно, далеко не единственно возможная интерпретация стихотворения.
В XX веке широко распространился модернизм, целая новая область поэзии, ушедшая от традиционных поэтических приемов к сугубо индивидуальному видению и изображению мира. Наследие футуристов, например, даже для некоторых ценителей поэзии так и остается terra incognita. Но вступившие на эту землю её уже не покидают. Прочитайте стихотворение Б. Пастернака «Вокзал» и его интерпретацию в упомянутой выше книге В. Баевского (с. 263).
У проблемы восприятия художественной литературы есть ещё один аспект. Вл. И. Немирович-Данченко вспоминал, что однажды спросил у молодого Чехова, читал ли он «Преступление и наказание». Тот ответил отрицательно и, видимо, почувствовав недоумение собеседника, добавил: «Я берегу это удовольствие к сорока годам». Чехов, разумеется, понимал, что истинное произведение искусства воспринимается тем глубже и полнее, чем богаче жизненный опыт читателя. Но конец у этой истории неожиданный. Немирович-Данченко повторил свой вопрос, когда Чехову уже было за сорок: «Да, прочел, но большого впечатления не получил»79).
Сдержанность Чехова в оценках Достоевского общеизвестна. Можно вспомнить негативные суждения Льва Толстого о Шекспире, А. Ахматовой о Чехове, В. Набокова о Гончарове и др. Казалось бы, кому как не художнику по достоинству оценить труд собрата по искусству, однако так случается не всегда.
В XX веке развитие науки позволило осуществить давнюю мечту человека о замене износившихся внутренних органов. Но первые же опыты по вживлению нового сердца или почек поставили врачей перед проблемой отторжения. Сплошь и рядом, несмотря на блестяще проведённые операции, пациенты умирали: организм отказывался принимать замену.
Не аналогичная ли, но уже духовная несовместимость объясняет отдельные факты неприятия некоторыми искушенными читателями безусловно талантливых произведений? Симпатии и антипатии в отношении к художественным книгам – дело тонкое и деликатное. Здесь невозможно давление, недопустимо навязывание суждений, механическое заучивание и бездумное повторение готовых оценок. Несовместимость может быть постоянной, а может исчезать с годами. Многие школьники решительно не воспринимают «Мёртвые души», но в зрелом возрасте у некоторых из них отношение к поэме изменяется.
Есть у изящной словесности еще одно интересное и важное свойство. Каждое произведение заключает в себе несколько смысловых пластов. Раскрываются они перед читателем, как правило, не сразу. Выше говорилось о том, как воспринимался и оценивался пушкинский «Борис Годунов» в зависимости от возраста. Но дело не только в образовании, социальном положении, национальности, возрасте и т. п. Поступательный ход человеческой истории подчас открывает в слове то, что в момент создания просто не могло быть воспринято современниками по объективным причинам:
Так много новостей за 20 лет И в сфере звёзд, и в облике планет. На атомы Вселенная крошится, Все связи рвутся, всё в куски дробится, Основы расшатались, и сейчас Всё стало относительным для нас… —спросите школьника, студента, когда и кем написано это произведение. В 99 случаях из 100 вам скажут – в начале XX века. Мнения об авторе будут куда более разноречивы, хотя чаще других называют имя Валерия Брюсова. Но для многих будет откровением – автор стихотворения английский поэт Джон Донн (1572–1631).
Не может не удивлять, что за сто почти лет до космической эры слово «спутник» в его теперешнем смысле впервые употребил Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы»: «Что станется в пространстве с топором?» – переспрашивает чёрт у Ивана Федоровича. – «Если куда попадёт подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника…»80)
Топор для Достоевского был неслучайной деталью. Раскольников недаром убил старуху-процентщицу именно топором. Этот символ служил писателю в его противоборстве с теми, кто позвал Русь к топору. История рассудила этот спор. Но сегодня спутник-топор, висящий над планетой, приобрел новый неожиданный и зловещий смысл.
Изящная словесность предоставляет широкие возможности для работы воображения, для осуществления всей полноты эмоциональной жизни человека, для размышлений и предчувствий, для догадок и озарений. Реализация этих возможностей – непременное условие роста мастерства читателя, гарантия богатства и разнообразия читательских индивидуальностей. Одни услышат в аллитерации «под ветром кренились крылья красные костра» треск горящих сухих сучьев. Другие будут доказывать, что Татьяна Ларина темноволоса и причесана на прямой пробор с толстой косой за спиной, и удивятся, что Пушкин никаких портретных характеристик такого рода в романе не давал. Третьи пройдут с Андреем Болконским или Наташей Ростовой их духовный путь, пережив с ними радости и неудачи. Четвёртые, сострадая Григорию Мелехову, будут размышлять над его судьбой. Пятые предложат А.Т. Твардовскому свои варианты продолжения «Василия Теркина», а когда поэт от них откажется, напишут эти продолжения сами. Шестые предложат ставить памятники литературным героям. Седьмые дадут новый вариант истолкования художественного текста и назовут это современным прочтением. Восьмые… Но можно ли исчерпать неисчерпаемое? Ясно одно: не механическое воспроизведение заученного, а сотворчество – единственно возможный путь постижения художественного произведения. Пришло время четко сформулировать и поставить перед читателем задачу овладения искусством такого чтения, когда задействованы все необходимые механизмы – воображение, эмоции, интеллект, интуиция.
И забываю мир – и в сладкой тишине Я сладко усыплён моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться наконец свободным проявленьем — И тут ко мне идёт незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге…81) —,в этих стихах Пушкина, посвященных описанию творческого процесса поэта, великолепно воссоздано и состояние читателя в момент восприятия художественного произведения.
Fiction или non-fiction
В этих терминах сегодня обсуждается проблема вымысла в изящной словесности. Эти модные слова позволяют уточнить отдельные нюансы важной проблемы. Уточнить, но не решить, а иногда и запутать.
В одной из библиотек Москвы на читательской конференции «Великая Отечественная война и литература», посвящённой дню Победы, ветеран войны заявил в своем выступлении, что не станет читать «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана. Если ему нужно узнать, вспомнить события Отечественной войны, он возьмёт книгу маршала Г. К. Жукова или других участников сражения. Им он доверяет больше: писатель же выдумывает. Замечание о том, что у Гроссмана была совсем другая цель, – не восстановление исторических обстоятельств, а исследование души человека в экстремальных условиях, что писатель сам участник войны, – не поколебало его убеждённости: «Всё равно неправда!»
В рассказе И. Грековой «Без улыбок» повествователь делится своими наблюдениями: «С годами у меня постепенно пропал интерес ко всему сочинённому, зато обострился интерес к подлинному. Вместо романов меня провожают ко сну мемуары, дневники, письма, стенографические отчёты… Однажды я спросила об этом своего друга, Худого: “Послушайте, а с вами так не происходит, что всё меньше тянет на художественную литературу и всё больше – на документалистику?” – “Ого, ещё как!” – ответил Худой… – “А почему бы это?” – Худой подумал и сказал очень серьёзно: “Процент правды больше. Процент правды. Имение так”»82).
Писатель С.П. Залыгин высказался в аналогичном духе: «Нынче многие читатели – в том числе и наиболее квалифицированные – всё чаще и чаще предпочитают беллетристике мемуары, документы, исторические исследования»83).
Убеждение, что в художественном произведении в сравнении с документальным процент правды меньше, распространено достаточно широко. Между тем дело обстоит прямо противоположным образом. Противопоставление документальной и художественной литератур вообще некорректно: у них разные средства и цели.
А вот сопоставление поможет понять их природу. В создании художественного произведения всегда участвует вымысел, исключающий элемент случайности, возможный в реальной действительности и фиксируемый в документе. Следует без колебаний принять за аксиому утверждение М. Горького: «Художественность без “вымысла” невозможна, не существует»84), – и настойчиво разъяснять: художественный вымысел для писателя не безответственная выдумка (что хочу, то и нафантазирую). Художественный вымысел для него – инструмент познания действительности и воссоздания фактов, событий, лиц в таком их, может, и не бывшем в действительности виде и сочетаниях, но позволяющих проникнуть в смысл происшедшего, постичь явление или человека. Цель вымысла – организация художественного мира таким образом, чтобы он в наибольшей мере способствовал проникновению во внутренний мир персонажей, анализу их мыслей, чувств, поступков.
Нет, пожалуй, писателя, не засвидетельствовавшего в той или иной мере значение вымысла в своей творческой работе.
«Вымыслить – значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ…»83), – считал М. Горький.
«Никакой правды не бывает без выдумки, напротив! Выдумка спасает правду, для правды только и существует выдумка»86), – утверждал М. М. Пришвин.
«К слову “выдумка” (я обращаюсь к читателям), – говорил А.Н. Толстой, – не нужно относиться как к чему-нибудь мало серьёзному, например, так: это списано с жизни, значит – правда, а это выдумано, значит – “литература“»87).
Роль и значение художественного вымысла в творческом процессе интересно интерпретировал К. Г. Паустовский. Свою широко известную повесть «Кара-Бугаз» он начал письмом одного из первых исследователей Кара-Бугазского залива лейтенанта Жеребцова. Вскоре к нему обратились учёные с просьбой сообщить, в каком архиве ему удалось это письмо обнаружить. «Я испытал смешанное чувство смущения и испуганной гордости, – вспоминал Константин Георгиевич, – смущения потому, что письмо не хранится ни в одном архиве мира: от первой до последней строчки оно придумано. Горд же я был оттого, что мой вымысел оказался близким исторической правде».
Здесь же, как бы спеша предупредить возможность ошибочного вывода, Паустовский разъяснил:
«Но я не заблуждаюсь на этот счёт. Если бы я не прочитал множества документов той эпохи, не окунулся бы в неё с головой, мне ни за что не удалось бы добиться этого…
Воссоздание письма, которое могло быть написано человеком минувшей эпохи, точнее иногда достигает цели, чем подлинный исторический документ. Во-первых, герой пишет то письмо, которое нужно автору. Во-вторых, письмо свободно от случайностей, оно точнее отвечает авторскому замыслу, оно естественно и органично включается в повествование. То, что ученые приняли письмо лейтенанта Жеребцова за реальный исторический документ, убедило меня, что я шел верным путём»88).
Нужно специально подчеркнуть, что художественный вымысел редко бывает плодом случайного озарения, удачной находки, – он следствие, продукт большой целенаправленной подготовительной работы. «В Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне – почти всё, что мог найти в ленинской библиотеке, – рассказывал автор о работе над “Кара-Бугазом”. – Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржи-майло, историю Хивы и Бухары, докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина и стихи арабских поэтов»89).
Паустовским же раскрывается еще один любопытный аспект рассматриваемого вопроса. На жизненном пути автора «Кара-Бугаза» не раз встречались интересные люди, немало повидавшие и слышавшие, – моряки, геологи, инженеры. Многих из них он пытался приохотить к писательству. Но безуспешно. Подобно ветерану войны на упоминавшейся выше читательской конференции эти люди отказывались признать за литературой право на истину: «Большинство, – пишет Паустовский, – ссылается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство – это враньё. Они не подозревают, что факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением некоторых характерных черт, факт, освещённый слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол»90).
Художественный вымысел в литературном произведении не только не служит доказательством его неправдивости, а напротив – служит, в известной степени, гарантией достоверности. В произведениях искусства отбрасывается все второстепенное, случайное, наносное. Обнажается же, исследуется самая суть человека, события, факта, всё глубоко закономерное, характерное в их основных взаимосвязях, в их диалектике. Всё это без участия художественного вымысла просто не представляется возможным.
Искусство вымысла – важный компонент мастерства писателя. Говорить о природе и своеобразии его художественного таланта – значит говорить и о характере его художественного вымысла, о мере его участия в творческом процессе. Именно в вымысле полнее всего реализует себя интуиция художника. Игнорирование роли художественного вымысла в работе писателя – прямой путь к примитивному, однобокому подходу к оценке произведения, к непониманию специфики литературы как вида искусства, к неумению и нежеланию её читать. Что же касается документа, то в наши дни научились безукоризненно фальсифицировать даже денежные знаки.
Правда и… правда
В.Г. Белинским высказана мысль, которую сегодня необходимо напомнить и преподавателю, и учащемуся: «Поэзия есть выражение жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: в поэзии жизнь более является жизнью, нежели в самой действительности»91).
Как это – «более»? Частично, видимо, за счет творческого воображения читателя, раскрывающего эмоциональные и смысловые богатства, таящиеся в художественном произведении. Известны случаи, когда реципиент открывал в слове то, что было скрыто от самого художника. Но главным образом благодаря интуиции! Именно она вкупе с воображением безгранично расширяет образные и содержательные Пределы текста, обеспечивая и прорывы в неведомое, в том числе – в несуществующее и несуществовавшее.
Задолго до А.С. Пушкина писателей почитали за ясновидцев. Великий поэт прямо назвал одно из своих стихотворений о поэтическом творчестве – «Пророк».
Ф.М. Достоевскому принадлежит потрясающее предвидение, – увы! – реализовавшееся в XX веке, – о человеке, которому «всё позволено».
Е.И. Замятин в 1920 году, ещё до возникновения тоталитаризма, описал основные его черты в романе «Мы», угадав даже подробности.
Но интуиция – компонент не только писательского искусства. Читатель без нее тоже немыслим. Что, однако, дает ему интуиция?
Как разноцветные стеклышки в детском калейдоскопе способны создать при вращении бесчисленное множество разнообразных фигур, так и слово в художественном контексте неисчерпаемо в своих смысловых, эмоциональных, живописных и иных значениях. Главной силой, «вращающей» этот словесный калейдоскоп, и выступает интуиция. Художественные открытия совершаются благодаря прозрениям не только писателями, но, по их следам, и читателями.
В статье «Лучше поздно, чем никогда» И.А. Гончаров писал: «… художественная правда и правда действительности – не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение искусства, теряет истинность действительности и не станет художественной правдой. Поставьте рядом два-три факта из жизни, как они случились, выйдет неверно, даже неправдоподобно.
Отчего же это? Именно оттого, что художник пишет не прямо с природы и жизни, а создает правдоподобия их. В этом и заключается процесс творчества»92).
Зададимся вопросом, на каком основании художественные произведения, эти «пересоздания действительности», могут и должны пользоваться неограниченным доверием читателя?
Интересно сформулировал свои впечатления от одной из картин на художественной выставке Ф.М. Достоевский: «…г. Якоби, ученик Академии, употребил все свои силы, всё старание, чтобы правильно, верно, точно передать действительность. Это весьма полезное, необходимое старание и весьма похвальное для ученика Академии. Но это покамест еще только механическая сторона искусства, его азбука и орфография. Конечно, и тем и другим надо овладеть совершенно, прежде нежели приступить к художественному творчеству. Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительности, чтобы потом подняться на высоту правды художественной»я:5).
Читателю важно знать о существовании «правды действительности» и «правды художественной» и различать их. Ибо если в книге только «правда действительности», то это помимо прочего – правда автора, достоверно воссоздавшего характер, интерьер, пейзаж и другие реалии места и времени действия. Это писатель видит мир таким и приглашает читателя встать на его точку зрения. «Правда художественная» – правда истории, высшая правда, истина, которая стоит над личными пристрастиями кого бы то ни было, правда общечеловеческая. Здесь также пролегает граница между беллетристикой, где преобладает «правда действительности», и изящной словесностью, где главное – «правда художественная».
В рассказе «Полотенце с петухом» из цикла «Записки юного врача» М. А. Булгакова описывается эпизод из жизни начинающего сельского лекаря. В операционную привозят девушку редкостной красоты, пострадавшую при уборке льна, – она попала в мялку: «Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломана в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу…»
Пластичность, достоверность описаний просто потрясают: «На операционном столе, на белой свежепахнущей клеенке я её увидел…
Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета – пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет “молнии“ показался мне желтым и живым, а её лицо бумажным, белым, нос заострён».
Столь же убедительно и ярко обрисованы нравственные терзания «юного эскулапа»: «…сейчас мне придется в первый раз в жизни делать ампутацию. И человек этот умрёт под ножом. Ведь у неё нет крови! За десять верст вытекло всё через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает?»94) Но единственно возможное для человека и врача гуманное решение было принято, и чудо случилось – пациентка осталась жива.
Восхищаясь изобразительным даром писателя, нельзя не отдать должного его таланту рельефно воссоздавать реалии жизни, «правду действительности». И все же подготовленный читатель не может не ощущать, что этим произведение не исчерпывается. Его интуиция должна подсказать ему и подсказывает, что всё описанное имеет и ещё какой-то смысл. В чём же «художественная правда» этого талантливого рассказа?
Размышляя над прочитанным, трудно не обратить внимания, на настойчиво повторяющиеся детали: постепенно открывается целая система метафор и символов. Петух является читателю сначала в названии рассказа. Затем после утомительного путешествия герой прибывает к месту службы: «Эй, кто тут? Эй? – закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. – Эй, доктора привёз!»
Озябнув и проголодавшись, приехавший отдает подчинённым распоряжения, в результате которых и возникает перед ним ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. В четвёртый раз петух обнаруживается в конце рассказа, когда спасённая девушка решила отблагодарить своего спасителя: «…она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом».
Дело за читателем! Какие ассоциации могут возникнуть у него? Какие образы всплывут в памяти? Жареный петух еще не клевал… красного петуха подпустить… пока петух не прокричал… или что-нибудь подобное. Привлекает внимание символика цвета. В рассказе постоянно рядом белый и красный – два главных цвета того времени, времени революции и Гражданской войны.
В отличие от «правды действительной», предстающей в конкретных, осязаемых образах, которые воплощаются главным образом в слове автора, «правда художественная» может обойтись с помощью интуиции и без такого словесного оформления. Читатель совершенно свободен в своих реминисценциях и ассоциациях, выходя за рамки описанного и домысливая взволновавшие его картины и образы, как позволит ему уровень его эстетического развития.
Слово пробуждает и питает интуицию, но оно не направляет и не ограничивает ее. В образе девушки «редкостной красоты», пострадавшей на уборке льна, кто-то увидит Россию, изуродованную мялкой – войной и революцией… Задуматься: кто спасёт её? Как?
Кому-то такое толкование покажется неубедительным, произвольным. Взамен может быть предложен другой вариант – пробуждение в молодом человеке гуманистического сознания, становление гражданина, специалиста-врача и т. п.
Художественная правда не столько понимается, сколько ощущается, чувствуется, и адресована она не столько уму, сколько душе, если, конечно, позволительно, хотя бы в абстракциях, отделять их друг от друга. А уж к чему душа читательская приуготовлена – вопрос иной. Одно важно – не подсовывать ей готовых решений, освобождая от необходимой и благотворной работы. Художественное слово редко преподносит готовую истину. Оно помогает в поиске её, способствуя движению Личности к идеалу.
Понимание того факта, что в каждом подлинном произведений искусства могут обнаруживаться и различаться «правда действительная» и «правда художественная», обогащает восприятие читателя, позволяя ему увидеть и глубину, и многозначность, и многоцветность описанного. Необходимость искать в тексте подтверждение своим догадкам активизирует читательское мастерство, поможет установить и осмыслить непростые связи между словом, образом и интуицией.
Во многих учебниках и учебных пособиях читателя ориентировали в недавнем прошлом главным образом на оценку художественного произведения с точки зрения совпадения или несовпадения в нём описанного с реально происшедшим: «Она была рождена, – говорилось в недавнем учебнике для десятого класса о “Поднятой целине”, – жизнью великой эпохи и вошла в историю литературы как правдивая летопись времени великого перелома»95). Нельзя при этом не заметить, что в свете сегодняшних знаний о коллективизации навязанное писателю определение романа как «правдивой летописи» событий звучит двусмысленно. Но писатель не фактограф, он художник, а в результате подобного подхода художественное произведение утрачивает свою специфику, роман перестает быть романом и рассыпается на цепь словесных иллюстраций к истории коллективизации.
Соотношение факта и вымысла выступает одной из составляющих при характеристике творческой индивидуальности писателя. Ограничиваться указанием на соответствие описанного реальному – значит игнорировать эту индивидуальность, разрушать художественную структуру, сводить деятельность писателя исключительно к воссозданию «правды действительной», а не к стремлению к высшему в искусстве – к познанию «правды художественной».
Отчего же сплошь и рядом даже сегодня наблюдаются подобные подходы? Ответ прост: так легче. Почитайте стандартные школьные сочинения: шаблон един и вырубают по нему штампы из Пушкина, из Чехова, из Шолохова. Какая разница? Все они за народ, все боролись против царя, помещиков, кулаков, фашистов и других врагов народа, все были передовыми людьми, гуманистами и т. п.
Но смысл общения с искусством как раз в том и заключается, чтобы почувствовать, осознать, измерить неповторимость художественного мира писателя, понять его правду о человеке, пройти с его героями отмеренный им жизненный путь, сострадая, негодуя, отвергая и принимая.
В «Поднятой целине» угадываются прототипы, местность, точны временные координаты. Вымысел здесь фильтрует, корректирует, дополняет действительность. Но возможны и другие принципы создания художественного мира в реалистическом произведении. Один из них использован в рассказе Карела Чапека «Поэт». В нем описывается заурядное происшествие. Рано утром бешено мчавшийся автомобиль сбил на мостовой пьяную нищенку. Полицейский чиновник Мейзлик допросил немногочисленных свидетелей с целью установить виновника несчастья – безрезультатно. Как вдруг один из них – поэт Нерад – вспомнил, что, придя домой, описал случившееся в стихах:
Дома в строю темнели сквозь ажур. Рассвет уже играл на мандолине. Краснела дева. В дальний Сингапур Вы уносились в гоночной машине. Повержен в пыль надломленный тюльпан. Умолкла страсть. Безволие… Забвенье. О шея лебедя! О грудь! О барабан И эти палочки — Трагедии знаменье!Чиновник озадачен, но выхода у него нет и он просит поэта растолковать, что всё это значит:
– «Дома в строю темнели сквозь ажур»… Почему в строю?
Объясните-ка это?
– Житная улица, – безмятежно сказал поэт. – Два ряда домов. Понимаете?
– А почему это не обозначает Национальный проспект? – скептически осведомился Мейзлик.
– Потому что Национальный проспект не такой прямой, – последовал уверенный ответ.
– Так, дальше: «Рассвет уже играл на мандолине…» Допустим. «Краснела дева…» Извиняюсь, откуда же здесь дева?
– Заря, – лаконично пояснил поэт.
– Ах, прошу прощения. «В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине»?
– Так, видимо был воспринят мной тот автомобиль, – объяснил поэт.
– Он был гоночный?
– Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался. Словно спешил на край света.
– Ага, так. В Сингапур, например? Но почему именно в Сингапур, Боже мой?
Поэт пожал плечами.
– Не знаю, может быть, потому что там живут малайцы?
– А какое отношение имеют к этому малайцы? А?
Поэт замялся.
– Вероятно, машина была коричневого цвета, – задумчиво произнес он. – Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда бы взялся Сингапур?..
– «Повержен в пыль надломленный тюльпан», – читал далее Мейзлик. – «Поверженный тюльпан» – это, стало быть, пьяная побирушка?
– Не мог же я о ней так написать? – с досадой сказал поэт. – Это была женщина, вот и всё. Понятно?
– Ага! А это что: «О шея лебедя, о грудь, о барабан!» Свободные ассоциации?
– Покажите, – сказал наклоняясь поэт. – Гм… «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки…» Что бы всё это значило?
– Вот и я тоже самое спрашиваю, – не без язвительности заметил полицейский чиновник.
– Постойте, – размышлял Нерад. – Что-нибудь подсказало мне эти образы… Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните?
И он написал карандашом 2.
– Ага! – уже не без интереса воскликнул Мейзлик. – Ну, а это: «грудь»?
– Да ведь это цифра три, она состоит из двух округлостей, не так ли?
– Остаются барабан и палочки! – взволнованно воскликнул полицейский чиновник.
– Барабан и палочки… – размышлял Нерад. – Барабан и палочки… Наверное, это пятерка, а? Смотрите, – он написал цифру 5. – Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки.
– Так, – сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. – Вы уверены, что номер авто был двести тридцать пять?
– Номер? Я не заметил никакого номера, – решительно возразил Нерад. – Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал…96)
Проверка подтвердила, что у разыскиваемого автомобиля номер был действительно 235.
Поэт видит и изображает факты совсем не так, как полицейский, но не искажая, не деформируя их при этом. Его зоркая специфическая наблюдательность и ассоциативное мышление позволяют обнаружить скрытое от обычного взгляда. И главное – у него другая цель! Его как художника в увиденном эпизоде потрясла незащищённость человеческой жизни, её зависимость от случайности, зыбкость границы, отделяющей её от смерти.
Вот этот прорыв к высшим – духовным, нравственным – проблемам человеческого существования, через воссозданные в произведении каждодневные события и факты, из которых оно, это существование, состоит, – важная особенность именно художественного творчества. Можно ли не учитывать этого, формируя критерии правды в искусстве?
Читатель художественного произведения должен быть готов к тому, что действительность может предстать перед ним «зашифрованной» самым неожиданным образом. Писатели рассчитывают на его фантазию, на его понимание. Ни приключения носа майора Ковалева, ни говорящая птичка и скатерть-самобранка, кормилица семи мужиков из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», ни компания Воланда с её проделками не должны мешать восприятию и правильной оценке этих произведений. Искать в художественном творчестве буквального совпадения описанного и реальности не следует. Оно может быть, а может и не быть. Но дело совсем не в этом. Критерием правды или неправды подобные совпадения или несовпадения никак выступать не могут. Надо уважать право писателей видеть и изображать мир по-своему, ценить их талант со всеми его особенностями. И в первую очередь это касается писателей-модернистов.
«Правда художественная», вспомним И.А. Гончарова и Ф.М. Достоевского, неизмеримо выше факта, а главное – гораздо нужнее. В маленькой трагедии А.С. Пушкина Моцарт утверждает: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». А есть ли злодейство ужаснее лжи? Со лжи начинается любое преступление, большое или маленькое. Да и сама она – тяжкое преступление. В подлинно художественном произведении лжи не бывает! Никогда!
«Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать, – говорил А,П. Чехов. – Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого Господа Бога – были и такие случаи, но в искусстве обмануть нельзя»97).
Решителен и категоричен был в этом случае Л.Н. Толстой: «В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает её гадостью, но под ней всё-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, а от чего-нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком всё рассыпается»98).
Классикам вторит Ю. Домбровский: «Совесть – орудие производства писателя. Нет у него этого орудия – и ничего у него нет. Вся художественная ткань крошится и сыплется при первом прикосновении»99).
Все это действительно так: история литературы знает немало печальных примеров, когда самый талант отказывался служить писателям, известнейшим писателям, решившим «подзаработать» на конъюнктуре. Вот почему не свидетельствам очевидцев, не документам, а художественному произведению должно верить без оглядки, до конца, и это одна из причин бессмертия подлинно художественных творений.
Шекспир и Сервантес, Мольер и Гёте, Пушкин и Толстой, Бунин и Булгаков покоряют нас глубиной и красотой своего творчества. Истинность сказанного ими о человеке и мире обеспечена художественным талантом и проверена самым надежным и бескорыстным судьёй – временем. Они всегда были, есть и будут самыми верными, надёжными друзьями и советчиками читателя: «Я твёрдо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира.
Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение – вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, “Порубка” Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская “Дама с собачкой“. Никогда не умрёт ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слёзы Наташи Ростовой над телом умершего князя Андрея.
Потомки будут взволнованны этим так же, как сейчас взволнованны мы. И где-то, когда-то лёгкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас»100).
Убеждённости, веры в истинность, в глубокую правдивость художественного слова не могут, не должны поколебать известные факты деляческого отношения к литературе, попытки конъюнктурного её использования. Об одном из таких случаев выразительно сказано в книге Р. Гамзатова «Мой Дагестан».
В том самом году, когда «вдруг заговорили о том, что стране нужны Гоголи и Щедрины», его знакомый литератор написал книгу сатирических стихотворений, «обрушив свою сатиру на клеветников, подхалимов, тунеядцев, на многоженцев и на другие отрицательные явления положительной в целом советской действительности». Но книга была отвергнута критикой и породила неудовольствие начальства. Автору предложили покаяться в клевете и делом доказать, что он исправился: «Моему приятелю было все равно, что делать. Критиковать так критиковать, исправляться так исправляться. Он засел за работу и написал поэму “Трудолюбивая Маржанат“. Героиня поэмы, передовая девушка, активистка, мигом сделала передовым весь колхоз, перевыполнила все планы и даже в конце концов заняла первое место в самодеятельности, спев песню собственного сочинения. Поэму немедленно напечатали в журнале, а также издали отдельной книгой. Но время немного переменилось. И вдруг те же самые газеты, которые называли сатирика клеветником и очернителем, заявили, что он самый настоящий лакировщик»100).
Конъюнктурщику у Р. Гамзатова не повезло. Но кто не знает, что в жизни бывало и по-другому. Да только это ничего не доказывает, ибо к изящной словесности всякого рода поделки не имеют отношения и скомпрометировать в глазах понимающего человека они её не в состоянии.
Голоса: автор, повествователь, персонажи
Музыкальная мелодия звучит в исполнении одного инструмента, скажем, флейты. И она же – в исполнении большого симфонического оркестра. Партии отдельных инструментов в оркестре вроде бы и не напоминают об этой мелодии. Но все вместе – сомнений нет – они воспроизводят именно её – богатством мыслей и чувств, в бесконечном разнообразии оттенков, нюансов, её, знакомую мелодию.
В произведении художественной литературы записаны партии многих инструментов. Сколько из них услышит читатель, – зависит от него самого. Для одного прозвучит тонкая фабульная мелодия: он воспримет и оценит пространственно-временные координаты описанных событий и людей. Другой заставит звучать ещё один инструмент и обнаружатся сюжетные причинно-следственные «сцепления», третий услышит мелодию жанра, четвертый – языка и стиля, пятый оценит архитектонику, шестой…
Но что нужно сделать, чтобы читатель услышал сразу звучание многих инструментов оркестра, смог насладиться им, осмыслить и оценить все компоненты художественного произведения одновременно? И главное – чтобы он смог различать голос-позицию автора, повествователя и голоса действующих лиц?
Как правило, мастерство читателя растет параллельно росту общей культуры человека. Справедливо, впрочем, и обратное суждение – общая культура человека находится в прямой зависимости от его читательского мастерства. Существуют, однако, свойства художественной литературы, знание которых облегчает продвижение к цели.
Ученик отвечает урок: «В пьесе “На дне“ М. Горький утверждал: “Человек! Это – звучит гордо”». Учитель поправляет: «Вы процитировали слова Сатина». Ученик: «А не все ли равно? Сатина-то создал Горький!» Такой или похожий диалог – не редкость, за ним стоит серьезная проблема, проблема автора.
Истинное понимание того, что в литературе есть художественность, начинается с осознания факта, что изображение действительности в ней дается, как правило, опосредованное. Даже там, где повествование ведется от первого лица, полностью идентифицировать это лицо с личностью самого писателя не следует, хотя бы даже оно носило его фамилию, имя, отчество, а в произведении описывался эпизод из его жизни.
В рассказе Б.Ш. Окуджавы «Искусство кройки и житья» главный персонаж, от имени которого и ведется повествование, сельский учитель Булат Шалвович сообщает о неудачной попытке приобрести кожаное (а дело было в первые послевоенные годы) пальто. Помочь ему взялся приятель, сельский бригадир Сысоев. Писателю удалось создать интересный образ человека, подверженного странным перепадам в настроении и поведении. Само время, кажется, глядит на нас со страниц рассказа. Писатель принял на себя функции повествователя. Очевидно, что это продиктовано определенными художественными целями. Фигуры, подобные Сысоеву, до самого последнего времени в литературе не встречались, и присутствие Булата Шалвовича в качестве действующего лица и повествователя должно было, видимо, специально подчеркнуть достоверность описанного.
Чаще же всего повествование ведется от лица кого-то из персонажей – одного или нескольких, – вполне независимых от автора. Иногда от специально введённой фигуры повествователя, иногда от не имеющего никаких анкетных данных, вообще без видимых глазу примет того, кто всё это рассказывает.
Развертывая панораму событий, исследуя характер и судьбу персонажей произведения, писатель рассчитывает на читательское внимание. Ему важно, чтобы читатель различал, кто именно произнёс-написал те или иные слова в тексте: от этого в решающей мере зависят оценки описанного, расставляются акценты, определяются масштабы и перспективы. Тем самым устанавливается один из главных объектов анализа в тексте художественного произведения, ныне подчас игнорируемый.
Крупнейшие филологи М. Бахтин и В. Виноградов, известные литературоведы С. Бочаров, Л. Гинзбург, Б. Корман, А. Чудаков и другие много и плодотворно поработали над проблемой автора. Здесь нет необходимости хотя бы конспективно излагать или напоминать основные положения их трудов. Важно знать главное: проблема автора – одна из ключевых на пути к пониманию специфики изящной словесности как вида искусства, без её глубокого понимания искусство читать останется недоступным.
Обратимся к относительно недавней истории этого вопроса в русской литературе.
Первый же роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди» (1845 г.) принес ему всеобщее признание. Среди читателей, восхищавшихся новым талантом, были люди, обладавшие бесспорным художественным вкусом, аналитическим умом и широким кругозором, – В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов и Д.В. Григорович.
В лице Достоевского приветствовали достойного продолжателя дела автора «Мёртвых душ» и «Ревизора». «Новый Гоголь явился!» – ликовал Некрасов. Действительно – тематическое, духовное, художественное родство «Бедных людей» с лучшими произведениями натуральной школы было несомненным. Макар Девушкин продолжил галерею персонажей русской литературы, начатую Самсоном Выриным и Акакием Акакиевичем Башмачкиным. Позднее, впрочем, выяснилось, что Достоевский не простой продолжатель Гоголя. Его творчество обнаружило новое качество русского реализма. Отдельные элементы этого нового наблюдались уже в «Бедных людях». Именно они и объясняют звучание в общем хоре восторженных – в адрес нового Гоголя! – похвал недоуменных и настороженных ноток.
Молодой самолюбивый автор, явно раздражённый тем, что нашлись скептики, пожелавшие омрачить его торжество, в письме к брату осенью 1846 года точно выявил суть и причину этих недоумений; «Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может»102).
Достоевский был совершенно прав. Русский читатель тех лет действительно привык, а точнее сказать – был приучен, – к тому, что авторская позиция по отношению к описываемому обычно не вызывала у него никаких сомнений, ибо, как правило, декларировалась совершенно открыто. Один из персонажей представлял alter ego автора, и читателю все было ясно. В XVIII веке это иногда делали прямолинейно, наивно. Герой получал фамилию Правдин, и отношение к нему не вызывало сомнений.
А.С. Пушкин был рад заметить разность между Онегиным и собой, но все же признавался: «Мне нравились его черты…» Не было для читателя секретом ироническое отношение Пушкина к Ленскому и сердечное к Татьяне.
М.Ю. Лермонтов хотя и предупреждал о том, что «во всей книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь», ссылаясь на молодость и простодушие читающей публики, именно в предисловии разъяснил и характер Печорина, и свое отношение к герою времени.
Н.В. Гоголь, будто не доверяя своему типизирующему дару, в конце чуть ли не каждой главы «Мёртвых душ» заботился о том, чтобы его правильно поняли: «Иной и почтенный и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка».
И.С. Тургенев обращался к тому, кто заинтересовался его «Записками охотника»: «Дайте руку, любезный читатель, и пройдёмте со мной!»
Такая позиция классиков вовсе не признак какой-то ограниченности, недостатка мастерства. Позиция же Достоевского не лучше и не хуже позиции Пушкина (в «Евгении Онегине») и Гоголя, Лермонтова и Тургенева, Герцена и Гончарова, – она просто другая. Она соответствует его мировосприятию, природе его художественного таланта. Особенности реализма Достоевского вызваны к жизни не только своеобразием его личности и дарования, они были выражением определённых общественных потребностей.
В эпоху, когда Россия представляла собой феодально-крепостническое государство со сложившимися десятилетиями общественными отношениями, государство, в котором практически дремали научная и техническая мысль, когда, как писал
В.Г. Белинский, «в одной только литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть ещё жизнь и движение вперёд», когда публика «видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности»103), такой способ изображения действительности, такая авторская позиция, какие использовали писатели-реалисты 1-й половины XIX века, был глубоко оправдан и закономерен.
Совсем иное дело пореформенная эпоха. Это было время бурного развития общества, стремительного прогресса науки и техники, время, когда «всё переворотилось и только укладывается» (Л. Толстой). Перед русской литературой возникли принципиально новые задачи. Здесь нет необходимости говорить о сложном комплексе проблем духовного и художественного плана, вставшем перед русскими писателями. Речь идет лишь об одном, хоть и важном, но частном вопросе.
Русская литература ощущала настоятельную потребность в новых подходах, новых способах исследования и изображения жизни, русский реализм искал пути освоения новой, быстро меняющейся действительности. «…Что делать, однако ж, – спрашивал Достоевский, – писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и…ошибаться»104).
Эти новые потребности общества и литературы почувствовал и выразил Н.Г. Чернышевский. В предисловии к неоконченному роману «Перл создания» он утверждал: «Написать роман без любви – без всякого женского лица – это вещь очень трудная. Но у меня была потребность испытать свои силы над делом, еще более трудным: написать роман чисто объективный, в котором не было бы никакого следа не только моих личных отношений – даже никакого следа моих личных симпатий. В русской литературе нет ни одного такого романа. “Онегин”, “Герой нашего времени” – вещи прямо субъективные; в “Мёртвых душах“ нет личного портрета автора или портретов его знакомых, но тоже внесены личные симпатии автора, в них-то и сила впечатления, производимого этим романом. Мне казалось, что для меня, человека сильных и твёрдых убеждений, труднее всего написать так, как писал Шекспир: он изображает людей и жизнь, не выказывая, как он сам думает о вопросах, которые решаются его действующими лицами в таком смысле, как угодно кому из них. Отелло говорит “да”, Яго говорит “нет” – Шекспир молчит, ему нет охоты выказывать свою любовь или нелюбовь к “да” или “нет”. Понятно я говорю о манере, а не о силе таланта… Ищите, кому я сочувствую… Вы не найдёте этого»105).
Эту мечту-замысел Чернышевского об объективном романе осуществил Достоевский. Ему удалось написать книги, в которых не показана «рожа сочинителя». Спустя полвека после его смерти, характеризуя эту особенность реализма писателя, её определили как многоголосие. Уместнее, впрочем, было бы сказать – многоравноголосие. Позднее родилось известное определение М.М. Бахтина, назвавшего романы Ф.М. Достоевского полифоническими. Суть же была одна: исчез голос автора-демиурга, правящего суд и расправу, выдающего окончательные оценки, расставляющего все по своим местам так, как это ему представляется справедливым.
Не сразу и не всеми манера писателя была воспринята правильно. Читатели, привыкшие искать в книгах alter ego того, чья фамилия стоит на обложке, нередко заблуждались. Не раз в сознании некоторых из них мрачный образ повествователя в «Записках из подполья», например, отождествлялся с обликом самого Достоевского. В течение многих лет ему приписывались аморальные намерения и действия его героев. Критик Н. Страхов, в частности, предполагал, что мысли и поступки Ставрогина из «Бесов», включая изнасилование малолетней, – это мысли и поступки самого Достоевского. Вдове писателя понадобилось приложить немало усилий, чтобы опровергнуть клевету.
Кому из четырех братьев Карамазовых отданы симпатии Достоевского? Как будто бы сомнений нет – Алеше. Об этом открыто заявлено в маленькой вводной главке к роману «От автора». Но ведь кто автор? «Братья Карамазовы» написаны не от лица Достоевского, а от лица скотопригоньевского мещанина, соседа Карамазовых.
Отказываясь повествовать от своего имени, давая понять читателю, что тот видит в его книгах объективное течение самой жизни, адекватное действительности, Достоевский как бы призывает его верить описанному, отбросив всякие сомнения насчет авторского произвола. И писатель достигает своей цели. Его книги производят колоссальное впечатление прежде всего картинами неотвратимого и всесторонне мотивированного развития в них жизненного процесса. Но конечно же, никто и никогда вполне не поверил Достоевскому, что он лишь снимает с мира движущиеся копии, а не создает, не творит великие, художественные произведения. Это противоречило бы центральной задаче, которую поставил перед собой писатель: «При полном реализме найти в человеке человека…»
Объективный полифонический характер реализма Достоевского не расходится с представлениями о тенденциозности литературы, потому что писатель может утверждать истину, открыто, от первого лица заявляя о своих симпатиях: «Я так люблю / Татьяну милую мою», но писатель может утверждать истину и устами персонажа, не произнося слова «я», будь то «я» его собственное или «я» героя, что не мешает нам ощущать его позицию, видеть его ценности и в отборе жизненных фактов, и в их освещении.
Приоритет в использовании такого способа повествования, когда «рожа сочинителя» не показывается, принадлежит, однако, не Достоевскому. За 15 лет до «Бедных людей» читателю были предложены «Повести Белкина». Издатель этих повестей, укрывшись за инициалами А.П., разыграл целый спектакль. Ему будто бы доставили повести некоего И.П. Белкина. Никто из родственников Ивана Петровича ничего о нём толком сообщить не смог. Тогда издатель был вынужден обратиться к соседу Белкина по имению – помещику Р., и только тот в гениальном письме полно охарактеризовал своего друга.
Выясняется, что собственно сам Белкин повестей не сочинял. Он их лишь записал со слов разных людей. «Станционный смотритель», например, был рассказан Ивану Петровичу титулярным советником А. Г. Н.
Если не знать, для чего был разыгран весь этот спектакль, зачем Пушкин «отгородился» от читателя двумя фигурами и определённым образом оценил Белкина, почему рассказчикам дан тот или иной социальный статус и т. п., если не знать всего этого, легко ошибиться в определении цели и смысла произведения. В советской школе можно было часто слышать, что в «Станционном смотрителе» Пушкин защищает бедных (смотрителя и его дочь) и осуждает богатых (Минского, который увез Дуню). Трудно представить себе более грубое искажение мысли писателя. Причина ясна: всё произведение воспринимается как монолог одного лица. Читатель-школьник не улавливает момента смены повествователей, а ведь «кто говорит» важно ничуть не менее, чем «что говорит». Хотя в «Повестях Белкина» и нет ничего сочинённого Иваном Петровичем, Достоевский прав совершенно: «В “Повестях Белкина” важнее всего сам Белкин». Но почему? Без ответа на все эти «зачем?» и «почему?» понять произведение художественной литературы невозможно. И если бы дело было только в нерадивых школьниках! Но ведь уже полтора столетия длятся недоразумения, которым не видно конца и которые имеют серьёзные последствия.
«Старый гетман, предвидя неудачу, наедине с наперсником бранит в моей поэме молодого Карла и называет его, помнится, мальчишкой и сумасбродом: критики важно укоряли меня в неосновательном мнении о шведском короле… Как отвечать на такие критики?» – сетовал Пушкин106).
Непонимание постоянно преследовало А.П. Чехова. Когда в 1889 году вышла «Скучная история», судьба её героя – профессора-медика Николая Степановича – привлекла всеобщее внимание и вызвала многочисленные толки. Писатель реагировал на некоторые из них с оправданными досадой и раздражением: «Если Вам подают кофе, то не старайтесь искать в нем пива. Если я преподношу Вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей»107).
Сражался с подобного рода «истолкованиями» В.В. Маяковский: «…мои язвительные слова относительно Лермонтова – о том, что у него “целые хоры небесных светил и ни слова об электрификации”, изрекаемые в стихе глупым критиком, – писавший отчёт в “Красной газете” о вечерах Маяковского приписывает мне, как моё собственное недотёпистое мнение. Привожу это как образец вреда персонификации поэтических произведений»,08).
Возможно, по-другому сложилась бы судьба М.М. Зощенко, если в свое время ему не приписали бы «грехи» его персонажей. Категоричен был А. П. Платонов: «Смешивать меня с моими сочинениями – явное помешательство. Истинного себя я еще никогда и никому не показывал и едва ли когда покажу»109).
В 1965 году в «Новом мире» впервые было опубликовано произведение М.А. Булгакова. Редакция журнала дала ему название «Театральный роман», хотя в рукописи оно было лишь одним в ряду других, и неизвестно, какое выбрал бы писатель, доведись ему самому готовить книгу к изданию, тем более что вариантов было много. Наиболее удачным, на мой взгляд, мог быть заголовок «Записки покойника». В первых же строках романа открыто заявлено: «Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.
Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весною прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо. В бандероли оказались эти записки…»110).
Однако несмотря на предупреждение, многие читатели и критики по традиции, по привычке идентифицировали автора этих записок драматурга Максудова, от имени которого ведется повествование, и писателя Булгакова. В результате возникло убеждение, что в «Театральном романе» писатель «рассчитался» с МХАТом (благо прототипы персонажей ни у кого не вызывали сомнений) за многочисленные обиды и непонимание, для чего, собственно, и был написан роман. Такое умозаключение обедняет смысл сочинения, сводя его всего-навсего ко внутрилитературным и внутритеатральным интригам. На самом же деле «Театральный роман» – книга широкого общественного звучания, одна из первых, в которых литература приступила к исследованию феномена авторитарного сознания, возникавшего в стране на рубеже 20—30-х годов и приведшего в конечном счете к торжеству тоталитаризма. Её главная мысль – о несовместимости творчества с монопольным правом на истину кого бы то ни было – не утратила своей актуальности.
В современной русской литературе хорошо известен оригинальный мастер – Анатолий Ким. В романе-сказке «Белка» он пользуется сложными предложениями, где авторство главных и придаточных принадлежит разным лицам: «Мы сняли комнатку в доме на 2-й Мещанской улице, вернее, это я сняла комнату, поступила работать в экскурсионное бюро, а я время от времени навещал её по вечерам… Но я снова была счастлива, потому что Митя больше не чуждался меня, привыкал к новым отношениям и стал меньше стесняться наших совместных появлений где бы то ни было – в кино, в столовой, – я шёл с нею по улице рядом, а не плелся сзади, как раньше…»111) Обратил ли кто-нибудь на это внимание?
Без ясного представления об авторстве любой, даже самой маленькой единицы художественного текста, не говоря уже о предложении или абзаце, нечего и претендовать на сколько-нибудь глубокое прочтение произведения. Искусство точной атрибуции текста, искусство различать «рожу сочинителя», хотя бы он тому и противился – прятался или маскировался, – важные компоненты читательского мастерства. Игнорирование их приводит к печальным последствиям, самое тяжкое из которых – непонимание природы и особенностей функционирования изящной словесности с естественным и неизбежным результатом – падением интереса к чтению, к книге.
Жанры изящной словесности
Проблеме жанра в художественной литературе посвящены бесчисленные исследования, потому что для учёного жанр в литературоведении – категория ключевая. Для читателя, на первый взгляд, жанр – понятие абстрактное, умозрительное. Ему важно, чтобы читать было интересно, для него все жанры хороши, кроме скучного. А будет ли прочитанное социальным романом или психологической новеллой – вопрос вроде бы второстепенный. Но так думать и рассуждать может лишь не слишком искушённый читатель.
По мере роста читательского мастерства всё яснее, очевиднее становится связь менаду содержанием и формой литературного произведения. И приходит время, когда жанр выступает той единственно возможной формой, в которой только и могло быть изложено данное содержание. Определение жанра перестает быть простым наклеиванием этикеток и превращается в творческую задачу первостепенной важности. Творческую потому, что для читателя ограничиваться расхожей формулой общего плана – социально-психологический роман, например, – невозможно. Он знает, должен знать, что создание нового, подлинно художественного произведения – это всегда и создание нового жанра.
Здесь надо оговориться: в литературоведении понятие жанра фактически безразмерно. Им обозначают и род литературы (жанр эпоса, лирики, драмы), и вид (жанры романа, элегии, комедии и т. п.), и собственно жанр (социальный, философский и т. п.). Наконец, слово жанр обозначает и то, что важно читателю в первую очередь, над чем работает его творческое воображение, а именно – неповторимую индивидуальную форму изложения конкретного мастера. Роман Достоевского или поэма Твардовского – это ведь и жанровые определения. Другое дело, что на этом уровне такие термины допускают большую свободу, субъективность оценок, в них меньше четкости, научности. Что такое поэма сказано в справочниках, учебниках, энциклопедиях. Что такое поэма Твардовского – устанавливает для себя каждый читатель, критик, литературовед, при возможном совпадении, разумеется, каких-то общих параметров.
Подобное определение жанра прочитанного – это своего рода тест на глубину и полноту его восприятия. Читатель должен знать о существовании такого измерительного инструмента и уметь им пользоваться. В современных условиях, когда художественная литература вынуждена отстаивать свой статус как вида искусства, забота о читателе, о повышении его мастерства, его квалификации – дело первостепенной важности.
Как рождается жанр? Каковы его параметры? Что дает читателю верное определение жанра? Знание ответов на эти и подобные вопросы будет содействовать повышению культуры чтения.
Первые попытки классификации литературных жанров были предприняты ещё Аристотелем. С годами предложенная им система совершенствовалась, уточнялась, обогащалась. Процесс этот не завершится, пока будет существовать художественное слово.
Итак, принято различать категории рода: эпический, лирический, драматический. Существует точка зрения, предлагающая продолжить этот ряд еще одним родом – сатирическим. Но она не получила широкого признания.
Видами литературных произведений эпического рода представляются эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, сказка и т. п.
Собственно жанрами – психологические, социальные, исторические, философские, бытовые, фантастические, приключенческие и т. п. Видами лирического рода считаются элегия, ода, песня, послание, эпиграмма и т. п. Жанрами – философские, любовные, пейзажные, патриотические и т. п.
Произведения, совмещающие признаки лирики и эпоса, называют лиро-эпическими – баллада, поэма, роман в стихах.
Виды драматического рода – трагедия, комедия, собственно драма. Их жанры – трагикомедия, водевиль, мелодрама и т. п.
Эта классификация имеет самый общий первоначальный характер и в отношении к конкретным литературным произведениям нуждается в уточнениях.
Бросающейся в глаза особенностью русской литературы XX века является постоянное и настойчивое размывание родовых, видовых и особенно жанровых границ. Литературные произведения свободно мигрируют из разряда в разряд, приводя в отчаяние ревнителей строгих классификаций. Озадачивают писатели, обозначая свои создания неожиданными жанровыми определениями: четырехтомная «Жизнь Клима Самгина», оказывается, повесть; «Память» В. Чивилихина – роман-эссе; «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева – поэма и т. п. Трудно не согласиться с И. Грековой: «Мы живем в эпоху небывалого смешения жанров».
Жанр романа, например, широко известен со времен античности. Видоизменяясь, он исправно служил литературе в разные эпохи. Двадцатый век вознамерился похоронить его: «…акции личности в истории падают и вместе с ними падают влияние и сила романа…» – писал в 1922 году О. Мандельштам в статье, которая так и называлась «Конец романа». Это умозаключение возникло как результат наблюдений за литературным процессом начала 20-х годов. Тогда считалось предпочтительным изображение народа, множеств, толпы. «Единица! Кому она нужна?» – восклицал В. Маяковский. Роман же издавна известен как жизнеописание личности. Но Мандельштам ошибся: роман не умер. Уже в 20-е годы он был представлен самыми разными жанрами – от «Белой гвардии» до «Дела Артамоновых».
В 60-е годы на международной конференции по проблемам романа в Москве среди выступавших опять были ученые, предрекавшие жанру скорую гибель. В декабре 1992 года авторитетное жюри по присуждению премии Букера за лучший роман года, написанный по-русски, из пятидесяти (?!) представленных произведений предварительно отобрало книги Ф. Горенштейна, А. Иванченко, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Сорокина, М. Харитонова. Примечательно, что некоторые из них («Лаз», «Время ночь») романами назвать можно было разве что условно. Они написаны вполне в русле той тенденции, что явственно обозначилась с середины 80-х годов, когда в прозе получили распространение произведения небольшие но объему – рассказы и повести по традиционной терминологии. Всё это доказывает:
привычные сложившиеся жанры не исчерпывают собой всего художественного многообразия современной прозы. Рядом с ними (но не вместо них!) возникают новые.
Есть смысл напомнить, что цель нашей работы попытаться выявить те многочисленные потери, которые за годы советской власти понесла изящная словесность. Нам осталось сказать ещё об одном важном моменте. Ключевую роль в читательском мастерстве играет определение жанра. Нам предстоит разговор об уникальной книге, которая может здесь оказать неоценимую помощь читателю, желающему обрести навыки полноценного восприятия художественного слова.
Судьба книги
Давно замечено, что книги, как и люди, имеют свою судьбу. Сегодня, когда прошло более пятидесяти лет со дня появления «Золотой розы», можно с уверенностью говорить, что судьба этой книги сложилась несчастливо.
Во-первых, она осталась неоконченной, хотя в силу структурных особенностей, присущих крупным жанрам у Паустовского, это обстоятельство особого значения не имеет: каждая глава повести относительно самостоятельна.
Во-вторых, «Золотая роза» вышла в свет – октябрь 1955 года – не вовремя. Паустовский, как и некоторые его современники, рассчитывал, что процесс «потепления» будет необратимым и нарастающим. Этим надеждам, однако, не суждено было сбыться. Обсуждение книги В. Дудинцева «Не хлебом единым», события вокруг «Доктора Живаго» Б. Пастернака, резкая критика в адрес альманахов «Литературная Москва» и «Тарусские страницы» показали, что оснований для оптимизма мало. Та степень внутренней свободы, раскованности, которую позволил себе писатель в «Золотой розе», еще не могла быть принята и оценена по достоинству. Те общечеловеческие гуманистические идеалы, вне служения которым Паустовский не мыслил себе деятельности художника, ещё не получили широкого признания в обществе, только-только начавшем освобождаться от ледникового мышления тоталитаризма. Среди немногочисленных критических отзывов о «Золотой розе» при жизни автора не было ни одного безоговорочно признававшего победу писателя на одном из главных направлений его творчества. Речь идет, конечно же, не о панегириках. Но нельзя было снова, в который раз, не вспомнить его идущий от сердца вопль: «Когда мы перестанем требовать от автора всеобъемлющих высказываний и бесконечного повторения того, что всем давно известно и не требует никаких доказательств? Зачем ставить автору те задачи, каких он сам себе не ставил? Это по меньшей мере бессмысленно»112).
Обычно, написав книгу, Паустовский не спешил с публикацией, как бы ожидая подходящей общественной ситуации. Конечно, литературные мистификации с находками и потерями преследовали определенную цель. Сложность общественной и литературной обстановки тех лет требовала осторожности и предусмотрительности. Думается, что и «Золотая роза» не один год пролежала в столе, ожидая своего часа.
Значение «Золотой розы» в полной мере не осознано по сию пору. Причины ясны. Спрос на творчество, творческие искания, творческую личность ещё недавно был минимальным. Пафос уникальной книги Паустовского оказывался не созвучным времени. Нынче искусство освобождается от узкотенденциозных, заранее заданных подходов к оценке содержания и формы художественного произведения, возвращается, хотя и очень медленно, к подлинным, вечным ценностям, к истинному гуманизму в первую очередь.
В таких условиях «Золотая роза» незаменима, бесценна, особенно для молодых людей, только начинающих приобщаться к творческому восприятию искусства.
Складывается впечатление, что Паустовский специально подготавливал общественное мнение к восприятию «Золотой розы». За два года до её публикации, в сентябре 1953 года, в журнале «Знамя» была напечатана статья «Поэзия прозы»: «Довольно давно, ещё до войны, я начал работать над книгой о том, как пишутся книги. Война прервала работу примерно на половине». Далее в статье писатель рассказывал об источниках книги, доказывал её право на существование: «Работа писателей заслуживает гораздо большего, чем простое объяснение. Она заслуживает того, чтобы была найдена и вскрыта величайшая, подчас трудно передаваемая поэзия писательства – его скрытый пафос, его страсть и сила, его своеобразие, наконец удивительнейшее его свойство, заключающееся в том, что писательство, обогащая других, больше всего обогащает, пожалуй, самого писателя, самого мастера. Нет в мире работы более увлекательной, трудной и прекрасной!.. В своей ещё не до конца написанной книге я больше всего хотел передать эти исключительные свойства писательской работы, бросающей свет на все стороны человеческого духа и человеческой деятельности»113).
Обратимся сначала к истории «Золотой розы». Сын писателя В.К. Паустовский утверждал: «…замысел этой книги возник у отца очень давно. Я впервые услышал о нём чуть ли не в то военное лето. Только название у книги первоначально предполагалось иное – “Железная роза”. Связано оно было с другим прологом, в котором главным действующим лицом был не парижский мусорщик, а русский кузнец, отковавший из железа замечательную розу с тонкими лепестками. Мне этот вариант нравился больше, и совсем не потому, что он был связан с “родной почвой”. Привлекало сравнение – удивительная роза сделана из самого простого материала, идущего на гвозди и подковы.
Так и со словами. Они одни и те же – и в обыденной речи, и в волшебстве стиха. Потом отец увлёкся мыслью о золотой пыли, и место кузнеца занял Жан Шамет»114).
Оба они, отец и сын, не называя конкретной даты, говорят, что работа над «Золотой розой» началась «очень давно». Вряд ли точная дата вообще может быть указана. Название «Железная роза» мелькало ещё в выступлениях Паустовского на обсуждениях «Кара-Бугаза» в 1932–1933 годах в ответах на вопрос о творческих планах (см. «Знание – сила» 1933, № 11 12); «Красный библиотекарь» 1933, № 3; и др.). С того же времени началась публикация в печати материалов о творческом процессе:
«Документ и вымысел» («Наши достижения», 1933, № 1); «Как я работаю над своими книгами» (М., 1934); «Рождение книги» («Детская литература», 1936, № 8) и др.; литературных портретов: «О книге капитана Лухманова «Соленый ветер» («Детская и юношеская литература», 1933, № 11); (Об Э. Багрицком» («Литературная газета», 1935, 15 февраля); «Крепкая жизнь (Об А.С. Новикове-Прибое)» («Литературная газета», 1936,20 марта); а также литературных портретов М. Горького, Р. Киплинга и О. Уайльда.
В «Романтиках» (1916–1932) и «Блистающих облаках» (1929) затрагиваются проблемы писательского труда. Даже в «Кара-Бугазе», повести куда как далекой от литературных забот, Паустовский находит возможность сказать и о Пушкине, и о своем стремлении как можно больше людей «приохотить к писательству», и о чисто технических деталях художественного мастерства. О книгах более позднего времени и говорить не приходится: все они в большей или меньшей степени касаются круга проблем, поставленных в «Золотой розе». Даже произведение, не связанное с проблемами искусства, у него может начаться парадоксальным образом: «Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких “железных” правилах и “золотых” законах, написанных в учебниках литературы»115).
В.Г. Белинский писал о том, как важно определить главную идею художника, пафос его творчества. Такой идеей, пронизывающей всю деятельность Паустовского – и прозаика, и публициста, и критика, – была высокогуманная идея выявления и утверждения прекрасного в жизни и в искусстве.
С этих позиций всё им написанное – все тома его сочинений: романы, повести, рассказы, пьесы, сказки, статьи, эссе и т. д. – представляются одной большой книгой. Изменялся объект исследования: человек, природа, произведения искусства, цель оставалась той же:
Сотри случайные черты — И ты увидишь: мир прекрасен116).«Золотая роза» исследует особенности творческого процесса художника как одного из возможных средств достижения этой цели, на что указывает её эпиграф: «Всегда следует стремиться к прекрасному». Решению этой задачи служит и отбор материала, и его расположение.
Паустовский как-то заметил о «Золотой розе»: «Она насквозь автобиографична и могла бы быть одной из частей «Повести о жизни»117). К этому следует только добавить, что «Повесть о жизни», как и «Золотая роза», осталась неоконченной и также писалась не в сроки, указанные под ее частями – «Далёкие годы», 1946, «Беспокойная юность», 1954, и т. д., а всю жизнь. Что такое «Романтики», как не часть «Повести о жизни»? Уже в 1937 году, за девять лет до появления в печати «Далёких годов», писатель обнародовал план «Повести о жизни» (см. журнал «Детская литература», 1937, № 22).
Таким образом, творческая история «Золотой розы» неотделима от эволюции Паустовского как художника, и её появление свидетельствует только о том, что завершился какой-то этап многолетнего процесса, который в самой книге назван «кристаллизацией замысла» и который продолжается, пока художник жив. Считать, что «Золотая роза» – это запись разговоров в Литературном институте, где Паустовский некоторое время работал, сделанная задним числом (а такие мнения бытовали), неправомерно.
Серьёзным препятствием на пути «Золотой розы» к широкому читателю оказался её жанр. Он останавливал своей непривычностью, непохожестью на обычные литературные произведения, отсутствием сквозной сюжетной линии, персонажа, цементирующего отдельные главы.
За несколько месяцев до публикации Паустовский объявил: «…работаю над книгой “Золотая роза”, жанр которой затрудняюсь определить»118). Сразу вспомнилась его двадцатилетней давности реплика по поводу «Кара-Бугаза»: «Я затрудняюсь сказать, что это – повесть, очерки или путевые записки, так как в книге есть элементы разных жанров»119).
В воспоминаниях Л. Левицкого воспроизводится мнение Константна Георгиевича о книге Ю. Олеши «Ни дня без строчки», несомненно родственной «Золотой розе»: «…новый ли это жанр, не знаю, – новый жанр ведь появляется не тогда, когда писатель думает: дай-ка я напишу нечто новое и небывалое по форме. Ему надо сказать что-то важное, он пишет, зачёркивает, бьётся, мучается, места себе не находит, истерзанный, ставит последнюю точку, отчаиваясь, что книга не получается. Тут-то и выясняется, что это и есть новый жанр. Жанров ведь куда больше, чем критики считают»120).
По отношению к «Золотой розе» критика оказалась непроницательной. Сойдясь во мнении, хотя и по разным причинам, что книга не удовлетворяет читателя, критики пытались сузить её диапазон, предостеречь от возможных «ошибок» в её оценке: «Как это ни интересно само по себе, здесь однако, всё сведено к чистой технологии, даже и намека нет на то, как технология связана с идейной проблематикой»121).
Характерные черты догматической критики: присваивать себе право представительствовать от имени читателя и бесцеремонно разрывать содержание и форму художественного произведения!
Е. Старикова назвала «Золотую розу» «своеобразным комментарием автора к своим произведениям»122); В. Романенко посчитал Паустовского «блестящим популяризатором эстетики»123) многие именуют её просто повестью, есть и такое определение – «эссеистический цикл новелл»124).
Процесс поисков подходящего определения еще не завершён. Его стимулирует то обстоятельство, что жанр важен не сам по себе, а как действенное средство постижения замысла создателя. Изучение «Золотой розы» в рамках научно-художественной литературы на сегодняшнем этапе развития литературного процесса, думается, наиболее плодотворно.
Специфика научно-художественной литературы достаточно своеобразна и многопланова. Главный герой её произведений – научные, творческие искания, что отнюдь не выводит её за рамки искусства, чей главный объект – человек.
Способы изображения человека в научно-художественной литературе непохожи на традиционные. В «Золотой розе» главный герой – творческие искания писателя. Принципиальное значение имеет заявление Паустовского на первой же странице: «Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моём понимании писательства и моём опыте»125).
Вспомним цитированное выше признание писателя об автобиографическом характере «Золотой розы». Главы книги могут представляться невнимательному читателю разрозненными, а их соседство случайным. На самом деле они представляют целостное органическое единство, которое задается лирической фигурой автора. «Золотая роза» – взволнованная исповедь человека, влюблённого в свое дело и справедливо считающего, что «…труд художника слова ценен не только конечным своим результатом – хорошим произведением, но и тем, что самая работа писателя над проникновением в духовный мир человека, над языком, сюжетом, образом открывает для него и для окружающих большие богатства, заключённые в том же языке, в образе; что эта работа должна заражать людей жаждой познания и понимания и глубочайшей любовью к человеку и к жизни. Иначе говоря, не только литература, а самое писательство является одним из могучих факторов, создающих человеческое счастье»126).
«Золотая роза» – это книга о творчестве. Речь, разумеется, идет не о предписаниях и правилах, руководствуясь которыми каждый желающий сможет стать художником, но о философии творчества, общих законах и особенностях труда писателя, знание коих поможет и творцу н, что особенно важно, читателю.
Искусство творческого чтения – не механическое воспроизведение заученного, а сотворчество – единственно возможный путь постижения литературного произведения, максимально приближающий к замыслу автора. Научить сотворчеству трудно. Но другого способа приобщить читателя к сокровищам мысли и духа, которые хранит изящная словесность, не существует.
Чтение «Золотой розы», безусловно, окажет самое благотворное влияние на уровень читательского восприятия, но влияние опосредованное и сугубо индивидуальное.
К сожалению, на практике «Золотую розу» сплошь и рядом растаскивают по частям, используя её главы как дополнительный иллюстративный материал. В этом ещё не было бы беды, если бы предварительно она воспринималась как целостное художественное произведение, если бы сначала разъяснялась привела её жанра Увы! Этого не происходит.
С давних пор бытует убеждение, что наука и искусство – порождение разных стихий, что они противостоят друг другу как части оксюморона: образ и постулат, свободный полет воображения и расчёт, порыв вдохновения и строгая логика. Но столь же давно высказывались и сомнения в истинности подобных суждений, и возражения против того, что художнику, дескать, знания не нужны, поскольку талант свое возьмёт и так.
«Я хочу, чтобы люди не видели войны там, где её нет, – настаивал А.П. Чехов, – знания всегда пребывали в мире. И анатомия, и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага – чёрта, и воевать им положительно не из-за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообращении, то он богат, если к тому же выучивает историю религии и романс “Я помню чудное мгновенье”, то становится не беднее, а богаче, – стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Поэтому гении никогда не воевали, а в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник.
Воюют же не знания, не поэзия с анатомией, а заблуждения, т. е. люди»127).
В конце 20-х годов, когда некоторые писатели все еще пытались брать «нутром» и эпитет «нутряной» был похвалой, Паустовский шел своим путем. Уже в начале его творческого пути критика засвидетельствовала: «Высокое уважение к технике, к знанию, к точным наукам – одна из черт Паустовского как писателя, выделяющая его из ряда советских писателей»128).
Корпус идей «Золотой розы» складывался исподволь и вместил в себя размышления разных и многих лет. Вначале, когда молодая ещё тогда советская литература искала свои пути в искусстве, когда ещё дозволялось «сметь своё суждение иметь» и «литературу факта» сменял «социальный заказ», а крайности «интуитивистов» уступали место ожесточению «неистовых ревнителей» и т. д., и т. п., – в повседневной суете утрачивалось подчас то, что, по мнению Паустовского, было главным: «Наша эпоха необычайна. Я бы назвал её стратосферической, настолько она выше всех эпох в истории человечества. Литература нашего времени должна быть также стратосферической. Она должна быть высокой, и за эту чистоту и высоту Нашей литературы должен бороться каждый из нас»|2Я).
Для самого Паустовского этот долг реализовался в его борьбе за высокий и чистый облик советского писателя: За его нравственность, поэтику, эрудицию. Не следует забывать, в какой политической, общественной и литературной обстановке (30-е годы!) пытался художник следовать этим своим принципам. Этапной здесь оказалась сформулированная писателем к концу 30-х годов мысль о соотношении науки и искусства: «Крупные учёные всегда были в известной мере поэтами. Они остро чувствовали поэзию познания, и, может быть, этому чувству они были отчасти обязаны смелостью своих обобщений, дерзостью мысли, своими открытиями. Научный закон почти всегда извлекается из множества отдельных и подчас как будто очень далёких друг от друга фактов при помощи мощного творческого воображения. Оно создало и науку, и литературу. И на большой глубине во многом совпадают между собой творческое воображение хотя бы Гершеля, открывшего величественные законы звездного неба, и творческое воображение Гете, создавшего «Фауста».
Истоки творчества – и научного, и литературного – во многом одинаковы. Объект изучения – жизнь во всем её многообразии – один и тот же и у науки, и у литературы.
Настоящие учёные и писатели – кровные братья. Они одинаково знают, что прекрасное содержание жизни равно проявляется как в науке, так и в искусстве»130).
В статье об одном из своих любимых прозаиков, Пришвине, Паустовский утверждал, что «в любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять»131)
Для самого Паустовского неиссякаемым источником познания, кладовой счастья была природа. Когда вы читаете его великолепные пейзажи, то чувствуете и понимаете, что сделаны они не на голом энтузиазме, не на одних восторгах. За ними стоит и глубокое знание предмета: ботаники, метеорологии, астрономии, зоологии, географии, краеведения, орнитологии, фольклора, – и мастерство в использовании изобразительных возможностей русского языка.
Требования, предъявляемые Паустовским к эрудиции писателя, очень высоки, но убедительно обоснованы потребностями нелёгкого труда: «…знание всех смежных областей искусства – поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки – необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Последняя наполняется светом и красками живописи, ёмкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.
Всё это добавочные богатства прозы, как бы её дополнительные цвета. Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем – невежды.
Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни»132)
Чтобы оценить духовное богатство, создаваемое художником, читатель и сам должен мноте знать и чувствовать: «Мощь, мудрость и красота литературы открываются во всей широте только перед человеком просвещённым и знающим»133). Ради воспитания такого человека и написана «Золотая роза». Паустовский прав, указывая на необходимость изучения философии искусства, выявления общих закономерностей в творческом процессе мастеров слова.
«Золотая роза» – это лиро-эпическая научно-художественная повесть. Лиро-эпическая потому, что огромный разнородный фактический материал о том, как работает писатель, объединен и проникнут личным – Паустовского – пафосом, вдохновенным убеждением в необыкновенной важности писательского труда, его выбором предметов для разговора и их расположением, его оценками собратьев но перу. В каждой строке «Золотой розы» звучит голос Паустовского, и вся она в целом – страстный монолог о деле всей его жизни.
Произведения мастеров литературы, как правило, содержат взгляды и оценки их создателей, выраженные более или менее отчетливо, с разной степенью лиричности. Но сквозь личное, индивидуальное всегда просвечивает общее, закономерное. На страницах «Золотой розы» этот личный элемент не препятствует возникновению образа писателя, каким он должен быть, каким его хотели бы видеть многие.
Это отнюдь не литературный портрет Паустовского, а фигура, в которой отразились его представления о создателях художественной литературы, об индивидуальных и общественных ипостасях личности писателя, абстрагированной от конкретного мастера.
«Золотая роза» представляет собой научно-художественное произведение потому, что точные научные сведения отобраны и расположены в нём с помощью художественной концепции, суть которой Паустовский раскрыл в своём выступлении на обсуждении книги: «Как каждый писатель, я хотел показать все так, как я это чувствовал и не повторять тех мест, которые уже известны…
Книга главным образом обращена не к писателям, а к читателям, к простому миллионному читателю…
Для чего я писал эту книгу? У меня была одна мысль, которая владела мной: показать всю силу, все великолепие и могущество литературы, которое мы сами, может быть, не сознаем, и поднять на законную недосягаемую высоту звание писателя»134).
Повторяющийся глагол «показать» отражает художественную задачу книги. Об этом же говорит и упомянутый выше образ писателя, возникающий на страницах «Золотой розы».
Необходимо упомянуть также о месте книги Паустовского в литературном процессе. Одной из первых она ответила назревшей потребности как общества, так и литературы. Интерес к творческой лаборатории писателей стал характерной приметой литературной жизни 50—60-х годов, времени «оттепели». Вслед за «Золотой розой» книги о писательстве опубликовали Ю. Олеша, В. Катаев, И. Штейн, Р. Гамзатов, В. Панова, С. Антонов, А. Бек и многие другие. На страницах ряда литературно-художественных журналов постоянной стала рубрика «Писатели о своей работе». Издательство «Советская Россия» предприняло выпуск серии книг «Писатели о творчестве». Заметно возрос интерес к научным исследованиям в области психологии художественного творчества: вышли книги А. Илиади, Б. Мейлаха, Т. Наполовой, О. Никифоровой и др. К концу 60-х годов появились научные сборники «Художественное восприятие», «Содружество наук и тайны творчества», была переведена книга М. Арнаудова «Психология литературного творчества». Писатели и ученые равно осознавали острую потребность компенсировать друг другу и читателю то, чего они еще недавно были лишены: свободного обмена мнениями, дискуссий, новых открытий и т. п.
Эти процессы были следствием изменений в общественно-политической ситуации, с одной стороны, и начинавшейся в стране научно-технической революцией – с другой. Перспектива проникнуть в тайны творчества, смоделировать творческий процесс не могла не увлечь. В спорах на эту тему горячо обсуждалась возможность искусственно выращивать таланты, хотя и тогда было ясно, что если это даже и осуществимо, гораздо важнее другое – знание общих законов творчества помогает полнее понять художника, повышает общую культуру человека. Как сопутствующий, но весьма важный результат выявилось: знакомство с творческой лабораторией писателя способно предупредить ошибки в оценках художественных книг. Настало время и обстоятельного разговора о «Золотой розе», который, однако, по разным причинам тогда так и не состоялся. Об этом можно пожалеть, имея в виду поколения читателей, обделённых необходимыми знаниями. Но сама «Золотая роза» за все протекшие годы ничего не потеряла ни в своей актуальности, ни в своем значении и должна занять достойное место в репертуаре современного читателя.
Усвоив верное представление о книге как о целостном художественном произведении, можно, как бы приблизив её к глазам, разглядеть и оценить отдельные части этой повести-цикла, отдельные фрагменты мозаики, образующей картину.
Ключевым, жанрообразующим моментом в «Золотой розе» следует признать рассуждения автора о языке художественной литературы. В книге рассмотрен широкий круг вопросов: о ритме прозы, об особенностях функционирования поэтической речи, о соотношении языка народного и языка литературного и т. п. В 30—40-сороковые годы, когда в язык советской литературы в изобилии стали проникать метастазы новояза, Паустовский чуть ли не в одиночку публично отстаивал языковые открытия и достижения русской классики. Не устарели его взгляды и по сей день.
Писатель был убеждён: когда идёт работа над языком, дело не только в удачных находках. Почти каждое русское слово поэтично, и задача художника в том, чтобы найти необходимый ракурс, подобрать нужный контекст, отчего примелькавшееся, полустертое от частого употребления слово вдруг заиграет какими-то свежими красками, сверкнет новыми гранями. Но прошли годы, прежде чем он смог с уверенностью сказать: «…я узнал наново – на ощупь, на вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов»135).
В «Золотой розе» писатель раскрывает перед читателем эту «бездну живых образов» в словах «родник – родина – народ», «заря», «свей», «зарница» и др.
Кладовая бесценных языковых сокровищ распахивается перед читателями. Великолепно названа глава – «Алмазный язык», великолепен гоголевский эпиграф к ней: «Дивишься драгоценности нашего языка…» Паустовский с восторгом и воодушевлением пишет о волшебных свойствах нашей речи: «С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и нашем сознании, что нельзя было бы передать русским языком. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения»136).
Что же помогает художнику отыскать необходимый ракурс, заставить слово обнаружить свои скрытые свойства?
Паустовский считает, что «…существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя. Если писатель, работая, не видит за словами того, о чём он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо видит то, о чём пишет, то самые простые и даже стёртые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать. В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста»137).
Борьба Паустовского за чистоту и поэтичность русской речи может стать предметом специального исследования. Писатель многократно выступал в печати в связи с дискуссиями о языке, которые вела общественность, обеспокоенная засилием «канцелярита» и «речевого мусора»: «Дурной язык – следствие невежества, потери чувства родной страны, отсутствия вкуса к жизни. Поэтому борьба за язык должна начаться со всеобщей борьбы за подлинное повышение культуры, за власть разума, за истинное разностороннее образование…
Наш язык – наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость! Глубоко прав Тургенев, сказавший, что такой великий язык мог быть дан только великому народу»138).
В представлении Паустовского работа писателя над языком имеет как бы две стороны: выбор слова и «реставрация» его в определенном контексте. Слишком мало читателей знают пока об этой второй, но важной стороне творческого процесса.
И в этом плане трудно переоценить «Золотую розу». Научно-художественный жанр с его мозаичной композицией и цикличной структурой оказался наилучшим образом приспособленным для исследования процесса творчества художника слова. Книга появилась на стыке таких серьёзных научных дисциплин, как эстетика, литературоведение, психология творчества. Талант Паустовского с помощью художественного образа позволил высветить сложный научный материал как бы изнутри. В этой книге «животворящее начало», воображение, мощно стимулирует работу интеллекта и трудно провести грань между наукой и искусством: они образовали в «Золотой розе» нерасторжимое единство, источник, помогающий читателю формировать свои убеждения, вырабатывать свои взгляды, критерии, приемы в отношении к бесценному дару культуры – художественной литературе.
Искусство должно прикоснуться к каждому человеку и позвать его к совершенству. Паустовский был убеждён: «Есть в каждом сердце струна. Она обязательно отзовется даже на слабый призыв прекрасного»139). Лучше всего об этом сказано в «Золотой розе».
Раздел IV «Пока в России Пушкин длится, Метелям не задуть свечу»
«Пока в России Пушкин длится, Метелям не задуть свечу» Д. СамойловПрошло пятнадцать лет с тех пор, как не существует Советского Союза. Нет больше прежней цензуры, нет достопамятного Союза советских писателей. Нет издательств «Советский писатель» и «Художественная литература». Нет социалистического реализма. Свобода! Казалось бы, пришло время, о котором мечтал В. Маяковский: «Твори, выдумывай, пробуй». Но семьдесят лет не прошли даром. Заканчивает свой короткий век «другая» проза, от которой сохранились разве только патологический интерес к сексуальным проблемам и страсть к ненормативной лексике. Примечательно, что талантливые женщины-писательницы, чье многочисленное присутствие в современной прозе является её характерной приметой, мужчинам первенство в употреблении неприличных слов никак не уступают.
На глазах вянет постмодернизм. В том виде, в каком он функционировал у себя дома, в России не прижился. Возможно, сама почва русской литературы, её традиции неудобны для подобного искусства. В текущей научной и критической литературе термин «постмодернизм» попадается всё реже.
В 90-е годы мало заявляли о себе новые дарования.
Существенно понизился и общий эстетический уровень словесности. Когда возник книжный рынок, появилась возможность выбора. Но неожиданно для многих буквально расцвела массовая литература, потеснившая серьёзную книжную продукцию. Уже более десяти лет в местах скопления народа, у станций метро, на рынках, можно видеть пёстрые книжные развалы. Разноцветные мягкие обложки, популярные имена на титулах: А. Маринина,
В. Доценко, Д. Донцова, Ф. Незнанский, Б. Акунин и многие другие, не говоря уже о десятках переводных авторов. Судя по всему, дела у продавцов идут неплохо. Массовая литература обрела статус социального явления, чему немало способствовала повальная экранизация популярных авторов на телевидении.
У массовой литературы свой жанровый репертуар: книги криминального содержания (детектив, шпионский роман, боевик, триллер); фантастические жанры (фэнтези главным образом); розовый, или, как его еще называют, дамский роман, – литературный аналог телевизионных «мыльных опер»; костюмно-исторический роман, наследующий традиции В. Пикуля; порнографические книги, конкурирующие с видеопродукцией подобного же содержания, и некоторые другие.
Книги этих жанров, как правило, легко читаются, «проглатываются». Уровень их столь же пёстрый, как и их обложки. Можно наткнуться на книгу полуграмотного автора, а иногда попадаются и такие, где даже угадывается какой-то стиль. Но главная особенность массовой литературы – её стандартный облик. Везде одни и те же или очень похожие сюжетные ходы и ситуации. Близнецы-герои неутомимо кочуют из одной книги в другую, объясняясь на некоем псевдорусском языке с обильным включением специфической лексики. Это уже не лёгкое, а легчайшее чтение, не оставляющее никаких следов в памяти и чувствах читателя.
Отношение к массовой литературе в обществе так и не устоялось. Можно прочитать статьи, отыскивающие её корни в далеком прошлом, ведущие родословную из античной эпохи. В других работах называют в качестве её предшественников и родоначальников Агату Кристи и Артура Конан Дойла, Жоржа Сименона и Рекса Стаута. Некоторые же авторы, напротив, настроены решительно против массовой литературы, считая, что она не выдерживает никакой эстетической критики и плохо влияет на художественный вкус читателя, называют её рассадником пошлости и безвкусицы.
В то же время журналы печатают, а издательства издают традиционные художественные книги разного уровня и таланта – В. Маканина, М. Кураева, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, А. Варламова, О. Славниковой, Л. Упицкой, М. Шишкина и др. Критикой они не обижены, о них пишут статьи и книги. Но наш предмет иной: каков теперешний читатель? Ему-то советское семидесятилетие дорого обошлось. О многом говорит читательское пристрастие к массовой литературе. Ведь пророчество футуристов – «бросить Пушкина, Толстого, Достоевского и проч., и проч.» – пытались реализовать всеми возможными и невозможными способами. И все-таки не удалось! Как же сегодня с этим обстоят дела? Увы, печально!
Современный русский язык только заменил слово «бросить» словом «кинуть». Сегодня этот «неологизм» приобрел неожиданные смысловые оттенки. «Кинуть» означает обмануть, скомпрометировать, опозорить, оболгать, унизить, опорочить и далее в том же духе.
Вот как в марте 1999 года группа депутатов Государственной думы тогдашнего созыва «кинула» литературу, внеся предложение об изъятии её из программы преподавания в школе – за ненадобностью. Деятели культуры во главе с академиком Д.С. Лихачевым решительно выступили против абсурдных депутатских инвектив. Инцидент исчерпан? Да нет! В 2003 году один из губернаторов, «измученный» постоянными протестами учителей, не получавших зарплаты, решился на «реформу» образования в рамках своей губернии. По его распоряжению из школьной программы был исключен ряд предметов, что повлекло за собой сокращение штатов и ликвидацию финансовых проблем. Нужно ли добавлять, что среди исключённых предметов была литература?
Основательно «кинуло» литературу телевидение. В 2003–2004 годах оно трижды повторило передачу под «выразительным» названием «Литература умерла». Основной докладчик, тогдашний министр культуры во главе группы литературных критиков, был настолько уверен в неотразимости своего главного тезиса, что в оглавление передачи даже восклицательного знака не поставил. Как-то неудобно объяснять столь квалифицированной публике, что литература не может умереть, пока жив народ, её породивший, пока существует язык, на котором она объясняется с читателем. Не может – и всё тут. Какая бы персона вдруг не возжелала этого. В человеке с рождения заложены духовные потребности: в самопознании, в прекрасном, в самовыражении, в творчестве. Теперь их востребуют редко и неумело. В удовлетворении этих потребностей изящной словесности принадлежит одно из первых мест. И если кому-то показалось, что дни её сочтены, то не следует торопиться с траурными объявлениями, она обязательно вернется. В этом убеждает её многострадальный исторический опыт.
Пока ошарашенный читатель сомневается, верить ему или нет столь авторитетному докладчику, литературу, в свою очередь, «кидают» филологи. В Москве в 1997 году вышел первый девятисотстраничный том «Шедевры мировой литературы. Сюжеты и характеры в кратком изложении». На первой же странице составители заявили: «Перед вами не просто справочное издание, но и книга для чтения. Краткие пересказы, естественно, не могут заменить первоисточников, но могут дать целостное и живое представление о них». Аналогично и другое издание – «Энциклопедия литературных героев».
По мнению этих «новаторов», читать художественные произведения школьникам и студентам больше не нужно. Им предложено знакомиться с содержанием шедевров по кратким аннотациям о сюжетах и героях рекомендованных книг «Евгений Онегин» – 3 страницы, «Борис Годунов» – 2, «Обломов» – 3, «Пётр Первый» – 4, «Жизнь Арсеньева» – 3 страницы. Ну и далее в том же роде. О каком же «целостном и живом» представлении о художественном произведении может идти речь?! На полках учебных библиотек выстроились целые ряды роскошных фолиантов, пересказавших из мировой и русской классики всё, что можно было пересказать на радость современным митрофанушкам. Ни «Илиаду» читать не надо, ни «Гамлета», ни «Войну и мир»!
Наше время поражает подчас фактами глубокого неуважения к классике. И что удивительно, первой жертвой оказывается А.С. Пушкин. Прикрываясь необходимостью так называемого современного прочтения, авторы переделок не гнушаются непозволительными трактовками и суждениями, грубо искажающими смысл оригинала.
Редакция молодёжной газеты получила письмо от группы старшеклассников. Своё отношение к нему она выразила, озаглавив письмо – «Кому он нужен, этот Ленский?» Школьников, естественно, интересовал вопрос, зачем в век космоса и компьютеров тратить время на чтение давно устаревших книг. Это «Евгений-то Онегин» устаревшая книга!
Все цивилизованные народы высоко ценят русскую классическую литературу, отдавая должное её усилиям объяснить читателю нравственно-эстетические принципы, способствующие формированию человеческой личности. Так что же изменилось в России? И опять-таки, не слишком преувеличивая, можно сказать, что было время, когда литература спасала человека. Но, похоже, пришло время спасать её самое.
Мария Черемисинова окончила, видимо, ту же самую или похожую школу, откуда пришло письмо в молодёжную газету. Достигнув изрядного возраста, она написала диссертацию: «Латентная гомосексуальность в русской классической литературе». Позволим себе несколько цитат из интервью автора этого «учёного труда»:
Латентная гомосексуальность определяет в человеке целый поведенческий комплекс… Это когда мужчина с подавленной гомосексуальностью меняет женщин как перчатки, но ни с одной не имеет настоящей близости.
..Любимое занятие таких людей – «кидать» женщин, то есть мстить им: сначала очаровать, а потом тут же обледенить равнодушием.
За что мстить-то?
…Берем конкретно наших литературных героев: Онегин – типичный «кидальщик». Ленский на самом деле его больше интересовал, чем женщины, и убил он его не потому, что хотел заполучить женщину (ему наплевать было и на Ольгу и на Татьяну), а просто из скрытой подсознательной ревности. Этакая собака на сене с пистолетом.
Печорин – тоже кидальщик. Как он с несчастной Бэлой обошелся, вспомните, и с княжной Мэри так же. Дальше… Обломов – никак не может своих отношений с Ольгой прояснить, весь роман у них какая-то непонятная бодяга тянется, которая так ничем и не заканчивается…
И таких пар, кроме Обломова со Штольцем (типичная гомопара!), в русской литературе видимо-невидимо. Иван Иванович и
Иван Никифорович Гоголя. Базаров и Кирсанов Тургенева. У Тургенева еще несколько: Хорь и Калиныч, Чертопханов и Недопюскин (фамилии-то какие говорящие!), Лежнев и Рудин.
Кстати, все эти герои всё время куда-то мчатся…
Правильное наблюдение! «Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники…»
«Карету мне, карету!» Скорой интимной помощи тебе карету!..
Это они от себя убегают. Потому что третий классический признак подавленного гомосексуала – это вечная неудовлетворенность и вытекающее отсюда стремление переделать мир…
…В русской литературе явный голубой перекос…
Но почему-то именно когда речь заходит о «классике», то учителя благоговейно закатывают глаза к потолку. Что не может, по моему мнению, не отражаться на психике некоторых впечатлительных учащихся.
Я не уверена, смогут ли меня правильно понять члены аттестационной комиссии на защите. Но такова судьба настоящего учёного: разрушать стереотипы, чтобы дать дорогу новому. И я совершенно уверена в своей правоте. А вы неужели еще сомневаетесь?140>
Осталось подсчитать, сколько «впечатлительных учащихся» могло оказаться среди пятидесяти тысяч читателей «Огонька» (таков был его тираж). Во всяком случае, одного своего убеждённого сторонника М. Черемисина нашла в журналистке, которая брала у неё интервью. Та, вернувшись домой, перелистала «пыльный том «Обломова» и не смогла сдержать слёз: «Никогда, никогда не отдам своего ребенка в школу Сама буду учить». Едва уловимый налет иронии сути интервью не изменяет.
По сей день многие выходят из школы с твердым убеждением, что произведения классической литературы «проходить», увы, приходится, но кто же их читает? А в качестве доказательств чаще других приводится всё тот же аргумент: они устарели. И как следствие – желание обновить, осовременить классику, или, как иногда ещё говорят, предложить новое прочтение. Когда такое желание оправдывается художественными открытиями, совершёнными в новую эпоху, в новых обстоятельствах жизни, в новых её условиях (вспомним упоминавшееся выше стихотворение Джона Донна), – это не может вызвать никаких возражений. Но непременным требованием при этом остаётся неприкосновенность художественного текста. В произведениях искусства совершенно недопустимы какие-либо «усовершенствования»: замена даже одной буквы в каноническом тексте – невозможна.
Совсем другое дело, когда классику «осовременивают» в конъюнктурных целях, пытаясь приспособить её к злобе дня, ко вкусам и требованиям какой-либо части общества. В этих случаях, как правило, не останавливаются перед грубым вмешательством в замысел и текст автора, перекраивая на свой лад его сочинение. Благо, большинство из подвергающихся «обновлению» авторов давно уже пребывают в ином мире и возразить не могут. Сегодняшняя литература, увы, изобилует примерами подобного рода. Достаточно назвать сочинения Б. Якунина «Чайка» и «Преступление и наказание».
В первые годы после октябрьского переворота художественную литературу старательно приноравливали к «запросам трудящихся». Можно вспомнить блестящие страницы романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», где описывается, как режиссер-новатор «обработал» пьесу Н.В. Гоголя «Женитьба». Еще более яркий пример – пародия Л. Аркадского “Евгений Онегин” по Луначарскому»:
«Тов. Луначарский стоит за демократизацию искусства. Очень правильная мысль… Но Луначарский обвиняет всю классическую литературу в буржуазности. Испуганный за участь нашей классической литературы, особенно если её судьба будет решаться голосованием, я предлагаю поручить мне исправление некоторых из классических произведений, причем в доказательство прилагаю при сём исправленного “Евгения Онегина”, в готовом виде не только для чтения, но и для постановки на сцене.
Действие 1
В буржуазном семействе Лариных
Ларина и Татьяна (поют)
Соловей, соловей — Пташечка, Канареечка – жалобно поёт. Ать, два, ать, два…Тов. Ленский
Прошу прощеньица, мадам, Привел Онегина я к вам.Онегин
Я ихний писарь ротный И к вам пришел охотно.Ларина (приветливо)
Скоротаем времечко, Погрызем-ка семечки.(Лузгают. Музыка играет «Маруся отравилась».)
Онегин (отводя Татьяну в сторону):
Вы прекрасны, словно роза, Только разница одна: Роза вянет от мороза — Ваша прелесть никогда.Татьяна (подтанцовывая)
Долго в девках я сидела, Не пилось, не елося, Как милёнка разглядела, Замуж захотелося.Тов. Ленский (интимно Лариной)
Он ей понравился. Я рад. Старушка! Есть денатурат?(Ларина извиняется)…»
(Желающих дочитать отсылаем к книге: Русская литература XX века в зеркале пародии/Сост. О.Б. Кушлина. М., 1993. С. 340.)
Обратите внимание: пародия-то на русскую литературу XX века! Причем же здесь «Евгений Онегин»?
Так сходятся крайности. Отрицать ли необходимость чтения художественной литературы вообще (в том числе и по причине её «устарелости»), искажать ли до неузнаваемости произведения под благовидным предлогом приблизить их к пониманию какой-либо части современников – результат один: из духовной жизни человека исчезает её существенный компонент, стимулирующий нравственные и эстетические искания личности.
Характерно, что в эти же годы, когда глумились над классиками, шли и другие – естественные – процессы. Вряд ли, например, многочисленные исследователи Пушкина ранее обращали внимания на деталь, подмеченную далеким от литературы человеком.
Сельский учитель А.М.. Топоров работал в первые послереволюционные годы в горном алтайском селе. Вечерами он собирал неграмотных взрослых и читал им вслух книги классиков и современных писателей, приобщая крестьян в духе времени к высокой культуре, после чего записывал их суждения и оценки (см. его книгу «Крестьяне о писателях»), И вот что сказала одна из слушательниц после чтения тех глав «Евгения Онегина», где описывалась семья Лариных: «Быть беде: меньшая поперёк старшой выскакиват». Её поразило то обстоятельство, что литературные герои легко пренебрегли житейским, для неё несомненным правилом: не должна младшая сестра выходить замуж до того, как устроит свою жизнь старшая. И ведь предчувствие сбылось.
Изящную словесность не следует специально приспосабливать к чему бы то ни было или к кому бы то ни было. Она во все времена сама открывается человеку непредвзятому, не ставящему перед собой сугубо утилитарных целей. Недаром для Пушкина слово-сигнал «польза» всегда было окрашено отчетливо негативными эмоциями.
Не претендуя на то, что нижеприводимое краткое суждение о романе предотвратит появление «диссертаций» и «пародий» на него, хочется надеяться хотя бы на то, что «бросания» и «кидания» все-таки прекратятся.
Давным-давно прозвучали пророческие слова: «Пусть идёт время и приводит с собой новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет “Онегина”: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор…»141). Это единственно верный подход к великому произведению! Предсказание В.Г. Белинского сбылось: только за последнее время вышло несколько новых книг и более десятка статей, посвященных анализу романа «Евгений Онегин».
Пушкин писал свое произведение восемь лет – с 1823 по 1831 год. Его главы выходили в свет по мере окончания. Первая была напечатана в 1825 году С тех пор и до сегодняшнего времени роман не исчезает из поля зрения читателей и критики. И не только в нашей стране: в 1964 году в Нью-Йорке вышел в свет четырехтомный комментарий к «Евгению Онегину» В.В. Набокова, в 1983 году в Лондоне был опубликован очередной новый перевод романа на английский язык и т. д., и т. п.
События, описанные в произведении Пушкина, ничего, казалось бы, необычного в себе не содержат. Молодой петербургский дворянин, промотав в светских развлечениях остатки состояния, едет в деревню в надежде на наследство умирающего дяди. Его соседом по имению оказывается молодой помещик Владимир Ленский, познакомивший Онегина с семейством Лариных. Старшая из сестер, Татьяна, влюбилась в Онегина и написала ему письмо-признание. Между тем Онегин и Ленский поссорились. Произошла дуэль, на которой Ленский погиб. Отвергнув чувства Татьяны, Онегин уезжает путешествовать. Прошло несколько лет. В Петербурге Онегин вновь встречает Татьяну. Теперь он объясняется ей в любви, но в ответ слышит:
Я Вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему верна.На этой безысходной трагической ноте Пушкин завершает своё повествование.
В чем же секрет произведения, обеспечивающий постоянный интерес к нему и завидное долголетие? Ответ на этот вопрос многое проясняет в интересующей нас проблеме.
Прежде всего следует сказать об отличительной черте таланта Пушкина, о его умении концентрировать в малом – огромное, спрессовывать в поэтическом атоме картину мироустройства. «Евгений Онегин» по объему – сравнительно небольшое произведение. Но Белинский имел все основания назвать его 1 энциклопедией русской жизни: по богатству содержания роман – явление исключительное. В нём с большой полнотой описаны картины столичной и деревенской жизни в будни и праздники, воссоздано историческое время – первая четверть XIX века – как в его центральных, узловых моментах, так и в деталях, в бытовых подробностях. Не следует только прямолинейно толковать эту особенность романа. «Евгений Онегин» – это художественное произведение, а не собрание словесных иллюстраций к русской истории.
Всё это богатство фактического материала, достоверностью которого Пушкин очень дорожил («смею уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю»), служит поэту для создания особого художественного мира. Он и похож, и не похож одновременно на мир реальной русской жизни.
Энциклопедичность «Евгения Онегина» заключена не только в щедрости и выразительности изображённого, но и в редком богатстве, многогранности проблематики. Безусловно, интерес к роману поддерживается и тем обстоятельством, что многие из поставленных в произведении вопросов «обречены» на вечное решение:
Меж ими все рождало споры И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь в свою чреду, Все подвергалось их суду.Каждое новое поколение, вступающее в жизнь, вновь и вновь возвращается к этому, обозначенному Пушкиным кругу проблем. Содержательность «Евгения Онегина», однако, – лишь одна из составляющих его успеха. Другая – заключена в жанре. В 1823 году, начав работу, Пушкин сообщал П.А. Вяземскому: «…я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». Завершая свой труд, поэт в предпоследней строфе последней главы писал:
Промчалось много, много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые мне — И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал.Обратим здесь внимание только на один аспект затронутой проблемы. Роман традиционно, с древнейших времен, представляет собой вид эпического искусства. Определяющим, ведущим в нем выступает момент объективного художественного исследования. В «Евгении Онегине» (действительно – большая разница!) важную роль играет также начало субъективное, личное. В нем постоянно ощущается присутствие Пушкина в качестве участника описываемых событий. В романе отразились вкусы, симпатии, привязанности поэта. Мы узнаём о его отношении к театру и актёрам, знакомимся с оценками различных литературных направлений и писателей. Нередко Пушкин, отойдя от основной сюжетной линии произведения, связанной с Онегиным, в многочисленных отступлениях рассказывает о своей жизни, о своём творчестве. Определение жанра романа – свободный, – данное самим поэтом, исчерпывающим образом характеризует его.
Необычность произведения заключена в открытой связи автора со своими персонажами. Он внимательно следит за ними, комментирует, оценивает их поступки и суждения:
Письмо Татьяны предо мною: Его я свято берегу, Читаю с тайною тоскою И начитаться не могу.Поэт признается: «Я так люблю Татьяну милую мою». Ему нравятся её скромность, чистота души, сила чувства, искренность. Татьяна любила природу, любила читать, была мечтательна и задумчива. Это – милый поэтический образ русской девушки. Онегин поразил её воображение: он был так не похож на молодых помещиков, окружавших Татьяну, – «пора пришла, она влюбилась». Письмо Татьяны к Онегину – одна из самых задушевных и прелестных страниц русской поэзии. Оценка героини, её место указаны самим Пушкиным: «Татьяны милый идеал». Действительно, по сию пору этот нравственный идеал ничуть не потускнел. Чистота облика, глубина чувства Татьяны неизменно привлекают симпатии читателей.
Композиционное значение образа Татьяны в том, что без сопоставления с ним не может быть понята эволюция Онегина.
Своеобразие жанра отразилось и в языке романа. Он полон иронии – от доброй, еле заметной улыбки до язвительного сарказма. Люди, лишённые чувства юмора, вряд ли смогут правильно оценить многие ситуации в произведении:
Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель, Там некогда гулял и я: Но вреден север для меня, —писал Пушкин в первой главе. Ирония в словах: «Вреден север для меня», скрывает намёк на южную ссылку поэта. Именно к этим словам Пушкиным было сделано примечание: «Писано в Бессарабии».
Только непониманием пушкинской иронии можно объяснить те суждения критиков о Ленском, в которых он объявлялся карикатурой на поэтов-романтиков, «оторванных от жизни». Пушкин действительно посмеивался над юным поэтом, который «пел поблеклый жизни цвет без малого в осьмнадцать лет». Вспомним также строфы 37–39 в главе шестой, в которых Пушкин описывает возможную судьбу Ленского, останься он жив. Конечно же, ирония здесь несомненна, но где же карикатура? Да и мог ли Пушкин издеваться над тем, чем ещё вчера жил сам, чем жили его друзья поэты-романтики В. Кюхельбекер, А. Дельвиг и др.
Возвышенный, романтический строй мыслей и чувств Ленского помогает оттенить разочарованность, скептицизм, себялюбие молодого Онегина. Отношение Пушкина к Ленскому довольно сложное. Вообще однозначные оценки персонажей и ситуаций романа чреваты ошибками. И особая осторожность нужна в суждениях о главном герое. Недаром Пушкин решительно вступил в полемику с критиками ещё до окончания романа, причем в ряде случаев – прямо на его страницах. Так, предупреждая возможность слияния в сознании читателей и критиков автора и героя, что было традиционно для предшествующей романтической литературы, Пушкин писал в конце первой главы романа:
Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной, Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, Сличая здесь мои черты, Не повторял потом безбожно, Что намарал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт, Как будто нам уж невозможно Писать поэмы о другом, Как только о себе самом.Понять «свободный» роман Пушкина можно, только учитывая особенности его лиро-эпического жанра, своеобразие личности и судьбы его создателя. Совершенно прав был Белинский, писавший: «“Онегин” есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотою, светло и ясно, как отразилась в “Онегине“ личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение значит оценить самого поэта во всём объёме его творческой деятельности».
Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери среди высших ценностей жизни поставил «роскошь человеческого общения». Секрет обаяния «Евгения Онегина» ещё и в том, что он выдержан в характере живой, непринуждённой беседы с читателем. Интересно и поучительно общаться сегодня с таким умным, тонким, ироничным собеседником, как Пушкин.
В истинно художественном произведении нет ничего незначащего. Каждая деталь, даже мелочь способна сказать о многом.
Пушкин часто называл свои произведения именами героев – «Борис Годунов», «Дубровский», «Евгений Онегин» и т. п. Конечно, это не случайно. Поэт прямо указывает читателю на ключевую, центральную роль того или иного персонажа в произведении.
Естественно, что в поисках ответа на вопрос о причинах долголетия романа следует обратиться к судьбе его главного героя. В школьном учебнике подробно рассмотрены конкретные исторические обстоятельства и причины, сделавшие Евгения Онегина, молодого русского дворянина, «лишним» человеком. Он, как и все, – продукт своего времени. Его взгляды, привычки, манера поведения, иерархия ценностей складываются под влиянием родителей и людей определенного круга. В другое время и в другом обществе они могут выглядеть диковинными, странными и неприемлемыми. Сегодня, например, чудовищной покажется сама постановка вопроса, что важнее – честность или хорошее французское произношение. Однако было время, когда подобный вопрос в определённых обстоятельствах решался в пользу произношения. В такой вот уродливой, с теперешней точки зрения, обстановке сформировалась исходная позиция в мировоззрении Онегина. Познакомимся с ней поближе. Главное в романе Пушкина – история становления человеческой личности: Онегин, с которым читатель расстается в конце романа, совсем не похож на того юнца, с кем встретился вначале.
С иронией рассказывает Пушкин об отце Онегина, который жил долгами, «давал три бала ежегодно и промотался наконец», о детстве своего героя, которого учитель, «француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя». Мальчика готовили к тому, чтобы, оказавшись в светском петербургском обществе, он был как все, и добились многого.
Слова и поступки Онегина, каким он предстал в восемнадцать лет, диктовались не естественными внутренними, интеллектуальными или эстетическими, потребностями, а стремлением во всем походить на людей своего круга. Молодой человек совершенно не задумывался над своими обязанностями по отношению к окружающим людям и миру. Он был уверен в своем праве эгоистично срывать цветы удовольствия.
Пушкин тонко показывает ограниченность своего героя. Конечно, он не злой, не жестокий человек, не тиран, каких немало было в его среде. Более того, из модных веяний он улавливает и вольнодумство. Не забудем: Онегин по году рождения – сверстник многих декабристов. В светском обществе того времени они имели определённое влияние. Но его всё это затрагивает пока лишь поверхностно. Оказавшись в деревне, Онегин облегчил судьбу своих крепостных – пусть для того, «чтоб только время проводить». Но ведь не пустился же он в дикие феодальные потехи, каким предавались иные его современники.
Одним из страстных увлечений восемнадцатилетнего Пушкина был театр. Титул «почётного гражданина кулис», которым поэт увенчал своего героя, по праву мог носить и он сам. Но как ведёт себя Онегин в театре?
Онегин ездит в театр, потому что это входит в набор тех поступков, которые отличают светского человека: он должен бывать в театре – и он едет туда. Им руководят отнюдь не эстетические потребности. Недаром Пушкин снабжает процитированную строфу специальным примечанием: «Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». Но Онегин глух к красоте. Это подтверждается позднее:
Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок: Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог.Что же наш герой?
Два дня ему казались новы Уединённые поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихого ручья; На третий роща, холм и поле Его не занимали боле; Потом уж наводили сон…Как не мог Онегин воспринять и оценить должным образом красоту театрального искусства, точно так же не в состоянии он почувствовать очарования русского пейзажа. Это расплата за бездумное, пустое существование, за эгоизм и равнодушие. Для Пушкина эстетическая глухота в человеке – существенный изъян, важный показатель.
Образ жизни молодого Онегина многие дворяне, не задумываясь, вели до самой старости: полнейшее безразличие ко всему, кроме личных материальных благ, карьеры, орденов, поместий. Об этом написана А.С. Грибоедовым комедия «Горе от ума», знаменитый монолог Фамусова «Вот то-то, все вы гордецы» в частности. Но Онегину был уготован другой путь.
Не будем спешить с оценкой происшедшего с Онегиным. Томная разочарованность, жалобы на скуку, на однообразие жизни тоже входили своеобразным компонентом в облик светского молодого человека, модный тогда в Петербурге. Однако несколько месяцев, проведённых Онегиным в деревне, доказывают, что его состояние па этот раз ис вызвано желанием выглядеть как все, не отстать от моды. Оно оказалось глубоким и стойким. Что же произошло?
Видимо, Онегин в какой-то мере почувствовал, что жить так, как жил он, – недостойно человека. Может быть, это случилось под влиянием друзей? Ведь среди них находился Каверин, приятель самого Пушкина. Может быть, под влиянием чтения? Поэт не называет книг в интерьере «философа в осьмнадцать лет». Позже, правда, книги появились:
Томясь душевной пустотой Уселся он – с похвальной целью Себе присвоить ум чужой; Отрядом книг уставил полку, Читал, читал – а все без толку: Там скука, там обман иль бред; В том совести, в том смысла нет; Как женщин, он оставил книги, И полку, с пыльной их семьей, Задернул траурной тафтой.Тафта, однако, оказалась задернутой не навсегда. Вспомним, что когда Онегин после дуэли покинул деревню, его кабинет посетила Татьяна Она с интересом перелистала его книги: «Хранили многие страницы / Отметку резкую ногтей».
Почему же всё-таки Пушкин не сказал о причинах нравственного переворота в душе своего героя более определенно? Здесь, видимо, проявилась та особенность его художественной манеры, которая уже в XX веке (в отношении, правда, к его прозе) будет названа «психологизмом без психологии». Пушкин действительно редко описывает душевное состояние героя непосредственно, прямо. Он рассказывает о его поступках. А читатель сам по поведению героя должен восстановить, представить себе то, что творится в его душе.
Самсон Вырин («Станционный смотритель») отправился в Петербург выручать дочь, увезённую Минским. Тот обещает ему заботиться о Дуне и выпроваживает за дверь, сунув что-то за рукав: «Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти– и десятирублевых смятых ассигнаций. Слёзы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошёл… Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было».
Как выразительны здесь многоточия! Вдумчивый читатель хорошо представляет себе бурю, пронесшуюся в душе старика.
Происшедшее с Онегиным трудно переоценить. Его разочарование и тоска оказались следствием сомнений и колебаний: он начал мыслить. Важнейший момент в эволюции личности – переход от «растительного», бездумного, эгоистического существования к сознательному, человеческому бытию, к духовности. Рушится прежняя, возникает новая система ценностей.
В деревне Онегин знакомится с Ленским, Лариными. Евгений уже знает, что жить по-прежнему, по-петербургски, он более не сможет. Но как именно и чем жить дальше?
В общении с новыми знакомыми, в чтении и раздумьях идут подспудно поиски ответа. Прошлое, однако, цепко держит Онегина. Оно не даёт ему увидеть и понять Татьяну: «Мечтам и годам нет возврата; Не обновлю души моей…» Оно выводит его на дуэль с Ленским.
Потребовалась катастрофа, чтобы Онегин смог окончательно освободиться от прежнего миропонимания и осознать всю глубину своего падения:
Убив на поединке друга, Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел.Верный своим принципам Пушкин и теперь не впускает нас во внутренний мир своего героя и лишь слегка приоткрывает завесу над ним. Очевидно только, что когда через несколько лет Онегин после странствий возвращается в Петербург, ему, наконец, открываются в Татьяне та её внутренняя красота и благородство, которых в деревне он не мог ни разглядеть, ни оценить.
Пушкин работал над своим произведением восемь лет. За это время многое изменилось в России. Изменился и сам Пушкин. Эти изменения отразились в романе. Судьбы и характеры его героев показаны в развитии, в движении.
Еще в романтических поэмах «Кавказский пленник» и «Цыганы» Пушкин писал о героях, не удовлетворённых жизнью, ищущих счастье. Эта же тема, но уже в реалистическом плане поставлена в «Евгении Онегине». Она была подсказана поэту русской действительностью.
Получив наследство, Онегин поселился в деревне и решил заняться хозяйственными делами, читать и писать, – «но труд упорный ему был тошен, ничего не вышло из пера его». С помещиками, жившими по соседству, Онегин отношений не поддерживал: их разговоры «о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне» были ему неинтересны.
Онегин не находит себе места в жизни, достойного дела и глубоко страдает от этого. Трагедия Онегина – это трагедия многих пробудившихся молодых людей. У них не было возможности применить свои способности и силы. Некоторые нашли своё призвание в общественной деятельности, немногие – в художественном и научном творчестве, иные стали декабристами. Но Онегин был просто «добрый малый, как вы да я, как целый свет», и путь в эти сферы был для него пока закрыт. Называть его на этом основании лишним человеком – скороспелое суждение!
Складывается впечатление, что пятилетний перерыв в работе над характером главного героя романа был вызван неясностью для автора его дальнейшего пути. В критике в разное время много говорили о том, что Пушкин в заключение романа собирался сделать Онегина декабристом. Книги, вошедшие в круг чтения вернувшегося из странствий Онегина, вроде бы подтверждают это: они были настольными у многих декабристов. Но такие планы могли существовать только до 1825 года, до восстания на Сенатской площади. Позже автор не мог направить своего героя на путь, отвергнутый историей. Лучшее тому доказательство – окончательный текст «Евгения Онегина». В 1830 году, вернувшись после пятилетних раздумий к судьбе своего героя, Пушкин в соответствии со своими новыми принципами даёт ему возможность возродиться через любовь.
Внимание Пушкина-художника переключилось на исследование нравственности человека. Он вырабатывает формулу-оценку: «Самостоянье человека – залог величия его». Гуманизм в творчестве поэта становится определяющим, ведущим началом. Завершая свой творческий путь, поэт написал строки, исполненные глубокого смысла:
И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал142).В гуманистическом духе завершён и роман «Евгений Онегин». Белинский писал: «Силы этой богатой натуры (героя романа) остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца».
В таком «открытом» финале заключён глубокий художественный смысл. Читателю оставлена возможность размышлять над различными вариантами дальнейшей судьбы героев произведения. Но для самого Пушкина их дальнейшие конкретные пути не так важны. Он сказал главное – о необходимости и важности духовности в человеке, той духовности, которая зовет его к утверждению в жизни высоких идеалов свободы, добра и справедливости.
Евгений Онегин – человек пушкинского времени. На это обстоятельство указывали ещё современники поэта, называя его роман историческим произведением в полном смысле этого слова, хотя в числе его героев нет ни одного исторического лица. Но, как и во всяком подлинно художественном произведении, в «Евгении Онегине» сквозь конкретно-историческое просвечивает общечеловеческое.
Не так уж трудно представить себе современного «философа в осьмнадцать лет», в модных джинсах, держащего в интерьере музыкальный центр, видеомагнитофон и компьютер, воспринимающего удобства в квартире и всю окружающую его технику как нечто само собой разумеющееся и созданное исключительно для удовлетворения его персональных запросов. Теперь такую философию назовут потребительской, а «философа» – лентяем. Но почему не предположить, что в один прекрасный день его, как в свое время Онегина, не начнут душить «бездеятельность и пошлость жизни», что ему более не захочется того, «чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность» (Белинский). И не поймет он однажды, что все блага цивилизации, предоставленные ему XXI веком, не могут быть для человека целью, а лишь средством, и не повторит он за великим поэтом:
Но не хочу, о други, умирать: Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…143)Кто знает, может быть, первоначальным толчком к новой жизни для него станет чтение пушкинского романа? Не в этом ли еще заключен секрет неувядаемой привлекательности гениального произведения?
Роман «Евгений Онегин» во всех своих компонентах – подлинный шедевр высокого искусства. Обращаясь к нему, читатель удовлетворяет и свою потребность в прекрасном. И в этом тоже заключен секрет большого интереса к произведению.
«Евгений Онегин» воспринимается как отрицание серости, посредственности, бездуховности, как история пробуждения и духовного роста человеческой личности. От бездумного, растительного существования, имеющего целью эгоистические плотские удовольствия, человек поднимается к пониманию необходимости и важности осмысленного бытия, освященного служением высоким нравственным и эстетическим идеалам. На это обстоятельство обратил внимание ещё Белинский, отметивший, что в романе «Евгений Онегин» «Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося самосознания: заслуга безмерная!» Однако именно в последнее время этот аспект романа приобрел особенное значение.
Приступая к художественной книге, читатель должен ожидать откровений, открытий независимо от того, когда эта книга написана и в какой раз он её читает. Сомыслие, сочувствие описанному в ней, гарантируют ему и созвучие его сегодняшним тревогам и заботам, позволяют заглянуть в завтрашний день.
Предложенный вариант прочтения «Евгения Онегина» не является ни универсальным, ни единственно возможным. Навязывание догматических суждений о произведении, заучивание готовых оценок губительно для изящной словесности. Читателя можно подвести к каким-то умозаключениям, подтолкнуть его к определённым выводам, но последний шаг он обязательно должен сделать сам. Беды начинаются там, где художественную литературу не читают, а «проходят». Ее губят, среди прочего, отлучением от сегодняшнего дня, отводя только роль свидетеля прошлого. Непросто включить «Евгения Онегина», «Войну и мир», «Тихий Дон» в контекст современности, но делать это тактично и ненавязчиво необходимо. Точнее сказать, это сделается само собой, каждым по-своему, при одном, правда, непременном условии – не заменять процесса чтения уродливыми суррогатами из арсенала плохих методик литературы, какими, видимо, и руководствовались в той школе, где учились авторы письма «Кому он нужен, этот Ленский?»
Увы! Продолжения «научных исследований» М. Черемисиновой пришлось ожидать недолго. В третьем номере журнала «Новый мир» за 2006 год (с. 120–131) опубликовано эссе В. Бирюкова «Сплин, из диалектических экзерсисов на русскую тему». Член редколлегии журнала следующим образом представила публикуемую статью «Провокация? Пускай так. Но провокация добросовестная и продуктивная».
Сплин, как следует из «Словаря русского языка» (т. 4, с. 226), – хандра, тоска. В. Бирюков считает по-другому: сплин – это ничто, пустота, отрицание. Опираясь на свое определение, он приходит к следующим умозаключениям: «Главным действующим лицом “Евгения Онегина” не является Евгений Онегин, как полагаем все мы, не является им и Татьяна, как думал Достоевский. Главным героем “Евгения Онегина” является сплин – ничто, отдающее себе отчет в своем ничто(жестве), ничто, отличающее себя от самого себя, только вследствие этого саморазличения приобретающей характер своей противоположности – бытия…»; “Евгений Онегин” – роман о сплине, о ничто, получающем право на самоопределение, роман об отрицании. Оно есть альфа и омега, начало и конец романного мира, в котором некое эпическое пространство и драматическое напряжение получается только как результат того, что отрицание направляется само на себя, раздваивается и размножается…»; «Если Онегин с Татьяной молчат, или говорят мало, то автор не молчит, он говорит, и говорит даже слишком много. Один из характерных мотивов авторской “болтовни“ – стремление “заметить разность” между Онегиным и им самим. В мелочах ему это, конечно, удается, но в главном он терпит поражение».
Объявив о «поражении» Пушкина, автор переходит к более широким обобщениям: «Русская классика с первого шага, с «Евгения Онегина», столкнулась с отсутствием содержания, она возникла на пустом месте и с этой точки зрения представляет собой любопытнейший пример «умышленной» литературы. В этих условиях она поступила так, как не могла не поступить. Русская классика сделала своим содержанием отсутствие содержания…»
Авторы письма «Кому он нужен этот Ленский?» боролись против изучения устаревшей с их точки зрения книги. С кем и против чего борется «Новый мир», кому и зачем понадобилась подобная экзерсис-провокация, «добросовестная и продуктивная» (?!), исполненная с забытой писаревской безапелляционностью?
Кстати, в том же словаре (т. 3, с. 472), читаем: «Провокация 1. Подстрекательство, побуждение кого-л. (отдельных лиц, групп, организаций и т. д.) к таким действиям, которые повлекут за собой тяжёлые, гибельные для них последствия… 2. Мед. Искусственное возбуждение, усиление каких-либо явлений, признаков болезни…»
Да, большой путь прошел «Новый мир» после АТ. Твардовского. Наступление на классику, предсказанное футуристами, продолжается.
Член редколлегии того же «Нового мира» опубликовала в своём журнале художественное произведение под довольно корявым названием «Любя»144). Действие в нем происходит в Москве в 1940–1941 годах. Главные действующие лица – две пожилые одинокие женщины, какими увидены автором два великих трагических поэта России – Анна Андреевна Ахматова и Марина Ивановна Цветаева. К ним в постель поочерёдно забирается некий прозаик Евгений, предварительно очаровав их своим художественным талантом. Впрочем, о таланте говорится вскользь, с большим энтузиазмом описываются мужские доблести поклонника. Как известно, оба поэта были в это время бездомны. Но если Анна Андреевна во время своих московских приездов жила на Ордынке у своих хороших знакомых, о чем написаны многочисленные мемуары, то автор рисковала, помещая свои сцены в хорошо известную большинству читателей обстановку.
Совсем по-иному складывалась московская судьба Марины Ивановны. С большим трудом: ей удавалось ненадолго снимать случайные квартиры, тесные, неухоженные и неудобные. Так, прозаик, посещая туалет, испытывает неприятные чувства от запущенности помещения, грязи, ржавой цепочки от сливного бачка и т. п.
Но что это? Как быть с «интеллигентными людьми», похоже, испытывающими какой-то садизм, живописуя подобные ситуации? Или пришло время «воспитывать уважение» к вершинам мировой культуры с помощью уголовного кодекса?
Осенью 2005 года телевидение анонсировало многосерийный фильм о Есенине. Я должен повиниться перед читателями, но больше уже не в состоянии оценивать подобные вещи, испытывая к ним физическое отвращение на грани тошноты, и передоверю это газете, чью точку зрения разделяю, за исключением утверждения о том, что «книги его печатались всегда».
Статья называлась – «Белиберда про Есенина»: «Сериал «Есенин» ждали с нетерпением. Увы, ни радости, ни удовольствия детище семейства Безруковых (отец актёра является автором сценария, а сам Сергей – автором идеи и исполнителем главной роли) не доставляет. Кстати, параллельно но одному из каналов идет «Бригада», где Безруков весьма органично играет бандита. Впрочем, не только это разочаровывает многих зрителей (очередная роль актера – Иешуа в инсценировке «Мастера и Маргариты»).
Слишком уж много там неправды, – считает Александр Ушаков, профессор, зав. отделом новейшей русской литературы Института мировой литературы им. Горького. – Само название сериала «Есенин. История убийства» подразумевает, что нам наконец расскажут правду о последних днях великого поэта. Из серии в серию проходят намёки на то, что существует масса закрытых документов. На самом деле это не так. Утерянные и забытые документы есть, а закрытых нет.
Почему было не снять фильм на основе достоверных фактов? Создатели же сериала взяли за основу книгу Безрукова-старшего – откровенно упрощённую беллетристику со множеством домыслов и, извините, дурацких предположений и фантасмагорий. И сценарий представляет собой варево из всего этого145)
Остается только пожалеть о немалых деньгах, затраченных на съемку массовых сцен купеческого разгула, долженствующих изображать «сладкую» жизнь российского поэта.
И все же «продукция» всех этих достаточно многочисленных черемисиных, бирюковых, безруковых не должна заслонять главного. Сегодня многое возвращается из небытия: восстанавливается в своём подлинном виде и русская литература XX века. Рядом с В. Маяковским, С. Есениным, А. Блоком заняли принадлежащие им места В. Хлебников, Н. Гумилёв, В. Ходасевич, О. Мандельштам, Н. Клюев и др. Читатель получил возможность оценить книги М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова и ещё многих.
Возвращаются не только писатели и произведения, возвращаются целые литературные школы и направления: крестьянская поэзия, научно-художественная литература, творчество писателей и поэтов различных нереалистических ориентаций. Получили возможность свободного развития различные направления модернистской литературы: концептуализм, рок-поэзия и т. п.
Большие надежды связываются с возвращением лучших достижений прошлого в области методики преподавания литературы 146).
В этих условиях знание особенностей художественной литературы как одного из видов искусства приобретает особую ценность. Необходимость возвращения изящной словесности в сферу духовных интересов современного человека может быть мотивирована и той ролью, какую она могла бы сыграть в становлении Личности, благотворно повлияв тем самым и на обшественный климат. Острая потребность в этом очевидна.
Объект художественной литературы есть исследование внутреннего мира – мировосприятия, нравственности, психологии, т эстетики – человека в процессе его эволюции и функционирования. Изящная словесность даёт читателю материал для воссоздания в его воображении эстетически достоверного мира: людей и окружающей обстановки во всем богатстве их связей, взаимозависимостей и взаимоотношений. «Отражательный» момент здесь играет куда меньшую роль, чем ему обыкновенно отводится. Художественный мир писателя, главным образом, результат его творческой работы, создание его таланта.
В свою очередь, читатель должен понимать особенности художественной литературы, быть на уровне тех знаний и умений, что позволят ему войти в мир художника, адекватно воспринять и оценить его замысел. У него должно быть ясное представление о механизмах восприятия художественного текста.
Воображение, эмоции, интеллект, интуиция в совокупности способны обеспечить полноценное восприятие произведения. Неучастие хотя бы одного из этих компонентов приводит к уничтожению эстетического эффекта. В недавнем прошлом преподавание литературы опиралось в основном на интеллект обучаемых. Результат известен. Не механическое воспроизведение заученного, а сотворчество – единственно возможный путь постижения искусства. Роль учителя в формировании личности читателя колоссальна, переоценить её невозможно. Воистину богатырскими силами надо ему обладать, чтобы противостоять опасности, исходящей от массовой литературы, чтобы отвлечь учеников от пустого времяпрепровождения, возможности для которого ему щедро предоставляет современная действительность, не забывая при этом о своих уроках и необходимости постоянного повышения квалификации.
Русской литературе возвращены не только имена и книги, возвращается, быть может, самое драгоценное – право свободно выбирать, свободно читать и интерпретировать художественные произведения в одной только зависимости от личных духовных потребностей, желаний, вкусов и предпочтений. Ф.М. Достоевский точно указал: «Художественностью пренебрегают только лишь необразованные и туго развитые люди, художественность есть главное дело, ибо помогает выражению мысли выпуклостию картин и образа, тогда как без художественности, проводя лишь мысль, производим лишь скуку, производим в читателе незаметливость и легкомыслие, а иногда и недоверчивость к мыслям, неправильно выраженным, и людям из бумажки»147).
Примечания
1) От символизма до «Октября». Литературные манифесты / Сост. Н. Бродский и Н. Сидоров. М., 1924. С. 99.
2) Горький М. К демократии (из цикла «Несвоевременные мысли») // Литературная жизнь России 1920-х годов. Т. 1. Ч. 1. М., 2005. С. 58.
3) Зелинский К. На рубеже двух веков. М., 1962. С. 28.
4) БлокА. Интеллигенция и революция // А. Блок. Избранные произведения. Л., 1970. С. 524.
5) Болтянский Г. Ленин и кино. М.; Л., 1925. С. 6—19.
6) О партийной и советской печати. М., 1954. С. 345.
7) Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1956–1961. Т. 6. С. 104.
8) См. книги С. Шешукова «Неистовые ревнители» и Г. Белой «Дон-Кихоты 20-х годов. “Перевал” и судьба его идей».
9) См. книгу В. Бахания (автор-составитель) «Личная, секретная служба И.В. Сталина» (М., 2004).
10) Шкловский В. Гамбургский счет. Л., 1928. С. 5.
11) Маяковский В. ПСС. Т. 6. С. 225.
12) Геротшус Б. Б.А. Лавренев. М., 1993. С. 85.
13) Русская литература XX века: В 2 кн. 3-е изд. М., 2005. Кн. 1. С. 43.
14)Там же. С. 47.
15) Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 380.
16) Сейфуллина. Л. Сочинения: В 4 т. М., 1968. Т. 1. С. 263.
17) Грознова Н. Ранняя советская проза 1917–1925. Л., 1976. С. 115.
18) Сейфуллина Л, Четыре главы. Т. 1. С. 53.
19) Новый мир. 1951. № 2. С. 217.
20) Фадеев А. Мой творческий опыт – рабочему-автору. М., 1934. С. 11–12.
21) Багрицкий Э. Стихотворения. М., 1956. С. 170.
22) Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М, 1949–1955. Т. 25. С. 61.
23) Чудакова М.О. Литература советского прошлого. СПб., 2001. С. 334.
24) Пастернак Б.Л. Цит. по статье Е.Б. Пастернака в книге «Доктор Живаго» (М., 1989. С. 8).
25) Материалы XXII съезда КПСС. М., 1962. С. 410–411.
26) Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 7. С. 482.
27) Русские поэты XX века. М., 2002. С. 228.
28) Толстой А.Н. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1945–1953. Т. 13. С. 401–402.
29) Твардовский А.Т. Собр. соч.: В 5 т. М., 1966–1971. Т. 5. С. 300.
30)Пушкин А.С. ПСС. Т. 5. С. 548–549.
31) Пушкин А.С. ПСС. Т. 7. С. 482.
32) Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1944–1951. Т. 16. С. 160.
33) Вяземский П.А. // Русские писатели– о литературе: В 3 т. Л., 1939. Т. 1. С. 203.
34) Ахматова А А. Стихотворения и поэмы. Л., 1979. С. 203.
35) Пушкин А.С. ПСС. Т. 2. С. 273.
36) Львов С. Книга о книге. М., 1980. С. 108.
37) Русские писатели о литературном труде: В 4 т. Л., 1954–1956. Т. 4. С. 550.
38) Чехов А.П. ПСС. Т. 15. С. 51.
39) Достоевский ФМ. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1976. Т. 11. С. 303.
40) Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. М., 1989. С. 342.
41) Бродский И А. Соч.: В 4 т. СПб., 1995. Т. 4. С. 49–50.
42) Платонов А.П. Чевенгур. М., 1991. С. 142.
43) Новый мир. 1989. № 4. С. 123, 127.
44) Паустовский К.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981–1986. Т. 8. С. 252.
45) Пушкин А.С. ПСС. Т. 2. С. 339.
46) Там же. С. 26.
47) Там же. С. 197.
48) Вересаев В.В. Н.В. Гоголь в жизни. М., 1990. С. 381–382.
49) Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 10. С. 220.
50) С.Т. Аксаков. Письмо сыну – А.С. Аксакову 16 января 1847 года. Цит. по книге Вересаева «Гоголь в жизни». С. 400.
51) П.А. Плетнев – письмо Н.В. Гоголю 13 января 1847 года. Цит. по книге Вересаева «Гоголь в жизни*-. С. 399.
52) Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 27–28.
53) Н.В Гоголь – письмо В.А. Жуковскому 12 ноября 1836 года. Цит. по книге Вересаева «Гоголь в жизни». С. 203.
54) Н.В. Гоголь – письмо В.А. Жуковскому 3 апреля 1849 года. Цит. по книге Вересаева «Гоголь в жизни». С. 442.
55) Н.В. Гоголь – письмо отцу Матвею (1850 год). Цит. по книге Вересаева «Гоголь в жизни». С. 472–473.
56) Н.В. Гоголь – шефу жандармов графу А.Ф. Орлову (вторая половина 1850 года). Цит. по книге Вересаева «Гоголь в жизни». С. 481.
57) Векслер И.И. А.Н. Толстой. Л., 1948. С. 142–143.
58) Толстой АЛ. ПСС. Т. 13. С. 327–328.
59) А.Н. Толстой – письмо в Союз писателей. Цит. по книге И.С. Рождественской и А.Г. Ходюка «А.Н. Толстой. Семинарий» (Л., 1962. С. 174).
60) Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. С. 303.
61) Окуджава Б.Ш. Цит. по: Русские поэты XX века. М., 2002. С. 234.
62) Пушкин А. С. ПСС. Т. 3. С. 369.
63) Блок А. Избранные произведения. Л., 1970. С. 440.
64) Чехов АЛ. ПСС. Т. 17. С. 229.
65) Литературное движение советской эпохи. М., 1986. С. 236–237.
66) Там же. С. 234.
67) Пушкин А. С. ПСС.' Т. 3. С. 373.
68) Чехов АЛ. Записные книжки. 1.110 (Из архива А.П. Чехова. Публикация ГБ). М., 1960.
69) Тютчев Ф.И. Поли. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 126.
70) Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4 т. М.; Пг„1923. Т. 2. С. 94.
71) Русские писатели о литературном труде. Т. 4. С. 490–491.
72) Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 432.
73) Чехов А.П. ПСС. Т. 11. С. 213.
74) Пушкин А.С. ПСС. Т. 7. С. 404.
75) Художественное восприятие: Сб. статей. Л., 1971. Т. 1. С. 158.
76) Советский читатель: Сб. статей. М., 1968. С. 138.
77) Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество //Вопр. литературы. 1961. № 2. С. 42–43.
78) Хлебников В.В. Творения. М., 1987. С. 54.
79) A.П. Чехов о литературе. М., 1955. С. 308.
80) Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. 15. С. 75.
81) Пушкин А.С. ПСС. Т. 3. С. 265.
82) Грекова И. Без улыбок// Октябрь. 1986. № 11. С. 162–163.
83) Вопросы литературы. 1970. № 2. С. 45.
84) Горький М. ПСС. Т. 24. С. 330–331.
85) Горький М. ПСС. Т. 27. С. 312.
86) Пришвин М.М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1956–1957. Т. 6. С. 746.
87) Толстой А.Н. ПСС. Т. 13. С. 562.
88) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 8. С. 262–263.
89) Там же. Т. 3. С. 216–217.
90) Там же. Т. 1. С. 438.
91) Белинский ВТ. ПСС. Т. 4. С. 489.
92) Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 141.
93)Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 19. С. 154.
94) Булгаков М.А. Избранная проза. М., 1966. С. 54–55.
95) Русская советская литература: Для 10 класса. М., 1987. С. 266.
96) Чапек К. Война с саламандрами. М., 1980. С. 247.
97) А.П. Чехов о литературе. М., 1955. С. 279–278.
98) Л.Н. Толстой – письмо Н.Н. Страхову (1877 год) // Русские писатели о литературном труде. Т. 3. С. 495.
99) Домбровский Ю.О. Знамя. 1990. № 4. С. 6.
100) Паустовский КТ. ПСС. Т. 5. С. 250–251.
101) Гамзатов Р. Собр. соч.: В 5 т. М., 1981. С. 89–91.
102) Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 117.
103) Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. С. 217–218.
104) Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 8. С. 476.
105) Русские писатели о литературном труде. Т. 2. С. 361.
106) Пушкин А.С. ПСС. Т. 7. С. 193.
107) Чехов А.П. ПСС. Т. 14. С. 417.
108) Маяковский В.В. Т. 12. С. 120–121.
109)Платонов А.П. Избранные произведения. М., 1983. С. 390.
110) Булгаков М.А. Избранная проза. С. 507.
111) Ким А.А. Белка: роман-сказка. М., 1984. С. 92–93.
112) Паустовский К.Г. Сражение в тишине // Известия. 1962. 28 окт.
113) Паустовский К.Г. Поэзия прозы // Знамя. 1953. № 9. С. 170–171.
114) Паустовский В.К. Прививка к географии // Воспоминания о Паустовском. М., 1983. С. 459.
115) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 6. С. 442.
116) Блок АЛ. Избранные произведения. Л., 1970. С. 448.
117) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 5. С. 583.
118) Литературная газета. 1954. 31 декабря.
119) Паустовский К.Г. Как я работаю над своими книгами. М., 1934. С. 16.
120) Левицкий Л. А. За десять лет // Воспоминания о Паустовском. М., 1983. С. 365.
121) Звезда. 1959. № 8. С. 197.
122) Дружба народов. 1956. № 4. С. 166.
123) Радуга. 1972. № 6. С. 129.
124) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 3. С. 658.
125) Там же. С. 164.
126) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 8. С. 222.
127) Чехов А.П. ПСС. Т. 14. С. 368.
128) Октябрь. 1934. № 10. С. 203.
129) Паустовский К.Г. Как я работаю над своими книгами. С. 26.
130) Паустовский К.Г. Наедине с осенью. М., 1967. С. 115.
131) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 3. С. 365.
132) Там же.
133) Паустовский К.Г. Верные друзья // Пионерская правда. 1953. 27 марта.
134) РГАЛИ. Фонд 2464, on. 1, ед. хр. 322.
135) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 3. С. 231.
136) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 4. С. 295–296.
137) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 3. С. 32.
138)Паустовский К.Г. ПСС. Т. 8. С. 257–258.
139) Паустовский К.Г. ПСС. Т. 4. С. 62.
140) Огонёк. 2001. № 21. С. 4–45.
141) Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 13.
142) Пушкин А.С. ПСС. Т. 3. С. 73.
143) Пушкин АС. ПСС. Т. 3. С. 78.
144) Новикова О. Любя. Новый мир. 2005. № 10.
145) Аргументы и факты. 2005. № 45.
146) Ланин Б Л. Методика преподавания и изучения литературы. Антология. Саппоро: Центр славянских исследований, университет Хоккайдо, 2001,
147) Неизданный Достоевский. Литературное наследство. М., 1971. Т. 83. С. 376.
Литература
Вахтин М. Вопросы литературы и эстетики.
Берков П. Введение в технику литературоведческого анализа.
Бирюков С. Зевгма. М., 1994.
Блисковский 3. Муки заголовка.
Бобринская Е. Русский авангард. Истоки и метаморфозы. М., 2003. Буало Н. Поэтическое искусство.
Вайль П., Генис А. Родная речь. М., 1991.
Веселовский А. Историческая поэтика.
Виноградов В. О языке художественной литературы.
Выготский Л. Психология искусства.
Гаспаров М. Метр и смысл. М., 2000.
Гинзбург Л. О лирике.
Гиришан М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. М., 1991.
Григорьев В. Поэтика слова.
Грифцов Б. Психология писателя. М., 1988.
Добин Е. Сюжет и действительность.
Дрыжакова Е. В волшебном мире поэзии.
Жолковский А. Блуждающие сны.
Зайцев В. История русской поэзии XX века. М., 2001.
Зыбайло М., Шапинский В. Постмодернизм. М., 1993.
Иванова Н. Литературный дефолт. Знамя. 2004. № 10.
Иванова С. Введение во храм слова. М., 1994.
Каверин В. Эпилог.
Если выходные данные книги не указаны, можно использовать любое издание.
Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М., 1996.
Колкер Ю. О Первом съезде советских писателей // Звезда. 2004. № 10. Княжицкий А. и др. Опыты стиховедения. М., 1995.
Кожинов В. Стих и поэзия.
Конрад И. Восток и Запад.
Ларин Б. Эстетика слова и язык писателя.
Левидов А. Автор – образ – читатель.
Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: 1950–1990: В 2 т. М., 2003
Литературное движение советской эпохи: Материалы и документы. М., 1986.
Лотман Ю. Анализ поэтического текста.
Львов С. Книга о книге.
Манн Ю. Динамика русского романтизма.
Масанов Ю. В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок.
Мейлах Б. Талант писателя и процесс творчества.
Мелетинский Е. Поэтика мифа.
Михайлов А. Азбука стиха.
Мысль, вооружённая рифмами / Сост. В. Холшевников. Л., 1983.
Никифорова Н. Психология восприятия художественной литературы.
Новиков А. Художественный текст и его анализ.
Овчаренко О. Русский свободный стих.
Парандовасий Я. Алхимия слова.
Поучение о чтении. М., 1997.
Прозоров В. Читатель и литературный процесс.
Рассадин В. Книга про читателя.
Рождественский В. Жизнь слова.
Русская литература XX века: В 2 кн. М., 2005.
Самойлов Д. Книга о русской рифме.
Сорное В., Рассадин С. Рассказы о литературе.
Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. М., 2004.
Тимофеев Л. Слово в стихе.
Успенский Б. Поэтика композиции.
Хализев В. Драма как род литературы.
Хализев В, Ценностные ориентации русской классики. М., 2005.
Цейтлин А. Труд читателя.
Человек читающий / Сост. С.И. Бэлза. М., 1983.
Чудакова М. Литература советского прошлого. М., 2001.
Шкловский В. Гамбургский счет.
Шкловский В. Энергия заблуждения. Книга о сюжете.
Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков. М., 1988.
Тематика рефератов, курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций и эссе
✓ Русская литература 1917–1953 годов – проблемы эволюции.
✓ Русская поэзия в годы оттепели.
✓ Поэтика «другой» прозы.
✓ Проза 70—80-х годов: проблематика и поэтика.
✓ «Бронзовый» век русской поэзии XX века.
✓ Функции слова и образа в создании художественного мира писателя.
✓ Роль слова в работе воображения читателя.
✓ Новояз, его природа и функции.
✓ Виды художественной литературы.
✓ Логическое и эмоциональное восприятие разных видов художественной литературы.
✓ Беллетристика, ее жанры и особенности восприятия.
✓ Виды художественной литературы в их связи с литературным процессом.
✓ «Тайная свобода» (А. Блок) и ее роль в деятельности писателя.
✓ Художественная литература и духовные потребности личности.
✓ Психологические механизмы восприятия художественного слова.
✓ Историческое время и его влияние на восприятие художественной литературы.
✓ Интуиция и ее роль в оценке художественного слова
✓ Роль вымысла в творческом процессе писателя.
✓ Документ и вымысел в работе писателя.
✓ «Правда действительная» и «правда художественная»– в анализе и оценке литературного произведения.
✓ Достоверность и фантазия в достижении художественной правды.
✓ Гамбургский счет в определении критериев художественной правды.
✓ Проблема современного прочтения художественной классики.
✓ «Вечное» и «злободневное» в оценке содержания художественного произведения в зависимости от времени чтения.
✓ Система жанров классической и современной литературы.
✓ Жанр художественного произведения в творческом процессе читателя.
Конкретизация избранной темы производится в процессе консультации с преподавателем.

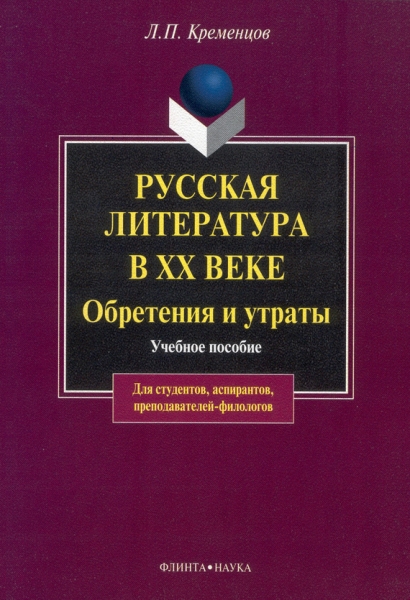

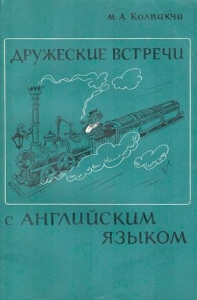


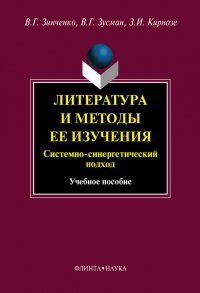
Комментарии к книге «Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты: учебное пособие», Леонид Павлович Кременцов
Всего 0 комментариев