Вячеслав Михайлович Головко Историческая поэтика русской классической повести
Предисловие
Историческая поэтика – детище отечественной филологической науки, хотя у истоков этой дисциплины стояли не только русские, но и европейские учёные XIX в., занимавшиеся сравнительно-типологическим изучением явлений мировой литературы и на этой основе делавшие выводы об эволюции отдельных форм словесного творчества и целых художественных систем. Её зарождение связано с научной деятельностью академика А.Н. Веселовского (1838–1906), создателя «новой», «индуктивной поэтики»[1], который впервые определил предмет, разработал методологию изучения и сформулировал задачи исторической поэтики. Актуализируя принцип историзма в научном познании, этот выдающийся учёный принципиально обновлял теорию литературы, знания о генезисе поэтических жанров и родов, сюжетов и мотивов, о закономерностях развития мировой литературы. Нормативной теории и истории литературы он противопоставлял идею «генетической» поэтики, основанную на понимании роли собственно эстетических и внеэстетических факторов литературного развития. Целью этой научной дисциплины А.Н. Веселовский считал изучение «эволюции поэтического сознания и его форм»[2], подчеркивая при этом, что «метод новой поэтики будет сравнительным»[3].
Рассматривая историю литературы как «историю общественной мысли в образно-поэтическом переживании и выражающих его формах»[4], учёный в 1870 г. говорил во вступительной лекции к курсу всеобщей литературы, который он читал в Петербургском университете: «История литературы, в широком смысле этого слова, – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом. Если… в истории литературы следует обратить особенное внимание на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу – проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие»[5].
А.Н. Веселовский «индуктивную поэтику» рассматривал в рамках «методики истории литературы», создаваемой с целью «выяснения сущности поэзии – из её истории»[6], причём рассматривал в парадигме содержательности форм, взаимосвязи типологического и исторического. Предостерегая от «умозрительных построений» в этой области, он обращал внимание на важность изучения природы эстетической деятельности и специфики восприятия: «Задача исторической поэтики… – определить роль и границы предания в процессе личного творчества»[7]. При этом в контексте преодоления эмпиризма в научном познании им формулировался вопрос, суть которого заключалась в необходимости «отвлечь законы поэтического творчества и отвлечь критерий для оценки его явлений из исторической эволюции поэзии»[8].
«Отвлечение», «снятие» данных эволюции поэтических систем, исторически складывавшейся общности, целостности на разных уровнях эстетической реальности в целях определения закономерностей развития художественного сознания, форм его выражения обусловливает тесную связь проблем истории и теории литературы при изучении предмета «индуктивной поэтики». В этом сходятся все специалисты по исторической поэтике. В понимании самого А.Н. Веселовского, как и его современника, немецкого литературоведа В. Шерера, «историческая поэтика означала попросту теорию литературы, основанную на принципах историзма»[9]. Развивая идеи А.Н. Веселовского, современные учёные придают синтезу теории и истории литературы – как сущностной стороне исторической поэтики – особое значение. И.К. Горский утверждает, что «поэтика в истинном значении этого термина есть прикладная литературная теория»[10]. М.Б. Храпченко рассматривал историческую поэтику как «звено связи между общей теоретической поэтикой и историей литературы»[11]. А.В. Михайлов видит задачу исторической поэтики в «сближении, опосредовании и совмещении теоретического и исторического знания о литературе»[12]. С.Н. Бройтман акцентировал внимание на том, что «связанная с историей литературы, историческая поэтика тем не менее является теоретической дисциплиной, имеющей свой предмет изучения»[13].
Но предмет этой научной дисциплины понимается по-разному, что объясняется синтетическим, комплексным её характером, а также тем, что после А.Н. Веселовского, по ряду причин не завершившего работу по созданию единой всеобщей поэтики, это направление научного знания разрабатывалось не столь интенсивно, как остальные разделы поэтики (теоретическая, систематическая и частная, описательная поэтика). Приведём наиболее значимые определения предмета исторической поэтики, дающие представление о современном состоянии её изучения.
М.Б. Храпченко писал, что «содержание, предмет исторической поэтики целесообразно охарактеризовать как исследование эволюции способов и средств образного освоения мира, их социально-эстетического функционирования, исследование судеб художественных открытий»[14]. «Построение исторической поэтики развёртывается… – считает А.В. Михайлов, – во взаимопроникновении литературной теории и истории литературы – и притом непременно так, чтобы этот процесс взаимопроникновения и слияния теории и истории литературы выходил в широту истории культуры и в ней, в её развитии, в её многообразных материалах черпал свою внутреннюю логику»[15].
В.Е. Хализев отмечает, что «историю поэтик в составе литературного процесса призвана освоить историческая поэтика как научная дисциплина»[16]. Предмет исторической поэтики, по мнению С.Н. Бройтмана, учитывающего опыт разграничения архитектонических форм М.М. Бахтина и его концепцию «эстетического объекта», «произведения в целом»[17], включает в себя изучение «генезиса и эволюции художественных форм… и содержание эстетической деятельности»[18]. Поскольку «формы видения и осмысления определённых сторон мира накопляются в жанрах (литературных и речевых) на протяжении веков их жизни», а «главной проблемой исторической поэтики» является жанр[19], то вполне объясним интерес исследователей к жанровым модификациям и исторически складывавшимся жанровым типам, характерным для разных историко-культурных эпох[20], реализуемый в процессе изучения литературной эволюции.
Предметом научной рефлексии стала и эволюция самого метода исторической поэтики, рассматриваемая на основе теоретических и историко-литературных работ М.М. Бахтина: «от сравнительно-исторического к историко-типологическому»[21]изучению стадиального развития поэтических систем.
Но в любом случае, как можно судить по двум итоговым коллективным трудам[22] и работам недавнего времени по исторической поэтике[23], в исследованиях по этой тематике рассматривается «эволюция поэтического сознания и его форм», а роды и жанры литературы освещаются в парадигме преемственной связи литературных эпох и в теоретическом аспекте.
Типы художественного сознания фиксируются на уровне эпохальных стадий мирового литературного процесса, и ещё А.Н. Веселовский рассматривал их, «исходя из идеи единства мира и общности законов человеческого развития»[24]. В рамках таких стадий литературной эволюции (по А.Н. Веселовскому – эпох «синкретизма» и «личного творчества») происходит смена «больших стилей», что в такой же мере осваивается исторической поэтикой, как и внутренняя динамика в границах этих стилей.
Закономерная трансформация типов художественного сознания в её органической связи с содержанием эстетической деятельности рассматривается в исследовании С.Н. Бройтмана, выделяющего следующие стадии в истории поэтики: «эпоха синкретизма», эйдетическая (нормативная) поэтика и поэтика художественной модальности (неканоническая, индивидуально творческая)[25]. В работах по исторической поэтике наряду с исследованием универсальной стадиальности развития художественных систем освещаются и проблемы эволюции форм «поэтического сознания» в различных национальных литературах, на уровне художественно-познавательных циклов, этапов, периодов развития жанров и функциональных отношений между ними. В процессе изучения эволюции литературы, как подчеркивал Ю.Н. Тынянов, «доминирующее значение главных социальных факторов… не только не отвергается, но должно выясняться в полном объёме, именно в вопросе об эволюции литературы, тогда как непосредственное установление «влияния» главных социальных факторов подменяет изучение эволюции литературы изучением модификации литературных произведений, их деформации»[26].
Будучи научной дисциплиной, синтезирующей проблемы теории и истории литературы, историческая поэтика включает в свой эпистемологический арсенал исследовательские практики современной герменевтики. В процессе изучения теории, типологии и поэтики литературных жанров герменевтический опыт используется в целях освещения «понимающей» специфики жанра. Как писал М.М. Бахтин, «каждый жанр способен овладеть лишь определёнными сторонами действительности, ему принадлежат определённые принципы отбора, определённые формы видения и понимания этой действительности, определённые степени широты охвата и глубины произведений»[27].
О возможностях применения герменевтических технологий при изучении вопросов исторической поэтики уже ставился вопрос в научной литературе[28]. Когда рассматриваются в таком аспекте литературные жанры, то вопрос о соприродности «частей» и «целого» каждого из них приобретает особую значимость: благодаря такому исследованию выявляются исторические формы выражения понимающего потенциала жанра, основные стадии его эволюции. «Строгая аналитическая логика и установка на герменевтически целостное познание, – справедливо замечает В.Е. Хализев, – это две неотъемлемые грани освоения истории культуры и, в частности, литературного процесса»[29]. Изучение исторической поэтики жанра или какой-либо стадии его эволюции конкретизирует наше представление о закономерностях литературного развития.
Историческая поэтика русской классической повести как феномен поэтики художественной модальности рассматривается в том виде, в каком оформился этот жанр во второй половине XIX в. Данный жанровый тип анализируется в герменевтической парадигме, в двух взаимосвязанных аспектах: в центре внимания находятся познавательные возможности этого жанра, законы эстетического «видения» и «понимания» действительности в нём и принципы исследовательской интерпретации исторически сложившейся целостности жанра, обладающей смыслообразующими свойствами и качествами.
Введение
Повесть до сих пор остаётся наименее изученным, а потому наиболее дискуссионным жанром эпической прозы. В теоретических работах, в обобщающих историко-литературных исследованиях отмечается, что «жанр этот весьма лабильный, гибридный, существующие границы между повестью и рассказом, повестью и небольшим романом весьма подвижны»[30], что «жанровые особенности повести трудно уловимы для оформления в научные категории», поскольку она, «занимая срединное место между романом и рассказом, как бы растворяет свои приметы в их художественных структурах»[31].
Такие суждения можно подкрепить примерами из творческой практики многих писателей. Как «большой роман» задумана была, скажем, повесть «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского, как романы писались вначале повести «Захудалый род» Н.С. Лескова и «Казаки» Л.Н. Толстого. Уже завершенную повесть «Житие одной бабы» Лесков пытался переработать в «крестьянский роман»[32]. Нередко писатели сами по-разному определяют жанр одного и того же произведения, называя его одновременно повестью и рассказом («Странная история», «Пунин и Бабурин», «Песнь торжествующей любви» И.С. Тургенева) или повестью и романом («Вешние воды», «Клара Милич» Тургенева, «Казаки» Толстого). Типичные повести в ряде случаев появлялись в печати с подзаголовками «рассказ» («Крапивники» И.А. Салова, «Очарованный странник» Лескова, «Накануне ликвидации» А.О. Осиповича-Новодворского) или «очерк» («Воительница» Лескова, «Полоса» Л. Нелидовой (Л.Ф. Ломовской-Маклаковой), «Учительница» Н.Д. Хвощинской), что было связано с особенностями повествования (например, от лица рассказчика) или с целевыми установками изображения (повести нравоописательного характера, содержащие элементы «физиологизма» и т. д.). «Благодеяние» А. Н. Плещеева имеет авторское жанровое определение «рассказ», но вполне может восприниматься как небольшая повесть. «Романоподобный» рассказ Тургенева «Отчаянный», по авторскому определению «студия типа»[33], несмотря на новеллистичность повествования, явно тяготеет к «средней эпической форме». Порою исследователи одному и тому же произведению дают разные жанровые определения. «Трудное время» В. А. Слепцова, например, рассматривают то как роман, то как повесть, причём даже в одной и той же работе[34]. «Живые игрушки» М.А. Воронова относят как к повестям, так и к рассказам. «Несчастные дети» того же писателя в журнальной публикации имели подзаголовок «рассказ»[35], но произведение рассматривается и в составе повестей[36].
В ряде случаев необычность повестей синтетического типа фиксировалась авторами на уровне специфических жанровых обозначений («Стук… стук… стук!..» И.С. Тургенева – «студия», «Смех и горе» Н.С. Лескова – «potpourri», «Старческий грех» А.Ф. Писемского – «совершенно романическое приключение» и т. д.).
Появление романических повестей объясняется поисками такой эпической формы, которая была бы адекватной содержанию, выходящему за рамки традиционного жанрового охвата жизненного материала. В этом проявляются тенденции развития художественного сознания литературной эпохи второй половины XIX в. Обновление «идеи человека», лежащей в основе творческого метода[37], активизировало свойственные повести тенденции к изменчивости, подвижности, к взаимодействию с другими жанрами, к интеграции на родовом и видовом уровнях. Динамизм жанровой структуры обеспечивал «жизнеспособность» повести. «Архаика» жанра[38] определяла логику структурирования художественного мира произведений, которой проверялись «идеи времени»[39], отношения между действительностью и идеалом писателя.
Поиски новых форм и средств художественной типизации, в том числе и в области обобщающих функций жанра, осуществлялись в соответствии с основными особенностями его структуры. Наглядный тому пример – творческая история повести Толстого «Казаки». Содержание произведения, как писал сам автор, «по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов», явно не вмещалось в объём сюжета традиционной повести[40]. С теми же проблемами сталкивался Толстой и при работе над «Поликушкой». Тургенев тонко уловил «дисбаланс» обильного, многостороннего «материала» и формы повести («материалу уж больно много потрачено»[41]). Проблематика и структура толстовских повестей формировались в контексте раздумий писателя о народе как движущей силе истории, воплотившихся в разных произведениях, и это отражалось на поисках в области жанра.
Расширение границ изображаемой жизни, характеризующее диахронию повести историко-литературной эпохи русского классического реализма, связано с постановкой таких социально-философских и нравственных проблем, раскрытие которых относится, казалось бы, к компетенции романа. Усиливалась «информативность» повести, совершенствовались присущие ей принципы и формы художественного обобщения, углублялся аналитизм в изображении целостного бытия человека, в познании связей «родового» (общесоциального, общечеловеческого), «видового» (социально-исторического, социально-конкретного) и «индивидуального» в образе-типе, более гибкими и подвижными становились связи между разными по типу детерминантами, сложившимися в многоуровневую систему.
Поскольку, по словам одного из современных прозаиков, границы повести «размываются… с обоих берегов», то есть со стороны как «больших», так и «малых» эпических форм[42], то нередко отнесение того или иного произведения к жанру повести требует дополнительных аргументаций.
Безусловно, законы «отвердевания» идейного содержания, свойственные повести, являются устойчивыми, «повторяемыми» в произведениях этого литературного вида. Но не меньшую роль в жанрообразовании играют и поиски писателями новых средств «опредмечивания» эстетической концепции действительности. Имея в виду именно это, Л.Н. Толстой писал в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»»: «… В новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести»[43]. «Преодоление» «формальной закрепленности выражения» в жанре повести является чрезвычайно активным фактором его обновления. Некоторые исследователи склонны усматривать в этом даже важный отличительный признак повести.
В связи с тем, что в системе «целого» жанра его «части» (жанрообусловливающие, жанроформирующие и жанрообразующие факторы и жанрообразующие средства) обладают относительной самостоятельностью, развитие повести сопровождается «обособлением» этих «частей», не выводимых друг из друга, но органически взаимосвязанных. Те или иные трансформации на «территории» «частей» (сюжет, характерология, хронотоп и т. д.) ведут к тому, что не только «части», но и «целое» приобретают новое качество. В результате этого логическая непротиворечивость внутренних связей традиционной целостности может «нарушаться». Но это «нарушение» следует рассматривать как проявление новых тенденций в структурировании «смыслового целого»[44]. При этом факторы жанрообусловливания повести («тип проблематики», жанровая концепция человека в его отношении к миру), основные конструктивные принципы, специфика тематического и художественно-завершающего оформления действительности[45] остаются «устойчивыми», сохраняют свои жанровые особенности.
Писатели, критики, литературоведы всегда пытались определить критерии дифференциации повести в ряду других жанров эпической прозы. Это остается актуальным и для современной науки. Совершенно очевидно, что объём текста не может быть определяющим принципом в такого рода типологических исследованиях[46]. Следует исходить из жанровой «концепции человека»18, из «существенного, предметного, тематического завершения», «тематической ориентации на жизнь» данного жанра, которой обусловлены его специфические способы и средства «видения и понимания действительности»[47].
Именно этими факторами обусловлено жанровое «событие»[48] повести, её устойчивые конструктивные принципы, которыми направляется логика развития жанра. Эта динамика связана с выявлением его внутреннего потенциала, содержательных возможностей данной жанровой структуры, что в конечном счёте определяется потребностями эстетического освоения новых аспектов в отношениях человека к миру, познания самой меняющейся действительности.
Глава I Жанр как категория теоретической и исторической поэтики
1.1. Современная теория литературного жанра: вопросы методологии и поэтики
Процесс изучения проблем органической целостности повести как жанра значительно осложняется тем, что жанрология относится к числу дискуссионных литературоведческих проблем. Это область науки не столько наименее разработанная, как принято считать, сколько плюралистичная по характеру концепций и аргументаций, нередко противоречащих друг другу. Одни и те же понятия, причём такие основополагающие, как «жанр», «вид», «жанровое содержание», «жанровая форма», «жанровая норма», «жанровая доминанта», «жанровый тип», «жанровые разновидности», «жанроформирующие», «жанрообразующие факторы» и др., нередко трактуются по-разному как в смысловом, так и в функциональном отношениях. Одни теоретики практически отождествляют «род» и «жанр» или «вид» и «жанр»[49]; другие рассматривают лишь такую бинарную систему, как «род – жанр»[50]; третьи трактуют жанр как «одну из форм бытования, существования рода литературы», понимают связь рода и жанра как соотношение «сущности и явления» или рода – вида – жанра как соотношения от общего к частному[51]; четвертые, констатируя факт существования противоположных тенденций, – «к универсализации наиболее характерной особенности одной из «родовых» структур и к уяснению общей для них всех многомерной модели «произведения как такового»», актуализируют проблему различения родовых и жанровых инвариантных структур[52]; пятые акцентируют внимание на вопросах особенностей раскрытия в жанрах родового «содержания»[53].
«Роман», «повесть», «рассказ» и т. д. во многих теоретических и историко-литературных исследованиях рассматриваются как «жанры»[54], в работах М.М. Бахтина, А.Я. Эсалнек – как «жанровые типы»[55], а в учебных пособиях Г.Н. Поспелова, О.И. Федотова – как «жанровые или литературные формы рода»[56]. Если Г.Н. Поспелов, Ю.В. Стенник и др., характеризуя «роман», «повесть», «рассказ» и т. д., различают понятия «жанр» и «жанровая форма»[57], то И.К. Кузьмичёв, О.И. Федотов отождествляют их[58]. Н.Л. Лейдерман вслед за Ю.Н. Тыняновым говорит о наличии у каждого жанра своего «конструктивного принципа»[59], в то время как Г.Н. Поспелов отрицает жанровую функцию художественной конструкции[60].
«Жанровое содержание» Г.Н. Поспелов определяет как «исторически повторяющиеся аспекты проблематики произведений»[61], И.К. Кузьмичёв как «жанровую проблематику», «жанровый центр тяготения»[62], Н.Л. Лейдерман – как «жанровую доминанту»[63], а В.Д. Днепров как «содержание», которому соответствует жанр[64].
Термин «жанровая форма» используется в разном значении: у Л.И. Тимофеева «жанровая форма» и «вид» являются синонимичными понятиями[65], Г.Н. Поспелов и И.К. Кузьмичёв таким образом определяют жанры (роман, повесть, новелла, рассказ и т. д.)[66], а О.И. Федотов – их разновидности[67]. В.В. Кожинов характеризует содержательную жанровую форму как «целостную систему особенностей сюжета, композиции, художественной речи, ритма повествования»[68]. В.Д. Днепров «жанровые формы» генетически связывает с методом[69]. Для Н.Л. Лейдермана это, скорее, «типы конструктивных компонентов формы», система элементов, «носителей жанра»[70]. В.Н. Захаров «жанровой формой» называет систему повествования (например, жанровая форма «записок»)[71].
Такая категория, как «жанровая доминанта», в одних случаях употребляется при определении жанра, занимающего ведущее положение в жанровой системе историко-литературного периода[72], в других – как синоним термина «жанровое содержание»[73], в-третьих – в целях описания специфических особенностей, определяющих жанровые разновидности.
Как факторы, формирующие, определяющие жанр, М.М. Бахтин рассматривает «тип завершения целого» и хронотоп[74], а Н.П. Утехин – тип повествования, сюжет, художественное время, способы выражения авторского начала[75]. В исследованиях В. Н. Захарова тип повествования, концепция повествовательного времени и сюжетно-композиционная структура трактуются как жанрообразующие принципы[76]. По сути, к компетенции жанрообразования относит эти категории и Ю.В. Шатин (на их основе выделяются «нормативный», «генетический», «конвенционный» аспекты жанра[77]). Н.Л. Лейдерман и В.П. Скобелев данные «структурообразующие принципы» наряду с другими («мотивировки восприятия», «ассоциативный фон произведения», «структура читательского восприятия») включают в систему «носителей жанра»[78].
Такие примеры показывают, что направления в разработке теории жанра, трактовки категорий жанрологии находятся в непосредственной зависимости от того, какой уровень типологических обобщений избирается и утверждается авторами в качестве жанроопределяющего.
До сих пор противостоят один другому два основных подхода к проблеме эстетической сущности жанра, когда эта категория рассматривается либо как содержательно-формальная, либо как проблемно-содержательная.
Для дальнейшего историографического анализа важно указать на то, как в данной работе трактуются категории «жанрового содержания», «жанровой формы» и «жанровой структуры».
Жанровое содержание – тип проблематики жанра, особая «тематическая ориентация» на жизнь, содержательный охват материала («определённые стороны действительности»), «сущность содержания».
Жанровая форма – типология конструктивного целого, воплощающего жанровое содержание («тип проблематики») и вбирающего особенности поэтики всех разновидностей жанра; форма жанрового содержания, особенности художественно-завершающего оформления действительности (жанровая «модель» мира), обусловленного «тематической ориентацией на жизнь» («тематическим завершением»); «объём содержания», способы, средства «видения» и «понимания» действительности, доступные именно данному жанру (типы конструктивных компонентов формы), система средств и способов «понимающего овладения и завершения действительности» (терминология М.М. Бахтина).
Жанровая структура – строение и внутренняя организация целостной жанровой системы, обладающей фиксированными свойствами и характеризующейся единством устойчивых и динамичных взаимосвязей между её компонентами.
Существованием разных методологических подходов к проблеме жанра объясняется тот факт, что одни теоретики литературы рассматривают эту категорию как структурирующую смысл художественную форму[79], другие как лишь один и притом отвлечённый «типологический аспект содержания»[80]. В том случае, когда за основу изучения жанра берётся общность содержательных структурных принципов, эта категория рассматривается как «форма тяготения к образцам»[81], как «отвердевшее, превратившееся в определенную литературную конструкцию содержание»[82], как «форма целого», являющаяся «результатом активности автора-творца и внеэстетической закономерности, которая проявляется в сознании и позиции героя»[83].
Тогда же, когда изучение жанра зиждется на основе выявления «повторяющейся жанровой общности… произведений… в пределах» их содержания, доминантной стороной исследования оказывается не столько конкретно-историческое, сколько типологическое в жанре[84]. В этом случае жанр, точнее, «жанровые формы» рассматриваются как «разновидности родовых форм».
Обобщая данные основных направлений теории жанра XX в., прежде всего представленных работами М.М. Бахтина, исследователь приходит к выводу, что «для теории жанра имеет основополагающее значение создание такой модели произведения, которая не только объясняла бы его многомерность, но и учитывала доминирование в различных случаях того или иного аспекта его структуры» (С. 92). Однако непоследовательность в анализе теории целостности жанра М.М. Бахтина не позволила Н.Д. Тамарченко сделать предметом научной рефлексии самое главное в жанрологической концепции М.М. Бахтина – положение о жанре как «сложной системе средств и способов понимающего овладения и завершения действительности». См.: [Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 181.
Во многих работах последних лет концепция жанра как категории внутреннего деления рода всё более активно вытесняется идеей жанра как основы классификаций, когда род оказывается явлением вторичным, то есть уточняющим жанровые черты произведений [85].
Традиционная система «род – вид – жанр», в которой жанр рассматривается как видовое по отношению к литературному роду образование, сосуществует наряду с другими, основанными на тех классификационных критериях, которые в известной мере уравнивают эти категории, – «полицентрической», «многоуровневой», «перекрёстной»[86] и т. д. Эти системы вызывают не только позитивные, но и критические оценки исследователей[87].
Основными критериями жанровой дифференциации эпической прозы, принятыми за основу теми или иными учёными, определяются принципы типологического изучения жанров: проблемно-содержательный (Г.Н. Поспелов, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек и др.), функционально-структурный или структурно-семантический (М.М. Бахтин, Ю.Н. Тынянов, М.Б. Храпченко, В.В. Кожинов, Ю.В. Стенник, Н.Л. Лейдерман, Н.Д. Тамарченко и др.), жанрово-родовой (жанровая типология извлекается из общего понятия о роде литературы) (Г.Л. Абрамович, Л.И. Тимофеев, И.К. Кузьмичёв, Н.П. Утехин и др.) и жанрово-видовой (видовая типология извлекается из особенностей содержания и формы художественных произведений), при котором предметом исследования становятся жанровые разновидности (Н.П. Утехин, В.С. Синенко, А.И. Кузьмин и др.).
Некоторые исследователи, стремясь к более чёткому отделению вида от жанра, делают акцент на аспектах художественной формы (Б.В. Томашевский, В.П. Скобелев, О.И. Федотов и др.). Другие, напротив, категорию вида практически исключают из понятийного арсенала жанрологии (Г.Н. Поспелов, Н.Д. Тамарченко и др.). Особенно это характерно для исследователей, которые рассматривают жанр на основе проблемно-содержательного принципа.
Однако практика теоретических и историко-литературных исследований показывает, что изучение жанра осуществляется на уровне двух теоретических абстракций: во-первых, при изучении исторически сложившегося типа художественной конструкции, «опредмечивающей» определённое содержание в конкретном произведении, во-вторых, при идентификации видовых характеристик, когда объектом анализа становится содержательно-формальная целостность более отвлеченного характера[88].
Этот вопрос имеет принципиальное значение, и не только потому, что как первый (собственно жанровый), так и второй (видовые черты) уровни абстракции определяются и трактуются по-разному. Дело ещё в том, что в ряде исследований по жанрологии наблюдается их неоправданное отождествление или, напротив, противопоставление, что и ведет к растворению понятия «жанр» в других категориях[89], к абсолютной автономности жанрово-родовой и жанрово-видовой типологий (Н.П. Утехин), к разрушению идеи целостности жанра (Г.Н. Поспелов).
Ю.Н. Тынянов эти категории не разрывал и не отождествлял, рассматривая как соотношение «жанра» и «вида». Так, в статье о жанровой природе и специфике оды он писал: «Вид оды был сознаваем высшим видом лирики… Ода была важна не только как жанр, а как и определённое направление поэзии. <…> Сосуществование с одою других лирических видов, длившееся всё время её развития, этому развитию не мешало, ибо виды эти сознавались младшими. Старший жанр, ода, существовала не в виде законченного, замкнутого в себе жанра, а как известное конструктивное направление»[90]. Совершенно очевидно, что речь идёт о разных уровнях изучения оды: в отличие от первого уровня абстрагирования содержательно-формальной целостности, то есть собственно жанра, второй её уровень предполагает «снятие» жанровых признаков на уровне «вида».
Вид – это типологическое выражение наиболее общих конструктивных принципов, присущих всем разновидностям жанра; это крупные типы содержательно-формальных единств, которые трансгредиентны всей истории развития жанра.
Вызывают сомнение такие работы, в которых жанр трактуется только как абстракция второго порядка, хотя это может быть и не выражено на понятийном уровне. Подобная тенденция характерна прежде всего для исследований Г.Н. Поспелова и И.К. Кузьмичёва, которые не случайно отдают предпочтение такому типологическому определению, как «жанровая группа». Первый из названных авторов на основе исторически повторяющихся аспектов проблематики произведений, то есть «жанрового содержания», выделяет четыре такие группы – мифологическую, героическую, нравоописательную и романическую[91]. Этим и объясняется парадоксальное утверждение учёного, согласно которому повесть – это эпическое произведение, жанровая форма которого безотносительна к воплощаемому в нём жанровому содержанию[92]: повести бывают героические, нравоописательные, романические.
И.К. Кузьмичёв, руководствуясь критериями внутриродового деления, описывает три жанровые группы – романическую, традиционно-эпическую и очерковую[93]. С его точки зрения, эстетической реальностью являются не индивидуальные жанры, а конкретное произведение и стиль. Конечно, нет и не может быть сугубо «индивидуальных», но в такой же мере и «общих» жанров. Жанр бытует в конкретных произведениях. Если бы существовали только «индивидуальные» жанры, то их было бы бесконечное множество, то есть столько, сколько имеется литературных произведений. Но если бы существовали только «общие» жанры (пусть даже как некая абстракция), то все произведения определенного типа были бы безжизненными, унифицированными, нормативными. Кстати, эстетическая реальность жанра побеждает теоретический схематизм исследователя, вынужденного признать, что «жанровая форма произведений» – это «неповторимая повторяемость»[94].
Каждый жанр предстаёт как диалектическое единство общего, особенного и индивидуального, и при любых жанровых и видовых классификациях данная диалектика должна учитываться. С этой точки зрения любое произведение обладает неповторимыми жанровыми чертами, то есть «особенно» выражает «общее», присущее тому или иному литературному виду.
Разумеется, не следует отождествлять жанр и конкретность произведения: идейно-художественное единство – это «замкнутая» система, жанр как содержательно-формальная целостность – система «открытая», способная к видоизменениям на основе определённого, устойчивого конструктивного принципа. «Открытость» жанра не противоречит его «тематической завершённости» в том смысле этого понятия, который раскрывается в работах М.М. Бахтина.
Рассмотрение жанра как содержательно-формальной категории на пересечении двух систем («род – вид – жанр» и «метод – жанр – стиль») позволяет не противопоставлять, а интегрировать типологический и конкретно-исторический подходы к его изучению. К выводу о целесообразности таких подходов приводит анализ опыта, добытого литературоведением, начиная с 1920-х годов, когда уже стали оформляться два течения в отечественной жанрологии, явившиеся реакцией на обобщения в этой области учёных «формальной школы». Именно с этого времени в научной литературе наблюдается не только дифференциация понятий «род», «вид» и «жанр», когда жанр стал рассматриваться как категория внутриродового деления, но и всё более усиливается тенденция его содержательной трактовки[95].
Два теоретико-методологических подхода к жанру как содержательной категории, о которых выше шла речь, в наиболее отчётливом, наглядном виде проявились в работах М.М. Бахтина и Г.Н. Поспелова (а также учёных из научных школ). Ими были заложены основы противоборствующих и поныне содержательно-формальной (структурно-семантической) (М.М. Бахтин) и содержательно-проблемной (Г.Н. Поспелов) интерпретаций литературного жанра.
Согласно точке зрения М.М. Бахтина изучение жанра предполагает раскрытие эстетической природы его познавательных возможностей. Именно этим учёным был поставлен вопрос о том, что «художник должен научиться видеть действительность глазами жанра. <…>Художник вовсе не втискивает готовый материал в готовую плоскость произведения. Плоскость произведения служит уже ему для открытия, видения, понимания и отбора материала»[96]. Безусловно, авторское видение жизни «глазами» романа, повести, рассказа, новеллы различно и по содержанию, и по форме. Каждое подлинно художественное произведение, будучи индивидуальным, единственным, новаторским, всегда сохраняет определённые жанровые черты. «Жанр, – писал М.М. Бахтин, – представитель творческой памяти в процессе литературного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и непрерывность этого развития»[97].
В теории жанра М.М. Бахтина доминантными, приоритетными являются проблемы «целостности» как воплощения «понимающего овладения и завершения действительности» («жанр есть типическое целое художественного высказывания, притом существенное целое, целое завершённое и разрешённое»); «внутреннего тематического отношения к действительности» («каждый жанр по-своему тематически ориентируется на жизнь»); «внутренней завершённости и исчерпанности самого объекта» («распадение отдельных искусств на жанры в значительной степени определяется именно типами завершения целого произведения»[98]); диалектики «устойчивого», «повторяющегося» («архаика» жанра, «затвердевший жанровый костяк») и изменчивого («нового»), рассматриваемой с позиций историзма[99]; внутренней диалогичности произведения, «высказывания» («диалогическая ориентация слова», «обращенность, адресованность высказывания» как «конститутивная особенность»[100]). Как подчеркивал М.М. Бахтин, «жанр… есть совокупность способов коллективной ориентации в действительности», и художественное целое любого типа определяется его «двоякой ориентацией» – на слушателей и внутренней ориентацией «тематического содержания» произведения на жизнь[101].
«Тип проблематики», таким образом, у М.М. Бахтина является одним из важнейших слагаемых жанроопределения. Все аспекты теории жанра рассматриваются им на основе диалектического единства содержания и формы. Для учёного жанр, как и любой выделяемый аспект произведения, «является химическим соединением формы и содержания»[102]. Не случайно М.М. Бахтин вслед за А. Белым оперирует термином «форма содержания», а не просто «форма»[103], особое внимание уделяет проблеме жанрового содержания и жанровой формы как качественным характеристикам: «Жанр есть органическое единство темы (речь идёт о проблематике жанра. – В.Г.) и выступления за тему»[104]. В каждом жанре, подчеркивал он, раскрывается специфическая, «качественная сторона жизни тематически понятой действительности, связанная с новым, качественным же построением жанровой действительности произведения»[105].
«Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра»: «жанровая действительность произведения» – это воплощение «архаики» и «нового» в содержательно-формальной целостности[106]. «Понять определённые стороны действительности, – подчёркивал М.М. Бахтин, – можно только в связи с определёнными способами выражения», а сами способы «применимы лишь к определённым сторонам действительности»[107]. Жанр, таким образом, в трактовке учёного является важнейшим звеном связи социальной действительности и художественной реальности: «жанр уясняет действительность, действительность проясняет жанр»[108].
«Сущность и объём самого содержания»[109] каждого жанра создают основу для «предугадывания» «смыслового целого», для «предвосхищения завершенности»[110]. Уже за «объёмом» содержания произведения (не «объёмом текста»!) закрепляется функция предварительного «информирования» читателя об особенностях пересоздания жизненного материала, характерных для данного жанра, хотя мы и не рассматриваем это в качестве единственного критерия жанровой дифференциации.
Преодоление формалистических концепций жанра получило иное, по сравнению с жанрологией М.М. Бахтина, выражение в работах учёных, рассматривающих жанр как категорию содержания (школа Г.Н. Поспелова).
Л.В. Чернец сформулировала основной принцип этого направления весьма лаконично и определённо: с её точки зрения, представление о жанре как единстве содержания и формы является методологическим препятствием на пути изучения его проблематики. «Содержание, – пишет исследовательница, – ведущая сторона в жанре, вне зависимости от того или иного его соотношения с жанровой формой оно остается устойчивым»[111].
Согласно концепции Г.Н. Поспелова «жанры» не являются «видами» литературных родов, поскольку родовые и жанровые свойства произведений выражают разные сущности «типологических свойств художественного содержания произведений»[112]. Поэтому исследователя интересуют не столько родовые, видовые и жанровые отношения, сколько проблемы «жанрового содержания» и «жанровой формы». Но поскольку компетенция жанра как научной категории у Г.Н. Поспелова распространяется лишь на область содержания, то эти аспекты оказываются весьма автономными, точнее, абстрагированными настолько, что не могут стать инструментом анализа конкретного произведения, а значит, и жанрового образования как содержательно-формальной целостности. Трактовка жанра как типологического аспекта содержания художественных произведений закономерно вызывает «сопротивление материала»: когда такая теория «внедряется» в практику идейно-эстетического анализа, то ведёт к неоправданному противопоставлению конкретно-исторического и типологического в жанре («жанры – явление не исторически конкретное, а типологическое»[113]). Несоединимыми оказываются в этом случае и два уровня научного абстрагирования в типологии жанра: собственно жанровый и видовой.
Так, говоря о том, что форма произведений непрерывно исторически изменяется, а потому невозможно особенности жанра искать в этой области, Г.Н. Поспелов одновременно утверждает, что могут быть исторически повторяющиеся различия и в форме[114]. В одном случае, таким образом, речь идёт о конкретном произведении, а во втором – о жанровых критериях, учитывающих структурные признаки. Исследователь призывает искать «повторяющуюся жанровую общность… прежде всего в пределах содержания произведений», но когда он анализирует, например, жанровые особенности новеллы, то имеет в виду её конструктивные принципы и меньше всего – содержание (отмечается острота конфликта, неожиданность развязки, «саморазвитие» характера, его изображение с новой стороны и т. д.), хотя теоретически это отрицается автором: «…ни у одного жанра нет и не может быть какой-либо своей, особенной и всегда более или менее одинаковой художественной конструкции»[115].
Настаивая на том, что «типологическими свойствами обладают не только… особенности жанрового содержания, но и особенности выражающих их форм», Г.Н. Поспелов тем не менее приходит к парадоксальному выводу, согласно которому одна и та же «жанровая форма» (скажем, повесть) может выражать разное жанровое содержание[116]. Так, повесть, став «жанровой формой», которая может выражать различное «жанровое содержание» («героические», «романические», «этологические» повести), в теоретических построениях Г.Н. Поспелова рассосредоточилась по разным жанровым группам, стала даже не элементом «романической группы», как у И.К. Кузьмичёва, а вообще утратила свою самостоятельность. Но в реальной литературной жизни писателем создаются не жанровые группы, а романы, повести, новеллы и т. д. Допустить, что конкретное произведение может обладать типологическими свойствами одного жанрового содержания и типологическими свойствами жанровой формы, приспособленной к воплощению любого другого, можно только на основе представления, будто художник, говоря словами М.М. Бахтина, «втискивает… материал в готовую плоскость» этого произведения.
Поскольку, с точки зрения Г.Н. Поспелова, жанровые свойства произведений не являются свойствами их формы, выражающей содержание (это «типологические свойства самого… художественного содержания»), то «жанровая форма» обусловлена «родовым содержанием» и является разновидностью «родовых форм»[117]. Последняя категория не совсем ясно обозначена у исследователя[118]. Получается, что жанры не являются видами родов, но «жанровая форма» непосредственно связана с родовым содержанием, то есть жанр и жанровая форма имеют разные содержательные начала, более того, родовое и жанровое «содержание» оказываются по разные стороны. Если учесть, что в работах Г.Н. Поспелова «жанр» и «жанровая форма» – это понятия зачастую трудно различимые, если не сказать тождественные[119], в отличие, например, от таких, как «жанровое содержание» и «жанровая форма», то конкретное произведение предстаёт как выражение такого дуализма, когда о диалектике содержания и формы говорить не приходится. И дело здесь не в «неудачной терминологии»[120], а в методологических подходах к жанру как теоретической проблеме.
Основные положения жанрологии Г.Н. Поспелова получили развитие в работах его последователей. У некоторых из них наблюдается тенденция к существенной корректировке идеи дифференциации жанров на проблемно-содержательной основе. Это вполне закономерный и объяснимый процесс, ибо игнорирование структурно-семантического аспекта жанровой теории неизбежно ведёт к разрыву внутренних связей произведения, к разрушению целостности жанра.
Развивая плодотворную идею «жанрового содержания» Г.Н. Поспелова (абсолютизированную в работах самого учёного), Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек и др. обращают внимание на то, что рассмотрение жанра обязательно предполагает выход в стиль, форму, поэтику[121]. В этом случае, как справедливо утверждает А.Я. Эсалнек, преодолеваются противоречия двух распространенных концепций жанра: его определения как «отвердевшего содержания» (точка зрения Г.Д. Гачева, В.В. Кожинова и др.) и характеристика жанра на основе «жанрового содержания» (точка зрения Г.Н. Поспелова). «Жанровое содержание» в исследованиях Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек преобразуется в категорию «типа проблематики», «содержательного «цемента» того или иного жанра» (имеется в виду «доминирующая, генерализующая, централизующая проблема или группа проблем, которые играют как бы руководящую роль, «предписывая» выбор, расположение и соотношение художественных пластов, составляющих содержание произведения»), его «содержательных особенностей»[122].
Признавая ведущим началом в жанровых образованиях проблемно-содержательную типологию, Г.Н. Поспелов и сторонники его точки зрения неоднократно подчеркивали, что эта традиция идёт от Гегеля и Белинского. Но к традициям Гегеля и Белинского гораздо ближе М.М. Бахтин, всегда имевший в виду «сущность и объём самого содержания», то есть особый тип «тематического завершения» «целого» и «оформляющего понимания действительности»[123]. Концепция жанрового «события» Белинского, как и самого Бахтина[124], интегрирует понятие «типа проблематики» и идею «конструктивного принципа» произведений того или иного жанра, обусловленного данной проблематикой.
В конечном счёте такие подходы к жанру проявляются и в работах Г.Н. Поспелова, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек, И.К. Кузьмичёва и т. д. Так, А.Я. Эсалнек особое внимание обращает на то, что «тип проблематики» произведений определённого жанра предстаёт как специфический круг проблем, которые реализуются в целостности идейно-эстетического образования, получая структурную выразительность[125]. И.К. Кузьмичёв, ставящий вопрос о «типе проблематики», отмечает, что «жанр зиждется на общности содержательных структурных признаков… произведений»: «Суть жанровой проблематики… сводится к установлению идеи жанра, типа, образца и выявлению связи его семантики и морфологии»[126]. Но это уже переход в ту плоскость исследования жанра, которая в процессе реализации структурно-семантического принципа базируется на понимании его как содержательно-формальной категории и которая плодотворно разрабатывалась и разрабатывается в исследованиях М.Б. Храпченко, В.В. Кожинова, Н.Л. Лейдермана, учёных Томского университета, Н.Д. Тамарченко и т. д., то есть школой М.М. Бахтина. Именно на этой основе создаётся учение о жанре как типе словесно-художественного произведения, как о реально существующей разновидности произведений и «идеальном типе», «многомерной модели произведения «как такового»», модели, «основанной на сравнении конкретных литературных произведений и рассматриваемой в качестве инварианта»[127].
Анализ концепции жанра как содержательной категории, в которой структурно-семантическая целостность уступает место «аспектуальным» характеристикам, ещё раз убеждает, что эту категорию необходимо рассматривать как содержательно-формальную[128], на пересечении таких рядов, как «род – вид – жанр» и «метод – жанр – стиль», одновременно, если она исследуется в историко-литературном плане.
Только при этих условиях можно избежать полярных противопоставлений жанра как «родовой формы» и семантико-морфологической структуры. Без этого из системы анализа выпадают определённые типологические единицы (как, например, категория «вида» у Г.Н. Поспелова), либо отождествляются различные уровни абстрагирования (как, например, «жанр» и «вид» у И.К. Кузьмичёва), либо поляризуются жанрово-родовые и видовые обобщения (как, например, у Н.П. Утехина). При разрыве двух категориальных рядов, средоточием пересечения которых оказывается именно жанр, возникает ситуация, описываемая в историографических работах: исследования жанра локализуются либо на уровне «рода» и «жанра», либо «метода» и «стиля».
То, что жанр является точкой пересечения разных эстетических векторов, объясняет его особую роль в художественном творчестве и значение этой категории в эстетической теории: она имеет объективный, а не условный характер, а потому не только претендует, но и занимает центральное место в категориальной системе современного искусствознания. Функциональными характеристиками жанра (познавательная, моделирующая, системообразующая и т. д.) объясняется всё более возрастающий интерес к этой проблеме как в теоретических, так и в историко-литературных исследованиях[129].
При рассмотрении жанра в контексте плодотворных методологических традиций отечественной филологии как на уровне родовых и видовых характеристик, так и во взаимосвязях с методом и стилем, реализуются потребности интеграционного исследования его познавательных и моделирующих функций[130]. Такое исследование жанра организуется в процессе установления его целостности на основе дифференциации и интеграции жанрообусловливающих, жанроформирующих, жанрообразующих факторов и жанрообразующих средств, а также выявления их соприродности друг другу и «целому», то есть в герменевтическом аспекте.
Предлагаемая система нацелена на раскрытие органического единства «архитектонически устойчивого» и «динамически живого» в жанре, типологического («архаика» жанра) и исторического, устойчивого и изменяемого, «старого» и «нового» в нём. Она ориентирована на анализ качественной специфики содержательных и формальных компонентов, основных особенностей жанровой структуры (конструктивного принципа жанра) в перспективе её непрерывного развития.
Обусловливающие факторы, фиксирующие уровень познавательно-содержательных возможностей произведений определенного типа, связаны с такими понятиями, как «тематическая ориентация на жизнь», «проблематика жанра», «жанровое содержание», «тип проблематики», но в отличие от них в большей мере ориентированы на анализ концепции человека в его отношении к миру, являющейся «ядром» того или иного жанра.
Определение дефиниций жанроформирующих и жанрообразующих факторов категориального уровня вызвано необходимостью более чёткого обозначения двух аспектов абстрагирования: видового (когда учитываются типологические структурные принципы) и жанрового (когда исторически сложившийся тип художественной конструкции, опредмечивающий специфическое содержание, анализируется в процессе выявления связей типологического и индивидуального, общего, особенного и единичного в жанре каждого произведения).
Жанроформирование – это сфера видовых характеристик, обусловленных родовой природой и фиксирующей черты обобщённой модели произведений данного типа; жанрообразование – сфера, связанная с воплощением родовых и видовых свойств на уровне метода и стиля в конкретном произведении.
Именно так, исследуя жанровую структуру, можно понять, какими средствами, способами осуществляется «видение и понимание действительности» в том или ином произведении. В жанре объективируется определённая эстетическая концепция действительности, которая раскрывает своё содержание во всей целостности «художественного высказывания». Исследование взаимосвязи обусловливающих, формирующих и образующих факторов и образующих средств неотделимо от понимания специфики «формосодержания», связей традиционного и новаторского в каждом подлинно художественном произведении.
Смысл предлагаемой системы заключается в ориентации анализа поэтики жанра на данные методологические принципы. Учитывая, что жанр – исторически формируемая содержательная структура, следует видеть в его «проблематике» не только «вечное», но и то, что продиктовано временем. «Идеи времени», сошлёмся ещё раз на В.Г. Белинского, всегда находят адекватное выражение в «формах времени»[131]. Анализ данных факторов позволяет преодолеть тенденцию к определению неких всеобщих признаков жанра, попытки фетишизации каких-либо отдельных жанроопределяющих начал, а также выявить его системообразующую роль, интегрирующую функцию при исследовании родовых и видовых особенностей, с одной стороны, и метода и стиля произведения – с другой. Познавательную природу жанра характеризует не сумма компонентов, а эстетическое качество «смыслообразующего целого».
«Сущность содержания» непосредственно определяется действием жанрообусловливающих, а «объём» жанрового «события», «жанровая форма», «тип структуры» – формирующих и образующих факторов и средств. Все эти аспекты жанра органически связаны между собой, они взаимопроникают, «прорастают» друг в друга, выполняя специфические функции.
Жанрообусловливающие факторы служат причиной появления жанра, вызывают его к жизни, объясняют и раскрывают его необходимость, вытекающую из внутренней закономерности условий, создающихся родовыми задачами, предметом и целью художественного познания. В этом смысле «причиной» появления того или иного жанра является художественное воплощение особой, специфической концепции человека в его отношении к миру. С обусловливающими факторами связаны гносеологическая специфика жанра и «мирообраз» (термин Я.О. Зунделовича[132]), который он «моделирует».
Те аспекты изображения человека и действительности, к художественному освоению которых жанр традиционно предрасположен, выступает в своей обусловливающей функции. Именно эти содержательные факторы («сущность содержания») определяют «архаику» жанра, семантику его художественной структуры и «степени широты охвата и глубины произведений» (М.М. Бахтин), рамки – и содержательные, и формальные – освоения действительности. Проблематика жанра, его «концепция человека» обусловливают устойчивый тип жанровой структуры, сами способы художественного мышления писателя.
Жанрообусловливающие начала связаны с родовыми особенностями произведений, так как в компетенции литературного рода всегда остаются предмет и содержание художественного изображения[133] (в эпосе – как повествовательном роде – объективное, событийное изображение человека и мира, личности и общества). Специфическая концепция человека в его отношении к миру в жанрах эпической прозы определяет характер «тематического завершения», «материал», «сущность содержания», а также его «объём»[134], то есть особенности художественно-завершающего оформления действительности[135].
Жанроформирующие факторы придают произведению определённую форму, вид, то есть обеспечивают самодостаточность, завершённость жанровой структуры, «вырабатывают» жанр, воплощают его «сущность», «идею». На этом уровне реализуются законы художественно-завершающего оформления действительности в том или ином жанре. Ими создаётся конститутивный тип эстетического целого, в результате чего жанр становится, по выражению современного чешского литературоведа Либора Паверы, «шифром, кодом, ключом от дверей, позволяющим войти в мир литературного текста, то есть кодом, при помощи которого можно интерпретировать текст»[136].
Формирующими факторами (если привести к целесообразному единству разноречивые данные исследований в этой области) являются: принцип сюжетно-композиционной организации, концептуальный хронотоп и тип повествования.
Особенности конфликта, природа художественных ситуаций, организация действия, жанровая специфика характера – всё это компоненты сюжетно-композиционной системы, «конкретизирующие», раскрывающие механизмы её жанроформирующего действия. Этими категориями определяется основной конструктивный принцип жанра, жанровый «канон», «костяк»[137], устойчивый тип жанровой структуры.
В формирующих факторах жанра заключена его моделирующая функция. Эстетическая целостность – это «образ действительности», «модель» определённых сторон универсальных жизненных связей и отношений. Этот образ получает всякий раз индивидуальное оформление и выражение, но подчиняется внутренним законам «понимающего овладения и завершения действительности»[138]. Например, жанровые типы повести (сентиментальная, романтическая, реалистическая и т. д.) различаются по методу изображения, а следовательно, по принципам и способам жанрообразования, но благодаря формирующим факторам всегда остаются образцами одного жанра. Жанроформирующие факторы создают внутреннее единство, основу для перехода организованности в органичность[139], являющегося показателем «завершённости», художественной целостности произведения.
Жанрообразование – материализация формирующих начал, это уже не «выработка», а созидание, реализация жанра в его художественной предметности, во всей целостности конкретного произведения. Связь с мировоззрением, с характером понимания писателем действительности здесь не менее значима, чем в сфере жанрообусловливания, которая имеет непосредственное отношение к познавательному потенциалу жанра.
Следует различать образующие факторы и средства, благодаря совокупным действиям которых произведение рождается как новый эстетический предмет, как «неповторимая повторяемость» (И.К. Кузьмичёв).
Жанрообразующими факторами являются «идея человека» («тип мироотношения»), которая прорабатывается литературой (и культурой в целом) той или иной исторической эпохи[140], и жанровая доминанта, определяющая жанровые разновидности (например, повести социальные, социально-бытовые, социально-психологические, философские, лирические, хроникальные и т. д.)[141]. Жанровая доминанта – это специфическое выражение основного конструктивного принципа жанра, зависящее от избираемого объекта изображения, детерминирующее жанровые разновидности и разновидности жанровых форм. Разновидности жанровых форм – типологические жанровые ряды, дифференцируемые по тематическому принципу («поджанры») или по доминантным законам жанровых взаимодействий (например, романические повести, повести-очерки, драматизированные повести и т. д.), а также на основе организации повествования («новеллистическое», «эпическое» задание, контаминация этих признаков). Жанрообразующие факторы обеспечивают «динамически живое» в жанре (в то время как жанроформирующие факторы – «архитектонически устойчивое»[142]), то есть непрерывное движение, эволюцию, «открытость», изменяемость, возможность преодоления жанровой «консервативности».
Жанрообразующие средства находятся в подчинительных отношениях с образующими факторами, с «идеей человека», жанровой доминантой. Именно поэтому их отбор и идейно-эстетическая роль «программируются» методом и стилем писателя, а в системе жанрообразующих факторов и средств, в свою очередь, метод и стиль находят непосредственное воплощение. Это диалектическая, по сути, взаимосвязь. Жанрообразующую роль играют художественные средства, создающие «ткань» произведения: тип героя, особенности сюжетосложения, характерология и система событий, связь характеров и обстоятельств, компоновка художественного материала, своеобразие время-пространственных отношений, субъектная организация текста и различные формы повествования, такие свойства произведений, как «достоверность», «публицистичность», «документализм» и т. д. Эту роль могут играть и формы художественного изображения (например, психологизм, портрет, деталировка, наличие подробностей), разнообразные источники литературного произведения[143], «сверхтекст» (ориентированность на читателя, на типологию дискурсов и т. д.). Образующие факторы и средства непосредственно реагируют на процессы жанровой динамики. Скажем, новое понимание человека, свойственное эстетике реализма, способствовало выработке соответствующих форм сюжетосложения в жанровом типе романа, повести, рассказа. Эти типы сохраняли свойственный жанрам принцип сюжетно-композиционной организации художественного материала, но осваивали иные, по сравнению с предшествующими историко-литературными эпохами, способы сюжетообразования, обусловленные идеями каузальности и детерминизма.
Жанрообразующие средства столь же индивидуальны в своем отборе и внутренней системной соотнесенности, как и создаваемые ими стили. Они не в равной мере употребимы и функционально значимы в разных жанровых типах произведений одного и того же вида. Например, в реалистической повести важную жанрообразующую роль играют многообразные источники, средства, создающие эффект «достоверности», что нередко фетишизируется и рассматривается как сущностное качество повести вообще.
Динамика жанра может проявляться в активном взаимодействии формирующих и образующих факторов разных жанров. Тогда появляются синтетические формы, например, романическая повесть, «студия», повесть на очерковой основе, повесть-драма, оригинальные образования интегративного типа, имеющие индивидуальные авторские жанровые обозначения. Жанрообусловливающие, формирующие и образующие факторы и средства генетически связаны с родовыми и видовыми типологиями, с методом и стилем писателя. Они являются «частями» «целого» жанра, которые соприродны как этому целому, так и друг другу. Изучение этой соприродности является важнейшей задачей жанрологии (герменевтики жанра).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что жанр – это органическое единство жанрообусловливающих, формирующих и образующих факторов и жанрообразующих средств, воплощающееся в исторически сложившемся типе художественного целого, в котором «опредмечивается» специфическое жанровое содержание. Это эстетическая «модель» действительности, объективирующая «понимающий» потенциал «типического целого художественного высказывания», «сущность и объём самого содержания», особенности тематического и художественно-завершающего оформления действительности. Жанр конкретного произведения является выражением неразрывности связей типологического и исторического, традиционного и новаторского, «канонического» и индивидуального, «устойчивого» и «динамически живого».
1.2. «Понимающее бытие» литературного жанра
В 1990-е годы жанрология из ведущего направления мировой филологической науки постепенно превращалась в её маргинальную область, вытеснялась постмодернистскими методами и исследовательскими практиками на обочины литературоведческих магистралей. Само понятие «жанр» исчезло из арсенала западных и американских научных школ, его нельзя найти даже в предметных указателях новейших справочных изданий, таких, например, как «Современное зарубежное литературоведение» (1996) или «Словарь культуры ХХ века» В.П. Руднева (1999). Одновременно в отечественном фундаментальном литературоведении в процессе методологического диалога родо-видовых типологий М.М. Бахтина и Г.Н. Поспелова подспудно формировалась и укреплялась мысль о том, что жанрология – основополагающая, базисная область науки о литературе, поскольку актуализация идеи «понимающего» потенциала жанра сущностно необходима при решении любой литературоведческой задачи.
Без осознания познавательного качества форм эстетического моделирования действительности и жизни утрачивается исследовательская стратегия, текст превращается в некую картину-отражение действительности, в совокупность «концептов», «цитат», «архетипов» и т. д., растворяется в бесчисленных контекстах, утрачивает в сознании познающего художественно-философские смыслы свою уникальность и эстетическую неожиданность, а процессы жанрового синтеза воспринимаются как свидетельство утраты жанром статуса ведущей категории поэтики.
Выделим два наиболее значимых аспекта в изучении философии жанра – онтологический (жанровая природа «оформляющего понимания действительности и жизни»[144]) и эпистемологический (познание «сложной системы средств и способов понимающего овладения и завершения действительности»[145](рефлексивный план)). Таким образом, мы пытаемся преодолеть намеченную в западной философской герменевтике тенденцию к излишне категоричной автономизации понимания как способа бытия и понимания как способа познания[146].
В отечественной филологии не раз ставился вопрос о гносеологическом потенциале жанра, ставился именно тогда, когда имелось в виду изучение его познавательных качеств[147]. Но чаще всего встречаются исследования, в которых авторская стратегия не предусматривает анализ концептуального единства онтологии понимания и эпистемологии интерпретации жанра, а без этого любая аналитическая рефлексия в перспективе экзегезы («понять текст – понять его, исходя из его интенции, понять на основании того, что он хотел сказать»[148]) не достигает своей цели.
Рассматривая «понимающую» целостность жанра, необходимо отметить, что в «учении о понимании смысла» не следует отождествлять «теорию понимания» и «теорию интерпретации» (что встречается в практике герменевтических исследований). Такое отождествление сводит герменевтику к «приёмам» и набору «герменевтических процедур». «Искусство понимания» и «интерпретация», «научность истолкования» хотя и сопряженные, но различные понятия. Г. Гадамер, например, лишь только ту философию считает герменевтической (а для него герменевтика и есть философия), в которой «понимание и интерпретация имеют значение самостоятельных основополагающих конституентов»[149].
Соотнося традиции герменевтического опыта с бахтинской теорией целостности жанра, следует указать прежде всего на то, что феноменолого-герменевтический подход к анализу художественного произведения связан с «выявлением в тексте духовности, которая, исторически меняясь, сохраняет некую неизменную сущность и своим постоянством обеспечивает непрерывность духовности, отражающую единство исторического процесса»[150]. В любом исторически сложившемся типе литературного произведения есть некая «неизменная сущность», отличающаяся «устойчивостью», «стабильностью». Это «архаика» жанра, которая способна обновляться и «обеспечивать единство и непрерывность литературного развития» (М.М. Бахтин). «Архаика» жанра – не просто устойчивая форма, традиционная структура, а «знак», информационный код той «духовности», которая связана с его специфической познавательной сущностью, определяющей формы именно такого, а никакого иного «понимания» действительности. Оно (понимание, доступное именно данному жанру) воспринимается как «культурная традиция»[151], которая обеспечивает единство текста и объекта, о котором говорится в тексте[152].
«Культурная традиция», «духовность» жанра непосредственно связана с онтологией понимания. Поскольку художественное целое как всякий значащий дискурс «интерпретирует» реальность уже тем и тогда, когда «в нём сообщается «что-то о чём-то»», то он опредмечивает отношения «между жизнью, носительницей значения, и духом, способным связать их (то есть «жизнь» и «дух». – В. Г.) воедино»[153]. Эта связь осуществляется в «архитектонике эстетического объекта», то есть в единстве познавательного, эстетического и этического[154]. Мы уже выяснили, что у М.М. Бахтина природа жанрового понимания неотделима от выражения этого понимания, а онтологический аспект не абстрагируется от эпистемологического[155]. Путь к «понимающему» потенциалу жанра лежит через понимание способов его выражения. Так, в компетенции герменевтики жанра оказывается и «оформляющее понимание действительности и жизни»[156].
Любой жанр (даже вид) обладает своим предельно абстрагированным смыслом, улавливаемым реципиентом уже на уровне «предпонимания». Такое предпонимание, как и понимание в целом, основано, по словам В. фон Гумбольдта, на «применении ранее имеющегося общего к новому особенному»[157]. «Ранее имеющееся общее» – это «культурная традиция», «архаика» жанра; «новое особенное» – это конкретная эстетическая реальность, оригинальное жанрообразование.
«Предпонимание» играет особую функциональную роль в «круговой структуре понимания»[158] при изучении жанра художественно-словесного творчества. Идея «герменевтического круга» тесно связана с проблемой «предструктуры»[159]. «Предпонимание» всегда основывается на «предвосхищении завершённости»[160], то есть на ощущении целого, и оно оказывается «всякий раз содержательно определённым»[161]. «Предпонимание» является, по сути, синонимом понятия «смыслоожидание»[162]. Для литературоведа «предпонимание» – это ощущение жанровой «архаики», «схемы», «канона», то есть содержательной памяти жанра. Предварительное знание литературных жанров также задаётся традицией, поскольку «архаика» любого из них предстаёт как устойчивость основных особенностей структуры, которые формировались исторически в процессе выработки принципов художественного «понимания», свойственных произведениям именно данного типа, а потому сохраняли форму своего содержания.
Когда мы рассматриваем жанр как определённую эстетическую целостность в категориях «герменевтического круга понимания», «горизонта» и «интенциональных актов сознания», введенных в инструментарий феноменолого-герменевтической традицией, то актуализируем проблему смыслообразования, реализации «понимающего» потенциала данного жанра.
«Круговая структура понимания», «круг понимания», по утверждению Г. Гадамера, «не является методологическим кругом, он описывает онтологический структурный момент понимания»[163]. Этот «момент» реализуется в ходе выявления взаимосвязей «частей» с целым жанра. Идея «герменевтического круга» зиждится на осмыслении того, что «части определяются целым и в свою очередь определяют целое: благодаря этому эксплицитно понятым становится то предвосхищение смысла, которым разумелось целое»[164].
Как уже говорилось, понимающий потенциал жанра воплощается в системе дифференциации и интеграции жанрообусловливающих, жанроформирующих, жанрообразующих факторов и жанрообразующих средств как частей «целого» литературного жанра и выявляется в процессе установления их соприродности друг другу и создаваемому ими «целому. Устойчивое и изменяемое в жанре постигаются в результате активизации «интенциональных актов сознания», рассматриваемых в качестве оформляющих предметный смысл. Так появляются «горизонты» понимания. Они дают предварительное знание о жанре, а сливаясь друг с другом, эти «горизонты» создают понятие об эстетической природе «смыслового целого», которая и является предметом жанрологического анализа: ведь «сущность содержания» жанра «опредмечивают» все его смыслосозидающие «части», а «части» создают смысловую целостность, реализующую его «понимающий» потенциал. Жанр как единство устойчивого и изменяемого предстает в виде динамичной целостности, выражающей логику художественного развития.
Феноменолого-герменевтическая идея целостности жанра, которая рассматривается в традициях эстетики М.М. Бахтина, поставившего вопрос о специфике «понимания действительности и жизни» в литературном жанре, интегрирует бытийный и эпистемологический аспекты философии жанра. Суть дела в том, что М.М. Бахтин, по словам его исследователя В.Л. Махлина, сделал «радикальный шаг» вперёд в теории познания, когда понятие системы перенёс из научно-теоретической плоскости в плоскость онтологии[165]. Во-первых, М.М. Бахтин саму реальность рассматривал с позиций «новой» онтологии, идеи которой он как философ и филолог плодотворно развивал наряду с М. Хайдеггером. «Новая» онтология в процессе пересмотра идей неокантианства повернулась лицом к метафизике, и в философских концепциях Н. Гартмана, в фундаментальных учениях о бытии М. Хайдеггера и К. Ясперса выработала чрезвычайно широкое понятие реальности, сообщив полную реальность духу, и с этих позиций определила автономное бытие духа и его активность в отношении к автономному бытию остального мира[166]. «Новая» онтология вовсе не ограничивала сферу реального только «материальным». С этих позиций М.М. Бахтин «действительность» рассматривал и как проявление автономного бытия духа. «Архаика» жанра, например, такую «реальность» фиксирует на уровне «автономности» (то есть независимости от субъекта) объективного «понимающего» жанрового потенциала и предельно абстрагированного смысла литературного вида.
Во-вторых, доверяя человеку-творцу как целостному субъекту познания, М.М. Бахтин в своей эпистемологии познание рассматривал в целом, а не только его теоретизированную модель[167]. Познание художника – это этический поступок ответственно мыслящего участного сознания (то есть не отчуждённого от человека), и предстаёт оно как заинтересованное понимание, неотделимое от результата – истины[168]. Даже в том случае, когда объектом исследования становится художественное познание в формах его исторических модификаций (жанрообразований), на первый план выдвигаются бытийные характеристики, а не внешняя социокультурная обусловленность художественного мира. В эпистемологии М.М. Бахтина «архитектоническая целостность» как единство познавательного, эстетического и этического[169] становится философской категорией. В жанровой целостности произведений семантизируется единство онтологии, познания и этики. Эстетически организованный художественный мир, способный осуществлять познавательную деятельность, является формой нетрадиционного философствования, а потому представляет собой специфическую интерпретацию проблем гносеологии, онтологии и аксиологии. В едином центре – «архитектоническое целое» – Бахтин объединил «участное поступающее сознание» и ««эмоционально-волевые тона и смыслы», этические и эстетические ценности… пространственные и временные моменты»[170]. Поскольку он заменил субъекта традиционной парадигмальной оппозиции «субъект – объект» «автором и героем»[171], то ввёл понятие «поступок познавания», а затем – в целях эстетического анализа – новое структурное понятие «архитектоника эстетического объекта»[172]. В этом понятии в контексте развития «новой» онтологии оформлялись принципиально новые представления об отношениях человека и мира даже по сравнению с Хайдеггером, который «в своей приверженности онтологии ликвидировал структурность мира человека»: выполняя «насущную задачу любой онтологии», М.М. Бахтин, по сути, «возвращал… внимание»[173] к этой проблематике. (Напомним, что книга Хайдеггера «Бытие и время» вышла в 1927 г., то есть в то самое время, когда формировалась эпистемология М.М. Бахтина.)
Антропологическая традиция бахтинской эпистемологии закрепляла представление о писателе, который, объективируясь в сфере философского размышления, сохраняет «бытие, ценное помимо предстоящего смысла события, самим конкретным многообразием своей наличности»[174]. Особенности эстетического М.М. Бахтин усматривал в том, что «опознанная и оценённая поступком действительность входит в произведение (точнее – в эстетический объект) и становится здесь необходимым конститутивным моментом. В этом смысле, – писал учёный, – мы можем сказать: действительность, жизнь находится не только вне искусства, но и в нём, внутри его, во всей полноте своей ценностной весомости: социальной, политической, познавательной и иной»[175]. Вводя понятие системы в область онтологии, М.М. Бахтин интегрировал идею «теоретической» рациональности и «человеческих смыслов», в результате чего не оказались по разные стороны «познание» и «этический поступок», истина и нравственно-эстетические ценности, иначе говоря, антропный фактор не оказался за рамками эпистемологии. Понятие-образ «поступок» стал средоточием такого единства: «…поступок в его целостности более чем рационален – он ответственен. Рациональность только момент ответственности»[176].
Поскольку теоретизированная модель познания (система) входит органично в познание в целом, представляющее собой этический «поступок ответственно мыслящего участного сознания» («поступок мыслью»), то эпистемологическая концепция жанра непосредственно нацелена на выявление его онтологии понимания, его гносеологической природы и когнитивного потенциала; когда же объектом исследования становится познание в целом (а не только его теоретизированная модель), «поступок мыслящего участного сознания» рассматривается прежде всего в свете бытийных, а не когнитивных характеристик[177]. В эпистемологии М.М. Бахтина «субъект относится к объекту через систему ценностей или коммуникативных отношений и сам предстаёт в двуединости «Я и Другой», «автор и герой», и уж если противостоит объекту, то только в таком качестве»[178]. Тем самым М.М. Бахтин вводил в эпистемологию и понятие историчности[179]: изменение художественного познания во времени фиксировалось жанрологическими понятиями «нов», «не тот», а сохраняющийся понимающий потенциал и конструктивный принцип его «архаики» – понятиями «стар», «тот». В категории «архитектонической целостности» и оформилась мысль о том, что жанр «всегда тот и не тот, всегда и стар и нов одновременно»[180]. С точки зрения жанрообусловливания, детерминации типом проблематики «сущности и объёма самого содержания» произведения, бытие жанра и заключается в художественном понимании. Говоря словами П. Рикёра, это бытие, которое существует, понимая[181] (чем жанр и отличается от литературного вида – абстрагированно-типологической «схемы» жанра). «Адресованностью» жанрового «высказывания» обусловлена специфичность объективации его «понимающего бытия»: оно предполагает диалог автора и рецепиента. «Понимание, – писал М.М. Бахтин в статье «Проблема текста», – всегда в какой-то мере диалогично». «При объяснении – только одно сознание, один субъект, – продолжал ученый, – при понимании – два сознания, два субъекта»[182].
Онтология понимания жанра (заданная концепцией человека в его отношении к миру, в свою очередь, определяющей «формы видения и понимания… действительности, определённые степени широты охвата и глубины произведений»[183]) «одушевляет» его эпистемологию. М.М. Бахтин на первый план выдвинул «видение и понимание» действительности, а на второй – познавательные качества жанра. С этой точки зрения, например, «Былое и думы» А.И. Герцена можно рассматривать в литературоведческих категориях с точки зрения познавательного качества жанровой структуры «нового эстетического предмета» («исповеди» А.И. Герцена), обусловленной романной – в принципе – жанровой проблематикой. Благодаря этому произведение, подобно беллетристическим, существует, понимая (а не просто фиксирует и описывает события, как это происходит в мемуаристике или любых других первичных формах словесно организованного повествования).
Жанрологические работы М.М. Бахтина позволяют сделать вывод о том, что он как метод рассматривал эпистемологические принципы интерпретации, но не онтологию понимания. В теории жанровой «архаики» и «памяти жанра» М.М. Бахтина актуализирована не столько идея «оформляющего понимания» (это уже сфера жанроформирования, а не жанрообусловливания), сколько «духовность» жанра, то есть идея «видения, понимания» как такового, бытия жанра (жанр существует, понимая). В концепции жанровой специфики «понимающего овладения и завершения действительности» М.М. Бахтина противопоставление понимания как способа бытия и понимания как способа познания снимается идеей единства противоположностей: понимание – выражение[184].
М.М. Бахтин, создавая свою теорию жанра, вступил в скрытый диалог с В. Дильтеем, который первым перевернул традиционные представления об отношениях между пониманием и бытием. Смысл диалога заключается в том, что отечественный учёный углублял идею связи исторического бытия с «совокупным бытием»[185], предшествующим (если иметь в виду художественное понимание) субъект-объектным отношениям и являющимся основой теории и практики познания: «понимающий» потенциал «архаики» жанра, объективно существующий, актуализирует «объект-объектные» отношения в процессе художественного творчества. Вот почему М.М. Бахтин особо подчеркивал: «…действительность жанра (то есть понимание как способ существования) и действительность, доступная жанру, – органически связаны между собой… Жанр… есть совокупность способов коллективной ориентации в действительности, с установкой на завершение»[186]. Онтология понимания жанра является выражением «совокупного бытия» уже потому, что это «совокупное бытие», схватываемое, фиксируемое сферой жанрообусловливания, определяет специфическую «архаику» жанра, его «автономный» понимающий потенциал, объективно существующий до субъекта художественного познания.
Эту мысль по-своему выразил и В. фон Гумбольдт: «Понимание каждой вещи уже предполагает в качестве условия своей возможности наличие в познающем субъекте некоего аналога того, что впоследствии действительно будет понято, требует изначального совпадения между субъектом и объектом, предшествующего (курсив мой. – В.Г.) этому акту. Понимание отнюдь не есть простое развёртывание того, что существовало в объекте, и не простое заимствование имеющегося в объекте, но то и другое одновременно»[187]. Мысль о такой «одновременности» немецкого философа конца XVIII – начала XIX в. М.М. Бахтин исключительно точно определяет сходным термином «коллективная ориентация»: ведь «плоскость произведения (то есть архаика жанра. – В.Г.) служит уже [художнику] для открытия, видения, понимания и отбора материала»[188].
В эстетике М.М. Бахтина апелляция к «действительности и жизни»[189] как к основной инстанции и аксиологической константе столь же значима, как и в философии В. Дильтея. Способы изображения, то есть «основные возможности жанрового построения», учёный связывал со спецификой художественного «овладения эпохой»[190]. Это и есть то «историческое бытие», с пониманием которого во многом связан пафос философской герменевтики Дильтея. Проблема понимания, таким образом, у предшественника Бахтина неотделима от осмысления исторически детерминированных способов понимания. В этом смысле всякий дискурс, в том числе и художественный[191], «интерпретирует» реальность, и любое произведение является «овладением реальности».
Но с другой стороны, М.М. Бахтин, говоря о таком «бытии» жанра, которое существует, понимая, шёл дальше В. Дильтея в представлениях о самой реальности, поскольку включил в это понятие, как уже указывалось, и реальность духа, создаваемую «ответственно поступающей мыслью». В жанрологии это выразилось в актуализации бинарной оппозиции «исторического бытия» как выражения субъект-объектных отношений и «совокупного бытия» как выражения попыток выйти за пределы субъект-объектной проблематики, «задаться вопросом о бытии»[192]. Типологическое в жанре, составляющее суть его «архаики», и есть воплощение «совокупного бытия», поскольку культурная традиция жанра предстаёт как «сущность содержания», определяющая его конструктивный принцип и «объём», ту «действительную жизнь» жанра, которая существует до субъекта художественного познания (писателя, художника) как данность автономного «духа». Жанрообусловливание и предстаёт как область художественного опыта («жизненный мир» жанра), предшествующего субъект-объектным отношениям, которые реализуются в процессе эстетического познания (создания произведения в жанровой парадигме). В такой творческой практике достигается единство «архаики» жанра («тот», «стар») и его «неповторимой повторяемости» («не тот», «нов»), единство «архитектонически устойчивого» (типологического, видового) и «динамически живого» (исторического, изменяемого, индивидуального), то есть связь «совокупного бытия» с «историческим бытием». Существование жанра в процессе понимания – это и есть «способ бытия», заданный «совокупным бытием», абстрагированным коллективным художественным опытом, сфокусированным в сфере жанрообусловливания. Этот опыт воспринимается писателем как «духовность» жанра, его «культурная традиция», открывающая возможности для всех жанровых инноваций в художественном познании, основанном на субъект-объектных отношениях. В этих отношениях писатель выступает как само воплощение интенции, как носитель стремления, тенденции, намерения, коррелирующего с определённой областью значений.
В жанрологии М.М. Бахтина концептуально обоснована идея герменевтической проблематики как области бытия жанра, который «существует, понимая», что позволило вплотную подвести к тому, что онтология понимания жанра создаёт теорию его осмысления, то есть определяет принципы интерпретации жанра, познание способов выражения, а через это и специфику понимания действительности и жизни («произведение ориентировано в жизни… изнутри, своим тематическим содержанием», а это содержание, подчеркнём ещё раз основополагающую мысль М.М. Бахтина, раскрывается в «сложной системе средств, способов понимающего овладения и завершения действительности»[193]).
Специфическое бытие жанра заключается в осуществлении присущего именно ему понимающего потенциала. Это бытие «опредмечивается» в непротиворечивой целостности: только в этом случае жанр реализуется как «понимание, через которое и в котором бытие понимает себя как бытие»[194], в котором оно «показывает себя»[195]. Жанровая теория М.М. Бахтина была нацелена на преодоление «трудности перехода» от «эпистемологического понимания к понимающему бытию» жанра, поскольку в учении о «типах завершения целого» описывается специфическое художественное бытие Dasein, то есть «феноменология присутствия»[196], раскрывается понимающая природа жанра как «типического целого художественного высказывания».
В своей жанровой теории М.М. Бахтин актуализировал идею онтологии понимания («понимающего бытия»), то есть такого бытия, которое отличает жанр от устойчивого типа художественной структуры – «вида». Его жанровая парадигма строится на диалектическом принципе: жанр – это не застывшая «устойчивость», а «устойчивая тенденция развития литературы». «Архаика» жанра, обусловленная спецификой «совокупного бытия» («духовной традиции»), именно потому и остается «вечно живой».
1.3. Жанровый тип как категория исторической поэтики
В работах, посвященных проблемам поэтики, в центре внимания могут оказаться разные аспекты и типологические уровни изучения эстетической системности: от родовой специфики литературных явлений, качественных характеристик направлений и методов до художественной семантики языковых средств. Вопросы поэтики жанров в любом случае оказываются приоритетными. М.М. Бахтиным было обосновано и убедительно доказано, что «исходить поэтика должна именно из жанра», что история жанров является приоритетной проблемой исторической поэтики[197].
В историко-литературной работе, в которой на основе сравнительно-типологического анализа конкретных произведений определенного этапа эволюции жанра (в данном случае – классической повести второй половины XIX в.) осуществляется «снятие» эстетических свойств, фиксирующих логический момент в его развитии, реализуется интеграция принципов и методов теоретической и частной поэтики, что, в свою очередь, создаёт основу для обобщений на уровне поэтики исторической.
При таком подходе к объекту изучения становится приемлемой интерпретация предмета поэтики как в узком (Л.И. Тимофеев: «комплекс художественных средств, при помощи которых писатель создает целостную художественную форму, раскрывающую содержание его творчества»[198]), так и в широком значении этого понятия (В.В. Виноградов: «наука о формах, средствах и способах организации произведений словесно-художественного творчества, о структурных типах и жанрах литературных сочинений»[199]). Складываются методологические предпосылки исследования жанровых типов, которое учитывает как исторически сложившуюся систему ассоциированных и в то же время относительно самостоятельных компонентов жанра, так и реальность изменяемости такой системы, обусловленной ролью художественной инициативы писателей. (Формотворчество активизируется, как правило, в «переходные» литературные эпохи.)
Категория жанрового типа входит в число тех понятий, которые используются при анализе литературного процесса, при изучении становления и динамики жанровых систем. Данное понятие «схватывает» специфическое единство типологического («архаики») и исторического («динамически живого») при изучении эволюции жанра на уровне ассоциированности компонентов жанровой структуры, обусловленной творческим методом и типологией стилевого развития. Жанровый тип следует рассматривать как исторически сложившуюся системность, свойственную литературе определённой историко-культурной эпохи.
Таким образом, жанровый тип – это категория исторической поэтики, которая фиксирует стадиальный этап в эволюции жанра. Она определяется на основе «снятия», во-первых, художественно-познавательных свойств, «повторяющихся» во всех образцах жанра и жанровых разновидностях, и, во-вторых, особенностей изображения, детерминированных творческим методом. Это видовые признаки в их конкретно-историческом проявлении, раскрываемые в типологии тематического и художественно-завершающего оформления действительности на уровне исторически сложившегося системного единства поэтических элементов, создающих «целое» жанра, характерное для определённой стадии его развития.
В этом смысле мы говорим о жанровом типе сентиментальной, романтической, реалистической повести или классического, неомифологического романа и т. д.
Изучение такой проблемы исторической поэтики – это масштабная исследовательская задача, крупная научная идея, относящаяся к области фундаментального литературоведения и связанная с анализом определяющих, магистральных путей развития литературы.
Качественное своеобразие исторического существования, функционирования литературных жанров проявляется в типологии стилевого развития, в динамике жанровых систем, которую можно рассматривать как критерий для выделения периодов и этапов в эволюции художественного сознания, то есть периодизации историко-литературного процесса. В то же время установление типологической общности, то есть воплощение логического аспекта исследования, определяющего специфику систематизации, воспроизведение исторической парадигмы жанра (жанрового типа), связано с анализом результатов развития того или иного вида, характеризующих важнейшую стадию его эстетического бытования.
Установление на основе анализа поэтики русской реалистической повести типологических характеристик жанра, фиксирующих логический «момент» в его развитии и дающих представление о важнейшей стадии его исторической эволюции, осуществляется в двух планах одновременно – синхронном и диахронном, теоретическом и историко-литературном. Именно так определяются типологические, видовые характеристики жанра повести в их конкретно-историческом проявлении. Изучение истории реалистической повести XIX в. в аспекте герменевтики, поэтики, типологии, динамизма жанра, в связях с родовой спецификой, с одной стороны, и методом и стилем – с другой, ориентировано на описание «архаики» жанровой структуры, обусловленной специфической «концепцией человека» («постоянная величина»), и признаков жанрового типа реалистической повести, находящихся в непосредственной зависимости от «идеи человека», «типа мироотношения» («переменная величина»).
Историко-литературная категория жанрового типа предполагает исследование как типологически – «вечного», так и типологически-исторического в их неразрывном единстве, то есть содержательно-формальной целостности такого уровня научного абстрагирования, при котором на основе конкретной предметности устанавливается «образец» жанра, сложившийся в результате жанрогенеза. Это осуществляется в ходе изучения причинно зависимой от типа проблематики, конструктивных принципов жанра и метода изображения соприродности «частей» (жанрообусловливающих, жанроформирующих и жанрообразующих факторов и средств) и «целого», «опредмеченной» в жанровом типе русской классической повести второй половины XIX в.
Так определяются особенности поэтики повести как живого художественного явления, направленность динамичных процессов, находящихся в компетенции «архаики» жанра и дающих представление о постоянном её обновлении, в том числе и за счёт взаимодействия с другими литературными родами и жанрами эпической прозы.
Изучение проблем исторической поэтики русской классической повести в аспекте «тематической ориентации на жизнь» этого жанра, его специфических «средств, способов понимающего овладения и завершения действительности» предполагает рассмотрение ассоциированности структурных компонентов данного жанрового типа в их соприродности друг другу, в их специфической взаимосвязи, характерной для данного этапа стадиальной эволюции жанра повести как художественной системы.
Глава II Повесть как жанр эпической прозы
2.1. Дискуссионные вопросы изучения жанровой специфики повести
Повесть – жанр, имеющий давнюю письменную традицию в русской литературе, который в современном своём виде начал формироваться с 1820-х годов XIX в.[200], а с 1830-х годов данное жанровое определение – «повесть» – начинает употребляться в его терминологическом значении. Этот жанр, по сути, не имеет аналогов в западноевропейской беллетристике. По этой причине в теоретических работах зарубежных учёных повесть (в отличие от романа, рассказа, новеллы и т. д.) в системе эпических жанров не фиксируется вообще[201]. В русских журналах XIX в. переводные повести чаще стали появляться уже в 1870-е годы (например, в 8-10 номерах «Отечественных записок» за 1870 год были опубликованы повести «У источника» Дроза и «Сквозь мрак к свету» К. Гуцкова), но такие жанровые обозначения давали не сами авторы, а сотрудники редакций этих журналов.
И.С. Тургенев в письме к немецкому писателю П. Гейзе от 21 марта (2 апреля) 1874 года отметил: «…Мы оба пишем не романы, а только удлинённые повести»[202]. Речь шла о произведении П. Гейзе «Kinder der Welt», которое как зарубежные, так и отечественные литературоведы относят к жанру романа. В письме Тургенева понятие «удлинённые повести» передается традиционным для европейской культуры термином «verlangerte Novellen»[203], поскольку адекватного определения этому жанру в немецкой литературе не существует, так как не существует самого вида такого литературного произведения.
Жанровое содержание, к художественному освоению которого традиционно предрасположена повесть, типологические черты её структуры и поэтики стали предметом теоретического осмысления как в метапоэтике писателей, так и в эстетике критиков XIX в.
Н.И. Надеждин в рецензии на повесть В.А. Ушакова «Киргиз-кайсак» (1831) писал, что данный жанр представляет собой «эскиз, схватывающий мимолётом одну черту с великой картины жизни – краткий эпизод из беспредельного романа судеб человеческих»[204]. Но ещё раньше, в 1821 году, Н.Ф. Остолопов в «Словаре древней и новой поэзии» указывал на то, что в повести, как правило, изображается «одно происшествие», что она представляет собой подражание действительно случившемуся (повесть – весть о былом, о случившемся)[205]. В одной из публикаций в журнале «Сын отечества» за 1828 год впервые обращалось внимание на то, чем отличается повесть от романа: «Роман изображает всю или, по крайней мере, несколько лет жизни человека. Повесть описывает из сей жизни одно происшествие»[206].
В.Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» подчёркивал, что в произведениях этого жанра изображаются события, «которых… не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить её и в в…»; повесть «дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги… жизни»[207]. Н.В. Гоголь в «Учебной книге словесности для русского юношества» тонко подметил, что «повесть избирает своим предметом случаи, действительно бывшие или могущие случиться со всяким человеком…». Для этого жанра, по словам писателя, характерно изображение «происшествия» в «отдельных картинах»; для художественного время-пространства повести имеет значение то, что воссоздаваемому придаётся «поэтическое выражение отдалённостью времени»[208].
Н.А. Добролюбов в статье-рецензии «Повести и рассказы С.Т. Славутинского» указал на внутренние эстетические законы «средней» эпической формы, в соответствии с которыми в «отдельных картинах» даётся «не отрывочное знание той или иной особенности жизни», а «полный пересказ наблюдений над целым строем жизни». Он обратил внимание и на важный сюжетно-композиционный принцип произведений этого жанра: «…законы искусства требуют, чтобы в повести… строго и естественно развивалось содержание само из себя и представляло борьбу в человеке каких-нибудь двух начал»[209].
Л.Н. Толстой в одном из автокомментариев к «Войне и миру» писал: «…Предлагаемое сочинение не есть повесть, в нём не проводится никакой одной мысли, ничто не доказывается, не описывается какое-нибудь одно событие…». Писатель связывал с повестью разработку «одной стороны», точнее, «отдельных сторон» многообразной картины жизни, причём такую конкретную разработку, когда что-то «доказывается». Этим, с его точки зрения, повесть отличается от рассказа, где захватываются изображенные моменты столкновений, противоречий жизни[210].
Н.С. Лесков в письме к Ф.И. Буслаеву от 1 июня 1877 года по поводу вышедшей в том же году брошюры учёного «О значении современного романа и его задачах» даёт сопоставительную характеристику «повествовательных форм» романа, повести, рассказа, очерка, исходя из их структурных принципов. По мнению писателя, в повести автор может быть «только рисовальщиком», тогда как, «затевая ткань романа, он должен быть ещё и мыслителем, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки и весьма часто политики». Роман, считал Лесков, именно в этом смысле обладает «поучительным», «толково разъясняющим смысл значением». В многосторонности изображения жизни, в анализе связей между её процессами, разными аспектами и гранями («время», «среда», «политика», «наука» и т. д.) он усматривал основной конструктивный принцип романа, отличающий его от повести[211]. Роман соотносится с повестью, как «живопись» с «рисунком». Таким образом, манера «постройки романа» и повести зависит, с точки зрения Лескова, от содержательных задач каждого из этих жанров.
Современные писатели дефиниции повести также ищут в пределах содержания и формы произведений. Так, Я. Кросс на страницах «Литературного обозрения» в диалоге с критиком Ю. Смелковым доказывал, что роман связан с «созданием новой модели действительности», а задачи повести ограниченны: она, по его мнению, локальнее, но и многозначнее романа, может быть направлена «по боковой тропинке», а не по «магистрали», как роман (в чём есть своё достоинство и преимущество). Повесть подводит героя и читателя к какому-то итогу, но «не договаривает до конца», не «подводит итоги»[212] (в отличие от романа).
Известный поэт В.Ф. Боков отмечал, что «повесть, по существу, лирическая часть прозы, а роман – эпическая. Повесть любая – это ария, а роман – симфония, она многоветвиста. Повесть – это – я есть, а роман… – мы, общество, народ, история»[213].
Интересные суждения по проблеме дифференциации эпических жанров можно найти в книге А.И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом»: «У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович» – конечно, рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделил новеллу – лёгкую в построении, четкую в сюжете и мысли. Повесть – это то, что чаще всего у нас гонятся назвать романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательная протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько – захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли»[214]. Материал жанровой самоинтерпретации собственных произведений стал для А.И. Солженицына основой глубоких теоретических выводов.
Таким образом, писатели и критики связывают жанровую специфику повести с изображением действительности «с одной стороны», в «отдельных картинах», но «в целом», «во всей полноте». Они особо акцентируют внимание на природе эпического «саморазвития» жизни («содержание» «естественно развивается… само из себя») в формах «случившегося», на специфике художественного времени, то есть на том, что определяет «поэтичность» повести. Опираясь на данные суждения, современные исследователи отмечают, что в этом жанре охватывается какой-либо определённый аспект отношений человека и действительности, постигаемых как процесс[215], что в повести, как правило, освещается отдельный этап или значительный эпизод из жизни человека, уже обладающего определённым характером, воспроизводится его эволюция, происходящая под воздействием жизненных обстоятельств и в соответствии с логикой развития самого характера[216].
Вместе с тем в теории жанра повести остаётся больше вопросов, чем ответов. «Архаика» этого жанра, по сути, никогда специально не рассматривалась, чего нельзя сказать о романе, рассказе, новелле, очерке. Критики и литературоведы пытаются выделить какие-либо доминантные «признаки» повести: «аналитизм»[217], «достоверность»[218], «связь с непосредственностью жизни»[219], особый тип повествования, при котором эстетически повышенной оказывается роль типических обстоятельств, запечатлевающихся в типических характерах[220], специфический сюжет, который не претендует на создание цельной и законченной картины мира и при котором события могут трактоваться символически[221] и т. д. При этом определения, утверждаемые одними исследователями, как правило, вызывают небезосновательные возражения у других (например, об «аналитизме» или «достоверности» как свойствах жанрового содержания повести).
Одни авторы относят повесть к числу «рассказываемых» жанров и видят её отличительную особенность в том, что она «тяготеет… к эпичности, к хроникальному сюжету и композиции», «не имеет сложного, напряжённого и законченного сюжетного узла»[222].
Другие, напротив, считают её принципиально «письменным» жанром[223] или полагают, что типы повествования («рассказываемый», «письменный») не могут быть положены в основу жанровых классификаций[224].
Третьи утверждают, что в повести имеется два типа повествования – собственно повествовательное и новеллистическое, романное (то есть в ней синтезируются качества «рассказываемого» и «письменного» жанров)[225].
О жанровой специфике повести поставлен вопрос в некоторых обобщающих теоретических (Н.Л. Лейдерман, Н.П. Утехин, A. И. Кузьмин и др.) и историко-литературных (З.Ф. Канунова, В. Н. Захаров, Г.Б. Курляндская, В.С. Синенко, Е.А. Сурков и др.)[226]работах. В этих исследованиях отмечается, что при дифференциации повести в ряду эпических жанров необходимо учитывать проблематику жанра, своеобразие сюжетно-композиционной структуры, тип повествования, особенности художественного времени, «объём сюжета, а не объём текста»[227]. То, что повесть как жанр не идентифицируется на основе количественного критерия («размер текста») и предполагает анализ качественных характеристик жанра (проблематика жанра, жанровое содержание, специфика «тематической исчерпанности» и художественно завершающего оформления действительности (М.М. Бахтин), «объём сюжета», «объём жанрового события», концептуальный хронотоп, специфика нарратива и т. д.), показано в ряде работ последнего времени[228]. Хотя Надеждин, а затем и, казалось бы, Белинский нередко отделяли повесть от романа только по объёму, тем не менее именно они поставили вопрос о повести как специфическом жанре. «Повесть есть тот же роман, только в меньшем объёме, который условливается сущностью и объёмом самого содержания», – писал Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды»[229]. Критик не отождествлял роман и повесть, а указывал на общую родовую природу этих эпических жанров. Кроме того, объём повести он рассматривал не формально, а тесно увязывал его с жанровым содержанием («сущностью и объёмом самого содержания»). Эти теоретические принципы жанровой дифференциации складывались постепенно. Сходные положения можно найти, например, в эстетике Гегеля, который объём произведения объяснял предметом и целями изображения[230]. В русской критике до Белинского уже ставился вопрос о жанровых критериях художественной прозы. К.А. Полевой в статье «О русских повестях и романах» (1829) отделял повесть от других произведений по объёму и характеру изображения[231]. Нельзя согласиться с Н.Д. Тамарченко, утверждающим, что якобы «ставший традицией» «количественный подход к проблеме определения и сравнительного описания эпических жанров серьёзному критическому анализу и пересмотру до сих пор не подвергался», несмотря на то что является «сомнительным»[232]. Концепции учёных, давно «усомнившихся» в правомерности «количественного подхода» при изучении типологии и поэтики эпических и других жанров[233], не учтены в работе Н.Д. Тамарченко, что помешало автору объективно рассматривать современное состояние изучения проблемы.
Употребляя термин «средняя эпическая форма» по аналогии с формулой «роман – большая эпическая форма»[234] и в соответствии с нормами, принятыми в современных научных и учебных изданиях по теории литературы[235], считаем необходимым подчеркнуть условность этого термина (не случайно взятого в кавычки). Им фиксируются не «критерий размера текста» и не с этой позиции интерпретируемая идея «срединного положения» повести по отношению «к полюсам большой и малой форм»[236], как полагает Н.Д. Тамарченко, а сущностные характеристики данного самодостаточного жанра, специфика жанровой структуры, «определённые принципы отбора, определённые формы видения и понимания действительности, определённые степени широты охвата и глубины произведений» (М.М. Бахтин), написанных в этом жанре.
Жанровые дефиниции повести нельзя определить по отдельным «признакам», в той или иной мере характеризующим её эстетическое качество. Они устанавливаются на основе корреляций компонентов структуры, взятых не в сумме, а как системное единство.
В теоретических и историко-литературных работах осуществляется типологический анализ повести с разных методологических позиций: во-первых, с жанрово-родовой, когда жанровая типология извлекается из общего понятия о родах литературы[237], во-вторых, с жанровой точки зрения, в соответствии с которой общность извлекается из содержания и формы художественных произведений[238], в-третьих, на основе выявления общих, исторически повторяющихся (типологических) жанровых свойств содержания произведений, в результате чего повесть утрачивает своё самостоятельное значение и оказывается в ряду произведений разных жанровых групп[239]. Существуют типы систематизации повести на основе общности формообразования, обусловленной методом[240].
Имея в виду модификации русской повести XIX–XX вв., при её типологическом анализе следует учитывать прежде всего роль жанрообусловливающих, жанроформирующих и жанрообразующих факторов. «Показатель жанровой природы произведения устанавливается как регулятор структурных возможностей художественного воплощения определённой идеи, соотносясь всегда с уровнем эстетического сознания эпохи»[241]. При этом надо учитывать, что в некоторых повестях могут ставиться сходные с романом проблемы. Однако повесть всё-таки не «представляет человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни» (В.Г. Белинский) и миру так, как в романе. В «Золотых сердцах» Н.Н. Златовратского всех многочисленных героев, относящихся к разным типам «новых людей», объединяет единый ракурс изображения: все они показаны в одной целевой плоскости, «с одной стороны», в одном аспекте – в переходном состоянии, в процессе определения путей к достижению единства «слова» и «дела». А ведь в этой повести так хорошо ощущается влияние тургеневского романа.
Жанровая «концепция человека», жанроформирующие факторы, «особый тип строить и завершить целое» диктуют свои эстетические законы и не дают повести «перерасти» в роман. «Большая эпическая форма», как показал М.М. Бахтин, «соприкасается со стихией незавершённого настоящего». В повести этого нет, а в тех, которые восходят к построениям романного типа, лишь бегло очерчена «зона контакта» с «неготовой современностью». Основным предметом изображения является «прошлое». Здесь важно не то, «отстоялись» или нет изображаемые события[242], а то, что они представляют собой «далевой образ»[243].
Жанровая природа повести проявляется, таким образом, и в синтетических формах. Подобные формы можно рассматривать с точки зрения качественной специфики жанра и эстетического потенциала творческого метода. Не случайно ещё Белинский активизацию повести в литературном процессе 1830—1840-х годов связывал с развитием «реальной поэзии». Но это и жанровое свойство самой повести. Ведь её «протеичность» (но не «промежуточность», а способность к жанрово-родовым и жанрово-видовым взаимодействиям) порождает парадоксальные, на первый взгляд, выводы о том, что «повесть… не имеет своего собственного жанрового центра и представляет собой нечто среднее между романом и эпопеей»[244]. Если первая часть этого утверждения может быть серьёзно оспорена, то вторая (о «срединном» положении повести между романом и эпопеей) не лишена позитивного смысла, если рассматривать это положение с точки зрения качественных, а не абсолютизированных количественных дефиниций жанровой типологии. Повесть как жанр эпической прозы немало «взяла» от традиционной, дореалистической эпопеи и во многом формировалась по «антисхеме» романа.
Взяв за основу характеристику эпопеи и романа М.М. Бахтина[245], можно по критериям, установленным им, выявить характерные особенности повести с точки зрения её жанрообусловливающих и жанроформирующих факторов.
Во-первых, предметом эпопеи является национальное, историческое прошлое, романа – «неготовая современность», незавершенная, находящаяся в процессе становления; предметом же повести является, как правило, недавнее прошлое: в ней «примиряются» актуальность, современность проблематики с «эпической дистанцией» событийного сюжета. «Абсолютное прошлое» художественного мира повести внутренне связано с «современностью», но жизненные явления и характеры показаны в ней как завершённые, а тенденции действительности как проявившие свою суть в «состоявшихся» событиях. Повесть отличается актуальностью проблематики, способностью к интенсификации в переломные эпохи.
Во-вторых, если источником эпопеи всегда было национальное предание, романа – необходимость познания современности и предвидения будущего, то источником повести является анализ жизненных процессов в формах уже «случившегося», в контексте последовательного течения событий и раскрытия того, как сложилось, сформировалось в итоге то или иное явление.
В-третьих, если мир эпопеи отделён от «автора» абсолютной эпической дистанцией, а романа, напротив, не замкнут, раскрывается как жизненный процесс, продолжающийся в перспективе, то мир повести – это такое «прошлое», которое в большей мере присуще событийному, а не повествовательному времени. Отдельные стороны, грани, аспекты действительности воссоздаются в повести не в статике, а в движении, в развитии (даже если в центре изображения оказывается характер, лишённый внутреннего динамизма). «Прошлое» повести имеет самое непосредственное отношение к современности, объясняет, мотивирует её. В отличие от романа, в традиционных образцах этого жанра нет открыто выраженной «зоны контакта» с «неготовой современностью». Иное дело – формы романической повести или романоподобных рассказов, приближающихся к повести: здесь намечена тенденция к «разрушению эпической дистанции»[246].
В-четвёртых, человек в эпосе завершён и закончен на высоком героическом уровне, в романе он принципиально не завершён, не адекватен своей судьбе; незавершённость личности проявляется в открытости её сознания, бесконечности поисков[247]. Человек в повести в принципе завершён, но не на героическом, а на обыденном уровне, на уровне повседневности, он равен себе, равен своему сюжету. Незавершённость характера – это опять-таки свойство романизированных «средних» эпических форм.
Как уже отмечалось в научной литературе[248], критерии классификации эпопеи и романа М.М. Бахтина соотнесены с типами эстетического отношения к действительности и художественных «концепций личности» (точнее было бы сказать – «концепций человека/личности в его отношении к миру»), обусловливающих жанр. М.М. Бахтин определял принципиальные особенности и различия эпических форм разных (с точки зрения исторической поэтики) этапов развития художественного сознания, потому отмеченные им черты, безусловно, являются «общими факторами» жанров. В свете этих критериев вряд ли целесообразно – и даже невозможно – лишать повесть «собственного жанрового центра» и относить её к разным жанровым группам. Повесть, хотя и взяла многое от эпопеи, от древнерусских повестей, а также от романа (главным образом – методом «от противного»), но на основе синтеза выработала свои содержательные и конструктивные принципы, связанные прежде всего с воплощением предмета «эпической поэзии» (человек и мир) в отдельных проявлениях, но во всей полноте. Эту систему можно определить термином «целостная односторонность»[249].
Таким образом, если повесть как жанр рассматривать с точки зрения типа эстетического отношения к действительности и жанровой «концепции человека», то, следуя типологии М.М. Бахтина, можно увидеть в ней синтез признаков «эпопеи» и «антиромана» (в данном случае имеется в виду и то, что М.М. Бахтин рассматривал роман не в узкожанровом смысле, а в свете тенденций развития литературы нового времени), но не механическое соединение первого и второго, а новое третье. Поэтому в ней невозможно установить какую-либо уравновешенность черт «заимствования», пропорции «взятого» из «эпопеи» и «романа»: повесть являет собой новое эстетическое качество. Повесть – жанр повествовательный, и эпическое начало предполагает воссоздание в ней «самодвижения» жизни. Ещё В.Г. Белинский обращал внимание на такие, по его мнению, важные черты повести, как «поэтическое воссоздание действительности», «простота и верность чувства», говорил, что ей противопоказана подмена «объективности» открытым выражением «созерцающего ума». В этом смысле критик делал акцент на том, что «повесть для писателя должна быть родом, а не формою»[250].
Сопоставление повести с романом и эпопеей открывает перспективу и определяет стратегию герменевтического изучения жанрового типа русской классической повести: в центре внимания оказываются специфический конфликт в системе художественных ситуаций, жанровая обусловленность характерологии, изображения человека, типология сюжетно-композиционных структур, время-пространственная организация художественного мира, формы выражения авторского сознания, поэтика повествования и жанрово-видового синтеза[251]. Сравнение с романом и рассказом в данном случае целью не является и проводится там, где помогает отчётливее показать особенности жанровой структуры повести как «типического целого художественного высказывания»[252].
В литературном процессе, в жанровой системе любого историко-литературного периода повесть как самоценная, самодостаточная эпическая форма всегда играла незаменимую роль, выявляя свой жанровый потенциал, активно взаимодействуя с другими видами эпической прозы. Необходимо решительно отказаться от представлений о «служебной» роли повести как «предшественнице» романа, о том, что, будучи логической ступенью в развитии эстетического сознания эпохи, она лишь готовит почву для новых форм романного «синтеза»[253]. Объективно такая мысль содержится или непосредственно утверждается в ряде исследований[254]. Для рассмотрения вопросов органической целостности повести, целесообразной корреляции всех компонентов её жанровой структуры важно определиться в методологических подходах к исследованию этого жанра.
2.2. «Архаика» повести: обусловливающие факторы и «двуаспектная» структура жанра
Рассматривая повесть как жанр, исследователи больше внимания уделяют историческому аспекту (жанр «не тот», «нов», «осовремененный») и почти не занимаются изучением его «архаики»[255]. Но без учёта типологического аспекта («устойчивое», «вековечное») невозможно раскрыть жанрообусловливающую роль «концепции человека», а значит, и познавательные возможности этого повествовательного жанра, выявить присущий ему специфический характер «видения» и «понимания» действительности.
В каждом жанре воссоздаётся целостность индивидуального бытия, логика жизни человека в её неповторимом, «видовом» и «родовом» аспектах. Взаимосвязи героя с жизненным процессом раскрываются в повести, как и в рассказе, не в том многообразии общественных отношений (рассматриваемых нередко в свете бытийной концепции автора), что в произведениях романного типа. «Видовое», социально-историческое в характерологии романа является доминирующим началом, поэтому и система художественных детерминант здесь, с одной стороны, значительно более разработана в аспекте причинных общественных взаимосвязей, а с другой – менее «универсальна», чем в повести. «Интерес к личности в собственном смысле слова, – справедливо подчеркивает в работе по типологии романа А.Я. Эсалнек, – это прерогатива именно романного типа произведений, о чём писали многие исследователи, начиная с Гегеля»[256]. В повести жанрообусловливающим фактором является «концепция человека»[257]. Именно этим фактором определяется её «архаика», устойчивость жанровой структуры.
Поскольку жанрообусловливающим фактором повести является «концепция человека», то произведения этого вида отличаются более широкой, по сравнению с романом, амплитудой проблематики (с точки зрения объекта изображения), хотя и не столь многосложны в самом содержании этого изображения.
Аналитизм романа и повести также имеет свою специфическую природу. В «больших эпических формах» всестороннее изображение «частной жизни» сочетается с широким освещением жизненных обстоятельств. Ещё в литературоведении прошлого времени отмечалось, что в романе воссоздаются «все подробности домашней внутренней жизни»[258]. В этом жанре «личное» и «общее» раскрываются в связях человеческой судьбы, личности и исторического процесса, потому, как правило, выявляется степень развития самосознания как отдельного человека, так и общества в целом. Личность в романе всегда представлена как «субстракт» тенденций национальной жизни. Герои произведений этого жанра приобщаются к ценностям, имеющим общезначимый характер (романная кульминация). Жанровая «память» романа предполагает системное, многоаспектное, целостное изображение общественного бытия и отношения к нему конкретного человека. В связи с этим герои романа показываются в различных аспектах их жизненной, человеческой судьбы – социальных, исторических, бытовых, политических, семейных, личных; их характеры раскрываются в сфере деятельностных проявлений, в контексте социально-нравственных исканий.
Именно в романе широко освещаются связи человека и социума, а личность раскрывается с точки зрения её социальных ролей, вследствие чего у писателей появляются широкие возможности для постановки и рассмотрения онтологических, «вечных» проблем. Метафизический план чрезвычайно функционален в русском классическом романе вообще[259]. Но «архаика» этого жанра ассоциирована с идеей личности как ценностной категорией. В характерологии романа «видовое», социально-историческое является ведущим началом. (Ещё раз подчеркнём: речь идёт о чертах «архаики» этого жанра, то есть о том общем, типологическом, что характерно как для общественного романа типа «Шаг за шагом» И.В. Фёдорова-Омулевского, так и для философского романа Тургенева или Достоевского.)
В романе созидательное воздействие персонажа на среду всегда хорошо ощущается. Если герой и не действует, то он представляет не просто «устоявшуюся» жизнь или «прошлое», а является, скорее, символом целого общественного уклада («Обломов» И.А. Гончарова). Его неучастие в жизненном процессе трактуется тем не менее как проявление особого типа жизнедеятельности, при котором пассивность становится выражением позиции героя (не случайно в романе Гончарова не только Ольга, но и Обломов противопоставлены «деятельному» Штольцу), потому его духовный опыт и судьба имеют отношение к проблемам продолжающейся жизни. Этого не скажешь о таких, например, персонажах обломовского типа, как, Матвей Иванович Луганов («Тёплое гнездышко» М. Вовчок), Иван Иванович («Бунт Ивана Ивановича» М. Белинского [И.И. Ясинского]) и др.
Все средства внешних и внутренних характеристик в художественном мире романа подчиняются целям изображения отношений личности и жизненного процесса. Роман «социологичен» в большей степени, чем повесть, он предрасположен к многоуровневому системному анализу общественных связей, явлений действительности в их незавершённости, развитии и в контексте их философского осмысления. Как верно отметил В.А. Недзвецкий, мысль В.Г. Белинского о том, что роман является формой, наиболее адекватной «для поэтического представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни»[260], можно дополнить: человек здесь рассматривается и «в отношении к истории и мирозданию», как стремящийся «захватить всё» (Л.Н. Толстой), «перерыть все вопросы» (Ф.М. Достоевский)[261]. Зато повесть на фиксированном во времени и пространстве «отрезке» жизненного процесса показывает человека и его отношение к миру в самых разных аспектах, в отдельных проявлениях, при этом – с исчерпывающей полнотой, а в особых жанровых разновидностях – в свете метафизических, «вечных» проблем. Самим объектом изображения она не прикреплена лишь к анализу общественной структуры и функциональной роли личности. В повестях в центре внимания могут оказаться «природные» качества человека («таинственные повести» Тургенева, «Дьявол», «Крейцерова соната» Толстого, «Леди Макбет Мценского уезда», «Воительница» Лескова), что в принципе невозможно для романа, жанровая проблематика которого не санкционирует такую локальность и одновременно универсальность изображений.
Целостное изображение человека в повести имеет свои особенности, связанные с воспроизведением действительности «в отдельных проявлениях», но «во всей полноте». Говоря так, мы должны отметить: при подобном изображении может выступать на первый план «родовое» («Пунин и Бабурин» И.С. Тургенева, «Последний поклон» В.П. Астафьева) «видовое» («Пашинцев» А.Н. Плещеева, «У ног лежачих женщин» Г.Н. Щербаковой), оппозиция «родовое – видовое» («Записки из подполья» Ф.М. Достоевского, «Стоянка человека» Ф.А. Искандера). Но при воссоздании целостного индивидуального бытия человека в этом жанре ведущим началом всё-таки является «родовое», чаще всего находящееся в конфликтных отношениях с «видовым» (будь то «Накануне Христова дня» А.И. Левитова или «Армия любовников» современной писательницы Г.Н. Щербаковой). Поэтому «родовое» как доминирующее начало в повести раскрывается на уровне «типа проблематики» этого жанра (жанрообусловливания) и художественной аксиологии, определяя тем самым его философский потенциал. В повести взаимосвязи героя с жизненным процессом «опредмечиваются» прежде всего в иных качественных, а поэтому и количественных характеристиках.
«Концепция личности» и «концепция человека» – это важнейшие жанрообусловливающие факторы, определяющие существенные отличия романа от повести, «сущность и объём» их содержания, характер тематического и художественного «завершения».
Это проявляется и в выделении доминантного аспекта в многосоставном человеческом характере, раскрываемом в системе взаимосвязей разных по форме детерминант, относящихся к компетенции определённых «сторон», «процессов» «макромира» и интегрируемых в образе «микросреды».
Специфика тематического и художественно-оформляющего «завершения» действительности проявляется здесь в том, что герой изображается как равный самому себе. Он в максимальной степени раскрывает свои возможности, доходит до своего «предела». Этот принцип сохраняется независимо от того, какой характер – статичный или находящийся в развитии (Илья Петрович Тутолмин и Варвара Волхонская в повести А.И. Эртеля «Волхонская барышня») – оказывается в центре повествования. Так читатель, исходя из содержания повести Лескова «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева», может представить себе дальнейшую судьбу главного героя, с которым расстаётся в конце повествования в тот момент, когда он открывает для себя перспективы духовного развития. Но этот герой уже полностью определён в рамках данного сюжета, дальнейшие искания не прибавили бы ничего нового к воссозданию его миропонимания, демонстрируя, скорее, их нисходящую линию. Такой материал уже не представляет для автора существенного интереса и не является функциональным для «сверхтекста» произведения. Человек как «завершённый», «равный» себе и своему сюжету уже был полностью раскрыт в изображаемых обстоятельствах и в отношениях с его окружением. Это важная особенность поэтики повести, жанровой специфики «образа человека». Именно потому, что авторы повестей в многосоставном человеческом характере выделяют определенную доминанту, герой совпадает с самим собой и со своим сюжетом.
В основе жанровой структуры повести лежит особый принцип соотношения «человека» и «микросреды». Обосновывая категорию «микросреды», мы имеем в виду устойчивые черты поэтики повести как литературного вида, поскольку эта категория связана с определением специфического объёма жанрового «события». Данное понятие используется в исследованиях о романе А.Я. Эсалнек, которая включает его в систему «трехчленной ситуации» (личность, микросреда, среда), формирующей романную структуру[262]. Но трактовка категории, основывающаяся на изучении функциональной роли «микросреды» в жанровой системе повести, существенно отличается от той, которая даётся в работах по теории и типологии романа.
Если в романе микросреда предстаёт как сфера личных отношений духовно близких героев и вписывается в объёмный и масштабный образ среды[263], то в повести – как контекст повседневного бытия героев, как их непосредственное, ближайшее окружение. Романная характерология именно по этой причине интегрирует культурно-исторические и социально-философские тенденции эпохи, в произведениях этого жанра не случайно показывается герой времени, крупный эпохальный тип. Наличие «макросреды» и создает предпосылки «романной кульминации» (приобщение главных действующих лиц к ценностям национального, а не сословного, классового и т. д. значения).
Сопоставление, например, романов Тургенева и повестей «Трудное время» Слепцова, «Золотые сердца» Златовратского, в которых хорошо ощутимы тургеневские традиции, показывает, что в «Рудине» или «Отцах и детях» соотношение современности, предстающей как историческое состояние жизни общества, и вневременной вечности («философская ситуация» тургеневского романа) создавало перспективу дальнейшего развития характера героя, определяло его неадекватность сюжету (типологические особенности романа как жанра описаны М.М. Бахтиным), а в повестях даны завершённые характеры, совпадающие со своим сюжетом, несмотря на условно-композиционную открытость финалов произведений. Эти повести лишены философской глубины многослойного романа И.С. Тургенева. Их «образ обстоятельств» не вбирает в себя содержания «всеобщих» закономерностей эпохи, характеры не интегрируют социально-исторические детерминанты в таком «системном» виде, как в романе.
Можно сравнить близкие по тематике и сюжетной коллизии роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и повесть М.В. Авдеева «Магдалина»: в первом случае изображается вся эпоха, во втором – пафос критического анализа ограничен воссозданием пагубного влияния на человека искусственной морали света. «Пробуждение чувства личности» – конкретное выражение процессов «всеобщего переворота» после 1861 года – вызвало неизбежное столкновение Анны Карениной не только с нормами светской морали, но и всем укладом жизни; коллизия романа Л.Н. Толстого сопряжена с такой постановкой социально-нравственных вопросов, когда они требуют для своего воплощения в сюжетной парадигме перевода в план общечеловеческих, бытийных проблем.
Трагедия Магдалины в повести Авдеева раскрывается в совсем иной системе сюжетных мотивировок. Даже историческое время не функционально в этом произведении. Столь важные положения, как участие героя-рассказчика в Крымской войне, не способствуют усложнению образа среды, времени, остаются «сюжетным отступлением», не связанным с дальнейшим повествованием о судьбе героини. Причина трагедии и гибели Магдалины кроется в её «воспитании»: с одной стороны, «уму Магдалины не было дано никакого стремления к делу, к высшим целям жизни», а с другой – её воспитательница-тётка «сделалась под конец поклонницей естественного права и на нём воспитывала» племянницу, в результате чего «у неё выработались понятия без влияния света»[264], что и обусловило конфликт с ним. Дело не только в несоизмеримости таланта двух писателей, но и в особенностях жанровых систем романа и повести.
Говоря об этом, следует подчеркнуть, что в произведениях натуралистического типа или не отличающихся высокой художественностью, чаще всего реализуется установка на изображение группового сознания, а образ обстоятельств не перерастает рамки «ближайшего окружения» персонажей. Так, в повести П.Д. Боборыкина «По-американски!..» даже явно декларируемое столкновение «светской девицы» Лизы с её средой – «барской сферой» – не может разорвать замкнутый круг «сословного» мировоззрения: Лиза становится рупором идей и выразительницей представлений её социального окружения, ощущает зависимость собственных взглядов, поведения, образа жизни от локально-функциональных норм «света», постоянно говорит от имени себе подобных: «Мы, рождённые в сгнившем будто бы мирке, будем жить припеваючи… муштровать следующее поколение барышень, вбивая в них тот же бездушный вздор, каким так ревностно переполняли нас»; «многознайство – эпидемия нашей генерации» и т. п. По этой причине конфликт героини, в которой «личность… осознаёт свои коренные права»[265], со всей установившейся системой домашнего тиранства и законами света, не является отражением эпохальных конфликтов времени, как, например, в «Отчаянном» или «Лунине и Бабурине» И.С. Тургенева. В лучших образцах жанра «микросреда» интегрирует характерные особенности «макромира», раскрываемые «с одной стороны», но «в целом».
«Ситуация», формирующая структуру повести, двуаспектна: «человек» – «микросреда». Если человек в произведениях этого жанра изображается «с одной стороны», то и «микросреда» в каком-то определённом плане, в масштабах сферы (социальной, бытовой и т. д.) его непосредственного существования. Повесть «выработала» свои законы выражения общих социально-исторических и других условий, то есть «макросреды», в которую, казалось бы, в отличие от романа, не вписывается «микросреда».
Роль данного содержательного и формообразующего компонента жанра связана с особенностями изображения «пространства» героя повести: оно находится между наиболее общими условиями социально-исторического бытия и отдельным человеком. Это более «частные» факторы, «индивидуальные условия»[266], детерминирующие характер героя, его поступки. Даже в романической повести «Трудное время» Слепцова дан лишь один «срез» действительности, связи между сторонами, процессами, аспектами жизни не изображаются, социальное бытие «нового человека» не соотносимо с универсальными, субстанциональными, метафизическими проблемами бытия, как в романах Тургенева. Другое дело, что в повести эти универсальные, субстанциональные проблемы бытия могут быть основным объектом изображения в соответствии с законами жанра – изображения «с одной стороны», но «в целом» (например, «Первая любовь», «Довольно», «Клара Милич» И.С. Тургенева)[267].
О проявлении тех или иных закономерностей общественной жизни в повестях чаще всего рассказывается, но возможности их сюжетного воплощения достаточно ограниченны. Дело в масштабе изображения среды, в сравнительно небольшом числе сюжетных линий. Количественные характеристики свидетельствуют об ином качественном свойстве отражения жизни в повести, по сравнению, скажем, с романом.
Микросреда окружает героев и в произведениях других эпических жанров. Но образ «микросреды» в повести имеет свои специфические черты, отличается от формы освоения «диалектической многосложности» бытия, «всеобщих связей явлений», свойственных роману[268], или от локального изображения одного «события», «факта», «случая», обусловливающего «односитуативность», «одноконфликтность» рассказа[269]. Данный образ несёт в себе единство социально-политических, экономических, идеологических, нравственно-психологических и т. д. сторон и факторов, свойственных реалиям определённого времени, но это единство репрезентирует отдельные стороны, грани, аспекты «диалектической многосложности» бытия.
Не случайно все герои событийного сюжета изображаются (в абсолютном большинстве случаев) в одной пространственно-временной плоскости[270]. Так, образ обстоятельств реалистической повести содержит в себе черты, характерные для определённой среды и определённых сословий и групп. В многогеройных романических повестях может изображаться среда разных социальных слоёв («Грачевский крокодил» И.А. Салова, «Очарованный странник» Н.С. Лескова, «Степан Рулёв» Н.Ф. Бажина), но и в этом случае «количество» не переходит в новое «качество», и «микросреда» сохраняет свои жанровые черты. Она остается единой в том смысле, что не интегрирует связи между сторонами, аспектами, процессами, гранями жизни, как среда романа. С образом «микросреды» непосредственно связано изображение жизненных закономерностей «в отдельных проявлениях», «с одной стороны», а преобладание нравственных конфликтов в повести – с тем, что «микроотношения являются… непосредственно-психологическими»[271]. Единство «микросреды» не означает её однородности.
Преобладаемая в характере героя повести нравственно-психологическая доминанта формируется или под воздействием «микросреды», или в результате противодействия ей. Даже если персонаж ведет себя по-разному в разных обстоятельствах, он не «множится», в одном человеке не уживается множественность «я»: его «я» остается единым, определяется нравственно-психологическим «ядром», составляющим основу личности.
В повести П.В. Засодимского «Тёмные силы» «злая и грубая» жизнь низов губернского города формирует характеры, нравственно-психологическая сущность которых является конкретным выражением её бесчеловечных законов. Эта жизнь превращает Катерину Степановну в «раздражительную старуху… жестокую, сварливую и злую», талантливого столяра Никиту – в грубого человека, у которого была «непреодолимая потребность что-нибудь побить», шестнадцатилетнего Алёшку – в «отпетого», лишённого моральных устоев человека и т. д.[272] «Сущность» каждого героя проявляется в любых ситуациях.
«Микросреда» относительно самостоятельна, в то же время связана с национально-историческими условиями. Но жанровый тип среды не предполагает значительных обобщений, касающихся коренных, многосторонне проявляемых социально-экономических, политических, идеологических и др. противоречий. В социально-нравственных конфликтах повести Засодимского раскрывается, главным образом, бедственное положение демократических низов, определяющее «нечеловеческие» отношения в этой среде. Ближайшее окружение героя повести предстает как образ среды, как микросфера, её связи с социально-историческим контекстом жизни выявлены не столь осязаемо, как в романе, она имеет свой арсенал количественных и качественных факторов, детерминирующих, мотивирующих и эстетически реализующих сознание и поведение персонажей, свою систему отражения общих законов «макросреды», рассматриваемой в «отдельных картинах». Вследствие этого в повести, как правило, содержится одна, хорошо и основательно разработанная коллизия, которая может воплощаться в «однолинейной, свободно сконструированной фабуле»[273].
Тенденция к дифференциации «микросреды», когда сопоставляются герои разного типа сознания[274], намечается в повестях, восходящих к построениям романного типа («Захудалый род» Н.С. Лескова, «Издалека и вблизи» Н. В. Успенского. «Две карьеры» А.Н. Плещеева, «Казаки» Л.Н. Толстого, «Три дороги» П.В. Засодимского, «Грачевский крокодил» И.А. Салова, «Три сестры» М. Вовчок и др.). Драматизм и конфликтность этих произведений создаются не столько отношениями между героями, сколько столкновениями «социального» и «человеческого».
Отношения между героями могут вообще не иметь существенного значения для сюжета повести («Степан Огоньков» П.В. Засодимского, «Воробьиные ночи» Л.Ф. Нелидовой, «Крестьяне-присяжные» Н.Н. Златовратского, «Похороны» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Мы победили» Г.А. Мачтета и мн. др.), а если и изображаются в традиционных образцах этого жанра, то не являются источником энергии сюжетного действия («Велено приискивать» О. Забытого [Г.И. Недетовского], «Ставленник» Ф.М. Решетникова, «Гайка» Н. Кохановской [Н.С. Соханской], «Два раза замужем» Ф.С. Стулли).
Межличностные конфликты обостряются в тех случаях, когда герой оказывается не в своей среде («Мещанское счастье» Н.Г. Помяловского, «Казаки» Л.Н. Толстого) или когда он является носителем духовных, моральных норм не той социальной сферы, в которой вынужден находиться (Софроний – Македонский в «Записках причетника» М. Вовчок, Парамонов – его «благодетели» в повести Н.Ф. Смирнова «Тяжёлый труд»). Они имеют разный характер и с точки зрения выраженности в них сущности общественных противоречий (в романических повестях социальный анализ более усилен). Но подобные столкновения лишь подчёркивают единство, устойчивость принципа изображения человека и действительности в произведениях этого жанра: такое изображение осуществляется в масштабах «микросреды», в аспекте воссоздания ближайшего окружения героя, независимо от того, кем отрицается та или иная среда – персонажем («Благодеяние» А.Н. Плещеева), повествователем («Мельница купца Чесалкина» И.А. Салова) или «автором» («Первая борьба. Из записок» Н.Д. Хвощинской) и доходит ли оно («Полоса» Л.Ф. Нелидовой) или нет («Первый возраст в мещанстве» М.П. Фёдорова) до отрицания жизненного уклада в целом.
Характеры в любом случае остаются изоморфными «образу обстоятельств» повести. Даже в тех случаях, когда кардинально меняется окружение персонажа, это не просто связано с появлением у него каких-то дополнительных индивидуальных качеств, а нацелено на раскрытие общих особенностей определённого типа. Скитания с юродивым Василием превратили Софи, героиню «Странной истории» Тургенева, из девушки дворянского круга в «женщину в шушуне», но все условия и обстоятельства её жизни, показанные в повести-студии, подчинены цели «изучения» самоотверженного характера.
Воссоздание человека в контексте «микросреды» является структурным, типологическим принципом. Широта охвата жизненного материала на уровне отдельных сторон, аспектов, граней действительности не может быть сущностной жанровой чертой. Иное дело – особый тип «микросреды», принцип изображения человека в его отношении к миру: это уже и содержательное, и формообразующее качество повести как повествовательного жанра.
С этой точки зрения нуждается в корректировке распространенное представление о том, что повесть способна при углублении её содержания и расширении её рамок «перерасти» в роман, что повесть – это «спрессованный, концентрированный роман»[275]. Повесть не может перерасти в роман: для этого она должна не быть повестью, произведение изначально должно жить по другим эстетическим законам.
Двуаспектность «ситуации», формирующей структуру повести, ещё более отличает её от рассказа, где, по наблюдениям исследователей, под одним углом зрения изображается «незавершённая», не определившаяся до конца действительность, где вся художественная система рассчитана на большую субъективность, а среда ограничена рамками «ситуации», «факта», «случая», являющимися его «исходной позицией и одновременно результатом»[276]. В повестях лучших писателей «микросреда» становилась средством раскрытия определённых аспектов общественных отношений, общественного сознания, а не узко-сословного, группового понимания и восприятия действительности, формой выражения общего «типа мироотношения», свойственного художественно-философскому сознанию эпохи.
Двуаспектная «ситуация» повести формирует структуру, «целое» и «части» которой соприродны друг другу, несут в себе эстетическое качество жанра. Жанрообусловливающими факторами (жанровая «концепция человека», как мы выяснили, опредмечивается в двуаспектной «ситуации»: «человек» – «микросреда») создаются особый тип конфликта, специфическая сюжетно-композиционная система, характерология, видовые черты хронотопа, тип повествования, то есть константные черты жанра, которыми определяется поэтика художественного обобщения, функциональная роль жанрообразующих средств.
Глава III Поэтика жанрового типа русской реалистической повести
3.1. Специфический конфликт в системе художественных ситуаций
Расширяя «горизонты понимания» целостности жанрового типа русской классической повести, обратимся к анализу типологии конфликта, создающего «ситуацию», которая воплощает противоречия и является важнейшим компонентом сюжетно-композиционной системы повести. Эта система как сфера жанроформирования причинно обусловлена специфическим охватом жизненного материала и, в свою очередь, определяет природу его художественной организации, способы построения конкретного произведения, композицию его сюжета, характера, особенности повествования и т. д.
Для повести характерны открытые формы выражения конфликта. Двуаспектностью её жанровой «ситуации» объясняется то, что в произведениях данного типа всегда отчётливо выражен один проблемно-тематический срез, воссоздаются отдельные аспекты конфликтных отношений «родового» и «видового», избирается определенный содержательный уровень их реализации, одна целевая плоскость для изображения человека, противодействующего тем или иным силам. В том случае если он является персонификацией этих сил, то выбирается определённый аспект выражения его столкновений с самим собой.
«Односторонность» повести проявляется в выраженности (чаще всего в открытой форме) конфликтных отношений и противоборствующих сил при доминировании одного из видов причинной обусловленности, например, исторической («Призраки» И.С. Тургенева, «Старые годы» П.И. Мельникова-Печерского), социальной («Крестьянское горе» Ф.Д. Нефёдова, «Николай Суетнов» И.А. Салова), социально-бытовой («Червонный король» М. Вовчок, «Окольным путём» В.Г. Авсеенко), социально-психологической («Село Степанчиково и его обитатели» Ф.М. Достоевского, «Варенька Ульмина» Л.Я. Стечькиной), культурно-исторической («Стук… стук… стук!..» И.С. Тургенева, «Сухая любовь» М.В. Авдеева), «природной» («Железная воля» Н.С. Лескова, «Институтка» М. Вовчок).
Именно поэтому в повести предметом изображения становятся отдельные аспекты многосторонних отношений человека и действительности (или они явно доминируют): например, социальный («Пахатник и бархатник» Д.В. Григоровича, «Юровая» Н. И. Наумова), социально-бытовой («Мещанское счастье» Н.Г. Помяловского, «Яшенька» М.Е. Салтыкова-Щедрина), социально-нравственный («Грачевский крокодил» И.А. Салова, «Три дороги» П.В. Засодимского), нравственно-психологический («День итога» М.Н. Альбова, «Пансионерка» Н.Д. Хвощинской), философский («Довольно» И.С. Тургенева, «Детские годы. (Из воспоминаний Меркула Праотцева)» Н.С. Лескова, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского). А это, в свою очередь, создаёт проблемно-тематическую основу дифференциации «поджанров» (жанровых разновидностей).
В конфликте повести в роли внутреннего критерия выступает «человеческое» (как то, что несёт в себе «родовое», «общечеловеческое»), что вполне соотносимо с изображением в рамках «микросреды». В художественном мире произведений этого жанра «человеческое» становится сферой «всеобщего», то есть выполняет такую идейно-структурную роль, несёт такую эстетическую нагрузку, какую в романе выполняют и несут «сверхличные ценности» (родина, национальная жизнь, историческое бытие народа, общество, культура, общественное движение, стихии национальной жизни, время, строй вещей, «век» и т. д.). В романе, как уже отмечалось, это выражается в приобщении героя к ценностям общеисторического, национального масштаба, в обретении им «согласия с людьми (нацией, народом, человечеством), с миром…»[277].
Познавательно-ценностным «ядром» жанровой «концепции человека» повести является эстетический анализ меры осознания героями несоответствия их идеалов, коренящихся в общечеловеческих представлениях, «порядку вещей», а также мера ощущения неадекватности «родового» и «видового», характерной для «нормы человека» той или иной социальной среды.
Этим объясняется то, что напряжённые узлы «однонаправленных» конфликтов «социального» и «человеческого» в повести чаще всего выявляются через призму нравственных коллизий, в свете этических требований по отношению к человеку и истории[278] (даже в таких, например, социальных повестях, как «Пахатник и бархатник» Д.В. Григоровича, «Степан Рулёв» Н.Ф. Бажина). В повести как жанре актуализируется моральный, нравственно-психологический план изображения именно в связи с тем, что воссоздаются коллизии и характеры, которые фиксируют отдельные уровни и формы противоречивого единства «родового», «социально-исторического» и «индивидуального». Конфликты «социального» и «человеческого», раскрываемые в нравственном плане, можно найти в любом произведении, в романе («Преступление и наказание» Достоевского) или рассказе («Ионыч» Чехова), но в повести отдельные аспекты связей общественного, исторического и нравственного становятся предметом и средством художественного анализа одновременно.
Тип проблематики и конфликта в этом жанре предполагает наличие «ситуации» и «действия» героя. Для воплощения конфликтов «социального» и «человеческого» с «одной стороны», но «в целом», «во всей полноте» при изображении человека и «микросреды» требовалась не одна, а несколько конфликтных ситуаций. Такое может быть и в рассказе, новелле, но их сюжетные эпизоды всегда являются «однокачественными», «однородными»[279]. Как верно отметил А.В. Лужановский, специфика жанрового содержания повести (в отличие от рассказа) проявляется в том, что в произведениях этого жанра содержится несколько конфликтных ситуаций, и каждая из них после её разрешения «переходит в другую». Исследователь указал также и на следующую важную особенность художественных ситуаций повести: их неоднородность. Но обратим внимание на существенное противоречие в его рассуждениях: «…Под повестью следует понимать эпическое произведение, содержащее более одной конфликтной ситуации. Согласно принятому мнению герой повести изображается на каком-то внешне и внутренне законченном этапе жизни. По содержанию этот этап однороден. <…> В повести автор рассматривает героя в одной целевой плоскости, что также обусловливает однородность ситуаций. По этой причине повесть чаще, чем роман и тем более рассказ, строится как хроника… Повесть, в отличие от рассказа, содержит несколько неоднородных ситуаций»[280].
Такое нарушение «логики» исчезает, если мы укажем ещё на одну важную особенность художественных ситуаций повести: система событий в этом жанре создаётся неоднородными, разнокачественными, но однонаправленными конфликтными ситуациями, через которые «проходит герой». Поскольку двуаспектность её жанровой структуры ограничивает возможности охвата действительности, то повесть, в отличие от романа, не может содержать системы разнонаправленных ситуаций. В произведениях этого жанра одна конфликтная ситуация «переходит в другую» по той причине, что повесть ориентирована на анализ и разрешение главного противоречия.
Обратимся к конкретному примеру. В «Мещанском счастье» Н.Г. Помяловского конфликт Молотова и Обросимовых – это не просто социально-классовый конфликт, как нередко утверждается: писатель строит его на основе осознания героем того, что «общественный закон», делящий людей на «полных» и «неполных», является «нарушением здравого смысла», поскольку усиливает противоречия между «родовой» и «видовой» сущностью человека. В повести, где главным сюжетным узлом является внутренний «перелом», произошедший в сознании героя, обнаруживаются три конфликтные ситуации, вытекающие одна из другой, но не сводимые к одной содержательной сути, хотя и данные в одной целевой плоскости (то есть представляющие собой однонаправленный ряд).
Первая – изображение «романтического» мироощущения молодого Егора Молотова, не имеющего «ясного сознания цели в жизни», вторая связана с определением такой цели, третья характеризуется резким обострением конфликта героя с «ситуацией», заставляющим его задуматься о смысле жизни и сути общественных противоречий[281]. В первой из них конфликт ещё таится пока в подтексте, во второй – уже намечается и обосновывается, в третьей – принимает формы открытого столкновения. Чёткое выражение одного направления в развитии ситуаций не позволяет автору затрагивать другие сферы изображения. По этой причине быстро завершается и не получает развития сюжетная линия Молотов – Леночка, а во второй повести дилогии периферийным, по существу, остается материал сопоставлений жизненных судеб Молотова, Череванина и Негодящева. «Ситуации» «Мещанского счастья» перерастают в коллизию, содержащую небольшое количество сюжетных линий, раскрывающуюся в ограниченном количестве сюжетообразующих событий. Однонаправленность ряда неоднородных ситуаций выражается в сюжетообразующей роли одной коллизии и является конкретным проявлением жанрового принципа изображения «с одной стороны», но «во всей полноте».
Важно вместе с тем отметить, что анализ специфики художественных ситуаций повести не является самоцелью, не должен носить локально-фрагментарный характер, вычленяться как аспект жанровой целостности и тем более – абсолютизироваться (такая тенденция имеет место в указанном выше исследовании А.В. Лужановского). Данный аспект жанровой структуры целесообразнее рассматривать в связи с факторами жанрообусловливания (с жанровой «концепцией человека»), с чертами «архаики» повести, в соотнесении с другими её формирующими, а также образующими началами.
Специфичность жанра, как уже отмечалось, заключается не в самом по себе количестве персонажей и событий, а в способах художественного освоения этих событий. Именно в способах «понимающего овладения и завершения действительности» (М.М. Бахтин), обусловленных «проблематикой жанра» и его «тематическим пределом», следует усматривать закономерности воплощения жанрового «события», жанрового содержания повести. Художественные ситуации и их характер – это уже вторичное явление, и связывать непосредственно с этими особенностями повести функции жанроопределения было бы методологически неверно. Диалектика тематического и художественно-завершающего оформления действительности всегда находится в центре внимания при изучении вопросов жанровой поэтики.
Конфликты «социального» и «человеческого» могут принимать разные формы, поэтому повесть может быть романической, новеллистической, очерковой, хроникальной, драматизированной, но структурные её особенности остаются неизменными, являются типологическими.
Напряжённость конфликта при небольшом количестве коллизий и сюжетообразующих событий в этом жанре приводит к тому, что действие, как это отмечал ещё Л.Н. Толстой, приобретает целеустремлённость[282]. Создается особая композиционная «рама» произведения, весь материал которого располагается между двумя содержательными полюсами (см., например, как проявляется данный закон на уровне композиционного мышления писателя в «Сороке-воровке» А.И. Герцена[283]).
В произведениях массового беллетристического потока, в которых, как правило, «тиражируется» жанровый канон, это выражено особенно наглядно, фиксируется даже в поэтике названий («Сон бабушки и внучки» Ольги N. [С.В. Энгельгардт], «В усадьбе и на порядке» П.Д. Боборыкина, «Из огня да в полымя» Е. Н-ской [Н.П. Шаликовой], «Ошибка за ошибку» Н.Р. /?/ и мн. др.). В современной литературе, несмотря на усложнившийся характер сюжетики повестей, принцип внутреннего, контрастного сопряжения «двух начал», двух планов, остаётся структурообразующим (см., например, повести «У ног лежачих женщин» Г.Н. Щербаковой, «Агитрейд» А. Житкова и мн. др.).
Однонаправленность неоднородных ситуаций повести, выливающаяся преимущественно в формы нравственных коллизий, не могла создать условий для исчерпывающего разрешения конфликта. Такой ряд ситуаций подводит к выводу (но не подводит «итоги»), финал произведений приобретает символический характер, на что обращали и обращают внимание сами писатели, как классики, так и современные авторы[284]. Конфликт, условно говоря, остается «недовоплотившимся», а финал «открытым» (финал дилогии Помяловского «демонстративно» заканчивается многоточием: «Эх, господа, что-то скучно…»[285]).
Но при этом характер в повести сохраняет свои типологические черты. Сравнивая, например, близкие по проблематике и образной символике финалы повести Л.Ф. Нелидовой «Полоса» и романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, можно сделать вывод о том, что в первом из произведений создаётся эстетический эффект просветления во внутреннем мире героя, достигшего апогея в своем духовном развитии (навязчиво-болезненное видение «бесформенной полосы» у студента духовной академии Евгения Пирамидова сменилось лицезрением Божьей Матери[286]), а во втором – восприятие Раскольниковым евангельских истин служит воплощению прямо противоположных идейных задач: не только утверждению «человеческого в человеке», но и определению перспектив нравственного совершенствования героя.
Изображение жизнедеятельности персонажа в неоднородных, но однонаправленных сюжетных ситуациях в классической повести XIX в. отражалось на характере художественного воплощения его общественно значимых этических целей и жизненных установок. «Дело» такого героя оставалось, как правило, «за кадром», то есть сюжетного воплощения самого процесса его реализации мы в произведениях этого жанра не обнаруживаем: о «деле» чаще всего рассказывается первичными носителями речи.
Связь «архаического» и «исторического» в жанровом типе русской реалистической повести выражалась в том, что писатели в произведениях, художественный мир которых организован на основе конструктивного принципа данного жанра, выход из противоречий «социального» и «человеческого» искали в сфере общественной активности человека, которая, по их мнению, способствовала как утверждению его самостоятельности, так и изменению самих социальных условий. Но такое изображение имело свой «жанровый предел».
О формировании нового типа героя в повестях 1860-х годов вполне обоснованно говорил М.Е. Салтыков-Щедрин в статье «Напрасные опасения» (1868). Принцип жизнедеятельности, специфически воплощаемый в системе раскрытия конфликта повести, был функционален не только в образах этого жанра беллетристов-демократов (В.А. Слепцов, Ф.М. Решетников, Н.Г. Помяловский, Н.В. Успенский и др.): стремление к «делу», к «высшим целям» в противовес существованию в «узенькой рамке узенькой частной жизни»[287] утверждается в качестве художественно-аксиологического критерия в произведениях массового беллетристического потока. Однако многостороннее раскрытие деятельностной сущности личности встречало внутреннее «противодействие» со стороны жанровых законов повести. Те, в которых в большей мере выражено стремление героев к деятельному воплощению или защите своих идеалов («Пунин и Бабурин» И.С. Тургенева, «Три сестры» М. Вовчок, «Золотые сердца» Н.Н. 3латовратского, «Перед зарёй» П. Фелонова, «Надо жить» Л. Лукьянова [Л.А. Полонского], «После потопа» Н.Д. Хвощинской и мн. др.), лишь нагляднее демонстрируют типологические черты содержания конфликта повести. «Ослабление» «социологического» начала в её жанровой проблематике объективно сужало возможности изображения активного изменения героем действительности и торжества его созидательных целей («Между людьми» Ф.М. Решетникова, «Трудное время» В.А. Слепцова, «Волхонская барышня», «Карьера Струкова» А.И. Эртеля, «Учительница» Н.Д. Хвощинской, «Сельцо Малиновка» О. Шелешовской [Е.В. Львовой], «Молодые побеги» А.А. Потехина).
Воспользовавшись выводами современного психолога А.Н. Леонтьева о двух стадиях в развитии потребностей, можно сказать, что герои повести чаще всего остаются на первой (скрытое условие деятельности, потребности как внутренний стимул) и, как правило, не переходят во вторую (потребности как реальность, регулирующая и направляющая деятельность человека в окружающей среде)[288]. Вот почему за сюжетными скобками остаётся изображение учёбы и трудовой жизни в Петербурге дочери провинциального купца Маши в повести «Домашний очаг» Д.И. Стахеева, деятельности самоотверженного Бабурина («Пунин и Бабурин» И.С. Тургенева), борьбы с существующим злом Григория в «Трёх сестрах» М. Вовчок и Миши в «Учительнице» Н.Д. Хвощинской, общественной работы учёного и литератора Ильи Тутолмина в «Волхонской барышне» А.И. Эртеля и т. д., то есть героев, занимающих разное положение в системе образов и созданных писателями разных мировоззренческих ориентаций.
Повесть не имеет сложной системы разнонаправленных художественных ситуаций, той многосоставности конфликтов, которые позволяют романистам показать персонажей в широком контексте жизненного процесса при раскрытии закономерностей бытия с разных сторон, в разных аспектах. Согласно внутренней логике произведений этого повествовательного жанра «скрытые условия» деятельности, внутренние стимулы к действию являются основой динамики характера, адекватной формой «самосозидания» и самовыражения человека.
3.2. Типологическое и историческое в характерологии и принципах сюжетосложения
Жанровый тип характера в повести обусловлен задачами аналитического изображения одного пласта, одной из сторон жизненного процесса, особенностями «двуаспектной ситуации», формирующей её структуру, типологией конфликта.
Разработка «отдельных» аспектов целостного бытия человека в повестях Тургенева сказалась, например, на своеобразной «бинарной оппозиции», свойственной их характерологии. Это наглядно проявляется в произведениях, посвященных «общественному» («Странная история», «Пунин и Бабурин», «Наталия Карповна») и «частному» («Стук… стук… стук!..», «Старые портреты», «Отчаянный», «Старые голубки»)[289] человеку.
Так, образ Бабурина относится к типологическому ряду самоотверженных героев донкихотского склада, которые именно в силу «чистоты» своего типа, то есть своей «односторонности», могут претендовать на роль главных действующих лиц в повести, а не романе (герои подобного склада в романе «Новь» – Маркелов, Остродумов, Машурина – находятся на периферии образной системы). Характер Бабурина раскрывается «с одной стороны», с точки зрения его самоотверженности. Он становится своеобразным центром, к которому притягиваются слагаемые художественного мира. «Односторонность» этого характера не лишает его жизненной правды и убедительности. Художественный историзм повести проявляется в трактовке общественно-нравственного долга как формы выражения требований национальной истории. Активно-самоотверженный герой совершает свой нравственный выбор и реализует себя в системе отречения в результате того, что именно такие формы жизнедеятельности человека, осознающего свою ответственность перед другими, определяет само время.
Иной характер, также воссоздаваемый в одной «целевой плоскости», является центральным в тех «студиях», в которых изображается «частный» человек, то есть герой, «выпавший» из неостановимого течения жизни, утративший социальную активность, погруженный в стихию личного бытия. В «Отчаянном» И.С. Тургенева жанровый тип характера обусловлен постановкой проблемы общественной сущности человека в её органической связи с вопросом о деятеле эпохи всеобщего «переворота», которые раскрываются не в позитивном, а в негативном плане: герой «студии» – это прожигатель жизни, лишённый активно-деятельного, созидательного начала и не нашедший подлинного смысла жизни. Тематический охват проблемы человека предопределил её воплощение в жанре произведения, близкого к повести. Но изображение героя в одном нравственно-психологическом плане не исчерпывается только характерным (как в рассказе), поэтому ряд ситуаций, в которых раскрывается конфликт Миши Полтева со старым, патриархальным укладом, несмотря на новеллистичность повествования, остается типичным для повести: здесь более важным оказывается не обновление однокачественных эпизодов, а их разнородность, поскольку психологическое раскрытие противоречивого характера не сводимо к одной «сути».
Два типа в характерологии некоторых повестей и «студий» И.С. Тургенева складывались в результате отражения закономерностей жизни: социальные обстоятельства порождали поляризацию «общественной» и «личной» сфер бытия человека. Задачам изображения этих процессов соответствовал эстетический потенциал повести.
Две типологические разновидности в характерологии повестей Плещеева, писателя совсем другого уровня таланта, также являются проявлением действия жанровых законов[290]. Одни герои, такие как Костин, Щебенев, Городков, сохраняя черты «лишнего человека», оказываются способными к развитию, совершенствованию, к восприятию разночинно-демократической идеологии («Две карьеры», «Благодеяние»), другие – с их «красноречивыми фразами» и «неспособностью… к труду»[291] (повести «Пашинцев», «Призвание») лишь отдалённо напоминают «лишних людей», но, по сути, ничего общего с ними не имеют (Пашинцев, Поземцев и др.). Позиция автора в оценке героев первой группы не совпадает с её тенденциозной интерпретацией, содержащейся в статье Н.А. Добролюбова «Блогонамеренность и деятельность»[292]. В первом случае писатель стремился показать эволюцию передового деятеля, подчеркнуть, что «слово» «лишнего человека» подготовило «дело» «новых людей», во втором он воссоздавал облик социального типа, противопоставленного как «лишним», так и «новым людям».
Таким образом, раскрытие многосоставного человеческого характера с определённой точки зрения, выделение в нём нравственно-психологической доминанты относится к числу важнейших жанровых задач повести. В «Очарованном страннике» Н.С. Лескова, например, сюжетные положения подчиняются цели изображения пореформенной действительности с точки зрения её парадоксальности и отражения этих процессов в характере «очарованного» героя, в котором органически сочетается отсутствие утилитарной практичности с «художественностью» натуры и который способен к нравственному, духовному развитию. (Благодаря этому Иван Северьяныч Флягин преодолевает стадию доличностного сознания в своём развитии.) В «Живых игрушках» М.А. Воронова авторской задачей является изображение бесчеловечности и эгоизма Шишмарева, напоминающего князя Валковского из «Униженных и оскорбленных» Ф.М. Достоевского; в «Накануне Христова дня» А.И. Левитова – хищнической и злобной сущности Липатки и Ивана; в «Институтке» М. Вовчок – безграничного себялюбия панночки, в повести М.П. Фёдорова «Первый возраст в мещанстве» – растерянности и сломленности «людей, убитых бедностью и глубокими душевными страданиями»[293].
Главные герои романа не могут быть носителями какой-то одной нравственно-психологической доминанты, поскольку интегрируют тенденции разных аспектов, сторон, процессов действительности (в результате чего являются, как правило, типами эпохального масштаба), в повести же именно такие характеры оказываются в фокусе авторского внимания. (Для примера можно сравнить главных героев повести «Казаки» и романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «новых людей» из повести «Новые русские люди» Д.Л. Мордовцева и его же романа «Знамения времени», героев этого типологического ряда в повестях «Три дороги» П.В. Засодимского, «Перед зарёй» П. Фелонова, «Молодые побеги» А. А. Потехина и романов «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» И.А. Кущевского, «Шаг за шагом» И.В. Фёдорова-Омулевского.) Тип характера, отличающийся «однонаправленностью», одной целевой установкой и не вписанный в общую картину жизни («макросреду»), был органичен для жанровой структуры повести, обусловленной принципом «двуаспектности» её «архаического канона». Сюжет, связанный с задачами такого изображения, определял «масштаб» жанра.
Особенности развития действия, обрисовки характеров в ситуациях связаны с типологическими характеристиками сюжетно-композиционной структуры повести. Её жанрообусловливающие факторы, а также хронотоп, тип повествования, особенности воплощения конфликта создают условия для сочетания концентрического и хроникального принципов организации сюжета, для контаминации экстенсивного и интенсивного развития действия при тяготении к одному из этих полюсов.
Некоторые же её разновидности (прежде всего романические повести) характеризуются совмещением этих принципов организации действия. Всё зависит от того, какие аспекты предмета «эпической поэзии» находятся в фокусе авторского внимания (характер, среда, их отношения, рефлексия героя, его «кругозор» и т. д.). Эти принципы сюжетосложения проявляются как в повестях, написанных в традиционной для жанра манере («Саша» Н.В. Успенского), так и на очерковой («Крестьяне-присяжные» Н.Н. Златовратского) или романической («Издалека и вблизи» Н.В. Успенского, «Золотые сердца» Н.Н. Златовратского) основе.
В повести «Саша» сочетание концентрического и хроникального начал в построении сюжета осуществляется таким образом, что интенсивное преобладает над экстенсивным. Внешне развитие действия определяется «сцеплением» глав, когда один эпизод следует за другим по логике развития событий. Но для повести характерна сосредоточенность на личных переживаниях главной героини, и это организует сюжет по центростремительному типу: все герои и все события связаны одной коллизией – историей сватовства бухгалтера и замужества Саши. Ряд конфликтных ситуаций выстраивается в одну сюжетную линию, так как «эпизоды» связаны между собой подчинительной связью: в основе нелепого, неравного брака девятнадцатилетней девушки из обедневшей дворянской семьи и «пожилого… безобразного», расчётливого жениха-бухгалтера лежали «практические мысли» всех участников «торговли» живым «товаром»[294].
Драматизм и напряжённость действия в этой повести создаются благодаря тому, что компоновка материала подчиняется задаче изображения торжества «видового» над «родовым», «социального» над «человеческим». Алогизм (с «человеческой» точки зрения) совершающегося события находит адекватную форму выражения: весь художественный материал подчиняется единому ракурсу композиционного оформления, в основе которого лежит несоответствие слова и дела, истинного и выдаваемого за истину. Принцип алогизма проявляется в построении сюжета, отдельных эпизодов и даже реплик персонажей[295]. Хотя сюжет организуется так, что всё действие концентрируется вокруг главной героини, автор, социально мотивируя трагедию Саши, стремится к его одновременному развитию не только вглубь, но и вширь. Значительную сюжетно-функциональную роль играют нравоописательные картины, «очерки», дающие представление о жизни крестьянской России. Конфликт повести, несмотря на драматизацию сюжета, сглажен: здесь не изображаются отношения между характером и средой, поэтому протест героини не выливается в открытое противоборство. Обусловлено это тем, что по типу сознания Саша ничем не отличается от людей окружающей её среды. Сюжет повести лишён такой концентрированности действия, как, скажем, в новелле.
Интенсивность развития коллизии в произведении Н.В. Успенского ослабляется одновременной экстенсификацией сюжета: кульминационная глава «Поиски» обрамляется бытовыми сценами, картинами, спад действия тоже лишён стремительности (намечается даже новая сюжетная линия Саша – Пётр – бухгалтер). Распространение сюжетных кругов вширь связано с художественным обоснованием не только субъективных, но и объективных причин закономерного трагического финала: в повести с «одной стороны», но глубоко, «в целом» раскрывается детерминированность судьбы героини общими тенденциями жизни – изменениями социальной структуры общества, усилиями процессов отчуждения в пореформенной России. В ней нет сюжетно выраженных «выходов» в общую жизнь, не показываются её другие важные стороны и грани (пробуждение чувства личности, смена одного уклада другим, отдалённость от духовно-нравственных первооснов жизни или близость к ним, как в романах Гончарова, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Стахеева и др.). (Повесть, написанная в 1867 году, воссоздает события недавнего прошлого, произошедшие уже после отмены крепостного права.) В произведении доминируют морально-психологические аспекты конфликта при выявлении причин нравственного распада семьи.
В повестях нередко наблюдается одновременность и согласованность между собой нескольких самостоятельных «голосов», «мотивов», которые образуют единый целостный сюжет, скрепляемый основным лейтмотивом (поэтому в ней и преобладает чаще всего одна коллизия). Это является результатом действия жанрово-композиционного закона, определяемого Л. П. Гроссманом категорией контрапункта[296]. Все компоненты композиционной структуры повести (конфликт, характерология, соотношение сюжетных линий и т. д.) приводятся в систему «музыкальным» построением сюжета, придающим произведению конструктивную завершённость.
Так, в «Саше» принцип punctum contra punctum является стержневой основой сюжета: родные и посторонние решают судьбу героини, в результате чего она переживает внутренний душевный надлом; пассивное противодействие покорной Саши противоположно насилию участников свадебного «торга». Кульминация, ставшая апогеем нравственного протеста (бегство Саши зимней ночью на кладбище), усиливает поданную в завязке «тему». Разрешается она в финале, где показано торжество сил, легко сломивших такое сопротивление героини в результате предпринятых контрдействий. Таким образом, разные «голоса» и «партии» «поют различно на одну тему»[297].
В повести Н.В. Успенского «Издалека и вблизи» основной мотив (лейтмотив) – необходимость живого, а не рутинного «дела» – также развивается по принципу повествовательного контрапункта: образу жизни молодого графа (1-я и 2-я главы) противопоставляется «деятельность» Егора Карпова, помещика старого покроя (3-я глава), обе смысловые позиции героев отрицаются идеей труда Новосёлова и Василия Карпова (4-я глава), далее «голос», «мотив» Новосёлова, утверждающего идею общественно значимого труда, выделяется и противопоставляется всем остальным (9-я, 11-я, 12-я главы), а в заключительной главе эти «мотивы» сливаются в одну «тему», но она воплощается в иронической стилевой тональности, дистанцирующей позицию автора от позиций героев.
Построением сюжета повести на основе контрапункта объясняется тот факт, что в критических статьях и в исследованиях произведений этого жанра нередко звучит общая мысль: в художественном мире повести всё в конечном счёте сводится к диалогу, контрасту, а интенсивность действия возникает между двумя положениями, как между двумя электрическими полями[298]. По этой причине герои «традиционной» повести чаще всего сопоставляются (например, Саша – жених-бухгалтер, родные героини в повести Н.В. Успенского), а в романической – противопоставляются по типу сознания (Пашинцев – Глыбины, Заворский в повести А.Н. Плещеева «Пашинцев»).
Жанровые законы формообразования действуют и при таком типе сюжета, где экстенсивное преобладает над интенсивным. В повести Н.Н. Златовратского «Крестьяне-присяжные» единство действия создаётся не развитием сквозной интриги (при этом основная сюжетная коллизия является структурообразующей), а его экстенсификацией, распространением вширь. Сюжет интенсивный по преимуществу здесь и невозможен: в повести нет одного главного героя. Центральным является коллективный образ «чередных» пеньковских крестьян-присяжных. Конфликт «социального» и «человеческого» сглажен, не персонифицирован, не раскрывается как столкновение между героями: судьбы всех действующих лиц являются конкретным выражением противоречий действительности. «Микросреда» не дифференцируется, героям противостоят сами устои жизни, весь миропорядок. Действие в повести стремится к раздвижению пространственно-временных рамок. Писатель достигает это за счёт одновременности параллельного и последовательного ввода новых персонажей. Создается орнаментальный сюжет, состоящий из «очерков», «сцен», нравоописательных «картин».
Напряжённость действия, свойственная повести даже такого экстенсивного типа, проявляется в постепенном усилении драматизма. «Свободная» сюжетно-композиционная организация произведения, воплощающая тенденцию к «эпичности», к рас-сосредоточиванию действия, порождала целостность особого вида, когда единство достигалось за счёт внешнего «разъединения» героев, а каждый эпизод, сцена становились промежуточными и вместе с тем связующими звеньями. Единый конфликт концентрирует действие, он чётко и с самого начала обозначен. Воссоздание характеров с одной целевой установкой придает даже развёрнутому, многофигурному повествованию известную однолинейность. Экстенсивная «растянутость» сюжетного воплощения конфликта нейтрализуется в произведении концентрированностью персонажей, создающей напряжённость в раскрытии общественных противоречий.
В романической повести изображаются преимущественно взаимоотношения человека и действительности при раскрытии конфликта на персонажном уровне, поэтому её образная система, а следовательно, и «микросреда», содержат в себе тенденцию к дифференциации. В ней функциональны герои разных жизненных позиций, отличающиеся друг от друга по типу сознания. Разумеется, «микросреда» любой повести является неоднородной, а внутренний мир персонажей даже одной социальной группы, близких по типу сознания – неповторимым. Неоднородность среды в романической повести подчёркивается сильнее, поэтому противопоставление по типу сознания главного героя и людей его окружения («Две карьеры» А.Н. Плещеева, «Степан Рулёв» Н.Ф. Бажина) или главных героев между собой («Перед зарёй» П.И. Фелонова, «Грачевский крокодил» И.А. Салова) выражено более рельефно, чем в повести «традиционной» («Ставленник» Ф.М. Решетникова, «Велено приискивать» О. Забытого [Г.И. Недетовского], «Воробьиные ночи» Л.Ф. Нелидовой). Это создаёт основу уже не просто для сочетания интенсификации и экстенсификации действия при тяготении к одному из этих конструктивных принципов, а для их совмещения.
В повести Н.В. Успенского «Издалека и вблизи» «распространяющийся» сюжет потенциально содержит в себе сюжет интенсивного типа. Казалось бы, действие в ней идёт вширь, но все главные герои, дифференцирующиеся по характеру жизнедеятельности и типу потребностей, изображаются тем не менее в одной «целевой плоскости». Дистанцированность позиции автора от позиций героев объясняется тем, что все персонажи народную жизнь видят «издалека», с точки зрения своей «идеи», но «вблизи» она оказывается совсем другой. Герои отличаются по типу сознания, но и сближаются одновременно. Поэтому сюжет развивается вроде бы по экстенсивному типу: расширяются пространственные рамки в принципе единого хронотопа. Но в недрах этого сюжета зарождается сюжетная линия Новосёлова, вокруг которой постепенно концентрируется действие, и с 9-й главы («Лекция») экстенсивный тип повествования перерастает в интенсивный[299].
Движущим фактором развития этой сюжетной линии является «идея» героя. Поэтика сюжета повести Н.В. Успенского характеризуется тем, что в ней между социально-историческими детерминантами и поступками, формами выражения жизнедеятельности героя оказывается «идея». Её символизирует образ «сохи андреевны»: Новосёлов пытается строить свою жизнь по антисхеме романного героя – «лишнего человека», но, не достигающий философской высоты социально-нравственных исканий, скажем, тургеневских «лишних людей», он воплощает идеал Фёдора Ивановича Лаврецкого («Дворянское гнездо») – «пахать землю» – в буквальном смысле. Его «самоисправление» не идёт дальше того, что он «надевает мужицкий армяк»[300]. Образ Новосёлова синтезирует в себе комплекс Рудиных и Лаврецких, с одной стороны, и будущего Константина Левина («Анна Каренина» Толстого) – с другой. Несмотря на интенсивное развитие сюжетной линии Новосёлова, автор лишает этого героя возможности реального приобщения к сверхличным ценностям и тем самым – связи с продолжающейся жизнью.
Сюжет повести «Издалека и вблизи» представляет собой эстетическую целостность, а не механическое соединение «распространяющегося» и «сосредоточивающегося» действия. Судьба каждого героя приобретает смысл только в результате их органической взаимосвязи, сопоставлений, противопоставлений, взаимоотражений. Но и в таком сюжете главный герой изображается как «завершённый», «равный» своей судьбе. Поэтому он и «равен» своему сюжету. Художественно-завершающее оформление материала повести предполагает ситуацию максимального самовыражения героя при одновременном указании на недовоплощённость «высших целей» в конкретных обстоятельствах.
Законы контаминации принципов экстенсивного и интенсивного построения сюжета по-иному проявляются в «Золотых сердцах» Златовратского: здесь интенсивный сюжет изнутри раздвигается действием, идущим вширь. Повесть начинается как социально-психологический роман, посвященный герою, в котором синтезированы черты «лишних людей» и «новых людей» «былого времени», то есть «шестидесятников». Однако уже первая глава предстает как многофигурное повествование: автор использует приём параллельного ввода в действие многих персонажей. Со второй главы повествователь переключается на рассказ о других героях. Последние три главы возвращают читателя к «концентрическому сюжету», от которого расходятся широкие круги распространяющегося действия, захватывающего в объект изображения новых героев и новые события. Показательно, что 5-я глава, которая в тургеневском типе романа, основанном на любовно-психологической коллизии, являлась бы кульминационной («русский человек на rendez-vous»), не только не становится моментом наивысшего напряжения действия, но и открывает перспективы его дальнейшей экстенсификации.
Однако завершающая повесть глава «Накануне» возвращает читателя к ситуациям тургеневских романов и подчеркивает значимость «концентрического», «сосредоточивающего» начала в целостной организации сюжета. Краткий эпилог буквально дублирует финал романа «Рудин». При этом почти во всех главах обнаруживается масса функционально значимых, но «сюжетно-незначительных» персонажей, героев «вставных» микросюжетов, а линии основных действующих лиц являются относительно самостоятельными, нередко даже не пересекаются (Морозов – Башкиров, Миртов – Башкиров, Маслова). Объединяется этот материал образом рассказчика, целостность сюжета достигается единством повествовательного тона.
Казалось бы, сюжет повести «Золотые сердца» можно определить как экстенсивный по преимуществу: здесь изображается столкновение со средой не одного, а всех основных персонажей. Но материал произведения компонуется на основе главной, сквозной, единой коллизии, содержание которой составляет отношение многочисленных героев к «общему делу» (ключевое образ-понятие повести). Цементирующую роль играет сюжетный лейтмотив «сердца», способного к «самопожертвованию», что усиливает напряженность действия.
Интенсивность повествования во многом обусловлена тем, что герои повести противопоставляются по характеру жизнедеятельности и по типу сознания. В то же время «микросреда» дифференцируется не по законам романного сюжетосложения: даже сами герои отмечают отсутствие духовного единства. Такие содержательные аспекты определяют особенности сюжетных решений: герои объединены одной коллизией, но их сюжетные линии достаточно автономны. Источником энергии сюжетного действия становятся не столько отношения между персонажами, сколько изображение возможности преодоления каждым из них «романтизма» (данное ключевое образное понятие связывает повесть с тургеневской «Новью», с типом «романтика реализма»[301]).
Поскольку писатель изображает героев в ближайшем окружении, то их связь с обществом в целом лишь намечена, выходы в «макромир» явно не обозначены, их реальное практическое «дело» не связано с авторским выявлением перспектив развития жизни. У всех героев, «чутких к истине»[302], осознание национальных задач и ценностей подменяется, по существу, не очень ясной идеей «общего дела», которая является, скорее, исторической метафорой, чем реальной концепцией социального прогресса.
Сюжет повести, основанный на одной коллизии – мотиве «общего дела», – строится по принципу «контрапункта» (развитие темы «романтизма»). Но столкновения героев не ведут к разрешению конфликта, так как все персонажи (в том числе и Башкиров) не только противопоставляются, но и сближаются. Ясно обозначенный конфликт между ними выявляет не только то, что разъединяет «сомневающегося» Морозова и утвердившихся в «вере сердца» Башкирова и Катерину Маслову, но и то, что их объединяет. Таков жанровый закон изображения жизни в «отдельных проявлениях» и в одной «целевой плоскости», закон раскрытия характеров в неоднородных, но однонаправленных ситуациях.
Объединяет всех действующих лиц «романтизм», неясность конечных, «высших целей». В этом смысле они являются завершёнными, что и сближает всех героев повести «Золотые сердца» – и «односторонних оригиналов», вроде Башкирова, и «любителей общих идей, искателей какой-то всеобщей гармонии», таких, как Морозов[303]: все они остаются в компетенции «романтизма».
В повести Златовратского истинные противоречия, которые определяют сюжетно-конфликтный рисунок и поведение, поступки героев, реализуются не как столкновения между ними, а проявляются и в тех и в других одновременно. Эти противоречия являются имманентными, общими для них. Такое воплощение художественного конфликта существенно отличает повесть от романа (от «Отцов и детей», например): герои Златовратского персонифицируют варианты одной и той же сущности. Коллизия развивается не в столкновениях персонажей, а через них (поэтому сюжетные линии основных «антагонистов» – Морозова и Башкирова даже не пересекаются). Тем не менее именно эта коллизия организует сюжет как единую целостность, поскольку в «Золотых сердцах» «микросреда» дифференцируется, показываются герои разного типа сознания.
Большую роль в художественно-завершающем оформлении произведения играет финал (его функцию выполняют 8-я и 9-я главы), поскольку все противоречия раскрываются с точки зрения вводимого здесь понятия «хамство идеи», которым один из главных персонажей – Миртов – определяет зависимость от «старых божков» («шестидесятников»), с одной стороны, и идеализацию «мужика», «фантастичность» народнической «веры» – с другой[304].
Анализ произведения позволяет на эстетическом уровне аргументировать мысль писателя о том, что он не выступал апологетом «муравьиного труда» (теории «малых дел») и не ставил под сомнение «геройство и идеализм» самоотверженных «народных заступников». «Идеализм» в данном случае является синонимом не «романтизма», а «веры сердца», чувства ответственности личности. Герои, у которых автор обнаруживал «золотые сердца», не лишены возможности обрести «дело живых»[305]. Эпилог подчеркивает это. Но изображение подобной перспективы оказывается за сюжетными скобками произведения. Такое тематическое завершение является не романным, а типичным для повести. Взаимосвязь «открытого» финала и «завершённых» характеров предстаёт в этом жанре как системное единство.
Тематическое «завершение» повести не сопряжено, таким образом, с художественным воплощением реализации героями «высших целей» человеческого существования (даже в «Казаках» Л.Н. Толстого), так как её художественный мир не разомкнут, не соотнесен с продолжающейся жизнью (иначе может быть в романической повести), а персонажи показываются в какой-то одной ипостаси, вследствие чего не могут интегрировать сущностные конфликты времени и вневременные, «вечные» противоречия с такой полнотой и многосторонностью, как герои романа (что наблюдается и в современной повести, например, в «Стоянке человека» Ф.А. Искандера, «Чужих письмах» А. Морозова[306]). Человек в повести именно по этой причине совпадает со своим сюжетом, равен ему, показывается как в полной мере исчерпавший свой потенциал, продемонстрировавший свои возможности. Повести, восходящие к построениям романного типа (такие как «Захудалый род» Н.С. Лескова, «Трудное время» В.А. Слепцова, «Две карьеры» А.Н. Плещеева, «Молотов» Н.Г. Помяловского) подтверждают данный жанровый закон[307].
3.3. Концептуальный хронотоп повести
Отмеченные особенности сюжетно-композиционной типологии повести, а также хронотоп и тип повествования, раскрываются в своей специфической функции с точки зрения факторов жанроформирования.
Время-пространственные отношения связаны с моделирующими функциями жанра и, будучи слагаемыми художественного единства, обусловлены свойственной этому жанру «концепцией человека».
Вопрос о родовой природе художественного времени рассматривался ещё филологами начала XX в. («эпос – регхейшп»[308]). Повесть как жанр имеет свое концептуальное время-пространство, специфические формы «прошедшего времени». Перцептуальный хронотоп именно в отношении к концептуальному создает целенаправленность выражения авторского отношения к изображаемому. Концептуальное время-пространство подчиняется раскрытию процессов «самодвижения» жизни в формах «случившегося», «завершённого», в рамках изображения «абсолютного прошлого», но с точки зрения определённого настоящего. Хронотоп повести, как это подчеркивал ещё Н.В. Гоголь, ориентирован на воссоздание действительности в «отдельных картинах», когда «случившемуся… придается… поэтическое выражение отдалённостью времени»[309]. По этой причине герои событийного сюжета изображаются в одной пространственно-временной плоскости.
В повести единство времени-пространства – это единство всего сюжета, а не главы, эпизода, как это бывает в романе. Ретроспективному, отграниченному на хронологической оси образу художественного времени здесь всегда соответствует пространство «микросреды». В реалистической повести художественное время приобретает формы упорядоченного, хронологически последовательного течения событий, становится выражением воззренческой концепции упорядоченности, рациональной постигаемости бытия.
Многообразные отношения автора с концептуальным хронотопом в реалистической повести осуществляются прежде всего в зоне действия жанрообразующих факторов и средств. В процессе анализа время-пространственных отношений важно определить времяположение всех субъектов речи и сознания и соотнести его с временем авторского всезнания. Поскольку персонажи событийного сюжета находятся в одной пространственно-временной плоскости, а основной субъект речи (или автор-повествователь) – в другой, то в целостности жанра «примиряются» «абсолютное прошлое» художественного мира произведений с актуальностью их проблематики.
Ведущую роль во взаимосвязи время-пространственных отношений как жанроформирующего начала с образующими факторами и средствами, в которой реализуется позиция автора, играют жанровая доминанта и тип героя. Уровень развития самосознания персонажа, характер его жизнедеятельности раскрываются и через время-пространственные эквиваленты. Структура художественного времени в разных жанровых разновидностях повести имеет «предусмотренный» содержательный смысл, «установленное» значение (это одно из проявлений «памяти жанра»). Однако и в этом случае продолжительность, характер и течение времени в повести отличаются большой вариативностью.
Художественное время-пространство – это ценностная категория, поэтому специфика хронотопа связана с воплощением авторской оценки изображаемого.
В социально-бытовой повести («Первый возраст в мещанстве» М.П. Фёдорова, «На миру» А.А. Потехина, «Юровая» Н.И. Наумова) общественно значимая проблематика освещается в процессе погружения в обстоятельства. В произведениях данного «поджанра» за житейским временем всегда хорошо просматривается время историческое. Структура социально-бытовой повести обусловлена «совпадением» художественного времени с реальным, равномерно плотным, характеризуется вещественным выражением событийного времени (при разнообразных формах выражения). В ней «случившееся» чаще всего изображается как проявление «нормы» для данного времени («Егорка-пастух» Н.В. Успенского, «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» С.Т. Славутинского).
В социально-психологических повестях («Поликушка» Л.Н. Толстого, «Варенька Ульмина» Л.Я. Стечькиной, «Степной король Лир» И.С. Тургенева) эстетически повышена роль перцептуального времени. Формы реализации концептуального хронотопа весьма разнообразны: это замедление/убыстрение течения времени, возвращения к прошлому, гипотетическое опережение событий, субъективное переживание времени, синхронность или разветвлённость времени героев, прерывность или непрерывность его движения и т. д. Время психологически переживается героем, причём весьма избирательно. В повести Слепцова «Трудное время», например, социально-исторические условия по-разному отражаются на протекании внутренней жизни трех основных героев[310]. А в «Полосе»
Нелидовой художественное время является многослойным, исторический контекст создает здесь «зону контакта» с современностью. В стремительный исторический поток включается реальное событийное время, которое разветвляется на два синхронных, параллельных пласта – время сюжетных линий Пирамидова и других персонажей. Все они, кроме главного героя, находятся в системе реального времени, Пирамидов – в сфере его психологического переживания. В финале повести оно выливается в форму временной непрерывности, связи прошлого, настоящего и будущего, раздвигает художественное пространство до масштабов «жизни».
Иной принцип организации художественного времени является активным жанрообразующим фактором лирической (лирико-психологической) повести. Здесь, как правило, прошлое, охватываемое рамками субъективного духовного опыта, раскрывается с точки зрения настоящего автора-повествователя и – в соответствии с жанровой типологией – предстаёт как форма воплощения проблематики, актуальной для времени автора. В каждой из них («Первая любовь» И.С. Тургенева, «Детские годы. В деревне» К.И. Бабикова) между субъективным и объективным, лирическим и эпическим устанавливается своя «норма». Эпическое начало связано с концептуальным хронотопом повести, лирическое – с перцептуальным временем героя или повествователя. В повести такой жанровой разновидности субъект речи включает два субъекта сознания. Для организации художественного мира важно то, что герой живёт в двух временных измерениях, но ещё более то, что он эстетически переживает действительность, сосредоточен на личных переживаниях, находится в сфере внутренних интроспекций. В системе взаимодействия двух субъектов сознания в рамках одного субъекта речи авторская позиция может объективироваться при условии, что эти два типа сознания представляют героя на разных временных этапах его жизни.
Хронологическая отвлечённость способствует трансформации лирической повести в сентиментальную мелодраму («Дочь управляющего» N /?/, «Первая гроза» Л.Я. Стечькиной, «Немая» В. К-ова /?/). Степень выраженности исторического времени имеет оценочное значение (ср., например, повести «Переписка» И.С. Тургенева и «Безысходная доля. Повесть в тринадцати письмах» А. А. Брянчанинова).
В философской повести («Довольно», «Призраки» И.С. Тургенева, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского, «Казаки» Л.Н. Толстого, «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Н.С. Лескова) сохраняются черты общности жанрового содержания и формы (натурфилософская проблематика, взаимодействие образного и теоретического мышления, осмысление социально-нравственных проблем через призму «вечных» вопросов, диалогические отношения философских точек зрения героя и автора-повествователя и т. д.). Сюжет, являющийся «олицетворением» авторской мысли, не ограничен конкретным континуумом, он «возможен» в любом другом, так как является «частью», по которой восстанавливается «целое»[311], то есть жизнь с её «конечными», «вечными» вопросами о смысле бытия и назначении человека. Событийный континуум может быть («Довольно» Тургенева) или нет («Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Лескова) эквивалентным бытийной концепции автора, авторский хронотоп может иметь («Казаки» Толстого) или нет («Призраки» Тургенева) формы конкретной закрепленности, но соотношения авторского времени с повествовательным настоящим, как правило, таково, что фиксирует времяположение автора в универсальном хронотопе, благодаря чему создается повествовательно-изобразительный ряд, опредмечивающий нравственно-эстетическую оценку изображаемого с точки зрения общечеловеческих представлений о смысле и высших целях жизни человека. Событийное время-пространство определенной «микросреды» в философской повести вписано в авторское время, соотносимое с локусом героя как соотносится «целое» с его «частью». Такова семантика художественного времени-пространства в повести данной жанровой разновидности.
В повести-хронике время является главным объектом художественного изображения («Захудалый род» Н.С. Лескова, «Старые годы» П.И. Мельникова-Печерского, «Старина» Н. Кохановской). Её сюжет тяготеет к построениям экстенсивного типа, создается цепью «фрагментов» («картин», «портретов», «сцен»). В центре авторского внимания оказываются процессы подчинения человеческих судеб неумолимому ходу жизни, её неостановимому движению и отражение в этих судьбах «духа времени».
Художественное время-пространство имеет типологические жанроформирующие, а также жанрообразующие свойства (сфера активности жанровой доминанты как образующего фактора), но в каждом конкретном случае такие формы выражения авторской позиции обладают, особенно в реалистической повести, качествами широкой вариативности[312]. Оценочный характер изображения в аспекте отношений автора с хронотопом осуществляется в стилевой системе произведений. Специфика время-пространственных композиций связана с принципами создания художественного мира, относящимися к компетенции творческого метода, с выбором субъектной формы, с сюжетно-композиционными и другими особенностями конкретных повестей. На стилевом уровне фиксируется органическая взаимосвязь типологического, видового и индивидуального (жанрообразующие средства) начал, объективирующихся в хронотопе, формы которого в такой же мере обусловлены идейным замыслом и позицией писателя, как и все другие компоненты художественного целого.
Покажем это на примере трех повестей хроникального типа – романтической «Замок Эйзен» А.А. Бестужева-Марлинского и реалистических – «Старые годы» П.И. Мельникова-Печерского и «Старые годы в селе Плодомасове» Н.С. Лескова (первый «очерк» – «Боярин Никита Юрьевич»). В этих произведениях обнаруживаются типологические свойства концептуального хронотопа и особенности художественного время-пространства, обусловленные методом и индивидуально-стилевым воплощением нравственно-эстетической позиции авторов. «Абсолютное прошлое» воссоздается в них с точки зрения авторского «настоящего»; собственное время автора определяется соотнесением художественного времени с реально-историческим; по законам жанра воссоздается единое время-пространство для всех героев; художественное время изоморфно реальному, что определяет совпадение сюжета и фабулы; соотношения объективного времени и субъективного его восприятия героями отличаются адекватностью и пропорциональностью; способы передачи следования событий, квантенсификация времени в принципе однотипны, хотя событийное время в этих повестях не может быть идентичным (в повести Марлинского это «условное» время, а у Печерского и Лескова – «вещественное», равное физическому); их художественное пространство локализуется по общему типу.
Существенные отличия в характере субъектной организации текстов связаны, в частности, с тем, что художественный мир повести «Замок Эйзен» – ахронный, замкнутый, выполняет функции репрезентации «тогдашнего мира», того, что «уже было очень давно»[313], не имеет соотнесений с реально-историческим временем, а в реалистических повестях круговое движение вписано в реально-исторический контекст, поэтому оппозиция «тогда – теперь»[314] имеет в них не только моральный (как у Марлинского), но и социальный смысл. Эта оппозиция в повести «Замок Эйзен» находится исключительно в компетенции посредника-рассказчика, становящегося alter ego автора. «Симфонизма» точек зрения здесь не возникает.
В многосубъектной – и на формальном, и на содержательном уровнях – системе повествования повести Печерского «Старые годы» хронология имеет отнюдь не условный характер, авторское время здесь близко объективному, историческому. Круговое течение жизни соотнесено с событиями и «духом времени» XVIII и XIX вв. Если у Марлинского «настоящее» не менее условно, чем «прошлое» (время автора – это «последний поход гвардии» в район Нарвы, но оно не функционально, так как находится во внетекстовой зоне[315]), то «настоящее» автора-повествователя и автора-творца в повести Печерского имеет значение для формирования идейного содержания. В повести Марлинского авторская позиция ограничена сферой нравственных выводов. «Прошлое» важно здесь само по себе, оно может изображаться с точки зрения любого «настоящего». В «Старых годах» оппозиция «тогда – теперь» возникает в силу того, что автор-повествователь, не идеализируя «настоящее», берет XIX в. в качестве социально-нравственного ориентира[316]. Объективность авторской оценки в сфере этой оппозиции создается за счёт совмещения точек зрения многих субъектов сознания, ни с одним из которых не сливается автор.
Непреложной зависимости между типом хронотопа и формами его жанрово-стилевого выражения быть не может. Но это вовсе не значит, что «не существует жанровой концепции времени»[317]. Целесообразнее говорить об индивидуально-стилевом выражении концептуального хронотопа в произведениях определенного жанра.
Такое выражение в первом «очерке» повести-хроники «Старые годы в селе Плодомасове» Лескова связано с использованием приёма стилизации (ироническое подражание фольклорно-сказовой и «литературной» манере в духе произведений с авантюрным хронотопом[318]), которым определяется несовпадение субъектов речи и сознания. Художественное время не является здесь в чистом виде авантюрным. Жизнь героев первой части протекает во времени, синтезирующем черты исторического, биографического и авантюрного, что эстетически мотивировано: только так в стилизованной форме могла быть выражена бытийная концепция автора, приближающего автора-повествователя к объективному времени[319].
Сравнивая романтическую и реалистические повести одной жанровой разновидности, сходные по тематике, сюжету и типу хронотопа, можно сделать вывод, что функции жанроформирования являются компетенцией концептуального время-пространства, но в классической повести в отношениях автора с хронотопом исчезают черты любой нормативности, активизируются процессы индивидуализации стилевого выражения авторской позиции. В повести реалистического жанрового типа (в системе поэтики художественной модальности) эстетически повышена роль факторов и средств жанрообразования, что связано с содержательным отделением первичных носителей речи от автора, с неадекватностью субъектов речи и субъектов сознания[320], с особенностями корреляций изображаемого «прошлого» повествователя и «настоящего» автора-творца.
Жанровая «норма» существует не только в отношениях между «частью» (хронотоп) и «целым» повести, но и между самими «частями».
Функции жанрообразования проявляются, главным образом, во второй системе этих отношений. В связях хронотопа с субъектной организацией, сюжетом, композицией и т. д. находит выражение авторская позиция, эстетически реализуемая в соответствии с жанровой «архаикой» и конструктивными принципами «средней» повествовательной формы. Эти внутренние связи в системе авторского стиля столь же многообразны, сколько и индивидуальны.
Сравнивая повести одной разновидности со сходной субъектной системой повествования (например, «Первая любовь» И.С. Тургенева и «Детские годы. В деревне» К.И. Бабикова), можно убедиться, что внутренние связи хронотопа и сюжета, выполняющие функции жанрообразования, становятся содержательной художественной формой выражения различных авторских замыслов и вообще мироотношения писателей. В связях хронотопа с сюжетом появляется равновесие, никогда не переходящее в статус канонического. Корреляции эпического и лирического обусловлены выбором аспекта изображения одной из сторон противоречий жизни (в названных повестях у И.С. Тургенева – это антиномия человека и природы, связанная с раскрытием онтологических проблем, а у К.И. Бабикова – конфликты «социального» и «человеческого»), а также задачами выражения разных по семантике хронотопов – от социально-бытового среза «исторического» время-пространственного континуума («Детские годы. В деревне») до границ, «общечеловеческого», «вечного» («Первая любовь»).
Соотношение концептуального хронотопа повести (типологическое) с время-пространственной организацией внутреннего мира того или иного текста (индивидуальное) создает неповторимое «смысловое целое». Поскольку концептуальный хронотоп предполагает диалектическое единство «эпической дистанции», «далевого образа»[321] и актуальности проблематики («вечные» проблемы повести Тургенева «Первая любовь», значимые для каждого нового поколения; освещение через призму прошлого противоречий пореформенной действительности в «Детских годах» Бабикова), то художественный мир повести всегда сопряжён с историческим временем автора.
Пространственно-типологические границы повести наполняются всякий раз конкретным художественным содержанием. Воссоздаваемая в ней «микросреда» воспринимается не как часть некоей широкой пространственно-временной сферы, а как целостность, художественная системность, «мирообраз» (Я.О. Зунделович), «модель» действительности. «Макросреда», не будучи вписанной в текстовую сферу, определяет ценностную природу масштабов внутреннего пространства повести. Пространственные границы есть у любого жанра, и они являются «устойчивыми» формами образного мышления писателя. Концептуальное время-пространство, границы «микросреды» – это «модель» «типического целого» и основа воплощения в повести неисчерпаемого многообразия оценочных отношений автора к изображаемому на уровне жанрообразования.
В искусстве художественное время-пространство обладает воззренческой, философской содержательностью. Каждый, по сути, персонаж имеет своё «пространственно-этическое поле»[322]. Первичный носитель речи тоже имеет подобное «поле». Их «диалог» на временной оси «тогда – теперь» воплощается в сюжетной целостности повести. Перцептуальное пространство и время в повестях реалистического жанрового типа чаще всего изоморфно реальному. Выходы в мыслительный хронотоп («Полоса» Л.Ф. Нелидовой), философская соотнесенность макро– и микропространства («Довольно» И.С. Тургенева) – это особые формы выражения ценностного отношения автора к изображаемому. Сам факт соотнесения (герой-повествователь в «Кроткой» Достоевского) или несоотнесения (панночка в «Институтке» М. Вовчок) героем своего пространства с просторами «мира» (то есть наличие или отсутствие «кругозора») тоже становится средством раскрытия его миропонимания и мироотношения.
Художественное пространство является метафорой «закрытости», «тупиковости», «замкнутости», «отграниченности»[323] или, напротив, «открытости», «динамичности», «разомкнутости» жизненных позиций и внутреннего мира персонажа. Это форма раскрытия положения человека в мире, это «знак его души».
Однако время-пространственные отношения на уровне жанрообразования существенны не столько в плане индивидуального соответствия пространства герою, сколько с точки зрения адекватности внесубъектных форм выражения авторской позиции замыслу писателя, его ценностно-эстетическому отношению к изображаемому.
Художественное воплощение этой позиции всегда определяется возможностями, потенциалом жанра, то есть остаётся в компетенции его «нормы»[324]. Не выходя за рамки «микросреды», не расшатывая основы двуаспектной жанровой структуры повести, писатели «язык» время-пространственных категорий превратили в эстетически совершенный инструмент художественного познания и раскрытия разных типов жизнедеятельности героев.
Так, «моделирование» хаотического состояния социума и изображение человека, не имеющего возможности закрепиться в своём локусе, позволило Лескову как автору повести «Смех и горе» сделать значительные идейные обобщения, подвести своего рода итоги развития России за два переломных десятилетия – 1850—1860-x годов. Первоначальным названием повести («Смех и горе. Разнохарактерное potpourri из пестрых воспоминаний полинявшего человека. Посвящается всем находящимся не на своих местах и не при своём деле») писатель подчеркнул преимущественную роль время-пространственных категорий в «опредмечивании» своей позиции. Художественный мир повести выходит на грань контакта с современностью. Но времяположение повествователя и рассказчика имеет существенную в содержательном плане дистанцию. Это позволяет повествователю рассматривать «жизненный путь» Ватажкова «в целом», сопоставлять жизненные явления в контексте временной оппозиции «тогда – теперь».
Субъектная неоднородность текста свидетельствует о том, что в повествовании первичного носителя речи наличествует ещё один субъект сознания, более близкий автору (автор-повествователь). Три пространственно-временных плана находятся в «диалогических» отношениях. Повествователь как один из героев, объединяемых хронотопом «семейного дома», противопоставлен рассказчику, для время-пространства которого характерна постоянная, калейдоскопическая смена локусов (при этом они сохраняют неизменность своей сущности), отражающая хаотичность окружающей его жизни и собственного бытия. Иной содержательный уровень оппозиционных отношений рассказчика и автора-повествователя создается хронотопами этих героев. Пространство рассказчика рельефно и выразительно в своей «вещественности», оно является бытовым. Время-пространство автора-повествователя характеризуется соотнесенностью с реально-историческим, оно может расширяться до пределов «вечности» («впереди нас вечность и вечность позади нас»). Почти все герои повести (Ватажков, Васильев, Постельников, Калатузов и др.) постоянно пребывают в «чужом» пространстве, хотя и по разным причинам. Рассказчик, на собственном примере доказывающий, что во всех сферах жизни проявляется алогизм, отсутствие целесообразности, объединяющей идеи, непредсказуемость («что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный»), находится в постоянно движущемся пространстве.
Бесцельное движение – «знак» его души и символ хаотического состояния общественного бытия. Из 92 глав произведения в 64 замкнутые пространства героя («комната», «зала», «дом» и т. д.) сменяют одно другое. Из них со значительными перемещениями Ватажкова в географическом пространстве (страны, города) связано лишь 16 глав. На протяжении всей повести он находится в разных, но неизменно «чужих» квартирах, и прикреплённость к детально выписанному локальному бытовому пространству является знаком его неменяющегося морального состояния. Несмотря на хронологическую канву развития событий, художественное пространство приобретает характер не линеарного, а точечного: все локусы – это звенья вытянутого точечного пространства ближайшего окружения героя. Они имеют отграниченный характер, не сливаются в единую целостную траекторию, лишены внутренних преемственных связей.
Это пространство не имеет имманентной направленности и складывается из случайных, хаотических движений героя. Создается мозаика точечных локусов. Действий герой такого точечного пространства не совершает, ибо оно допускает лишь хаотичные, «боковые» движения, которые не могут сложиться в метафорический образ «пути». Перемещения в пространстве главного героя подчиняются законам «броуновского движения», а перемещается он в том направлении, куда его направляет очередной Постельников.
Художественным символом такой калейдоскопичности становится образ «двери» – ключевой образ точечного пространства человека, «находящегося не на своем месте». Хронотоп «двери» имеет метафорическое значение «перехода», «перемещения», но не «движения».
Такое художественное пространство становится формой моделирования самого способа существования героя, его положения в действительности: всё, что происходит с Ватажковым, «делается без его воли». Символом зависимости от других является постоянная смена квартиры-локуса («перевезли так перевезли»), эквивалентная моральному состоянию человека, которому изменяют даже имя. Временная характерность внутри такого пространства ослаблена, потому рассказчик является равным себе в эпизодах, где соотнесенность с реально-историческим временем чаще не особенно существенна и значительно реже – принципиальна.
«3акрытое» пространство соответственно образу мышления не только главного героя, но и людей «века», когда «всё… рассыпается». Не случайно оно, моделируя бытие статичных персонажей, приобретает черты «театрализованного»[325].
Метафорическое пространство «кругозора» (в словах «богослова» Васильева актуализирована одна из важнейших идей: «настоящее бытие» начинается с «пробуждения» общества от «сна», и после «каждого пробуждения кругозор всё шире, видение всё полнее…») – это антитеза точечному пространству, в котором пребывают многие герои. Пространство «кругозора» изоморфно «полю» автора-повествователя. Поэтому даже Васильев не может претендовать на роль антагониста рассказчика по причине разъединённости его «реального» и «мыслительно-идеального» пространств.
Тип художественного пространства, свойственный героям с ограниченной сферой жизнедеятельности, несёт в себе типологические жанровые черты: оно не выходит за пределы «микросреды». Цели изображения статичных характеров в произведении Н.С. Лескова в большей мере связаны с характеристикой состояния современной русской жизни. В повести «Смех и горе» характер главного героя, имеющий свою доминанту (неустойчивость, безволие, ограниченность целей), был максимально адекватен сюжету, в котором воплощается одна из сторон жизни до– и пореформенной России – отсутствие определённости, законченности в разных общественных сферах, хаотическое состояние мира. Отношения повествователя, рассказчика, героев ко времени определяется тем, что они находятся в разных по типу пространствах (Ватажков, Васильев, Перлов, Фортунатов и др.). Позиция автора объективируется в системе взаимодействия-диалога «пространственно-этических полей» персонажей и автора-повествователя. Вот почему оппозиция «века романтизма» и «века гражданских чувств и свобод» (рассказчик-повествователь) не абсолютна. Субъектная неоднородность последних глав проявляется в том, что в повествовании инициативной становится роль автора-повествователя. Пространственно-временные точки зрения повествователя и рассказчика сомкнулись, более отчётливой стала время-пространственная зона автора-повествователя, включающего в свой кругозор всю систему оппозиций разных пространственных обликов.
В свете противопоставления пространственных «полей» Васильева, живущего в «мыслительном» хронотопе, когда топос расширяется до пределов «планеты», а время – до момента наступления «всеобщего благоденствия», и остальных действующих лиц становится особенно наглядным то, что русская жизнь «настоящего» мало изменилась по сравнению с недавним «прошлым», она по-прежнему находится в «экзаменационном отношении», на пороге осознания необходимости «свободного течения», «настоящей жизни». Пространство «микросреды» вбирает в себя главные противоречия действительности (хаотичность, «рассыпанность», неясность путей будущего развития), раскрываемые с «одной стороны», но полно, целостно. Взаимодействие точек зрения рассказчика (неконструктивный скептицизм), повествователя (наивная вера в «гражданские свободы») и автора-повествователя, «созидающего» идею несостоятельности «покора в однообразии», является формой выражения оценочного отношения автора к изображаемому. Альтернативным «точечному» пространству, лишенному непрерывности, является иное, измеряемое категориями «неограниченности», «многообъемлющей любви», «полноты видения»[326].
Язык художественного пространства учитывает возможности и резервы «средней» повествовательной формы. В системе реалистического стиля выражаются его неограниченные возможности в раскрытии оценочного отношения писателя к характеру жизнедеятельности человека и к изображаемому в целом.
Линеарное художественное пространство, противоположное по семантике точечному, является эквивалентом идеи нравственного развития личности[327]. В повестях с таким типом пространства («Две карьеры» Плещеева, «Между людьми» Решетникова, «Очарованный странник» Лескова) или в произведениях, характеризующихся контаминацией разных типов пространств («Три дороги» Засодимского, «Захудалый род» Лескова, «Сельцо Малиновка» Шелешовской [Е.В. Львовой], «Золотые сердца» Златовратского, «Пансионерка» Хвощинской), воссоздается образ динамичного, подвижного пространства, в котором герои совершают действия.
Жанровая «норма» повести проявляется в том, что формой организации таких произведений становится образ «пути».
Ослабление функциональной роли концепта «дороги»[328] в эстетической системе повести объясняется характером «отграниченности» её художественного мира, спецификой того предельно абстрагированного смысла, который закрепляется за типологическим континуумом, обусловленным проблематикой жанра, двуаспектностью «ситуации», формирующей его структуру.
С отрицанием механистического детерминизма в реалистической литературе связано утверждение идеи «пути» («открытого» пространства) как некоего ценностного момента. На путь нравственного совершенствования, духовного развития, осуществления сверхличных целей героев выводит жажда самопожертвования, самоутверждения, поиски «правды» («Учительница», «После потопа» Хвощинской, «Странная история» Тургенева, «Перед зарёй» Фелонова, «Домашний очаг» Стахеева). В русской реалистической повести второй половины XIX в. появилась, например, характерная антитеза героев «открытого» и «закрытого» пространства, самоотверженного энтузиаста и «благополучного россиянина», выполняющая структурообразующую роль (Любовь Юрьевна – её муж в «Единственном случае» Нелидовой, Северцов – Преснов в «Трёх дорогах» Засодимского, братья Рулёвы в повести Бажина «Степан Рулёв», Маша – Пётр в «Домашнем очаге» Стахеева, Тутолмин, Варвара – Волхонский в «Волхонской барышне», Наташа, Струков – Пётр Евсеич Перелыгин в «Карьере Струкова» Эртеля).
В повести «Домашний очаг» «движение» героини связано с реализацией важнейшей нравственной идеи: она стремится к «самостоятельности», в чём находит отражение «дух» эпохи, времени «подъёма чувства личности». Идея «пути» – это тот пункт, на котором расходятся герои «открытого» (Маша, её петербургская приятельница) и «закрытого» (все остальные персонажи) пространств. Они и отличаются друг от друга тем, что одни, куда бы ни шли, «всё к одному месту придут»[329], а перед другими открыты перспективы жизни.
Развитие действия в повести осуществляется в результате движения героя в линеарном пространстве, когда каждое последующее событие вытекает из предыдущего. Такой тип пространства предусматривает движение в одном направлении – по восходящей линии. В этом движении могут быть «боковые» пути или «остановки» (Морозов в «Золотых сердцах» Златовратского, Пётр Кузьмин в повести «Между людьми» Решетникова, Муза в «Пунине и Бабурине» Тургенева), но не может быть «бокового» направления. В повести возможно параллельное существование разных по типу пространств («Три дороги» Засодимского), один и тот же локус может стать местом пересечения пространств двух субъектов сознания («Детские годы. В деревне» Бабикова) или одних и тех же героев, находящихся в разных временных координатах («Сухая любовь» М.В. Авдеева).
Чаще всего авторы показывают, что «открытое» пространство является диалектическим «отрицанием» «закрытого». Так, линеарное пространство Маши, героини повести Д.И. Стахеева «Домашний очаг», является «продолжением» бытового пространства «дома», «очага», то есть хронотопа Ивановых, Полозовых и др. «Диалогические» отношения этико-пространственных сфер, связанные со столкновением «философий» жизни героев, на уровне жанрообразования реализуются в сюжете, основанном на принципе художественного контрапункта. «Распадающемуся», «лоскутному» бытовому пространству в «Домашнем очаге» противостоит иной по характеру топос главной героини. Она создает своё независимое нравственное пространство, у неё формируются свои нормы жизни. Сходную роль в структуре повести Решетникова «Между людьми» играет «пространственно-этическое поле» Петра Кузьмина. Этим топика названных повестей отличается, например, от пространственных оппозиций повести Шелешовской «Сельцо Малиновка», где бытовое пространство «дома» Пелагеи Матвеевны не враждебно другому миру.
«Движение» героя связано не только со сменой локуса, но прежде всего с предрасположенностью и способностью изменять «ближайшее окружение» и своё положение в среде. Однако в любом случае в повести «путь» как особый тип художественного пространства имеет свои нормативные границы: изображая персонажей в рамках «микросреды», писатели, по сути, показывали готовность героя выйти на настоящую «жизненную дорогу» (первая стадия в развитии потребностей). По этой причине чаще всего линеарное пространство ограничено начальным этапом движения героя (Марья Николаевна в «Трудном времени» Слепцова, Костин в «Двух карьерах» Плещеева, Фёдор в «Молодых побегах» Потехина, Лёленька в «Пансионерке» Хвощинской, Преображенский в «Эпизоде из жизни ни павы, ни вороны» Осиповича-Новодворского) или оно не попадает в фокус изображения («Золотые сердца» Златовратского, «Пунин и Бабурин» Тургенева, «Перед зарёй» Фелонова), или остаётся во внетекстовой сфере произведений (Северцов в «Трёх дорогах» Засодимского, Рогов, Гриша в «Живых игрушках» Воронова, Гриша в «Трёх сестрах» М. Вовчок, Троицкий, братья Кротковы в «Ставленнике» Решетникова). Поэтому важным показателем оценочного отношения автора к героям становится категория «кругозора»[330]. Изображаемые в рамках «микросреды», они не только могут изменять контекст своего бытия по собственной инициативе, но и создавать «мыслительное пространство», расширяющееся до масштабов миропонимания («Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Лескова, «Полоса» Нелидовой).
В повести достигается гармония между жанровым типом характера (наличие доминанты) и «отграниченностью» художественного время-пространства. Каким бы оно ни было по своей семантике и форме, системность в его организации обусловлена целью изображения отдельных сторон действительности, а потому оно вымерено рамками ряда однонаправленных, но неоднородных ситуаций. «Неоднородность» создается «диалогом» пространственно-временных пластов произведения, а однонаправленность ситуаций вызвана вычленением из жизненного многообразия, из универсальных взаимосвязей отдельных сторон, аспектов, процессов. Это системность особого рода, структурируемая обусловливающими и формирующими факторами жанра. Неповторимо-индивидуальная ассоциированность «частей» друг с другом и «целым», относящаяся к сфере образующих факторов и средств, на уровне исторической поэтики классической повести фиксируется как аспект «динамически живого», как «отрицание» нормативного, унифицированного, как резерв внеканонической инициативы автора, нарушающей достигнутую логическую непротиворечивость жанровой системности и сообщающей жанру энергию самодвижения и развития.
3.4. Поэтика нарратива
Как уже отмечалось, жанровый тип «события» в повести характеризуется тем, что его художественная семантика связана с воссозданием жизни как процесса в системе изображений произошедшего, случившегося, и это определяет реализацию хронологического принципа в повествовании. При этом эпизоды единого сюжета могут вытекать один из другого, как в «Велено приискивать» О. Забытого [Г.И. Недетовского], «Воробьиных ночах» Нелидовой, или нет, как в «Грачевском крокодиле» Салова, «Крестьянах-присяжных» Златовратского, передавать дискретное течение событий в их последовательности, как в повести Р. Сосны [Р.Р. Радонежской] «Отец Иван и отец Стефан», или, напротив, создавать эффект его торможения и даже приостановки за счёт введения «отступлений», как в «Бунте Ивана Ивановича» М. Белинского [И.И. Ясинского].
Чтобы избежать подмены «самодвижения» жизни цепью статичных образов её отдельных «кусков», писатели используют особые формы компоновки материала, когда совпадение сюжета и фабулы создаётся не за счёт буквального следования эпизодов, а в результате их присоединения, примыкания в соответствии с фабульным течением событий. Для повести важно единство повествовального тона (не обязательно – действия): её свободно текущий сюжет представляет собой цепь эпизодов-событий, эпизодов-описаний, эпически сопряжённых в целое, сменяющих одно другое по ходу времени действия. Так создается эпическая перспектива.
Подобный тип повествования является специфической формой выражения конфликта в системе событий. Конфликтность и событийность – это не основной и факультативный признаки, как в рассказе[331], а в сущности единый признак жанра. Хроникальная последовательность выступает в качестве внешнего, событийного эквивалента причинно-следственных связей. Тип повествования соприроден принципам организации действия, которые определяются силами, идущими извне[332]. Отношения между героями – это не первичный, а вторичный признак организации действия в повести.
Для «традиционных» образцов этого жанра, в которых «микросреда» лишена тенденции к дифференциации, характерна такая организация действия, когда существенными оказываются в основном стимулы, содержащиеся во внешнем мире (в ближайшем окружении героев), источники, вытекающие из отношений, царящих в среде, в обществе («Воительница» Н.С. Лескова, «Сельское учение» А.И. Левитова, «Мачеха» Новинской [А.В. Павловой]).
В повести «Мачеха», например, несмотря на внутренний психологический конфликт, связанный с изображением истории замужества «девушки в годах» Серафимы Петровны[333] (хорошее воспитание «казалось ей тяжёлым бременем», поскольку определяло неизбежность её внутренней борьбы с самой собой и не позволяло безусловно руководствоваться аморальными «нормами» среды), развитие действия определяют не отношения главных героев, а законы жизни «общества».
Но и не это является источником развития сюжетного действия. Победило в героине не «воспитание», «верх взяли» «нормы» ближайшего окружения, выражающие суть общих социально-нравственных законов, раскрываемых с «одной стороны». Писательница усиливает энергию конфликта не только средствами сюжетных положений, но и прямых авторских «отступлений»: «И эта женщина, вытащенная из грязи, поставленная мужем на видную ступень общественного положения, …имела дух так бессовестно его обманывать!.. Добрый человек и не подозревал, до какой степени фальшивы ласки, которыми она осыпала его»[334].
Тем не менее психологический конфликт остаётся, по сути, в подтексте: в сюжете герой и героиня как бы «уравнены», между ними нет «отношений», оба они живут в соответствии с понятиями, почерпнутыми в своей среде (каждый своими). Писательницу интересуют, скорее, те общие «законы», которые определяют строй жизни и выражают в конечном счёте торжество злых сил. Эти стимулы развития действия, идущие извне, определяют характер повествования: эпизоды «присоединяются» в соответствии с развитием фабулы, и это становится адекватной формой выражения «самодвижения» жизни.
Тип повествования как жанроформирующий фактор осуществляется в разных системах повествования на уровне стиля. Для формообразования первостепенное значение имеют содержательные аспекты: повествование и структура повестей зависят от того, содержатся ли в них черты романной проблематики. В романических повестях появляется тенденция к дифференциации «микросреды», поэтому источники действия, сюжетной динамики имеют бинарный характер: они определяются силами, идущими извне и возникающими в результате отношений между героями, что характерно для поэтики романа[335]. Это свойственно и таким, например, романическим повестям, как «Мещанское счастье» и «Молотов» Помяловского, «Трудное время» Слепцова, «Пансионерка» Хвощинской, «Пашинцев» Плещеева.
Первичными, сохраняющимися в повестях любой разновидности источниками сюжетной динамики объясняется такое типологическое качество сюжетно-композиционной системы этого жанрового типа, как сопоставление/противопоставление и одновременное сближение героев в конфликте: через них как бы протекает действие всеобщих законов. Поскольку в повести отношения между персонажами являются дополнительным фактором развития коллизии, то доминантным и становится такой тип повествования, при котором эпизоды присоединяются, примыкают друг к другу в соответствии с логикой «самодвижения» жизни.
На уровне системы повествования выделяются две основные тенденции жанрового оформления материала: речь идёт о повестях с эпическим и новеллистическим заданием.
В первом случае преобладает описание («объективность»), здесь более органичными являются «обработанные» формы повествования. Во втором доминирует «действие», в повестях чаще используются первичные формы словесно организованного повествования («рассказ», «исповедь», «воспоминания», «записки», «дневники» и т. д.).
Но эти тенденции нельзя абсолютизировать. Две типологические системы повествования (собственно повествовательная и новеллистическая) являются разновидностью одной жанровой формы, поэтому тип повествователя или рассказчика относится к числу жанрообразующих средств.
Организация текста на основе собственно повествовательного принципа более свойственна «традиционной» повести («Первый возраст в мещанстве» Фёдорова, «Ставленник» Решетникова, «Юровая» Наумова), а на основе новеллистического – синтетическим образованиям: романизированным формам («Грачевский крокодил» Салова, «Отчаянный» Тургенева) или таким «смешанным», интегративным образованиям, как рассказ-роман, повесть-очерк, повесть-новелла, повесть-драма («Ниночка. Роман» Чехова, «Егорка-пастух» Н. Успенского, «Кроткая» Достоевского, «Первая любовь» Тургенева, «Мачеха» Новинской).
Во многих повестях происходит синтез повествовательного и новеллистического начал («Мельница купца Чесалкина» Салова, «Степан Огоньков» Засодимского). Ряд неоднородных, но однонаправленных ситуаций, связанный с раскрытием отдельных сторон действительности, с выявлением нравственно-психологической доминанты характера, с подчинением всех сюжетных положений одной цели изображения, – всё это способствует тому, что цепь эпизодов напоминает «суммирование» событий по новеллистическому принципу. Так создается образ детально разработанного одного аспекта многостороннего жизненного процесса. Но повесть никогда не утрачивает своей повествовательной природы, своей эпичности. Именно поэтому функциональность «положений» и отсутствие развернутых «рассуждений» ещё Н.А. Добролюбов рассматривал как свойство её жанровой формы[336].
Нарратология повести учитывает сложную иерархию субъектных форм повествования. «Эпическая дистанция» позволяла вводить многих повествователей и рассказчиков, имеющих самые разнообразные, часто опосредованные источники информации о том, что происходило с героями, и занимающих по отношению к событийному настоящему разные время-пространственные позиции. В этом проявляется специфика «жанрового стиля» повести.
Наиболее распространенными формами словесно организованного повествования в системе Er-Form являются объективированный, всеведающий и независимый повествователь («Братец» Хвощинской, «Издалека и вблизи» Н. Успенского) и невыявленный повествователь («Три сестры» М. Вовчок, «Подлиповцы» Решетникова). Присутствие и «самообнаружение» автора в системе повествования Er-Form, его управление читательским восприятием выражается по-разному: в приводимых высказываниях, в цитировании героев, в авторских сентенциях, оценочных описаниях, в идейно-эмоциональных вершинах текста, в открытом споре с героем или в постситуативной расшифровке его позиции, в неразвернутых характеристиках повествователя, в использовании устойчивых словосочетаний, в микродиалогах и самопризнаниях персонажей, в иронической окраске стиля повествования или отдельных замечаний субъекта речи, в авторских вкраплениях и отступлениях, в оценочных эпитетах и т. д. Именно так в структуре повествования от третьего лица выражаются соотношения словесно оформляемых позиций, оценок «автора», повествователя и персонажей в их модальности, та «субъективность», которая никогда не переходит в стадию «излишества мысли»[337].
Поскольку тип повествования в этом жанре был достаточно нормативным, в реалистической повести второй половины XIX в. в связи с освоением эстетических средств более глубокого раскрытия типа индивидуальности в системе Er-Form усиливалась тенденция к психологизированному изображению отделённого от автора героя, становились всё более интенсивными поиски повествовательной идентичности персонажа[338]. Постепенно формируется «персональная повествовательная ситуация» как разновидность «аукториальной ситуации»[339].
Художественное сознание эпохи кризиса позитивистского детерминизма посредством повествования (повествовательного дискурса) решало задачу идентификации личности в системе единства устойчивого и изменяемого, когда идея наличия «самости» согласовалась бы с идеей физического и духовного развития героя. Осуществлялось это именно посредством «повествовательной деятельности» (П. Рикёр).
Критерии художественности, требующие сохранения персонажем своей идентичности в её согласованности с идентичностью сюжета, реализовывались в самой ориентации создаваемого художественного мира, с одной стороны, на «норму» жанра, а с другой – на возможности концептуального хронотопа повести. В «средних» и «малых» эпических формах, в которыхраньше всего проявились черты повествовательной идентичности героев (то есть посредничество повествователя в передаче единства устойчивых и изменяемых признаков, образующих личность, средствами психопоэтики «персонального повествования»), объём сюжета не позволял воссоздавать течение событий в такой протяженности, когда мотивированными становились изменения во внутреннем мире персонажа, сдвиги в его сознании и жизненной судьбе. Неизбежным представлялся поиск такой согласованности, когда время действия, время героя «примирялось» бы с временным потенциалом концептуального время-пространства жанра.
Идентичность персонажа в этом случае становится эстетически функциональной: ведь она вовсе не предстаёт как некое формальное соотношение речевого дискурса с внесубъектными (структурными) формами выражения автора. Сюжетная динамика повести является парадигмой «развёртывания» героя, а его идентичность выявляется в соответствии объёму сюжета и создаваемым однонаправленным, но разнокачественным художественным ситуациям[340].
«Малые» и «средняя» эпические формы (в том числе и синтезированные жанрообразования, например, повесть-рассказ) даже раньше других реагировали на потребности эстетического выражения идентификации персонажа.
Уже в «Вешних водах» И.С. Тургенева (1872) описание состояния героя даётся не «со стороны», а таким образом, что авторская точка зрения внедряется в его «кругозор»: «Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), – он только плечами пожал и, глянув в камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам»[341]. Здесь нераздельно слиты традиционные формы выражения авторской оценки (оценочные эпитеты) и приёмы внутренней интроспекции, вытесняющие субъективность повествователя.
В «Полосе» Л.Ф. Нелидовой (1879) самонаблюдения Пирамидова – это главный объект изображения, хотя ведётся повествование от третьего лица (описание остальных героев ограничивается краткими авторскими характеристиками, отдельными интроспекциями). А в повести О. Забытого [Г.И. Недетовского] «Велено приискивать» (1877), напротив, все герои наделены качествами интроспекции, раскрываемыми средствами авторского повествования. Повествователь при характеристике внутреннего состояния персонажей не довольствуется фиксацией их внешних признаков («Андрей Андреевич ходил мрачный, постоянно плевал и ворчал…»), а обращается к средствам их самовыражения («Ему всё более и более не нравилось, что жена… сделалась какая-то кислая…»)[342].
Монологическая речь героев сочетается с таким «авторским» повествованием, когда идейно-эмоциональная окраска слов восходит к стилю самого героя («кислая», «ненужный хлам»). Это типичная «аукториальная ситуация», и в этом случае «голос героя» как бы вплетается в «голос автора», в некоторых случаях они даже сливаются на содержательном и формальном уровнях: «Везде горе, нищета, грех. Замолить… Только это одно… Довольно!..Больше сил нет! Остальное – молчание!»[343]. В этих случаях трудно сказать, кто это говорит – повествователь или герой. Их речевые зоны вступают во взаимоотношения, создавая единый речевой поток. В формах несобственно-прямой речи они ещё больше сближаются: «Эта барыня явно дурачит его… Зачем это? что ей надо?.. И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину… Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках… – да неужели всё это словно прилипло к нему… Вздор! Вздор! Завтра же всё это исчезнет без следа…»[344]. Еще раньше – в «Пансионерке» Н.Д. Хвощинской (1861) проявилась такая тенденция перехода повествования в формы несобственно-прямой речи в результатетого, что в слово повествователя вплетается слово героя и наоборот: «Она была уверена, что не увидит соседа… Сосед очень странный человек. Папенька как-то говорил, что его за что-то сюда прислали. Сестра его, казначейша, какая смешная!..»[345].
В таком контексте развивающейся аукториальной ситуации повествования типа Er-Form (особенно с объективированным, всезнающим повествователем) постепенно формируется «персональная повествовательная ситуация» как специфическое выражение повествовательной идентичности. Примечательно, что «посредством повествовательной деятельности» изображаются «новые люди», герои линеарного пространства, стремящиеся к реализации своего деятельностного потенциала, наделённые способностью к саморазвитию и осознанию потребностей общественного прогресса.
Персональная повествовательная ситуация уже наметилась в повестях Д.И. Стахеева, А.А. Потехина, Л.Ф. Нелидовой и др. авторов, представлявших массовый беллетристический поток 1870-х – начала 1880-х годов, и непосредственно проявилась в повестях-рассказах этого времени М. Вовчок и Н.Д. Хвощинской. У Чехова персональная повествовательная ситуация приняла законченные формы и стала преобладающей в стиле писателя.
В «Домашнем очаге» Д.И. Стахеева (1879) обнаруживаем ощущение-описание комнаты Маши, уехавшей из родного дома в Петербург в поисках «новой жизни», данное в связи с психологическим состоянием её отца – купца Семёна Игнатьевича, чуждого духовным устремлениям дочери. При этом в описании нет как субъективизма, так и «стороннего» взгляда, с которым связана точка зрения на изображаемое. «Вещи», «комоды», «занавеска» и прочее – всё это, хотя и не имеет прямого отношения к происходящему с людьми, тем не менее связано для Семена Игнатьевича с фактом отъезда Маши, задевает самые больные струны его души: «…При взгляде на неё (дверь. – В.Г.) у него сердце болезненно сжалось: он вспомнил пароход, фигуру… комнату её и белую занавеску, так непозволительно игравшую с ветром»[346]. В подобных описаниях уже обнаруживается органичная взаимосвязь (взаимопроницаемость) изображения «со стороны» и с точки зрения, с позиции героя.
Как связана здесь проблематика идентичности с поэтикой повествования? Герои в произведениях Потехина, Стахеева, Нелидовой остаются объектом описания: о них говорит повествователь. Но мы об их внутренней жизни узнаём больше, чем это в данном случае санкционирует система Er-Form: на основании описания читатель может судить о психологическом состоянии персонажей, об их ценностных представлениях, намерениях, о факторах, активизирующих их поиски в духовной или чисто практической сферах, об их ещё скрытых целях и не всегда осознаваемых предчувствиях, о которых, однако, уже можно судить по словам, реакциям, внутренним интроспекциям. Авторские описания-характеристики накладываются на формы самораскрытия и наоборот. Благодаря этому внутренняя жизнь героев предстаёт как процесс во всей её многосложности. Это происходит не в результате лишь описания, а средствами повествования, когда в суждении повествователя содержится то, что высказывается о «предмете» суждения и к тому же с точки зрения героя. Состояние внутренней жизни, передаваемое во всей её напряженности, – это «объект» не только изображения, но и самоанализа персонажа, в результате чего его слово органично вплетается в авторскую речь («он вспомнил пароход, фигуру… комнату её и белую занавеску, так непозволительно игравшую с ветром»: «непозволительно» – именно с точки зрения человека, впервые столкнувшегося с проявлением своеволия как такового). Подобный персонаж уже находится в особой речевой ситуации, когда он готов к самораскрытию в форме от третьего лица, благодаря чему идентифицирующая функция повествования реализуется в синтезе описания и рефлексии.
В произведениях с объективированным повествователем формируется «персональная повествовательная ситуация», которую обычно связывают с новаторскими открытиями Чехова.
Оригинальные в жанровом отношении повести-рассказы «Путешествие во внутрь страны» М. Вовчок (1871) и «После потопа» Н.Д. Хвощинской (1881) непосредственно предвосхищают стиль Чехова: в этих произведениях достаточно ярко очерчены контуры «чеховской» персональной повествовательной ситуации. Она представляет собой такой речевой строй, когда точка зрения героя не просто совпадает с точкой зрения повествователя, но они становятся взаимопроницаемыми. Внутренняя соотнесенность повествователя с героем раскрывается в «зоне построения образа», которое М.М. Бахтин рассматривал как важное составляющее жанровой структуры произведения[347]. В этой «зоне» и осуществляется эстетический процесс художественно-завершающего оформления действительности. Здесь фиксируется единство двух аспектов: повествования о героях и сам факт повествования. В подобном единстве объединяются «автор» и «читатель», «слушатель» в отношении к изображаемому[348]. При «персональной повествовательной ситуации» «зона построения образа», объединяющая «автора» и «читателя», характеризуется переносом, внедрением точки зрения повествователя в позицию героя (героев) и создается иллюзия полной объективности, «неприсутствия» повествователя во внутреннем мире произведения. При этом «язык» первичного субъекта речи сохраняет все качества «авторского», то есть не имитирует язык героя. Соотношения позиций автора, повествователя и героев в их модальности раскрываются в неисчерпаемом многообразии.
В повести М. Вовчок «Путешествие во внутрь страны» важны не только традиционные способы изображения персонажа (оценочные описания и эпитеты, эпизодические интроспекции, реакция на «чужое слово», передача того, что «как будто» чувствует или хочет сказать герой), но и принципиальное совпадение точек зрения главной героини (девушки-нигилистки) и повествователя. Казалось бы, герои изображаются с позиции «стороннего наблюдателя», но при этом повествователь словно «переселяется» в персонажей на какой-то момент, а его позиция оказывается тождественной позиции главной героини. Так, в эпизодических интроспекциях при изображении персонажей исчезает традиционное «как бы», «как будто», повествователь перестаёт быть «посредником» между действующими лицами и читателем: «Андрей Иванов вглядывается в круглое, багровое от злости дворянское лицо, смекает, что вёл себя неосторожно…»; «…на его сером чиновничьем лице как нельзя яснее выражается: «Не надо ни с кем из них связываться! Не надо…»»; «…но золотые очки… без слов красноречиво отвечают: «Мой друг, со мной вам не тягаться… у нас считается полезным выводить промахи и уклонения известной категории… и я вывожу их…»». Подобное «самовыражение» антагонистов «нигилистки» изображается с точки зрения её единомышленника, оценочные отношения героини и повествователя совпадают. По этой причине весь человеческий «зоопарк», наполняющий железнодорожный вагон, вызывает у них однозначную реакцию. «Черноглазая девица», слушающая разговоры Помпея Петровича, купчика Андрея Иванова, «москвича» и других, «задыхается от негодования», они и им подобные вызывают у неё совершенно однозначную оценку: «Мерзавцы!». Таково же отношение к этим персонажам и повествователя, уподобляющего их животным: «Москвич мычит во сне… Помпей Петрович ёжится на диване… как оторванный от привычного логова»[349].
Это переходные формы персонального повествования. Но уже в повести Н.Д. Хвощинской «После потопа» наблюдаются характерные признаки «персональной повествовательной ситуации». Интерьер описан в соотнесении с переживаниями героя (арестованного по политическим мотивам и возвратившегося домой после двухлетнего отсутствия), но без выражения взгляда на персонажа со стороны, то есть с точки зрения выразителя этого взгляда: «Он подошел к письменному столу. Прелесть как чисто убрано. Всё на месте, до старой афишки и билета в театр, засунутых под чугунную плитку. Да, тогда не удалось пойти, помешали, попал в другое место. Он засмеялся.
Посмотреть, что такое назначалось»[350]. Восприятие обстановки неразрывно слито с психологическим состоянием героя, словно возвратившимся во время до ареста. Здесь наблюдаются черты типично «чеховской» психологической интроспекции, но внимание автора фиксируется на формах речевого выражения единства «статики» и «динамики» героя, неизменности его «я», его нравственной сущности (чувство личной ответственности за несовершенство жизни привело героя в стан «новых людей», и он не раскаивается в этом), «самости» и глубоких сдвигов в его сознании и мировоззрении, связанных как с переоценками форм борьбы, так и с сомнениями в её целесообразности вообще, в принципе. Это одновременность проявлений «устойчивого» и «изменяемого» («того же самого»[351] и «нового») создаёт целостность личности, идентифицируемой посредством повествовательной деятельности.
Повествователь «проникает» в сознание героя, его речь закономерно переходит в речь персонажа, содержащую реплики, в которых сосредоточены результаты психологических процессов и размышлений: «Он вскрикнул и заметался. Где они?.. Всё забыто, всё по-прежнему, всё прекрасно, всем покойно, всем весело… О, подлость! Стыд, стыд!»; «В саду смеялись, он подошёл, шатаясь, и прислушивался. Как это странно. Просто странно, и ничего больше. Всё кончено: в душе нет ни на что отзыва. А вот там люди живут; кто-то там копошится, празднует… Ну, празднуйте без меня, на здоровье. Я не ваш….».
Первичный субъект речи пересказывает то, что ощущают герои, используя при этом непрямые формы выражения итогов психологических процессов, ищет уточняющие определения («Всё понемногу… припомнилось… Вернее, не припомнилось, а в этой радостной горячке… к старикам прихлынула струя молодости…»). В повествовании наблюдается тенденция к переходу от внешних проявлений к выражению внутреннего состояния персонажа. («Он был… недурен собою… его руки висели безжизненно… он беспрестранно их сжимал и ломал пальцы».) Даже обобщения не позволяют повествователю сойти с точки зрения героя, утратить позицию «внедрения» в персонажа; морально-философские идеи переходят из «зоны» повествователя в «зону» героев и наоборот («Боже, два г. муки!.. Старость, беспомощная, больная, одинокая, с укорами от чужих, с уговорами хуже ножа острого, с толкованиями… Господи, а греха сколько, ропота!.. Но как же не роптать! Дети – ведь это всё!.. Дети, да что вас милее?..»[352]). Повествователь «растворяется» в персонажах, но не утрачивает специфики своего «языка».
Таким образом, персонажи идентифицируются в системе повествования Er-Form, которая органично может «перетекать» в систему Ich-Erzählsituation и наоборот. Становятся взаимопроницаемыми границы обеих систем, когда изображение и рефлексия героя совмещаются, когда повествователь внедряется в точку зрения персонажа, а персонаж через речевую деятельность обретает форму идентичности, поскольку авторское повествование превращается в раскавыченный монолог изображаемого героя.
В «Путешествии» М. Вовчок наблюдаются именно переходные формы лингвистического опосредования идентичности, потому что здесь ещё нет движения, подчеркивающего, а не отрицающего сочетание «самости», «того же самого» и «изменяемого» в характере персонажа. Более того, статичность, сформированность взглядов, понятий, убеждений героини М. Вовчок находит адекватную форму выражения в односитуативности сюжетной парадигмы этого произведения. А в повести Н.Д. Хвощинской такое движение есть, но оно перенесено из событийного во внутренний, психологический план (вот почему свойствами персональной формы повествования наделена речь и других персонажей, оттеняющих характер главного героя). Оба произведения тяготеют к «малой» форме (повесть-рассказ), и идентичность персонажей в большей мере проявляется на повествовательном, а не сюжетном уровне. В таких образцах ещё пока не достигнут максимум соответствия постоянного и изменяемого, санкционируемый жанровой «нормой» корреляций сюжета и характера, а также концептуальным хронотопом повести. Не случайно Н.Д. Хвощинская делает существенные жанровые уточнения «После потопа. Повесть», указывая тем самым на наличие разнородных художественных ситуаций во внутреннем сюжете произведения.
В повести М. Вовчок изменяющееся устанавливается на основе изображения характера девушки-нигилистки по отношению ко всем остальным персонажам в сравнении с ними. И такое единство некоей устойчивой основы и духовного изменения не требует воссоздания процесса и его сюжетного, пространственно-временного эквивалента. Следовательно, таким эквивалентом становится формирующаяся «персональная повествовательная ситуация», совмещающая принципы наблюдения и самоанализа. А у Н.Д. Хвощинской иной объём сюжета, иное время произведения: внутренний перелом в сознании и мироотношении героя, приведший к трагедии, требует «времени», и писательница находит ресурсы такого отражения не только в возможностях фабулы (создании временной оппозиции «тогда – теперь»), но и в повествовательных формах идентичности персонажа, когда протекание сложных внутренних процессов передается средствами сгущения времени и реализуется через взаимопроницаемость точек зрения повествователя и героя в системе «персональной повествовательной ситуации». В повести «После потопа» объектом внимания автора является именно меняющееся состояние героя, благодаря чему его «самость» становится выразимой в максимально возможной мере: он через противоречивую взаимосвязь устойчивого и изменяемого, выражаемую средствами повествовательной идентичности, самоидентифицируется. Следовательно, сюжетные ситуации повести «После потопа», будучи разнокачественными, но однонаправленными, соотносятся с задачами изображения изменений во внутреннем мире героя, а формы персональной повествовательной ситуации «схватывают» диалектику постоянного и изменяемого.
Множественность и разнообразие форм повествования характерны для повестей, написанных в системе Ich-Erzählsituation: это выявленный повествователь («Захудалый род» Лескова, «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского); повествователь, близкий автору и не имеющий посредников (дилогия Помяловского, «Похороны» Салтыкова-Щедрина); модификации форм с посредником-рассказчиком: повествователь-рассказчик как один из героев произведения («Пунин и Бабурин» Тургенева, «Магдалина» Авдеева), рассказчик, фигурирующий в сюжете, но пассивный участник событий («Странная история» Тургенева, «Мы победили» Мачтета), рассказчик, включаемый в повествование первичного субъекта речи («Бабушкины россказни» Мельникова-Печерского, «Смех и горе» Лескова); «я-форма» с использованием «промежуточных» жанров словесно-организованного повествования, таких как «дневник», «исповедь», «записки», «воспоминания», «письма» и т. д. («Эпизод из жизни ни павы, ни вороны. Дневник домашнего учителя» Осиповича-Новодворского, «Сельская идиллия (Из дневника неопытной помещицы)» М. Вовчок, «Записки из подполья» Достоевского, «Детство и юность. Из одних записок» Воронова, «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Лескова, «Безысходная доля. Повесть в тринадцати письмах» Брянчанинова, «Где же счастье? Повествование в письмах» Н. О. /?/); повествователь, включающий в текст «записки», «воспоминания» и т. д. героев («Первая любовь» Тургенева, «Между людьми» Решетникова, «Два раза замужем» Стулли); сказ и его разновидности: «чистые» формы («Червонный король» М. Вовчок, «Накануне Христова дня» Левитова) и синтетические, когда совмещаются субъект речи сказового типа и повествователь («Мимочка-невеста» Веселитской, «Питомка» Слепцова, «Тюлевая баба» М. Вовчок), фольклорная сказовая манера («Дитя души. Старинная восточная повесть» Леонтьева).
Структуру повествовательного «я» могут составлять разные уровни выражения «образа автора». В «Поликушке» Толстого на повествовательном уровне (форма «повествователь, близкий автору») выявляются разные субъекты сознания, находящиеся под номенклатурой одного повествовательного «я»: это автор-повествователь, которого иногда ошибочно принимают за «автора-писателя», повествователь и даже некий носитель речи сказового типа, для которого характерны такие, например, выражения: «Барыня обернулась и потребовала фершала с горчицей»[353] и т. п. С речевой партией всеведающего повествователя, включающего свои замечания даже в слово героя, развивается параллельно партия автора-повествователя, открыто заявляющего о себе, комментирующего события. Образ автора-повествователя в «Поликушке» персонифицируется, обретает черты социально-психологической определённости. По-разному реагируют повествователь и автор-повествователь на «чужое слово», повествователь может «внедряться» в кругозор своего героя, переходить на точку зрения носителя речи сказового типа, их субъектные сферы могут даже сливаться, что невозможно для автора-повествователя.
В повести Д.В. Григоровича «Пахатник и бархатник» лик повествователя тоже явно не однороден, наблюдается два типа выражения и знания в пределах повествовательного «я». На одном уровне этой системы фиксируется обычная социальная ситуация, конкретизируемая оппозицией «пахатника и бархатника» («повествователь»), на другом эти явления осмысливаются и анализируются в соответствии с возможностями авторского видения («автор-повествователь»).
Для стиля повестей, написанных в соответствии с принципами поэтики художественной модальности, характерно преодоление «монизма» повествования. В формах Ich-Erzählung с посредником-рассказчиком сохраняются особенности монологической речи, но она тоже многосоставна и неоднородна. Такая форма позволяла писателям предельно сконцентрировать материал вокруг тех «отдельных» проявлений, «картин» жизни, которые изображаются в повести, всё подчинить такой цели (поэтому повести противопоказаны «рассуждения»).
Для форм выражения авторской позиции в повести характерна такая взаимосвязь типа и системы повествования с другими жанроформирующими началами, благодаря которой «всезнание» автора выражается в сопоставлении и совмещении разных точек зрения носителей речи и субъектов сознания, изображаемых с одной целевой установкой. Любой аспект структуры произведений может рассматриваться только в соотнесении с жанровой «концепцией человека» (человек в его отношении к миру), с учётом того, что данная структура создаётся взаимосвязью специфических для этого жанра «частей», а если мы имеем дело с реалистической повестью, то и принципа несовпадения формальных и содержательных субъектов речи[354]. Весь художественный мир повести охвачен авторской компетенцией, а система повествования всегда остается «монологической»[355].
В повести при известной «статичности» хронотопа и типа повествования (изображение процесса развития жизни, её «самодвижения» средствами «примыкания», «присоединения» эпизодов, совпадение сюжета и фабулы), которые, в свою очередь, «трансгредиентны» сюжетно-композиционной структуре, эстетически повышенной оказывается роль системы повествования, то есть модификаций субъектных и внесубъектных сфер произведения, корреляций «зоны построения образа»[356] и повествующего субъекта, повествовательной идентичности, жанрообразующих, стилевых приёмов. Средства жанрообразования на стилевом уровне «обеспечивают» внутреннюю «диалогическую» природу выражения авторской позиции, являются формой воплощения жанровой установки на аналитическое раскрытие «отдельных» сторон, граней, процессов, проявлений действительности «во всей полноте» и «объективности» в такой системе повествования, с которой М.М. Бахтин связывал специфику реализации «монологической позиции» автора[357].
Внутренняя диалогичность произведений «среднего» повествовательного жанра осуществляется в системе монологического повествования, когда «другой» «всецело остаётся только объектом сознания, а не другим сознанием»[358].
Повесть может рассматриваться как тип «высказывания» диалогической ориентации, сформировавшейся в процессе эволюции жанра: повествующее лицо всегда имеет в виду «слушателя», но не «эмпирического», а такого, который учитывается самим автором[359]. Художественные законы внутреннего диалогизма повести (одна из форм управления читательским восприятием) имеют свои жанровые особенности: речь идёт о диалогизме, выраженном во взаимосвязях субъектных и вне-субъектных сфер произведения, опосредующих «автора».
Уже отмечалось, что повесть не может быть «полилогичной»[360], «полифоничной», её структура основывается на принципе антитезы, контраста (выраженном по-разному), а вследствие этого – на внутренней диалогичности.
Это вполне соотносимо со спецификой «монологического контекста»[361], характерного для повести. «Полифонические» формы диалогизма не свойственны этому жанру, так как изображаемые здесь завершённые события и характеры познаются автором в целом и находятся в его компетенции. Только он обладает ценностными ориентирами в полной мере. Точки зрения героев подчинены «последней смысловой инстанции»[362] – авторской.
«Монологическим» повествование остаётся даже в тех повестях, где диалогическая речь превосходит авторские описания. В «Трудном времени» Слепцова драматизированный диалог введен в «авторский» контекст, речевые партии вторичных субъектов – Рязанова, Щетинина, Марьи Николаевны и первичного – объективированного повествователя являются «объектными» для автора. Характеры не только доступны авторскому познанию, но и оцениваются с точки зрения его идейной позиции, в чём проявляется «завершающая монологическая функция избыточного авторского кругозора»[363]. Так создается монологизм как стилевое воплощение авторской позиции, выражаемой «диалогическими» формами. В повести нет диалогической связи между сознаниями героев. Три главных персонажа беседуют, спорят, доказывают, опровергают или соглашаются друг с другом, стремятся к словесным «поединкам» или пытаются уйти от них, но они не связаны друг с другом и повествователем диалогическими отношениями. Повествователь не «говорит» с ними, он их изображает. Структура диалогической речи показывает, что диалога в точном смысле слова не возникает: речевые партии героев или не пересекаются, не взаимодействуют, или пересекаются, но не дают «взаимоотражения», поскольку между персонажами не возникает необходимого понимания, или звучат в унисон, совпадают, когда они соглашаются друг с другом[364]. Конфликтность, контраст в такой диалогической речи проявляется со всей очевидностью, но отнюдь не «диалогические отношения» между героями и объективированным повествователем, героями и автором. Социальная отчётливость конфликта обусловила проблемность, аналитичность, целеустремленность действия, благодаря чему в повести на достаточно ограниченном участке жизненного процесса выявляются коренные противоречия «трудного времени» – первых пореформенных лет.
В диалогах повести, как правило, нет обращённости к предполагаемому «другому», а если и есть, то это особые случаи, фрагментарные вкрапления, формы проявления творческой индивидуальности писателя (например, Достоевского), то есть то, что не создаёт доминантную тенденцию. Диалог строится именно как взаимодействие персонажей, находящихся в компетенции авторского видения. Они являются объектами авторского анализа. Это объясняется тем, что диалогические формы при «монологической» системе повествования являются сугубо сюжетными, и споры героев проходят все стадии развития, вплоть до развязки, когда ставится последняя точка. В отличие от системы «диалогизма», такой диалог «зависим от сюжетного взаимоотношения говорящих»[365], а превосходство автора-повествователя как субъекта сознания одной из иерархических форм «образа автора» объясняется прежде всего его внесюжетным положением. «Странная история» Тургенева, в которой рассказчик является первичным носителем речи, – типичный тому пример[366]. Отсутствие «другого» как постоянно мыслимого адресата и «скрытости» второго «голоса» в «двуголосом» (М.М. Бахтин) слове героя (например, в повестях М. Вовчок, написанных в форме сказа) также является характерным примером «монологизма» повествования.
Безусловно, в повестях обнаруживается диалогизм точек зрения и позиций, внутренний мир даже одного персонажа может быть «многомерным». Диалог может выражаться во взаимодействиях героев («Трудное время» Слепцова) или на уровне время-пространственных отношений, в системе сюжетно-композиционной организации произведений («Смех и горе» Лескова, «Полоса» Нелидовой, «Читальщица» Славутинского), диалогичным может быть даже внутренний монолог («Захудалый род» Лескова) или «слово» героя («Записки из подполья» Достоевского), когда имеется в виду «заочная» или персонифицированная точка зрения, с которой полемизирует он[367].
Однако любые формы «дуализма» в повести не противостоят «монизму», выражаются в стремлении к нему на стилевом уровне, поскольку слово является, по сути, однонаправленным. Наличие нескольких субъектов сознания под номенклатурой одного повествовательного «я» в жанровом типе реалистической повести лишь подтверждает мысль об обязательном иерархическом возвышении повествователя или автора-повествователя (а в конечном счёте – автора) над героями. Всякая субъектная многоплановость и неоднородность, при которой ни один из субъектов речи и сознания не может находиться в плоскости «авторской правды», получает «снятие» на уровне стилевого выражения единства авторской позиции.
Сами по себе те или иные повествовательные формы не предопределяют тип слова (ср., например, повесть «Дядюшкин сон» и роман «Бесы» Достоевского). «Эпическая дистанция» в повести является наглядным проявлением эстетического «неравноправия» повествователя и героев, для персонажей становится непреодолимым время-пространство событийного сюжета: они не могут выйти в мир повествовательного хронотопа, а значит, и не могут вступать с повествующим лицом и «автором» в диалогические отношения. Эти жанровые особенности хронотопа и повествования являются типологическими.
Глава IV Искусство художественного синтеза
4.1. Корреляция детерминант в жанровой системе повести
Вопрос о художественном детерминизме рассматривается, как правило, в связи с творческим методом и лишь эпизодически, разрозненно – в жанровом аспекте. А между тем такой анализ имеет принципиальное значение для понимания специфических способов эстетического моделирования действительности в том или ином виде эпической прозы, а также особенностей выражения «идеи человека», свойственной определённой историко-литературной эпохе. Важно это и для изучения типологии характеров и обстоятельств, корреляций «внешних» и «внутренних» детерминант при изображении человека, его психологического облика и в конечном счёте для исследования свойственных жанру законов художественного обобщения.
Существует точка зрения, согласно которой детерминация как философская категория применительно к художественному творчеству теряет свой смысл, поскольку в литературном произведении мы имеем дело не только с закономерной причинностью, но и с выражением субъективной позиции писателя. Своеобразным литературоведческим аналогом понятия «детерминизм» выступает в этом случае категория художественной мотивировки. Эта точка зрения обоснованно и аргументированно корректируется в тех работах, в которых осуществляется дифференциация самих понятий детерминизма и мотивировки[368].
Безусловно, творческий процесс является активным, писатель отбирает необходимый материал, перестраивает его при помощи творческой фантазии, создавая наиболее вероятный образ для данной системы объективного мира. Поэтому общие положения теории детерминизма могут употребляться с известной долей условности, так как любое произведение не является буквальным отражением действительности. Но несомненно то, что художественный метод определяет те или иные формы, степень и глубину отражения закономерных, определяющих причинно-следственных отношений.
Не только в философских, но и искусствоведческих исследованиях необходимо различать такие понятия, как детерминизм, причинность, обусловленность и тем более мотивированность. Необходимо также разграничивать причинность по сущности и характеру, то есть внешнюю и внутреннюю причинность. Детерминизм не тождественен всякой причинности вообще[369]. Здесь ключевыми являются понятия закономерности, связи и взаимообусловленности явлений действительности, хода социальной истории.
Художественный детерминизм – сущностная особенность классического реализма, отличающая его от «универсального» и «эмпирического» реализма эпох Возрождения и Просвещения. В литературных произведениях второй половины XIX в. воссоздается образ закономерных причинно-следственных связей между человеком и действительностью, между общественными условиями и деятельностью человека. Именно на этой основе осуществляется художественный анализ, «объяснение» характеров и жизненных процессов. Для метода классического реализма, по словам Л.Я. Гинзбург, принципиальное значение имеет то, что предметом художественного изображения становится не только человек в обусловленности его поведения, но и «сама обусловленность», воплощаемая в соотношениях человека и среды, в социальных предпосылках становления характера[370]. Идея детерминизма, определяющая принципы художественного обобщения в литературе классического реализма, обусловила функции сюжетных мотивировок, бесконечное разнообразие которых и подчиняется задаче раскрытия устойчивых закономерностей жизни.
В повести второй половины XIX в. мотивировки наполняются детерминистским содержанием, становятся «аналогами» процессов социально-исторической обусловленности человеческих характеров, поведения и поступков героев, относятся к компетенции реалистического стиля. Не случайно некоторые исследователи связывали такие понятия, как «историзм» и «детерминизм»[371]. Историзм, будучи основой реалистического принципа изображения действительности, предполагает «снятие» на уровне художественного характера и поэтики сюжета закономерностей социально-исторического развития.
В литературоведческих работах неоднократно предпринимались попытки определения разных типов художественного детерминизма, обоснования типологии «внешних» и «внутренних» детерминант.
В обобщающих трудах по теории и истории классического реализма прежних лет предлагалась классификация внешних, «универсальных» связей: это детерминизм «исторический», когда поведение и психология самых разных социальных слоёв определяются событиями национального значения, историческими сдвигами и процессами[372], «социальный», то есть «видовой» (писатели заставляют своих героев действовать, думать, чувствовать «в соответствии с особенностями их социального характера»[373]), «общественно-психологический», когда характерология определяется особенностями «национальной субстанции», психологического уклада народной жизни[374]; «социально-исторический», когда совмещаются два типа детерминизма[375].
Разновидности внутренних детерминант описываются в исследованиях, посвященных творчеству конкретных писателей-реалистов. Так, историки литературы оперируют такими понятиями, как «биологический детерминизм», «иррациональная», «импульсивная причинность», «антропологический детерминизм», «натура»[376], указывают на возможность преобладания биологических детерминант над социальными и моральными, на наличие «природного» компонента в структуре характера. Они особо отмечают роль «психологического детерминизма», причинно обусловливающего «внезапные и резкие изменения в нравственном облике, поведении и настроении персонажей, которые восходят к сложности и богатству индивидуальных характеров, а не к какому-то постоянному и целенаправленному воздействию извне»[377], а также роль детерминизма, в котором просматривается связь «естественного» и «социального», когда «противоречивое проявление природы человека связывается… не только с её внутренними коллизиями, но и с противоречивостью современной исторической ситуации»[378].
«Биологические», «естественные», «природные» детерминанты писатели-реалисты не могут игнорировать. В процессе любого – художественного или научного – познания вопрос о соотношении социальной и биологической обусловленности имеет особое значение: человека ещё Кант рассматривал каксущество, принадлежащее одновременно к миру природы и к миру свободы. В работах психологов последних лет констатируется тот факт, что склад личности и способности человека «имеют существенную генетическую основу», а в исследованиях философов – что роль этого вида современного знания (как и всех других) возрастает по мере усложнения представлений об основном предмете изучения – человеке[379]. Авторы повестей XIX в. не отрывали биологическое от социального, но раскрывали разные уровни их соотношений. «Внутренние» детерминанты чаще всего ассоциируются с «родовыми», «естественными», «психологическими» проявлениями, а «внешние» – с «видовыми» характеристиками человека. Но, как уже говорилось, «родовое» – прежде всего «общесоциальное», «общеисторическое». Раскрывая процессы социальной детерминации человека, писатели-реалисты индивидуальную судьбу героев показывали как результат взаимодействия с системой общественных отношений (семейных, бытовых, сословных, производственных, служебных, политических, культурных, нравственных, религиозных, правовых и т. д.). Они осваивали законы поведения, мышления, чувствования человека, определяемые взаимодействием «трех основных уровней: во-первых, общественной среды (макросреды), общественных условий (продукта деятельности людей) как общей причины в социальной детерминации; во-вторых, непосредственного социального окружения (микросреды) как специфической причины; в-третьих, внутреннего мира человека (единичная причина), формирующегося под решающим воздействием первых двух факторов и влиянием генетической программы»[380].
Исследование форм детерминации связано с задачами анализа конкретных произведений. В целях изучения специфики художественного детерминизма в жанровом типе русской классической повести второй половины XIX в. надо вновь вернуться к идее «двуаспектной» ситуации, формирующей её структуру («человек» – «микросреда»). Поскольку в каждом жанре существует своя концепция человека в его отношении к действительности, то корреляция определенного характера детерминант является его существенным признаком[381]^ и одним из условий родового и жанрово-видового синтеза.
При изучении специфики художественного детерминизма в повести могут быть использованы положения современной философской теории, в которой разработаны критерии выделения непосредственной и опосредованной через ряд промежуточных звеньев всеобщей взаимной причинно-следственной связи. Оформилась классификация по типу членения универсальной закономерной связи – «объёмному» (то есть путём последовательного сужения вычленяемого участка универсальной закономерной связи) и «порядковому» (путём сопоставления закономерных связей, относящихся к различным уровням структурной организации материи)[382].
Имея в виду эстетические формы выявления причинных закономерностей, можно сказать, что в повести реализуются непосредственные связи и отношения и «порядковый» принцип художественного их познания. Изображение «предмета» «эпической поэзии» (человек и мир, человек и общество) в «отдельных проявлениях», раскрытие отдельных сторон этого «предмета», конфликтов «социального» и «человеческого», воссоздание человека в рамках «микросреды» – все эти особенности жанровой структуры повести связаны с тем, что универсальные причинно-следственные связи раскрываются через «непосредственный» контакт героя с ближайшим окружением, то есть в отдельных причинно-следственных связях, которые являются «элементом» «целого».
В повести нет «объёмного» членения универсальных связей, имеющего место в романе, где писатель идет от «общего к частному» при одновременном «стремлении к свободному распространению (действия), к тому, чтобы достигнуть единство через разъединение» (именно так рождается «эпос частной жизни»[383]). Её структура предрасположена к «опредмечиванию» принципа «сопоставления» закономерных связей, относящихся к разным уровням социального бытия: в жанровой системе повести запрограммированы ассоциативные сопоставления изображаемого в рамках «микросреды» (событийный сюжет) и «макромира» внетекстовой сферы. Соотношения текстовой и внетекстовой «реальностей» имеются в виду при создании произведений любого жанра. В повести они осуществляются на основе «порядкового» принципа членения универсальных закономерных связей, а потому предстают в виде связи «части» и «целого». Отношения, проявляющиеся в ближайшем окружении героя, всегда ассоциативно сопоставляются с другими сферами социальной жизни как изображаемыми, так и «домысливаемыми» читателем-рецепиентом в процессе «сотворчества», то есть с более широкими её срезами и плоскостями. Но «часть» в данном случае – это специфическая форма органической художественной целостности. В повести отчетливо выражено преобладание определенного типа детерминант. Они соприродны жанровой доминанте, обусловливающей ту или иную разновидность, модификацию, «поджанр».
В социально-бытовой повести («Мельница купца Чесалкина» И.А. Салова, «На миру» А.А. Потехина, «Юровая» Н.И. Наумова, «Мы победили» Г.А. Мачтета) идейно-художественная проблематика освещается в процессе погружения в обстоятельства. Для раскрытия социальных условий, драматических столкновений «видового» и «индивидуального», человека и среды принципиальное значение имеет изображение «внешних» детерминант, идущих из «микросреды», из системы общественно-бытовых отношений.
В социально-психологических повестях («Поликушка» Л.Н. Толстого, «Варенька Ульмина» Л.Я. Стечькиной, «Читальщица» С.Т. Славутинского) эстетически повышена роль каузальной связи «внешних» и «внутренних» детерминант, изображение обусловленности внутренних переживаний героя жизненным укладом и доминирование такой формы раскрытия самих общественных условий.
Лирическая повесть («Первая любовь», «Ася» И.С. Тургенева, «Детские годы. В деревне» К.И. Бабикова) характеризуется активизацией внутренне-психологических детерминант, так как в ней преобладает интерес к нравственному, духовному миру личности, утверждается значимость субъективного духовного опыта. Поскольку в таких произведениях, как правило, один субъект речи включает два субъекта сознания, то система детерминант, определяющих их, создается взаимодействием разнокачественных факторов.
В философской повести («Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Н.С. Лескова, «Довольно» И.С. Тургенева, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского, «Казаки» Л.Н. Толстого) повышена аксиологическая роль соотношений «вечного» и «преходящего», в ней эстетически функциональна широкая амплитуда детерминант, включающая причинность, обусловленную общечеловеческим опытом.
В повести-хронике («Захудалый род» Н.С. Лескова, «Старые годы» П.И. Мельникова-Печерского, «Старина» Н. Кохановской), а также в исторической повести («Донские гишпанцы», «Крутоярская царевна», «Француз» Е. Салиаса, «Хмелева ночь» Д.В. Аверкиева, «Кум Иван. Историческая быль. 1485 год» Д.Л. Мордовцева, «Царевич Алексей» Г.П. Данилевского) доминируют исторические детерминанты, преломленные через бытовые, социально-психологческие и проявляющиеся в системе поведения, внутренних переживаний персонажей.
Разный характер детерминант свойственен повестям интегративного типа (повесть-очерк, повесть-драма, повесть-рассказ, повесть-новелла, романоподобная повесть и др.). Так всякий раз специфично «опредмечивается» связь между «отдельными проявлениями» отношений человека и мира с «целым» мира, возникает основа «сопоставления» «единичного» с явлениями других уровней воплощения каузальности, появляются условия для измерения «единичного» законами «всеобщего», то есть тот «порядковый» детерминизм, который свойственен повести.
С соотношением разных типов художественного детерминизма в этом жанровом типе связана специфика художественного обобщения. «Порядковый» принцип членения универсальной закономерной связи проявляется в сопоставлении героев, находящихся в одной пространственно-временной плоскости событийного сюжета, в диалогических отношениях хронотопа автора (автора-повествователя) и событийного время-пространства. Внешние и внутренние причинно обусловливающие факторы, которые объективно воплощаются в художественной системе произведений, создают основу для глубокого выявления противоречивых, многообразных связей человека и действительности (открытых и скрытых), определяющих неповторимость характеров и судеб героев. Персонажи даже отдельного произведения, «живущие» в одной «микросреде», оказываются разными, поскольку художественные характеры становятся средоточием действия разных по типу и характеру (а порою и разнонаправленных) детерминант. Но в их индивидуальных жизненных условиях в конечном итоге проявляется действие общих природных и социальных законов. На этом зиждется реалистическая типизация.
Например, в повести Ф.М. Решетникова «Между людьми», в которой, казалось бы, ещё очень сильны традиции «натуральной школы» и человек изображается как «часть» или «явление» среды, огромное – для произведения такого жанра – количество персонажей представляет один срез русского общества: мещанско-чиновничью Россию. Писатель последовательно изображает разные «сечения» этой социальной сферы, перенося действие то в уездный городишко, то в губернский Орехов, то в столицу, выделяя и характеризуя внутри каждой «микросреды» «особые общества», которые составляются на основе профессиональной и иерархической принадлежности. Но характеры главного героя Петра Ивановича Кузьмина и окружающих его персонажей (дяди и тётки, Лены, ревизора, генерала Черемухина и мн. др.) являются выражением бесконечного разнообразия связей «внешних» и «внутренних» детерминант, хотя их личные судьбы обусловлены социальными конфликтами и общественными обстоятельствами одного и того же времени. Ничтожные, на первый взгляд, мечты дяди главного героя, мелкого почтового служащего, почувствовавшего себя «человеком» только после получения самого низшего чина, «неразвитость» его жены, страдания бедной девушки Лены, унижаемой своими родственниками, комфортная жизнь формалиста-бюрократа Черемухина – всё это разные стороны одной и той же действительности, представленной в образе иерархической структуры русского общества, накладывающего свою печать на все индивидуальные человеческие судьбы.
Связи внешних и внутренних факторов определяют суть каждого типического характера. Стремление к «труду» и духовному «развитию» главного героя повести – это выражение имманентных свойств, отличающих его от бескрайнего моря обывателей, и одновременно – духа эпохи. Это симптоматика «шестидесятых годов». Действие в произведении Решетникова происходит именно в это время, о чём свидетельствуют многие детали текста, например, сведения о «новом устройстве быта крестьян»[384] и многое другое.
Разные типы детерминизма проявляются в структуре реалистического характера. Однако, как верно отмечается С.И. Кормиловым, «множественность типов детерминизма при главенстве социального выступает отличительной чертой реалистического метода»[385]. Но эта отличительная черта по-разному проявляется в жанрах реалистической прозы.
Говоря об этом, следует учесть и типологические разновидности русского реализма. Писатели психологического и социологического течений отдают предпочтение разным типам детерминант. У первых более активны в эстетическом отношении «внутренние» причины (то есть в системе «внешних» и «внутренних» причинно обусловливающих факторов они играют доминантную роль), а социальные противоречия раскрываются ими через призму нравственных исканий человека. У вторых повышена функциональная роль «внешних» детерминант. Но в любом случае масштабы жанрового «события» (В.Г. Белинский) определяют не только количественную, но и качественную специфику выражения закономерных причинно-следственных связей в повести.
Обратим внимание на известную проясненность этих связей: то, о чём говорится в произведении, всегда имеет хорошо просматриваемую причину. Основные сюжетные коллизии повести строятся по принципу «причина – следствие» (благодаря чему и повествование приобретает вид последовательного изложения событий, когда происходит совпадение сюжета и фабулы), при этом в данных связях «опредмечивается» действие всеобщих законов, отдельных отношений или «моментов» причинно-следственных процессов.
В повести И.С. Тургенева «Пунин и Бабурин» «борьба» самоотверженного Бабурина является его протестом против социальных «несправедливостей»: неблагополучие общественных отношений, ощущаемое особенно остро человеком из демократических «низов», причинно обусловливает стремление героя к защите своего человеческого достоинства, к утверждению идеи равенства людей. Его отношения с Музой, составляющие основу сюжетной коллизии, являются выражением той же жизненной позиции, верности идеалам общественного служения, этике самоотречения[386], то есть входят в круг компетенции тех же самых причин и условий.
Болезнь и смерть Магдалины в одноименной повести М.В. Авдеева объясняются ненормальными отношениями в обществе, которые противоречат «естественным», «общечеловеческим» нормам. Добровольная изоляция от всего мира главной героини повести М. Вовчок «Маша» является следствием античеловеческих законов крепостнического общества, с которыми она не может примириться. Парадоксальность форм выражения духовного роста героя, пробуждения его самосознания в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» мотивируется состоянием русской жизни, пришедшей в движение после 1861 г., разрушением традиционных норм быта и морали, процессами определения новых общественных отношений. Прямая взаимосвязь между характером Ивана Северьяныча и состоянием национальной жизни, заметно отличающая повесть Лескова от других произведений этого жанра данного времени и о данной эпохе («Иван Флягин – это уже как бы сама Россия»), порождает её «символический смысл»[387].
Возможности символической трактовки событий в повести вообще обусловлены «порядковым» принципом членения универсальных закономерностей и выражением прямых, открытых причинно-следственных связей между общими жизненными процессами, определяющими законы отношений в «микросреде», и их «отдельными проявлениями» (судьба конкретного человека, события и обстоятельства, конфликты героя с «микросредой»). Это и создает основу для изображения отдельных сторон действительности «в целом», «во всей полноте».
История неудачной попытки старика Карпа купить сруб для новой избы, составляющая канву сюжетных событий первой части повести Д.В. Григоровича «Пахатник и бархатник», мотивируется общим разорением крестьян деревни Антоновки, вынужденных ради немедленной выплаты оброка не вовремя, за гроши продавать только что собранный хлеб. Необходимость семье крестьянина зимовать в совершенно развалившейся избёнке рассматривается автором как следствие грабительских законов крепостнического хозяйства, которые не обеспечивают и не гарантируют нормальную жизнь трудовому народу. Конкретный факт – когда целая деревня вопреки всякой логике и смыслу продает фабриканту Никонору весь урожай («цены нет никакой теперь… продать теперь – значит разоренье одно…»[388]) из-за «законных» требований промотавшегося крепостника, превращается в символ неразумности и противоестественности крепостнических отношений в целом.
Важно подчеркнуть, что «причинение» и «условия», порождающие «следствие», в повести всякий раз раскрываются в рамках сюжетного повествования, их суть проявляется при изображении человека и «микросреды». Сложнее обстоит дело с выявлением внешних факторов в синтетических жанрообразованиях, романических повестях: структурные формы романного мышления связаны с выявлением разветвлённых внутренних, скрытых связей, с более сложным соотношением «внешних» и «внутренних» детерминант.
В повести В.А. Слепцова «Трудное время» причины идейных споров и столкновений Рязанова и Щетинина, сами мотивировки позиций и поступков героев не исчерпываются сюжетом произведения: чтобы их понять, надо мысленно раздвинуть сюжетные рамки, «домыслить» прошлое всех основных персонажей, представить условия формирования их взглядов, характеров. Зато объяснение истоков нравственно-психологических конфликтов в повести О. Забытого [Г.И. Недетовского] «Велено приискивать» такого «выхода» за пределы текста не требует, так как Ленушка – сама «часть» изображаемой среды, чего не скажешь, например, о Рязанове или Степане Рулёве (повести В.А. Слепцова и Н.Ф. Бажина). Выявление конфликта Протозановой с дворянским миром в повести-хронике «Захудалый род» Лескова также требует «выхода» в сферу «национальной субстанции», без чего праведничество героини, её моральные императивы лишаются своей мотивированности.
Поскольку в повести человек и мир раскрываются «в отдельных проявлениях», в одних и тех же пространственно-временных координатах событийного сюжета, а «микросреда» интегрирует отдельные свойства «макросреды», то соотношение «внешних» и «внутренних» детерминант показывается как такая связь, когда вторые непосредственно выражают действие первых.
Относительная самостоятельность «внутренних» детерминант в романе проявляется в большей мере, чем в повести. Достаточно сравнить, например, повесть Достоевского «Записки из подполья» и его же романы, которые эта философская повесть предваряет: в принципах оценки и изображения человека можно увидеть не только общее, но и глубокие жанровые отличия. «Бунт» парадоксалиста против любой «логистики», «теории обновления… рода человеческого» во многом объясняется открыто выраженной причиной «субъективного» характера, которая, в свою очередь, мотивирована условиями бытия собственнического мира с его властью Ваала, «кровожадностью», аморализмом, отсутствием «разумного основания» и «настоящей живой жизни»[389].
Если герой романа в большей мере относительно самостоятелен, то герой повести более «зависим» от внешних условий. Это опять-таки связано с особой художественной природой время-пространственных характеристик. В повести всегда изображается то, что уже свершилось, состоялось, произошло[390], поэтому действие «внешних» детерминант (исторических, социальных, общественно-психологических и т. д.) раскрывается в их уже проявившейся форме. Отсюда особое соотношение «социального» и «природного», «человеческого» в творчестве писателей-реалистов, социальности и психологизма в средствах раскрытия характеров и авторской позиции.
Социальные детерминанты, определяющие психологическое состояние персонажей в произведениях художников – «социологов», или психологические детерминанты, воплощающие и выражающие социальное самочувствие героя в повестях писателей – «психологов», в этом жанре раскрываются не только в отдельных «проявлениях», но и в их прояснённом, завершённом, «состоявшемся» виде. Это касается и форм изображения «текучего» состояния внутренней жизни, характерного для героев динамичного склада.
«Социальное» и «природное», видовое и индивидуальное могут в героях совпадать («жадный» Липатка, «лупила» Иван, Кирилл, обладатель «рук… какие… вёрст на сто вокруг всё захватывали», в повести А.И. Левитова «Накануне Христова дня»[391]); Костик в «Житии одной бабы» Н.С. Лескова, отец Еремей в «Записках причетника» М. Вовчок, Щетинин в «Трудном времени» В.А. Слепцова, помещик Слободской в повести Д.В. Григоровича «Пахатник и бархатник»), а могут находиться в противоречии друг с другом, что, например, отмечается при характеристике одного из представителей высшего общества – Дима в повести «Пахатник и бархатник» («В юноше этом было что-то особенное – какая-то внутренняя притягательная сила… Лучшим доказательством хорошей природы его служило то, что… он был скромнее, проще, добродушнее многих… Предрассудки и обстоятельства, его окружавшие, служили с ранних лет преградою всем его стремлениям, не дали развиться ни одному из его талантов, лишили его всякого направления, он ни на чём не остановился»), Пашинцева из одноименной повести А.Н. Плещеева («воспитание и жизнь… значительно исказили (его) природу… <…> на сердце этом начала нарастать кора…»)[392], Трифона Афанасьева в повести С.Т. Славутинского, Насти в повести «Житие одной бабы», Меркула Праотцева в «Детских годах» Н.С. Лескова. Это особые формы психопоэтики писателей, вовсе не отрицающие принципы изображения целостного бытия человека.
В любом случае связь «внешних» и «внутренних» детерминант в повести просматривается отчётливо, она лежит «на поверхности», раскрывается в её «завершённом» виде (даже если характер дан в развитии: особенно наглядный пример – история «развращения» Николеньки Иртеньева в трилогии Л.Н. Толстого), а главное – всегда выражает конфликт между «человеческим» и «социальным». Этот конфликт сюжетно развёрнут как при изображении процесса осознания героем своего «падения» или неправедной жизни (Санин в «Вешних водах» Тургенева, Пашинцев в повести Плещеева, Крылушкин в повести Лескова «Житие одной бабы», Липатка в «Накануне Христова дня» Левитова), так и при отсутствии такого осознания (Сергей в «Первой борьбе» Хвощинской, Слёткин в «Степном короле Лире» Тургенева, Серафима в «Мачехе» Новинской [А.В. Павловой], Алёшка в повести Засодимского «Тёмные силы»): в этом случае конфликтность определяется внесубъектными средствами выявления позиции автора, с общечеловеческой точки зрения рассматривающего несостоятельность социальных отношений и деградацию человеческого в человеке.
Здесь во всём сказывается жанровая природа художественной детерминации в повести, когда связи внешних и внутренних факторов, причинно обусловливающих поведение и судьбу героев, раскрываются как максимально выразившиеся в «отдельных проявлениях».
Само же соотношение этих детерминант может быть весьма разнообразным: в повести Тургенева «Первая любовь» доминируют «природные» факторы, преломлённые через призму духовно-нравственных ценностей; в «Грачевском крокодиле» Салова больше внимания уделяется социальным преградам, на которые наталкиваются лучшие стремления Асклипиодота Психологова; в повести Лескова «Житие одной бабы» в центре изображения оказывается несовпадение «естественного» в характере героини и норм социального устройства. Это и создает палитру бесконечного разнообразия индивидуальных характеров, наиболее вероятно порождаемых данными общественно-историческими условиями и выражающих их сущность.
Связи «внешних» и «внутренних» детерминант в повести имеют специфическую форму проявления. Собственно исторические факторы и причины, которые сюжетно интерпретированы, например, в «Войне и мире» Толстого как детерминанты всеобщего действия, обусловливающие события национального значения, в ней не функциональны вообще. Изображение «сторон предмета» ограничивает сферу столь широкого художественного воспроизведения: этот жанр не предрасположен к воссозданию «обилия предметов» в системе «разнообразия тонов»[393], всех сил, слоёв общества, то есть выражению его устройства «фигурой конуса», как это делал Толстой в «Войне и мире[394].
Но исторические детерминанты в повести второй половины XIX в. проявляются в отражении тенденций «новой эпохи», которая «ощущается» в общественно-нравственном самочувствии главных героев, их жизнедеятельности. Поведение Костина в повести Плещеева «Две карьеры» (1859) обусловлено именно такими тенденциями. Этот характер воплощает свойства общественного деятеля переходного времени: в его облике сохраняются черты «лишнего человека», но уже появляются качества, присущие «новым людям». Даже изображение действия детерминант явно «асоциального» характера подчиняется таким целям. Так, в повести Решетникова «Между людьми» «внешние», социальные детерминанты, казалось бы, не играют большой роли, более того, в первой части – «Детство» – доминируют те качества, которые обычно относят к компетенции «естественных», «биологических» факторов. В характере, в психологических реакциях мальчика Пети даёт о себе знать «иррациональная», импульсивная «причинность». Невозможно рационально объяснить многие незавидные поступки героя: уничтожение иллюстрированной Библии, бесконечные действия «наоборот», факты непослушания. «Бессознательность» поступков подчеркивается самим автором «записок канцеляриста». Так, во время бегства из бурсы герой на берегу реки, у рыбачьего шалаша, сам «не зная почему», «обрезал несколько удочек у снастей, распластав в нескольких местах невод… сделал дыру на одной лодке…»[395]. «Немотивированные» действия тем не менее детерминированы внутренними факторами, которые не поддаются однозначной расшифровке: ведь именно в силу постоянного сопротивления всему «правильному», необъявленной «войны» с окружающими герой в дальнейшем смог подняться в своём духовном развитии над собственной средой, вырываясь из-под нивелирующего воздействия ближайшего окружения. «Недостатки» Петра Кузьмина обернулись его «достоинствами». «Своеволие» героя, у которого складывались иные, по сравнению с его средой, нравственные идеалы и духовные критерии, постепенно стало принимать характер форм выражения растущего «чувства личности», вызванного к жизни самой историей.
Как уже говорилось, художественный характер в повести отличается тем, что имеет ярко выраженную нравственно-психологическую доминанту, но это вовсе не значит, что в нём типизируются «частности», лишь «фрагменты» жизненных явлений.
Хотя герой произведений этого жанра находится в компетенции какой-либо преимущественной обусловленности, его характер к ним не сводится, то есть он может быть относительно свободным, наделённым правом нравственного выбора. Его внутренний мир «напрямую» из сословного бытия и ближайшего окружения выводили лишь писатели, сохранявшие связь с «натурализмом» в духе «физиологий» сороковых годов («Первый возраст в мещанстве» М.П. Федорова, «Гайка» Н. Кохановской [Н.С. Соханской], «Воспитанница» Т.А. Астраковой, «Живые игрушки» М.А. Воронова и др.). На основе «механистического», линейного детерминизма невозможно было, например, ответить на вопросы, почему сын помещика Гриша («Три сестры» М. Вовчок) становится на путь самоотверженной защиты идеи «любви ко всем людям, любви к правде»[396], а сын крестьянки Петровны, проведшей всю жизнь в труде, Костик («Житие одной бабы» Лескова) превращается в хищника, губящего жизнь даже собственной сестры; почему не «выслуживает» «место» в губернской канцелярии выходец из самых низов Пётр Кузьмин («Между людьми» Решетникова), а наследник большого имения Миша Полтев («Отчаянный» Тургенева), воспитывающийся в богобоязненном духе, за три месяца промотал имение, стал нищим и вообще не мог жить «по-людски»; почему Асклипиодот Психологов («Грачевский крокодил» Салова) не дорожит учёбой в семинарии, предпочитает заранее предусмотренному «доходному месту» сельского священника жизнь разночинца, поиски самостоятельного и осмысленного труда, а Домна Платоновна («Воительница» Лескова) безоглядно отдаёт всё, нажитое неутомимыми хлопотами, беспутному Валерке.
«Механистический» детерминизм снимал с человека личную ответственность за всё происходящее, перекладывая «вину» на среду, обстоятельства, жизнь. В массовой беллетристике 1860– 1870-х годов целеустремлённо пересматривалось положение о том, что «в которую сторону погнёт человека сначала (среда. – В.Г.), то в ту он и пойдёт», отстаивалась мысль о том, что «надо поднимать руки на борьбу»[397]. В эти годы менялось само представление об общественном человеке, ощущавшем свою ответственность за «порядок вещей», за «жизнь по совести», «по справедливости», «по правде»[398].
Изменения в представлениях об ответственности личности отражались в литературе, чутко реагировавшей на процессы роста народного самосознания, которые активизировались после 1861 года. Поэтому в реалистической повести детерминация предстаёт не только как определение индивидуального сознания, внутреннего мира, поведения и т. д. персонажа социальным окружением, но и как признание относительной свободы героя, его ответственности за свои поступки, решения, цели.
Конечно, внутренний мир относительно свободного героя в то же время не является «произвольным», он в конечном итоге обусловлен временем и средой. Но в таком характере не менее важной формой выражения жизнедеятельности является самоопределение человека, попытки воздействия на ближайшее окружение. Например, Гриша в повести М. Вовчок «Три сестры» воплощает в себе типичные черты демократа-шестидесятника: «дух времени» ощущается в его попытках понять причины, приведшие того или иного человека «к дурному». Вместе с тем для характеристики героя не менее важное значение имеет раскрытие его внутреннего мира, его «любви к правде, добру». Одновременно писательница показывает и стремление героя к осуществлению его идеалов, готовность к самопожертвованию[399]. Подобные примеры дают представление об «опредмечивании» в художественном мире реалистической повести диалектической взаимосвязи сущности человека и условий его социально-исторического бытия. Это позволяло писателям выявлять во всей многосложности мотивированность поведения героя взаимодействием «трех основных уровней» (макромир, микросреда, внутренний мир человека)[400].
Субъективный фактор выступает в данном случае как относительно самостоятельная величина. Для системы типизации, ориентированной на изображение характеров в соответствии с их собственными объективными внутренними закономерностями, это имело принципиальное значение. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, проблема детерминированности предстает как вопрос зависимости человека от объективных условий жизни и – одновременно – его господстве над ними. «В жизни человека всё детерминировано, и нет в ней ничего предопределённого, – писал исследователь. – <…> Поэтому закономерная детерминация распространяется на человека, на всё, что он делает… и вместе с тем человек сохраняет свободу действий: никакое предопределение не тяготеет над ним»[401].
В реалистической литературе второй половины XIX в. каузальность оставалась основой художественного познания, и любое явление, в том числе и психологическое, рассматривалоськак «частный случай», поддающийся обобщению. Таким образом, повесть этого времени имела дело не с «частностями», а с отражением таких причинно-обусловленных явлений, которые были следствием синтеза разных по типу детерминант, что и позволяло писателям представить изображение явления с «одной стороны», но «во всей полноте». Нравственно-психологическая доминанта героя, вызванная социальными и многими другими факторами, порождала известную «односторонность», «одно-линейность», «однонаправленность» характеров (в романе, как уже отмечалось, такие герои являются обычно второстепенными), что вовсе не означает, что человек в художественном мире таких произведений заранее обречен «быть тем, чем он становится» (то есть целиком зависимым от среды, происхождения, воспитания и т. д.).
Это специфическая особенность характерологии повести как жанра. Так, у Плещеева в повести «Две карьеры» Костин показан в «одном плане»: он во всех своих решениях и порывах руководствуется высокими нравственными принципами. В мыслях и планах он свободно реализует свои представления о подлинно человеческих отношениях, поступки же его в большей мере зависят от обстоятельств: он не мог, например, взять на себя ответственность за судьбу Анны Михайловны, не смог отстоять интересы жителей Турухтанского уезда, подавших жалобу на городничего. Социальная детерминация проявляется в повести, таким образом, не просто в освещении причин того или иного поворота в судьбе героя, но и в художественной объективации каузальности, определяющей способы изображения «внутреннего человека», психопоэтику в целом, подчинённую задачам выражения нравственно-психологической доминанты персонажа. Социально-историческая детерминация реализуется в системе сюжетных мотивировок[402].
Соотношение «внешних» детерминант с «внутренними» в повестях различных «поджанров» находит своё выражение в многообразии мотивировок (социальных, бытовых, психологических, прямых, косвенных и т. д.). Так, эстетическая система повести Лескова «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» подчиняется задаче изображения обусловленности всех жизнепроявлений героев неожиданным разорением семьи Праотцевых, и эта история, становящаяся экспозицией повести, определяет весь ход дальнейшего развития сюжета, процесс нравственного формирования личности главного героя, психологические и прочие мотивировки. Но в фокусе философской повести находится изображение внутренних, духовных процессов развития личности, поэтому доминируют детерминанты нравственно-психологического, культурно-исторического характера[403].
Показывая связи человека и «микросреды» как взаимонаправленные отношения, авторы повестей эстетически осваивали разнообразные формы и типы детерминации, когда «внешние» (исторические, социальные) и «внутренние» (психологические, биологические) факторы образовывали сложные варианты, опосредования и ассоциации. Но единым оставался жанровый принцип изображения всех героев в одной пространственной сфере событийного сюжета, в завершенном временном отрезке, что и создавало условия для выявления устойчивых детерминант, раскрываемых в отдельных проявлениях.
В то же время в этом жанре детерминанты не могут быть строго лимитированными или нормативными по типу и направленности действия. Они в каждой конкретной повести зависят от того, что в ней является объектом изображения (характер, среда, отношения между характером и средой, человеком и природой, человеком и временем и т. д.). Так, более широкий диапазон детерминант (от исторических, социальных до внутренне-психологических) свойственен повестям, в фокусе авторского внимания которых находится характер или отношения между характером и социально-историческими обстоятельствами, героем и «веком». В такой системе детерминант изображаются персонажи, чувствующие «дух времени», то новое, что появляется в жизни, не желающие жить по-старому (Любовь Юрьевна в «Единственном случае» Л.Ф. Нелидовой, «новые люди» в повестях «Перед зарёй» П. Фелонова, «Молодые побеги» А.А. Потехина, Маша в «Домашнем очаге» Д.И. Стахеева, Миша Полтев в «Отчаянном» И.С. Тургенева).
Лишены такой широты детерминант те повести, в которых на первом плане изображения находится среда. Под властью узко сословных, социальных норм, господствующих в этой среде, находятся, как правило, герои, которые лишены внутренней динамики (Егор Попов в «Ставленнике» Ф.М. Решетникова, Молошниковы в повести А.И. Левитова «Накануне Христова дня», Воскресенский в повести Ф.С. Стулли «Два раза замужем», героини повести Ольги N. [С.В. Энгельгардт] «Сон бабушки и внучки»).
Однонаправленность детерминант, определяющих характеры и поступки, чаще всего связана со способами изображения тех персонажей, которые не вырываются из-под влияния социально-бытовых условий среды. Зато, например, характер Костина из повести «Две карьеры» «подключён» к более широкой каузальной системе, детерминирован историческими обстоятельствами (герой воплощает черты деятеля разночинного периода), его поступки свидетельствуют о стремлении противостоять влиянию «микросреды», нормам установившегося порядка. То же самое можно сказать о Рязанове («Трудное время»), Софи («Странная история»), Степане («Степан Рулёв»), Петре Кузьмине («Между людьми»), Асклипиодоте («Грачевский крокодил»), Лёленьке («Пансионерка») и других персонажах повестей 1860—1880-х годов. Типологическое в характерах Пашинцева из одноимённой повести Плещеева, Пенькновского из повести «Детские годы» Лескова, Анфисы Ивановны из «Грачевского крокодила», Андрея из «Степана Рулёва», Щетинина из «Трудного времени» и прочих героев такого типа обусловлено средой; но существенны и индивидуальные их качества и свойства, поскольку частное всегда «богаче» общего. Воздействие исторических детерминант на подобные характеры раскрывается в системе «опредмечивания» доминантных форм социально-бытового причинения, подчиняющего себе все остальные (биологические, психологические и т. д.). Здесь имеет место то, что обычно называют реализмом проявлений, «симптомами» общих особенностей характеров, сформированных обстоятельствами общественной жизни[404].
Таким образом, отбор детерминант зависит от типа героя (жанрообразующее средство), хотя их жанровая типология хорошо ощущается в любом случае. Если в романах направленность детерминант может быть очень широкой (в «Войне и мире» Толстого сочетаются, например, детерминанты исторические, социально-псхологические, социальные, внутренне-психологические, биологические[405]), то в повестях со всей отчётливостью проявляются определенные причинно-следственные связи. Конфликт в повести во многом обусловлен тем, что одни герои ощущают влияние исторических детерминант, а другие – нет (Рязанов – Щетинин в «Трудном времени», Степан – Андрей в повести «Степан Рулёв», Бабурин и «хозяева жизни» в повести «Пунин и Бабурин», Костин – чиновники и помещики в повести «Две карьеры»), что влияние социальных отношений вступает в противоречие с «родовыми», «природными» детерминантами (Пашинцев, Поземцев в повестях Плещеева, герои повести Засодимского «Тёмные силы», главный герой рассказа-повести Салова «Николай Суетнов», Магдалина в одноименной повести Авдеева, Маша, Степан, Катерина Яковлевна в повести Фёдорова «Первый возраст в мещанстве», Софроний и Настя в «Записках причетника» М. Вовчок, Егорка в повести Н. Успенского «Егорка-пастух»). Степень зависимости от «микросреды», уровень развития самосознания героев являются конкретным выражением разных форм детерминации человека.
Автор классической повести, идущий «от частного к общему»[406], на основе анализа причинно-следственной связи, раскрывающейся «в отдельных проявлениях», освещает процесы «универсальные», закономерные. Это создаёт основу типизации в повести, обусловливает специфику обобщающх функций её жанра.
Жанровое «событие» имеет свои «рамки» в эстетическом познании закономерных причинно-следственных отношений, которые, в свою очередь, находятся в каузальной зависимости от двуаспектной ситуации («человек» – «микросреда»), определяющей основной конструктивный принцип произведений этого вида. Ближайшее окружение героя «аккумулирует» зависимости причинно-следственного характера, раскрываемые с «одной стороны». Когда писатели изображали жизнь в состоянии ломки, кардинальных перемен в поведении людей, в сфере морали, они неизбежно открывали и то новое в духовном облике человека, которое было «результатом», «следствием» изменений условий жизни, наблюдавшихся в ближайшем окружении героев и мирочувствии человека. Эти изменения отражались на процессах саморазвития, самодвижения характеров («Грачевский крокодил» Салова, «Очарованный странник» Лескова, «По-американски!..» Боборыкина, «Отчаянный» Тургенева, «Между людьми» Решетникова, «Два памятных дня» Хвощинской, «Благодеяние» Плещеева, «Три сестры» М. Вовчок, «Степан Огоньков» Засодимского). В тех же случаях, когда конфликты повестей возводились к метафизическим основам бытия, освещались с точки зрения «вечности», в свете общечеловеческих ценностей и всеобщих определений бытия («Первая любовь», «Довольно», «Клара Милич» Тургенева, «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Лескова, «Хаджи-Мурат» Толстого), то система детерминант охватывала и сферу «универсального», такого «всеобщего», с позиций которого возможно осмысление актуальных для любого времени, для любой эпохи нравственно-философских, историософских, онтологических проблем.
Но опять-таки эти закономерности, свойственные реализму вообще, в повести проявляются специфично: многообразные «причины», обнаруживающие себя во внешних и внутренних «условиях», относятся к разным жизненным сферам и ассоциативно сопоставляются как «порядковые» уровни системности.
Внешние закономерные причинно-следственные связи в этом жанре дифференцируются. «Исторические», «социально-исторические» детерминанты, например, порождают столкновения героев, противопоставленных «микросреде», со всем тем, что обусловлено «видовыми» (социально-бытовыми, сословными, классовыми и т. д.) факторами (Рязанов, Костин, Софи, Бабурин, Полтев, рассказчица в повести Боборыкина «По-американски!..», Пётр Кузьмин и мн. др.). Это вовсе не предполагает однозначности и нормативности в изображении действия разнообразных детерминант: они дифференцируются не только по соотношению внешних и внутренних причин, но и по направленности (обусловленность поступков, характеров, действий, желаний, идеалов, стремлений, целей и т. д.). Так возникает градация персонажей: есть такие, которые сформировались в рамках сложившихся социально-бытовых условий и ведут себя в соответствии с её нормами (то есть находятся в компетенции «микросреды»), изображаются и другие герои, те, кто вырывается из-под таких детерминирующих условий. Подобные персонажи являются предтечей нового, обусловливаются более широкими факторами, выходящими за пределы социально-бытовых обстоятельств.
Жанровая «норма» повести позволяла выводить детерминанты из источника, находящегося за пределами событийного хронотопа – из времени автора или универсального хронотопа. Этим также объясняется то, что в целостности жанра «примиряется» «абсолютное прошлое» художественного мира произведений с актуальностью их проблематики (конкретно-исторические/вечные проблемы), а характеры изображаются как широко типизированные жизненным процессом. По этой причине в философских и психологических повестях персонажи и ситуации детерминированы законами социума и метафизическими, субстанциональными началами бытия.
Образ действительности как некоего меняющегося единства, создаваемый литературой периода расцвета классического реализма, стал художественным модусом процессов жанровых взаимовлияний и художественных интеграций. В конечном итоге это вызвано усложнением проблематики повести: писатели всё чаще стали обращаться к эстетическому анализу значительных социально-исторических и даже бытийных процессов. Существует мнение, что, например, 1870-е годы «оказались малоблагоприятными» для развития «средних» эпических форм[407]. Но дело в том, что менялась сама повесть. Изучение внутреннего динамизма и эволюции жанра позволяет говорить не об утрате ею своего самостоятельного значения, а об изменениях в жанровой структуре повести, всё более приспосабливавшейся к раскрытию романного содержания (связи человека и мира, личности и общества). Повторялись только те писатели, которые не совершали эстетических открытий как в области выявления философского потенциала художественной «идеи человека», так и её эволюции (В.Г. Авсеенко, Н. Кохановская, С.В. Энгельгардт, А.Г. Бородина, Г.П. Данилевский, Новинская, П.В. Ковалевский, А.А. Брянчанинов, Л.Я. Черкасова, А. Луговой и др.).
Эволюция «идеи человека» является стимулирующим фактором формирования иного жанрового типа повести. Но уже в реалистической литературе последней трети XIX – начале XX в. обнаруживаются те особенности художественного мышления писателей, которые, с одной стороны, станут определяющими для культуры Серебряного века, а с другой – обусловят появление форм масштабного эпического повествования, позволявших наметить связи между отдельными сторонами жизненного процесса (как в «Хаджи-Мурате» Л.Н. Толстого).
В частности, выражением формирования иного типа художественного мышления является активизация роли мифопоэтических архетипов в художественной системе произведений писателей XIX в. Философско-эстетическая концепция европейского и русского модернизма может рассматриваться как вполне осознанная реакция (не только в лирической поэзии, но и в эпических жанрах, не только в творчестве писателей «первого ряда», но и представителей массовой беллетристики, например, В.Н. Каразина, А.В. Амфитеатрова, А.А. Соколова[408] и др.) на реалистическое изображение жизни, не охватывающее всей её многосложности и загадочности, а также на позитивистский подход к действительности, утверждавшийся в искусстве и науке с середины XIX в.
Характер восприятия «таинственных повестей» и «Стихотворений в прозе» Тургенева, например, раскрывает картину внутренней конфликтности процесса эстетической перестройки в рамках реалистической культуры. Поэтика данных произведений отражает предчувствие новых художественных систем – модернистской эстетики. Это подтверждается глубоким интересом писателя к философии Шопенгауэра[409], воспринимавшейся художниками нереалистических течений в её методологическом содержании. Система анализа мифопоэтики «таинственных повестей»[410], опирающаяся на идеи К. Юнга, Э. Кассирера и других философов, может быть нацелена на освещение принципов и форм художественной детерминации в произведениях писателя, отражающих процессы эволюции жанра.
Так, в «Кларе Милич» в фокусе изображения оказывается материализация душевных импульсов и ассоциативных переживаний Аратова, воспроизводится течение его внутренней жизни со всеми сложными, порой «нелогичными» проявлениями. В «таинственных повестях» уже проступают черты мифологизации повседневности, её несоответствия «здравому смыслу».
Мифологизм «Клары Милич» обнаруживается и в том, что здесь субстанцией, управляющей человеком, является созданная больным воображением и чувством героя любовь (почему и приобретает такая мифологизация трагически-обыденный характер), что повседневность – бытовая, житейская – воспринимается героем как проявление воли таинственных сил и «таинственной судьбы», перед которыми Аратов чувствует себя бессильным. «Созданная» подсознанием героя «любовь» является результатом его замкнутости, отъединённости от всех, «автономности» его сознания, и это сближает психологический анализ с «потоком сознания».
Показательно само изображение «материализации» образов подсознания Аратова, которым сон и бодрствование, реальное и ирреальное, жизнь и смерть воспринимаются как гомогенные сферы бытия, а также усиление символики (при отсутствии аллегоричности картин его видений). Здесь фиксируется то же самое единство значения и образа, о котором пишут исследователи мифа – от Шеллинга и Гегеля до А.Ф. Лосева. В соответствии с мифопоэтической традицией личность, «я» героя находят адекватные формы самовыявления в результате «перевернутой» взаимосвязи внешнего бытия и внутреннего мира Аратова, когда его сознание «творит мир», когда «сны», видения и реальность становятся амбивалентными. У Тургенева нет «двоемирия», методологической основы романтизма, но есть система бинарных оппозиций, которые восходят к поэтике мифа («любовь – смерть», «сон – явь» и др.). Вся система многообразных художественных положений композиционно организуется основными лейтмотивами (структурообразующий – бессилие героя перед властью и волей внеличных стихий). Мифопоэтические архетипы органичны для содержательной формы повести Тургенева, поскольку в ней индивидуальная психология героя становится выражением универсальных начал, «общечеловеческой» психологии, сферы «таинственного», того, что находится «внизу, под поверхностью… жизни»[411]. Это сближает Аратова с героем неомифологического романа (например, с героями Джойса, Пруста и др.). Мифопоэтизм характеризуется и укоренностью в универсально-гуманистических константах национальных художественно-философских концепций и мировой культуры. Показательно, что в произведениях позднего Тургенева, как и Достоевского, Лескова, Толстого, появилось изображение Христа или его воплощений[412]. В трактовке этого образа у Тургенева и Достоевского обнаруживаются преемственные связи с русской иконографией, которые охватывают область структурных архетипов и обусловлены глубоким воздействием на писателей её художественной философии.
Идеи «человечности», «гуманитаризма» (Н.А. Бердяев) были актуальными для эпохи «всеобщего переворота» (1860—1880-е годы). Непреодолимая антиномия духовно-нравственного идеала и складывавшихся во второй половине XIX в. социальных структур вызывала у художников стремление к поэтическому осознанию несостоятельности таких отношений, при которых человек рассматривался не как цель, а как средство, а также апелляция к общечеловеческим культурным и этическим ценностям.
Многие писатели-реалисты конца XIX в. уже стремились уйти от прямолинейности в трактовке идеи жизнедеятельности человека[413]. В повестях позднего Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Л.Н. Андреева, М. Горького обновляющаяся концепция человека и действительности проходит проверку внутренней целесообразностью художественного мира повести, и эта проверка является отражением тенденций к моделированию в рамках жанрового «события» повести многосложных процессов жизни.
4.2. Эволюция «идеи человека» («типа мироотношения») и жанрово-видовые взаимодействия
Структура повести предрасположена к изменчивости, подвижности, к взаимодействию с другими формами, к интеграции на родовом и жанровом уровнях. Ресурсы жанра раскрываются в процессе эстетического освоения нового жизненного материала. Потребностями в художественном осмыслении социальных закономерностей, сдвигов в общественном сознании той или иной изображаемой эпохи, а также логикой саморазвития, самодвижения жанра обусловливаются поиски новых форм и средств типизации, объясняется наполнение повести проблематикой других жанров, укрупнение её смыслового содержания, то есть процессы художественного синтеза и жанрово-видовые взаимодействия.
Эти тенденции в качестве характерных для литературы нового времени рассматривал ещё В.Г. Белинский, который явления художественного синтеза связывал с изменениями в «чувстве реальности», то есть с потребностями эстетического освоения «идей времени»[414]. Они не вступали в противоречие с закономерной дифференциацией жанров. Напротив, в единстве синтеза и обособления, сближения и разделения проявлялась диалектика жанров, история их развития и обновления.
Динамизм жанровой структуры обеспечивал активную роль повести в литературном процессе, её «жизнеспособность». Эта структура обладала типологическими свойствами, изоморфными эстетическими потребностями художественного познания на разных этапах литературного развития. Несмотря на все внутренние процессы жанровых интеграций, повесть оставалась в известной мере «стабильной», «устойчивой».
Родовые и жанровые взаимодействия относятся к компетенции жанрообразования и могут быть объяснены только с точки зрения эволюции «идеи человека». Они затрагивают сферу способов организации художественного целого каждой конкретной повести, но отражают общеметодологические изменения в понимании отношений между человеком и миром, а также формирование и освоение иного «типа мироотношения».
«Идея человека», будучи системообразующим фактором историко-литературной эпохи, с одной стороны, находится в корреляционных отношениях с философско-эстетической мыслью этой эпохи, а с другой – определяет воззренческие принципы основного, доминантного для данной художественной системы творческого метода. «Тип мироотношения» – величина переменная, историческая. Она в перспективе стадиального развития художественного сознания претерпевает существенные, а порой и кардинальные изменения. «Идея человека» эпохи классического реализма (как западноевропейского, так и отечественного) формировалась в контексте развития традиций философского материализма.
«Идея человека» эволюционирует в рамках художественно-познавательного цикла. В соответствии с такой эволюцией выделяются периоды (фрагменты) историко-культурной эпохи классического реализма: «синкретический» реализм 1820– 1830-х годов; реализм 1840-х годов (движение от механистического детерминизма к освоению противоречивой взаимосвязи человека и среды); переключение художественного внимания на внутренний мир героя в реализме 1850-х; расцвет метода в 1860—1870-е годы; кризис «позитивистского», ортдоксально-материалистического мировидения в реализме 1880—1890-х годов, предтечи, предчувствия и зарождение «идеи человека» модернизма. Всё это реальное выражение динамики философско-эстетической парадигмы «человек – мир» в классической литературе XIX в.
Если «идея человека» («тип мироотношения») – величина переменная, историческая, то жанровая «концепция человека/ личности», составляющая «ядро», «идею» того или иного литературного вида и определяющая его конструктивный принцип, – величина постоянная, устойчивая, типологическая. «Идея человека» выступает как фактор жанрообразования, а жанровая «концепция человека/личности» – как фактор жанрообусловливания, определяющий типологию жанроформирования.
Динамика конкретно-исторического понимания природы и сущности человека, его отношений к миру, фиксируемая на уровне смены культурно-исторических эпох (художественно-познавательных циклов), отражается на способах освоения жизни, проявляется в типологии стилевых тенденций и т. д. «Тип мироотношения» маркирует, таким образом, специфику философского и художественного познания и – одновременно – детерминирует способы, методы изображения, обеспечивая целесообразную взаимосвязь всех элементов художественной системности конкретной историко-литературной эпохи.
Эволюция «идеи человека» определяет диахронию жанровых систем. Рассматривая периоды развития художественного сознания в пределах историко-культурной эпохи, можно обнаружить не только господство одних жанров (по терминологии Ю.Н. Тынянова – «старших жанров») и периферийность других, но и появление новых жанрообразований, поскольку изменения в жанровых системах происходят постоянно (то же – и в жанровой системе писателя). Для каждого периода развития литературы характерно такое соотношение основных родов и видов, которым создаётся целостность, обладающая специфическими (фиксированными) свойствами. Имеется в виду соответствие потенциала жанров запросам и тенденциям художественного познания (обоснование закономерности востребованного временем, которое познаёт себя в формах определённой жанровой системности). Но существенна и «обратная связь»: «идеи времени» «проверяются» жанровыми «формами времени» (В.Г. Белинский), структурой литературных видов.
Динамикой системы жанров очерчиваются границы доминантной «идеи человека». Жанры непосредственно реагируют на изменение «идеи человека» (постижение деятельностной сущности личности, рассмотрение человека как субъекта продуктной деятельности, средоточия и результата действия разнонаправленных детерминант, метафизических начал и т. д.) в том смысле, что эта «идея» активизирует заложенные в них родовые и видовые потенциальные возможности. Так, роман на завершающем этапе эпохи русского классического реализма не способствовал процессам обновления художественной концепции человека/личности, а потому оказался менее других эпических форм приспособленным к эстетической «подготовке» новой «идеи человека», которая в дальнейшем определила тип культуры Серебряного века. А в лирических жанрах, в повести, в рассказе этого времени данные объективные процессы нашли соответствующие возможности для своего художественного выражения. Таким образом, изменения в философской «идее человека» (в общем понимании человека, в типе мироотношения) обусловливают оживление определённых родовых и видовых форм, а это, в свою очередь, вызывает потребность адекватного воплощения выдвинутой историко-литературной эпохой «идеи человека» в тех или иных жанрах.
Корреляции родовых и жанрово-видовых форм, отражающие логику историко-литературного процесса, имеют не эклектический, а целесообразный (системный) характер. Жанры на любом этапе развития художественного сознания дифференцируются, но при этом не ослабевают процессы родового и жанрово-видового синтеза: появляются жанровые приоритеты, новые жанрообразования (например, «студия», стихотворение в прозе, литературная антиутопия) или жанровые разновидности (например, лирическая повесть). Жанровые системы в аспекте эволюции «идеи человека» объективируются в диахронном (перегруппировка жанров, появление новых жанровых рядов, разновидностей, модификаций, не характерных для литературы предшествующих эпох, синтетические формы и т. д.), и синхронном (жанровые типы, жанровые группы как объекты исторической поэтики) аспектах, которые могут быть отрефлексированы только в их взаимосвязях. Подобная системность предстаёт не как совокупность функционально взаимодействующих жанров, а именно как исторически сложившаяся система отношений, создающих целостность, в которой опредмечиваются закономерности развития литературы относительно отграниченного художественно-познавательного цикла.
Жанровые системы таких периодов в национальной литературе (а тем более в разных национальных литературах) складываются, структурируются на разных началах в зависимости от воззренческих, философско-эстетических принципов, определяющих специфику «идеи человека», от того, потенциал каких жанров соответствует социально-эстетическим требованиям времени и т. д. По этой причине жанры на этапах развития национальных литератур востребованы не одинаково. Поскольку эстетика метода определяет принципы отбора, оценки материала, особенности художественного обобщения, то активизируются ресурсы родовой специфики, чем и обусловлено доминирование рода: эпоха классического реализма – время господства прозы и её активного влияния на лирику (Некрасов и его школа) и драму (Тургенев, Островский, Чехов).
Эволюция «идеи человека» (типа практически-деятельного мироотношения) в эпоху классического реализма и активизация эстетических исканий в области художественно-философской антропологии – взаимонаправленные процессы. Ими, в свою очередь, определялась интенсивность взаимонаправленных процессов дифференциации и взаимодействия жанров, открывалась перспектива совершенствования их способов и средств тематического и художественно-завершающего оформления действительности. По этой причине развитие ведущих, функционально значимых жанров классического реализма стало разворачиваться по типу системной жанровой парадигмы (роман, повесть, рассказ, драма и т. д. как «подсистемы» жанровых систем в литературном процессе XIX в.).
Известный схематизм отдельных историко-литературных концепций подобной динамики во многом объясняется тем, что процесс жанровых трансформаций рассматривается в аспекте «внешнего» (сюжетного, характерологического), а не внутреннего (философско-эстетического) развития. Конечно, жанр реагирует на конкретно-историческое понимание сущности человека и его отношений к миру, свойственное той или иной эпохе, но это отражается в большей мере на способах освоения жизни, проявляется в типологии стилевого развития. Вот почему, рассматривая связи «концепции человека» с методом и жанром, а динамику жанров в рамках целостного познавательного цикла, необходимо обращать внимание не только на видоизменения отношений между личностью и обществом, человеком и действительностью, но и на формирование новой «идеи человека».
Движение, развитие «идеи человека» («типа мироотношения») в литературе классического реализма можно представить следующим образом: в очерках и повестях «натуральной школы» в изображении человека явно доминировало «видовое» начало, и суть конфликтов раскрывалась в процессе противопоставления «человеческой сущности» героя воздействию социально-исторических детерминант. Одностороннее, механистическое изображение человека и среды приводило, особенно в «физиологиях», к разрушению основ художественного обобщения, когда «общечеловеческое» в герое утрачивало свою социально-историческую природу, становилось неким универсальным индетерминированным началом. В формах реалистического изображения литературы 1860—1880-х годов значительно усложнилась система художественного изображения корреляций общесоциального, конкретно-исторического и индивидуального в человеке, изменилось само представление о среде, критически переосмысливались положения о всеподчиняющей силе обстоятельств, выявлялись истоки активности человека, подчеркивалась его относительная самостоятельность. При этом свойственный реализму «тип мироотношения» оставался в принципе единым.
Итак, эволюция «идеи человека», изменения в художественно-философском сознании проявляются в родовой актуализации, в динамике жанров, в их дифференциации и интеграции, в появлении новых форм и внутрижанровых разновидностей, в раскрепощении внутренних ресурсов жанровой динамики. Это является предпосылкой и выражением закономерных процессов художественного синтеза.
Внутренний динамизм структуры повести проявляется вовсе не в «смешении» жанров: доминантная тенденция в «опредмечивании» смысла, выступая в жанроформирующей роли, создавала идейно-конструктивное целое в соответствии с законами тематического и художественно-завершающего оформления действительности, свойственными «средней эпической форме». Присущее повести внутреннее единство действия, определяющее специфику жанрового «события», выполняет в данном случае «контролирующую» функцию по отношению к «идеям» и «формам времени».
Необходимость создания эстетических форм для воплощения художественного видения и понимания истоков и сущности незнакомого до последних десятилетий XIX в. хаотического состояния общественного бытия причинно обусловливала дальнейшее развитие реализма как «большого стиля». Новаторство в сфере поэтики было связано с задачами художественного воплощения личностного становления «русского человека», стремящегося объяснить взаимопроницаемость естественного, привычного, традиционного в национальном менталитете и «фантастического», «перевернутого» в нормах «нового порядка». Эти искания были ориентированы на установление связей нравственного и исторического: писатели пытались показать, как веяния нового времени отражаются в духовной сфере человека, начинающего понимать, что «нельзя так жить»[415].
Исследовательский подход к изображаемому в творчестве не только писателей – «социологов», но и художников психологического течения трансформировал поэтику литературных жанров: обращение к факту, источнику, конкретным наблюдениям, статистическим данным и т. д. вызывало перестройку системы художественного обобщения, придавало «мысли», а не образным отношениям структурообразующее значение, активизировало жанрообразовательные процессы на уровне родовых и метажанровых взаимодействий. Необычайно возросшая во второй половине XIX в. роль публицистики, обновление традиционных и появление новых публицистических жанров и форм – всё это оказывает влияние на художественную литературу, прежде всего – на жанры эпической прозы.
Несмотря на изменения в способах и приёмах изображения человека и действительности, на родовые и видовые взаимодействия, распада повести не происходит: поиски новых, в том числе и структурных средств художественного обобщения направляются основными особенностями её жанрового «канона».
Повесть может быть средоточием пересечения разных взаимодействующих линий и тенденций.
«Трудное время» Слепцова – это драматизированная повесть, и в то же время для неё характерен синтез романных и собственных жанрово-структурных особенностей. «Две карьеры» Плещеева – образец взаимодействия разных форм пафоса, а также ассимиляции признаков повести, романа и очерка. Синтетизм связан с обогащением содержательности традиционной структуры повести, с увеличением обобщающей нагрузки на все компоненты жанра, а потому является формообразующим началом.
Синтез родовых форм обнаруживается прежде всего в драматизации повести и – как следствие – в новеллизации повествования. Драматизированная повесть имеет две типологические разновидности: в первой драматическое начало «подчиняет» повествование, и в форме эпической развивается драматическое действие («Трудное время», «Питомка» Слепцова, «Егорка-пастух» Н. Успенского), во второй эпическое повествование осложняется элементами драматизации («После потопа» Хвощинской, «Две карьеры» Плещеева, «Единственный случай» Нелидовой).
Драматизированные повести имеют типологические приметы. Отметим наиболее характерное: отражение в сюжетных коллизиях острых социально-нравственных противоречий (идейный конфликт в «Трудном времени», столкновение «отцов» и «детей» в повести «Две карьеры», «социального» и «человеческого» в повести «Егорка-пастух»); обусловленность композиции столкновением двух нравственных позиций («патриархальной» и «индивидуалистической» в «Велено приискивать» О. Забытого [Г.И. Недетовского], альтруизма и эгоизма в «Читальщице» Славутинского, самоотвержения и своекорыстия в «Странной истории» Тургенева); единство внешнего и напряжённого внутреннего (искания, размышления) действия, фиксирующего кульминационный момент в судьбе героя (поворотный этап в жизни Марьи Николаевны из «Трудного времени» Слепцова, предсмертный рассказ Любови Юрьевны в «Единственном случае» Нелидовой, гибель Николая в повести Хвощинской «После потопа»); доминирование одного конфликта, чёткая группировка образов, небольшое количество персонажей, быстротечность событий, «фрагментарность» повествования («сцены», «кадры», «эпизоды»), «неожиданность» происходящего, новеллизм повествования («Егорка-пастух», «Питомка», «Трудное время», «Читальщица»); поступки героев являются средством активизации действия («Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, «Читальщица» Славутинского, «Степной король Лир» Тургенева); единство свободного течения событий (цепь эпизодов), составляющих целое, но не вытекающих одно из другого во внешнесюжетном рисунке, поскольку в драматизированном сюжете действия и события обусловлены общими каузальными процессами («Путешествие во внутрь страны» М. Вовчок, «Смех и горе», «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, «Трудное время» Слепцова); особая взаимосвязь «авторской речи» и диалогов, доминирование диалогических форм, соединение жестов с интонированной речью («Егорка-пастух» Н. Успенского, «Трудное время», «Питомка» Слепцова); элементы «театральности» художественного пространства («Смех и горе» Лескова, «Путешествие во внутрь страны» М. Вовчок).
Поскольку драматическое действие развивается в системе повествования, то во многих произведениях драма не завершается катарсисом («Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, «Степной король Лир» Тургенева, «Единственный случай» Нелидовой).
В результате такого синтеза эпическое приобретает важное качество – широту типизации: оно становится выражением всеохватывающей силы социально-исторических коллизий, напряжённости протекающих процессов, драматичности судеб героев «кризисного», «переходного» времени. Лучшие из этих героев сознательно выбирают свой путь, отказываются от компромиссов, заранее предвидя трагический финал их столкновений с господствующим миропорядком (Софи в «Странной истории» Тургенева, Костин в «Двух карьерах» Плещеева, Николай и Всеволод в повести «После потопа» Хвощинской, Любовь Юрьевна в «Единственном случае» Нелидовой).
«Новеллизм» драматизированных повестей, когда «исключительность» и «заурядность» «вытекают из одного источника», когда автор находит формы «резкого, сжатого выражения… жизненных противоречий»[416], проявляется и в повестях, представляющих собой цикл новелл-очерков. Такая форма получила распространение в литературе XX в.[417] В прозе классического реализма подобные произведения встречаются нечасто и, как правило, характеризуются свойствами ярко выраженной художественности («Отчаянный» Тургенева, «Накануне Христова дня» Левитова, «Старые годы в селе Плодомасове» Лескова). Эта форма в рамках данного историко-литературного периода ещё не «стабилизировалась», поэтому в подобных произведениях многофигурность повествования может сочетаться («Накануне Христова дня») или нет («Старые годы в селе Плодомасове») с децентрализацией героя, циклическое построение повестей может как соответствовать истории развития характера («Старые годы в селе Плодомасове»), так и не иметь такого задания (в основу сюжета повести Левитова положена, например, история деградации рода Молошниковых, данная ещё более интенсивно, чем подобный процесс в «Деле Артамоновых» М. Горького). Сопряжению новелл-очерков в художественное целое способствует единство повествовательного тона (в них первичным субъектом речи является не рассказчик, а повествователь сказового типа). В дальнейшем повествователь станет персонифицированным[418].
Интеграция жанровых структур связана с тем, что повесть осваивала свойственные другим эпическим формам познавательные качества, типизируя усложнившиеся отношения между человеком и миром и не выходя при этом за пределы своего тематического завершения. Так, очерк со свойственными ему качествами (документализм, публицистичность, оперативность в отклике на актуальные проблемы времени, внимание к вопросам социально-нравственных отношений) «отдаёт» повести свои принципы изображения и формы художественного обобщения. Проявляется это прежде всего в типизации характеров и обстоятельств средствами нравоописательного сюжета («Сельское учение» А.И. Левитова, «Первый возраст в мещанстве» М.П. Фёдорова, «Яшенька» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Братья-разбойники», «Детство и юность» М.А. Воронова, «Ставленник» Ф.М. Решетникова, «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» С.Т. Славутинского). Черты поэтики очерка «ассимилируются» повестью, что проявляется прежде всего в сближении художественного и документального («Записки причетника» М. Вовчок, «Бабушкины россказни», «Старые годы» П.И. Мельникова-Печерского, «Разоренье» Г.И. Успенского).
Повесть на очерковой основе возникла в результате эстетической обработки «факта» как основы «уравнивания» сюжета и действительности, документального и вымышленного («Между людьми» Ф.М. Решетникова, «Дневник семинариста» И.С. Никитина, «Детство и юность» М.А. Воронова, «В степи» Я.В. Абрамова). Такая повесть нередко представляет собой цикл «очерков», в том числе «новеллистического» типа («Старые годы», «Бабушкины россказни» Мельникова-Печерского, «Пашинцев» Плещеева, «Накануне Христова дня» Левитова, «В степи» Абрамова), то есть не документальных, а художественных. Потребностями в анализе меняющейся действительности была вызвана необходимость обогащения форм и средств типизаций за счет «очеркового» материала.
Возьмём для примера произведения самобытного писателя, «опального мыслителя», выдающегося общественно-литературного деятеля 1880-х – начала 1900-х годов. Я.В. Абрамова. Циклизация очерков, направленная на формирование единого текста по художественным законам повести, способствует освоению нового жизненного материала за счёт интеграции жанровой проблематики и особенностей поэтики в таком, например, его произведении, как повесть «В степи». Используя традиции физиологических очерков «натуральной школы», он создает синтетические формы, в которых эстетически активными являются следующие жанрообразующие средства: публицистичность, документализм («правда жизни»), деталировка, статистические данные, наличие подробностей, некоторые доминантные формы художественного изображения (портрет, «биография», субъектная сфера автора-повествователя, персональная повествовательная ситуация). В творчестве писателей последних десятилетий XIX в., в том числе и Я.В. Абрамова, нашли отражение существенные закономерности литературного процесса, характеризующиеся вытеснением романа (и вообще крупных эпических форм) рассказом и очерком. Ведущими в это время становятся жанры «малой прозы» и повесть. А.П. Чехова с этой точки зрения можно рассматривать как знаковую фигуру в литературном процессе 1880—1890-х гг. С «эпосом частной жизни», как выше отмечалось, не были связаны открытия в постижении общественных коллизий эпохи, в обновлении художественной концепции личности и принципов раскрытия «практически-деятельного мироотношения». «Идеи времени» (кризис «старого строя жизни», основанного на моральных догматах «по-божески», «по совести» и «по равнению»[419], «подъём чувства личности», обусловленный этим кризисом) находили воплощение в «формах времени»: в художественных жанрах, востребованных в этот период, наблюдается усиление диалогизма, трансформации «монологического повествования», при которых сознание автора и «авторитетное сознание героя» (М.М. Бахтин) становятся равноценными, с одинаковой силой противостоящими «авторитарности» прежней «общности взглядов».
Очерковость – это важнейшее свойство стиля Абрамова-художника. Его художественно-публицистическая манера сформировалась в результате поисков свободы в эстетическом анализе действительности, в оперировании материалом собственных наблюдений над жизнью «не «книжного» (как у народников. – В.Г.), а «действительного народа»[420].
Структура очерковых блоков повести Я.В. Абрамова «В степи» обусловлена задачами обрисовки социальных типов. Это всякий раз подчеркивается автором: «…Родственник мой принадлежал к хорошо всем знакомому типу деревенского кулака»; «Чабан – это крайне своеобразный мужицкий тип…»; «…те жесамые деревенские «непорядки»… создают и другой тип, прямо противоположный кулаку»[421].
Функциональность очерковой традиции структурно подчеркивается Я.В. Абрамовым: повесть «В степи» построена как цепь очерков, создаваемая портретами собирательных социальных типов – сельских «мироедов» («I. Господа коммерсанты»), сезонных рабочих-чабанов («II. Овечья часть»), очерком капитализации деревни («III. Деревня»), «физиологическими очерками» новых типов – правдоискателя, превращающегося в типичного «кулака-мироеда» («IV. Спиридон Семёныч») и правдоискателя, «народного заступника» («V. Иван Отченаш»).
Поэтика «очерков», составляющих повесть «В степи», восходит к структуре «физиологий», традиции которых сохранили свою значимость в литературе «социального реализма» 1860—1880-х годов («Первый возраст в мещанстве» М.П. Федорова, «Ставленник» Ф.М. Решетникова, «Два раза замужем» Ф.С. Стулли, «Деревенские мироеды» А.А. Потехина и др.). Локализация изображения синтезировала «территориальный», «сословный», «профессиональный» и т. д. принципы «физиологий»[422]. В первой части «Господа коммерсанты» целевая установка автора и способ локализации определяются с самого начала: предмет его художественного анализа – «тип деревенского кулака», причём кулака не «средней или северной полосы России», а именно «крайнего юга России». Затем автор «ведёт читателя» в «жилище коммерсанта», средствами внешних описаний создает портрет типичного современного «грабителя», а в формах авторских характеристик раскрывает его характер, его «мысли», «убеждения». Описание свойств характера подчинено опять-таки воссозданию «единичного» как персонификации «всеобщего»: в основе такого изображения – резкий контраст между самопозиционированием «коммерсанта» и истинным его обликом. При этом все индивидуальные проявления характера показаны как социально определённые. «Коммерсант» демонстрирует свой «либерализм» и даже «свободомыслие» по поводу, например, «известий о голоде во многих местах России». При этом, продавая хлеб «по тройной цене», довёл людей до того, что они «под боком» у него «стали пухнуть и умирать с голоду». Такое же «либеральное свободомыслие» коммерсант «обнаруживает и по отношению к религии… мужикам». Фрагментарность (отсутствие сквозного сюжетного действия) подчеркивается автором: «Чтобы покончить с этой стороною характера коммерсанта… нужно ещё сказать, что коммерсант… с удовольствием вспоминает старые патриархальные времена». Приметы социального типа, свойства характера освещаются в процессе воссоздания устойчивого образа жизни деревенского буржуа. Описывая обычный день «коммерсанта», автор вновь «ведёт читателя» по «объектам» его хозяйства, рисует «сцены» выделения «мужикам» под залог будущего урожая орудий труда и пр., то есть воссоздаёт повседневный контекст «ростовщической и торговой эксплуатации» крестьян кулаком, «свидетелем которой может быть всякий, попавший к коммерсанту».
По такому же типу строится и очерк «Овечья часть», где содержатся разряды «специалистов чабанов» и социальные характеристики «своеобразного мужицкого типа»[423]. «Физиологизм» подобных «очерков» – это реализация эстетической установки автора повести на достоверность, документальность (как и у писателей «натуральной школы»). Однако такие формы – вовсе не рецедивы тех типологических качеств прозы 1840-х годов, которые неоднократно описывались в научной литературе. Это художественные формы нового времени – эпохи распада патриархальных отношений, и освещаются они в иной (по сравнению с «физиологистами» прошлых десятилетий) смысловой парадигме. Указанное относится и к системе повествования, в которой роль факта эстетически повышена, что является типологической характеристикой реалистического стиля писателя социологического течения. В очерках-портретах «Спиридон Семёныч», «Иван Отченаш» (повесть «В степи») Я. В. Абрамовостается верен художественному требованию, сформулированному одним из писателей этого течения – Н.Г. Помяловским: «Автор обязан представить факты»[424]. Эти очерки-портреты фактологичны, в них художественный материал подчинен характеристике социальных типов, порождённых «новым порядком». Очерк-портрет создаётся на основе того же структурного принципа: писатель «дробит» действительность, показывая «часть» её, укрупняя в масштабе изображение конкретной личности, подчёркивая, что эта «часть» соприродна «целому», и то, что детерминирует конфликты героев с «коммерсантами», характерно для русской деревни в целом. «Видовая» жизнь типа собирается в единую картину из разных «страничек деревенской жизни», из фактов противостояния носителей «критической мысли» «неправде» «нового порядка»[425].
Говоря об актуализации Я.В. Абрамовым традиций поэтики «физиологического очерка», «очерка-портрета», об ориентации на опыт писателей «натуральной школы» и беллетристов-демократов 1860—1870-х годов, следует подчеркнуть, что в его повестях и очерках-рассказах «локализация», как и эстетическая нагруженность образа обстоятельств, связаны с решением иных по сравнению с «натуральной школой» и демократической беллетристикой шестидесятников художественных задач: речь идет о принципиально иной природе пафоса произведений Абрамова и его предшественников. Если для авторов «физиологий» приоритетной была идея детерминизма, утверждение власти «среды» над человеком (по этой причине герои писателей-очеркистов «натуральной школы» были «духовными отпечатками среды»), а для писателей-демократов (Решетников, Слепцов, Левитов, Н. Успенский и др.) – мысль о классовой дифференциации пореформенного общества, то для Я.В. Абрамова и писателей его времени весь смысл изображения человека в его функциональных связях со средой был сосредоточен на объяснении причин, которые обусловили «новый порядок», процессы разложения прежних устоев, на исследовании социальных законов, трансформирующих общественные и моральные нормы, санкционирующие обнищание и закабаление народа, а также факторов, вызывающих появление новых типов, характеров, отражающих «подъём чувства личности». Материал «очерков» переплавлялся в сюжетной парадигме повести. Энергия событийной последовательности в произведениях такого типа заключена не в интриге, не в коллизии, а в исследовательской стратегии автора, реализуемой в системе взаимодействий жанровой «архаики» «малой и «средней» прозы, являющейся основой художественного синтеза. Повесть «В степи» – классический образец обновления жанра: «очерки» создают ряд однонаправленных, но разнокачественных художественных ситуаций, усиливая возможности аналитизма реалистической повести за счёт трансформации жанровой типологии сюжетно-композиционных структур. В результате структурообразующую функцию выполняет авторская исследовательская «мысль», постигающая закономерности общественного развития, а «новый порядок» изображается «с одной стороны», но «в целом»[426].
Пафос расчленяющего анализа, художественное познание, синтезирующее возможности образного мышления и научного исследования социологического, экономического, антропологического и философского характера, находили свое выражение в принципиально обновлённых эстетических формах. Творчество Я.В. Абрамова – это культурное пространство, организуемое интеграцией и взаимодействием разных жанрово-видовых и жанрово-родовых традиций. Природа метатекста писателя обусловлена синтезом на уровне жанрового формосодержания. «Очерки», составляющие текст повести «В степи», приводятся к единству на основе не суммарного, а дискретного принципа: относительно самостоятельные, они создают сюжет как концепцию жизни, интегрирующий экстенсивный и интенсивный типы композиционной организации художественного материала. Интенсивное в сюжетной парадигме обусловлено ведущей ролью авторской «мысли»,
анализирующей, аргументирующей и обобщающей изображаемое, а экстенсивное – реализацией установки на широкий охват жизненных явлений за счёт количественного их увеличения. Корреляция интенсивного и экстенсивного становится основой того синтеза, на котором создается повесть, имеющая очерковую природу. Сами по себе такие качества, как документальность, достоверность, определяющими дефинициями жанровой поэтики очерка не являются, это жанрообразующие средства, воплощающие тип проблематики и конструктивный принцип жанра (он определён спецификой сюжетно-композиционной организации, концептуальным хронотопом и типом повествования). Но они являются производными от установки на «правду факта», в результате которой в очерке «конкретное» и возводится в ранг «всеобщего», подчиняется законам типизации этого жанра «малой прозы».
Повесть «В степи» как цикл «очерков», возникающий в результате обработки «факта» и «уравнивания» сюжета и действительности, документального и вымышленного, сохраняет, несмотря на «фрагментарность» (что, как мы выяснили, является эстетической задачей автора), характерные черты жанра: в ней есть сквозная коллизия, предстающая в редуцированном виде, так как связана не с событийностью, не с последовательностью «кадров», а с логикой авторской «мысли». Автор типизирует не сиеминутное, а закономерное (например, рост власти денег, нравственное вырождение «хозяев жизни», усиление эксплуатации крестьянского труда, разложение общины, рост чувства личности и т. д.).
При всей «фрагментарности» подобных произведений в них сохраняется характерная для повести сквозная коллизия, типизирующая не только «сиеминутное», но и «закономерное» (например, нравственное и физическое вырождение хищников и стяжателей Молошниковых в «Накануне Христова дня» Левитова, титулованной знати в «Старых годах» Мельникова-Печерского). Многогеройность таких повестей усиливала композиционную роль первичных носителей речи (рассказчиков, повествователей сказового типа), а повествование обогащалось чертами фольклорной поэтики («Старые годы в селе Плодомасове», «Накануне Христова дня»), публицистичности стиля («В степи» Я.В. Абрамова).
Единство повествовательного тона скрепляет «свободно» компонуемый материал. В подобных повестях, как правило, наблюдается отсутствие одного, центрального сюжетного узла. Сквозная коллизия создаётся здесь не за счёт единого действия, а складывается из разных ситуаций («Золотые сердца», «Крестьяне-присяжные» Златовратского, «Три дороги» Засодимского, «Пашинцев» Плещеева). Главный герой (если есть таковой) раскрывается в них постепенно, в усложняющихся ситуациях, благодаря чему «очерки» наполняются художественно-философским, психологическим содержанием, обеспечивая глубину и широту типизации («Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» Славутинского, «Между людьми» Решетникова, «Старые годы в селе Плодомасове» Лескова). В повестях, создаваемых циклом очерков, «конкретное» включается в причинно-следственные связи, становится «звеном» закономерного, благодаря чему «единичное возводится в ранг всеобщего»[427].
В особых разновидностях повести на очерковой основе главным «героем» может стать народная среда («В степи» Я.В. Абрамова, «Крестьяне-присяжные» Н.Н. Златовратского). В этом случае очерковая тенденция отражает содержательную «память» жанра (например, первооткрывательство в новом понимании человека из демократических «низов», наблюдаемое в некоторых реалистических повестях 1860—1870-х годов, или изображение роста народного самосознания в «Подлиповцах» Решетникова, «Мирской беде» Славутинского, «Разоренье» Г. Успенского, «Молодых побегах» Потехина).
Некоторые из повестей на очерковой основе синтезировали одновременно черты построений романного типа («Пашинцев» Плещеева, «Золотые сердца» Златовратского).
Изображение самодвижения жизни по законам «среднего» повествовательного жанра под пером талантливых писателейоберегало повесть от бытописательства, от распадения на «очерки». В процессе освоения новых средств жанрообразования они вступали в своеобразную «полемику» с очерковым жанром, используя одновременно его же традиции.
4.3. Романизация повести как выражение процессов жанрового динамизма
Романизация повести является наиболее значительным открытием на путях художественного синтеза. Подобные повести появлялись как в результате преобразования, обогащения её «традиционной» структуры, так и романизации «малой прозы». В последнем случае, когда «соединяются» две структуры, получается «новое третье», обладающее качествами «среднего» повествовательного жанра. Романизация повести – характерное явление реалистического стиля.
Это является закономерным следствием того, что человек стал рассматриваться как средоточие общественных противоречий, социальной динамики или воздействия внеличных стихий: «частная жизнь», личная судьба и психология постепенно выдвигаются в эпицентр художественного освещения процессов большого исторического времени, судеб и психологии социальных групп, классов, слоёв, а нередко и метафизических начал бытия.
Тяготение к широким обобщениям в сфере изображения связей между свободной самореализацией личности и закономерностями социального и бытийного характера, к «синтетическому» раскрытию жизненных процессов (но в соответствии с конструктивными принципами повести) приводило к созданию произведений, восходящих к построениям романного типа. Что характерно для них? Прежде всего – тенденция к дифференциации «микросреды», установление «зоны контакта» с «неготовой современностью», повышение функциональной роли взаимодействий персонажей, сообщающих энергию действию, совмещающихся с проявлением сил, идущих извне, неадекватность героя своей судьбе[428].
Освоение ресурсов жанра имело объективные пределы: его «консервативная» «архаика» выступала как «сдерживающий» фактор. Не будь этого, произошел бы кризис жанра, и структура произведений выстраивалась по другим жанровым законам. Художественное исследование путей формирования личности с точки зрения аксиологических критериев реалистического искусства осуществлялось в повести на уровне синтеза жанрообразующих принципов.
Так, в повестях Плещеева «Пашинцев», «Две карьеры», «Призвание» способы типизации героев близки романной характерологии, поэтому их сюжетно-композиционная система заметно отличается от «традиционной» («Житейские сцены. Отец и дочь» того же писателя). В этих повестях внимание автора сосредоточено на судьбе отдельной личности, находящейся в драматических отношениях со средой, выявленных с разной степенью их осознания самими героями, в связи с чем по своему содержанию и по форме они напоминают «эпос частной жизни».
Романический характер раскрывается здесь с учётом эстетических возможностей повести, поэтому в них не может быть романной кульминации (приобщение героя к народным, национальным, социальным и духовным идеалам в их общезначимом выражении). Даже в повести «Две карьеры» связь нравственных исканий героя с раздумьями о народе проявляется не в конкретных обоснованиях «дела», а в «отзывчивости на всё хорошее»[429]. Важное качество, присущее герою романа, свойственно Костину, Пашинцеву, Поземцеву: это «несовпадение человека с самим собою»[430] (прямо противоположное наблюдается в традиционной повести «Житейские сцены. Отец и дочь»). Костин с его высокими нравственными идеалами «больше своей судьбы», посколькувыходит за рамки уготованного ему социального существования, а Пашинцев и Поземцев «меньше своей человечности», так как не смогли развить данные им от природы задатки.
Романический характер раскрывается в нетрадиционной для повести сюжетной парадигме: в повестях Плещеева усложняется функция структурной роли конфликта героя с окружающей средой. Разрешается он по-разному: в одном случае автор признает невозможность преодоления персонажем «нечистоты и грязи» жизни[431], в другом – показывает его нравственную деградацию («Пашинцев», «Призвание»). Это типично романные формы завершения, присущие не только русскому, но и европейскому роману XIX в. (Бальзак, Флобер, Диккенс и др.). Синтетическая природа повестей Плещеева на жанровом уровне художественного обобщения проявляется в изображении таких типов, которые воплощают в себе существенные социально-исторические тенденции: утрату дворянской интеллигенцией положительного общественного потенциала и выход на арену политической жизни поколения разночинцев.
Художественный анализ взаимосвязи исторического и нравственного, широкое изображение быта, среды и человека (в аспекте его социальных качеств) обусловили в произведениях Плещеева трансформацию обобщающих возможностей «средней» эпической формы. При этом специфика жанрового «события» оставалась в них традиционной для этого жанра.
В социально-бытовых повестях Плещеева, с одной стороны, хорошо просматриваются черты поэтики «средней» повествовательной формы: нравственно-психологическая доминанта является основой художественного изображения, причём изображения «эскизного»; духовная эволюция героя освещается на фоне «микросреды»; ориентация на «достоверность» и «очерковая» основа повествования; специфический характер изображения человека и «ближайшего окружения» (одна «целевая плоскость»); жанровая концепция художественного времени (прошлое) и локализация пространства; сюжетно-композиционная структура, обусловленная отсутствием концентрирующего сюжетного узла; единство повествовательного тона и преобладание описаний (но не «рассуждений») над изображением действий и поступков героев; взаимосвязь «локальных» сюжетов и очерков-портретов в пределах отдельных структурных компонентов и целого произведения; эффект «самодвижения» жизни и доминирование одной коллизии – столкновения героя с косной средой; характер жанрового (тематического) завершения; однонаправленный ряд неоднородных художественных ситуаций; тип повествования (примыкание, присоединение событий), совпадение сюжета и фабулы; сюжетное воплощение «борьбы в человеке двух начал» (Н.А. Добролюбов); эстетически повышенная роль реальных и литературных источников[432]; «авторский» голос в системе многосубъектного повествования.
С другой стороны, в поэтике этих повестей обнаруживаются признаки «романизированного» жанра: в них очерчена «зона контакта» с «неготовой современностью»; изображается человек, у которого формируется своя социально-нравственная «правда» (Костин, Заворский, Глыбина, Борисов, Щебенев, Мекешин, Городков и др.); «герой времени» показан в социальном окружении, раскрывается конфликт мыслящего человека со средой; имеется тенденция к дифференциации «микросреды»; достаточно разветвлён сюжет, в котором выделяется несколько относительно самостоятельных сюжетных линий; композиция сюжета характеризуется совмещением экстенсивного и интенсивного принципов организации материала; источником сюжетной динамики становится действие, идущее извне, но усиливаемое отношениями между персонажами как разных, так и близких по типу сознания; доминантной является история судьбы отдельной личности; показывается неадекватность героя его судьбе, а у положительного героя – поиски «дела»; эпилог может выполнять романную идейно-художественную функцию[433].
В результате взаимодействия и взаимопроникновения таких структурных компонентов рождается «форма содержания», которая позволяет автору типизировать характеры закономерностями и тенденциями социальной жизни. Но поскольку доминантным в повестях остается обобщение того, что в максимальной степени проявило себя, то даже такие герои, как Костин («Две карьеры»), не могли «довоплотить» в себе черты «нового человека».
«Переходный» характер раскрывался в синтетических жанровых формах: если бы «неготовое настоящее» стало основным предметом изображения, произведение Плещеева могло бы изначально формироваться по типу романной структуры. Синтетизм проявляется даже в рассказе Плещеева «Благодеяние», в результате чего он тяготеет к повести. Попытки писателя типизировать не только устоявшееся, но и развивающееся, ещё не в полной мере соответствуют той тенденции, которая станет характерной для повести конца 1860—1870-х годов: только на следующих стадиях жанрового развития были открыты формы изображения меняющегося мира и психологической неустойчивости человека[434].
В повести И. А. Салова «Грачевский крокодил» показываются глубокие изменения в общественном бытии народа и самосознании интеллигенции. Здесь углубляется (по сравнению с традиционными образцами жанра) художественно-социологическое и художественно-психологическое осмысление путей развития крестьянской России, чем и объясняются открыто выраженные диалогические отношения разных точек зрения на перспективы и методы социального обновления. В результате повесть на очерковой основе романизируется, расширяются рамки типизации жизненных явлений в системе эпического воплощения актуальных проблем времени, имеющих отношение не только к «настоящему», но и к будущему. Здесь наблюдаются тенденции к преодолению изображения героев в одной пространственно-временной плоскости и к усилению дифференциации «микросреды».
В повестях «Перед зарёй» П. Фелонова, «Молодые побеги» А.А. Потехина, «Учительница» Н.Д. Хвощинской энергия действия определяется в большей мере взаимоотношениями между героями, вырабатывающими новое самосознание: это типичные романизированные формы повести.
Типизирующие функции жанрообразующих средств в романических повестях всегда остаются в компетенции типологических особенностей жанра: эти средства и способы «реагируют» на его основной конструктивный принцип и нравственно-психологическую доминанту характера. Так, новая постановка проблемы положительного героя в прозе 1860-х – 1880-х годов была связана с эстетическим познанием процессов раскрепощения личности, что актуализировало искания писателей в жанровой области. Они откликались на потребности в аналитико-психологическом раскрытии характеров в связи с изображением «текучести» сознания и отражением изменчивости жизни после 1861 г. в целом.
В романической повести В.А. Слепцова «Трудное время» взаимозависимость характера и жанра обнаруживается в принципах и средствах художественного обобщения при изображении «новых людей». Несмотря на то что художественный мир произведения выходит на грань контакта с современностью, он не сопряжён с продолжающейся жизнью, характеры в принципе исчерпаны сюжетом, хотя и не равны ему, герои в идейном развитии достигли своего «максимума». Тип тематического завершения романным здесь не является: один «срез» действительности; образ обстоятельств (быт пореформенной деревни) – это, скорее, фон, на котором раскрывается эволюция Марьи Николаевны, а не типичная «макросреда» романа. Изображение наиболее значительных событий в жизни персонажей при художественном исследовании противоречий эпохи обусловило не сопоставление, а противопоставление героев активно-самоотверженного и эгоистического склада. Но «дело» главных персонажей остаётся «за кадром»: у Рязанова оно подразумевается, у Марьи Николаевны только появляется осознание его необходимости. Начальному этапу нравственной эволюции героини, первой стадии развития потребностей эквивалентно латентно-линеарное пространство. То, что Марья Николаевна показана в драматических обстоятельствах, в момент нравственного выбора, когда в её внутреннем мире происходят существенные перемены, обращает художника социологического течения к психологическому раскрытию характера (один из доминантных принципов поэтики повести Слепцова). В этом случае автор неизбежно идёт вглубь, обнажая противоречия действительности, скрытые от внешнего взгляда и отражающиеся во внутреннем мире персонажей.
Жанровая специфика изображения духовно-нравственной эволюции героини повести «Трудное время» проявляется в характере взаимодействия психологизма и сюжетно-композиционной организации. Любовно-психологическая коллизия здесь не обладает статусом структурообразующего фактора. Хотя герои и дифференцируются по типу сознания, романной микросреды в произведении не создаётся (то есть ситуация, формирующая жанровую структуру, остается двуаспектной). Поэтому ряд художественных ситуаций, присущий повести, связан с реализацией одной целевой установки – с раскрытием мотивированности постепенной психологической перестройки во внутреннем мире Марьи Николаевны основными тенденциями исторической эпохи. Формы и средства психопоэтики (портрет, диалог, детали, переживание времени, расшифровка состояний и т. д.) подчиняются задаче выявления нравственно-психологической доминанты героев (верность гражданским идеалам Рязанова, лицемерное человеколюбие Щетинина, способность к развитию Марьи Николаевны). Усложнение мотивированности изменений во внутреннем самоощущении героев по мере углубления социального конфликта отражается на расширении арсенала средств психологической характеристики (пейзаж, элементы психологического анализа, автокомментарии героев, трансформация реакций, подтекст и др.). Автор, приближая героиню к жизненному процессу, всё более усиливает социальный анализ за счёт ресурсов изображения внутренней жизни[435].
Показывая персонажей с присущей им нравственно-психологической доминантой, писатель, несмотря на хорошо проработанную коллизию, концентрацию действия вокруг одного конфликта, однолинейность композиции, отсутствие «выходов» за пределы «микросреды», соотнесением психологизма с другими компонентами повести добивается такой широты типизации, когда во всей полноте предстает процесс формирования нового нравственного сознания человека «трудного времени».
Область формирования интегративных жанровых разновидностей повести охватывает и процессы романизации «малой прозы». Такие синтетические жанрообразования приобретают новые свойства, приближаясь по типу построения «целого» к «средним» эпическим формам.
Синтетической является структура рассказов «Николай Суетнов» И.А. Салова или «Ищущий правды» Я.В. Абрамова, которые приближаются к повести: их разветвлённые сюжеты нацелены на социально-историческую типизацию характеров и обстоятельств. Не случайно рассказ Салова имеет жанровый подзаголовок «История одного крестьянина», подчеркивающий нетрадиционность сюжета и указывающий на синтетическую природу произведения («история» не может опредмечиваться в структуре, характеризующейся таким качеством, как одно-ситуативность). «Ищущий правды» Я.В. Абрамова – это романоподобный рассказ новеллистического типа, в котором жизнь героя, не выдержавшего натиск распадающегося крестьянского «мира» и «деревенской неправды», рассматривается, казалось бы, под одним углом зрения – в свете причин, вызвавших «тоску» Афанасия Лопухина по «благочестию», «благодати», которые «ещё не перевелись на земле», но показана именно как история «поисков правды», того, во что можно «верить»[436]. Если воспользоваться формулой Шеллинга, в своих лекциях по эстетике 1802–1803 гг. впервые освещавшего проблемы жанрового синтеза, то можно сказать, что жанровая целостность рассказа Я.В. Абрамова «Ищущий правды» создается «соединением свойств» рассказа-очерка, из которого «берётся случай», и новеллы, из которой «берётся судьба»[437]. Идея личности как романный обусловливающий фактор приводит к единству жанровую поэтику этого произведения.
«Новые порядки» принесли в деревню, как и во все сферы жизни России, даже в «святые места», «несправедливость, неправду, обман», «разбой», «культ золотому тельцу». «Святой град», например, где Афанасий Лопухин пытался найти «праведность», «давно сделался коммерческим городом, а его знаменитый монастырь очень походил на торжище». Герой совершает нравственный выбор в пользу «самоотвержения», «самопожертвования», «положения души за други своя» во имя «жизни в любви, в дружбе и согласии», реализуя свои устремления к «правде» в формах религиозно-сектантского фанатизма. Изображение пробуждения самосознания личности принципиально меняет систему «способов видения и понимания действительности» (М.М. Бахтин) традиционного рассказа: в «Ищущем правды» отчётливо выражена тенденция к дифференциации «микросреды», поскольку вводятся в сюжетное действие персонажи разного типа сознания (Афанасий Лопухин именно по этому принципу противопоставляется «общинникам», другим странникам, идущим в «святой город»); намечена «зона контакта» с незавершённой, находящейся в процессе становления, «неготовой современностью», маркируемой концептом «новый порядок»; представлен характер главного героя как незавершённый, а сам герой как неадекватный своей судьбе (реализация идеала самопожертвования Афанасия Лопухина в формах фанатичного исполнения догматов секты «скопцов» не соответствует его возможностям служения «правде»). Этими особенностями произведения, сюжет которого имеет очерковую основу, объясняется и новеллистический принцип повествования, обеспечивающий сжатость, концентрированность всего художественного материала: он подчинен задаче выявления сущности типа «правдоискателя». Острота в сюжете достигается за счёт уплотнения повествования: панорамное изображение пореформенной действительности сочетается с конкретностью «фактов» индивидуального бытия героя, странствующего по Руси, а внешняя обыденность существования – с «исключительностью» внутренней жизни Афанасия Лопухина, освобождающегося от иллюзорных представлений об общине как «мире справедливости и равенства», от наивной веры в возможность найти «людей, которые жили бы по правде, по совести, по-божески».
«Очерки-кадры» нравоописательного типа создают канву новеллистических (событийных) «неожиданностей»: совершенно непредсказуемым с точки зрения этических норм «прежнего порядка» было решение «мира» о наказании «Антошки» и самого Афанасия Лопухина, протестовавшего против «грабежа» «мироеда» Хопра и обличавшего продажность «мира»; неожиданно герой «пропадает без вести», бежит из своей деревни и оказывается «вдруг» среди богомольцев-странников; кража «опчих» денег «атаманом» группы богомольцев перевернула представление героя о «благочестии» и т. д., и т. д.; типично новеллистическим рспгЛе завершается рассказ: Афанасий Лопухин, «добродушный русский мужичок с кротким выражением лица и печатью глубокой думы», оказался тем самым «мрачным фанатиком скопчества», который изуродовал судьбы восьмидесяти человек. Принципы компоновки материала также восходят к традициям произведений новеллистического жанра. События в романическом рассказе упрощены, сокращены, сжаты: любой из сюжетных эпизодов (странствия героя; пребывание в «святом городе», в больнице; вступление в секту) мог стать предметом специального изображения. Это содержательный композиционный принцип. Дело в том, что, несмотря на «романический» конфликт (столкновение человека, в котором пробуждается личностное самосознание, с общественным миропорядком), разветвлённость сюжета и наличие нескольких коллизий, объединяемых образом главного героя, автор во всех событиях и ситуациях подчеркивает константную особенность его характера – «тоску», непримиримость с «общей неправдой» – и выявляет одну и ту же сущность социальной жизни («утерю старых патриархальных порядков и замену их чем-то безобразным»). «Культ денег» разрушает «благочестие» даже в святых местах. Возникает эффект количественного накопления и суммирования положений, так как в каждом очерковом кадре обнаруживается «повторяемость» – не в событийности, а в сущностных проявлениях «нового порядка». Усиление власти кулаков, разложение мира (часть I «Нелюдимец»), факты «господства неправды в жизни вообще», нравственная деградация («люди хуже волков»), проявляющаяся в общественной и частной жизни людей всех сословий, даже в среде богомольцев (часть II «Странник», «главы-кадры» I–III), «явления неправды» в «святом городе», показывающие, что у всех сословий «Бог заместо покрышки» (главы IV–V), уродливые, бесчеловечные формы воплощения идеала самопожертвования у нравственно отзывчивых, но сбитых с жизненного пути людей – всё это характерные приметы времени «переворота», капитализации города и деревни, девальвации нравственных, общечеловеческих понятий и ценностей. Как видим, следующие события лишь «подтверждают» предыдущие, лишь дополняют общую картину общественно-нравственного неблагополучия.
Но все сюжетные «неожиданности» (вплоть до pointe – неожиданной концовки) становятся внешним выражением внутреннего перерождения героя, вызванного пережитым им «кризисом»[438], истории его нравственного развития, противоречивости обретённых форм служения «правде». Центром композиции в рассказе «Ищущий правды» является не вещь (как это свойственно традиционной новелле), а характер, данный в развитии. Именно этим обусловлена разветвлённость сюжета, не свойственная обычному рассказу, многообразие художественных положений, повышение значимости образа обстоятельств. Если в новелле центр тяжести переносится с характеров на ситуацию, то в произведении Я.В. Абрамова они эстетически уравнены. Потому сюжет романизированного рассказа, где герои не просто сопоставляются, а противопоставляются по типу сознания (Афанасия Лопухина не случайно не понимают в деревне Шалашной и в его же собственной семье), не может охватывать лишь одно событие. Функциональная роль элементов романной поэтики связана с художественным постижением в известной степени нового характера, характера человека из народной среды, переживающей период «внутреннего, хорового развития, разложения и сложения»[439]. В новеллистике человек чаще всего изображается в статичном состоянии, а в романизированном рассказе «Ищущий правды», с его ярко выраженным новеллистическим заданием, освещается эволюция, «движение» души героя. Поэтика названия этого произведения определена задачами изображения духовно-нравственных исканий героя, динамичности его внутреннего мира. Казалось, должны были бы активизироваться средства психопоэтики, но мир героя раскрывается здесь через внешние эквиваленты, поскольку главным для автора остается художественное исследование законов «существующего строя жизни». Новеллистичность повествования – это верно найденная «писателем-социологом» форма выражения романизации жанра, поскольку, как уже отмечалось исследователями (В.В. Кожинов), роман и новелла имеют единую, типологическую природу нарратива.
Жанровые интеграции неизбежно ведут к формированию «нового третьего», когда произведение Я.В. Абрамова вбирает в себя характерные свойства романизированной повести: одно-качественность сюжетных ситуаций преобразуется к концу рассказа (с глав о «святом городе») в однонаправленность таких, которые чреваты переходом в их неоднородность. Изображение духовно-нравственного кризиса, пережитого Афанасием Лопухиным, возможно было лишь при видоизменении качества ситуаций, при противопоставлении персонажей по типу сознания. В результате этого произведение как целое основывается не на одной конфликтной ситуации («факте», «случае» и т. д.), а на «опредмечивании» такого принципа соотношений человека и микросреды, которое характерно для жанровой поэтики повести, в результате чего действие героя трансформируется из «момента факультативного»[440] в фактор сюжетной динамики и типологии художественно-завершающего оформления действительности, свойственный повести. Но при этом взаимоотношения персонажей не являются движущей силой развития коллизии: она, как это и бывает в повести, развивается в результате объективации действия общих законов через судьбы всех героев, а не в системе столкновений между ними. Энергия действия неизбежно усиливается здесь за счёт публицистических авторских интенций. Поскольку все персонажи в «Ищущем правды» являются опять-таки вариантами одной и той же сущности – законов «нового порядка», то они не только противопоставляются (Лопухин и «мир», Лопухин и паломники и т. д.), но и сближаются одновременно. Вполне закономерным является изображение того, что «поиски правды» этого героя принимают уродливые формы, а «человечность» его натуры раскрывается в столь бесчеловечной форме (насильственное, путём обмана оскопление многих людей с целью приобщения их к секте «праведников», «людей Божьих»[441]) «осчастливливания» жертв «нового порядка». Экспериментальная поэтика рассказа «Ищущий правды» была высоко оценена И.С. Тургеневым, который в то же время отметил, что местами этот необычный рассказ «несколько тяжёл и риторичен»[442]. Массовой беллетристикой даже в лице талантливых писателей ещё только осваивались синтетические формы эпического мышления.
Особый жанровый ряд «малой прозы» составляют произведения, которые И.С. Тургенев называл «студиями» или «студиями типа»[443]. Этот ряд представлен произведениями многих писателей: «Стук… стук… стук!..», «Странная история», «Старые портреты», «Отчаянный» И.С. Тургенева, «Маша» М. Вовчок, «Мимочка-невеста» Л.И. Веселитской, «Кроткая» Ф.М. Достоевского, «Птичница» А.Н. Луканиной, «Единственный случай» Нелидовой, «Церковный староста», «Чтец, певец и свещеносец» О. Забытого [Г.И. Недетовского], «На точке» М.Н. Альбова, «Ниночка. (Роман)» А.П. Чехова и мн. др. Тенденции жанровой интеграции получили развитие в литературе XX в.[444] («Судьба человека» М.А. Шолохова, «Золотая медаль» В.Т. Шаламова).
«Студия» как синтетическое жанрообразование характеризуется контаминацией признаков больших и малых эпических форм, создаваемой на проблемной основе художественного изучения социально-психологического типа. На это указывают и жанровые подзаголовки произведений некоторых писателей: «Ниночка» Чехова – «роман», «На точке» Альбова – «очерк одного исчезнувшего типа», «Альбом» Н.Д. Хвощинской – «группы и портреты» и т. д. В «студии» судьба героя воссоздается в целом, в её завершённости, но в специфически лаконичном сюжете. Целое «студии» представляет собой «эскиз» многосложной картины жизни, поэтому идейно-композиционная роль образа обстоятельств и группировки персонажей в ней ослаблена. Поскольку в произведениях этой жанровой разновидности в центре авторского внимания оказывается личность, то их структура сохраняет традиции построений романного типа и одновременно – малых эпических форм (рассказа, очерка, новеллы)[445]. Синтетичность проявляется на всех уровнях структуры произведений.
В «Странной истории» Тургенева, например, гармонизированы признаки рассказа (объём сюжета; выделение немногих эпизодов из жизни Софи Б., которая, воплощая идеал самопожертвования, покинула свою социальную среду и стала прислуживать, помогать «божьему человеку», юродивому Василию; наличие посредника-рассказчика, факультативность действия) и освоенных в творческой практике Тургенева-романиста принципов построения произведений крупной формы (многотемность; социальная содержательность основной проблемы; разветвлённость сюжета, относительная самостоятельность частей произведения; наличие своего рода вставной новеллы; лаконизм, «кадровость»; раскрытие основного события как проявления сущности многостороннего целого бытия; ситуация нравственного выбора; приметы исторического времени и обращённость к «вечным» вопросам, стремление главной героини к сверхличным ценностям общезначимого характера). Возникает произведение, сюжет которого образуется как однонаправленный ряд неоднородных ситуаций, в которых с разных сторон раскрывается нравственно-психологическая доминанта характера – самоотверженность Софи.
Для сюжетной динамики в «студии» существенны не только стимулы, содержащиесяв «микросреде», источники, вытекающие из условий, царящих в обществе, в окружающей героев действительности, но и отношения между персонажами. Эта динамика обусловлена внутренними столкновениями героя с окружающей средой, в основе которого лежат социально-исторические причины, закономерности общественного развития (то есть чертами романной проблематики). «Странная история» относится к числу тех произведений Тургенева, в которых осуществляется художественный анализ природы общественного человека, деятельностной сущности личности не только в социальном, но и онтологическом плане, а это уже значительно усложняет жанровую проблематику повести.
В произведениях «студийного» характера общественные противоречия, имеющие острый, злободневный смысл, проявляются в более отчётливой персонификации конфликтов. Если в повести Г.И. Недетовского «Велено приискивать», например, хищники новой, буржуазной формации оказываются на периферии, то в его же «студии» «Церковный староста» изображается столкновение такого «героя времени» с крестьянами, живущими по прежним, патриархальным нравственным законам, и такой конфликт является структурообразующим.
Подспудные социально-исторические противоречия – это внутренние факторы сюжетной динамики в литературных «студиях». Несоответствие двух систем жизнеотношения, раскрываемое в контексте проблем этнокультурной ментальности («Старые портреты», «Отчаянный» Тургенева), проявление в нравственной сфере тенденций социального развития («Странная история» Тургенева, «На точке» Альбова), конфликты героя, у которого пробуждается чувство личности, с изжившим себя социальным строем («Маша» М. Вовчок, «Птичница» Луканиной) или «нормами» среды («Кроткая» Достоевского), выявление расчеловечивающих тенденций социума («Николай Суетнов» Салова, «Мимочка-невеста» Веселитской) – всё это аспекты содержания таких противоречий.
«Микросреда» повестей-студий характеризуется тем, что писатели насыщают её социальными и культурно-историческими реалиями: художественный мир таких произведений выходит на грань «зоны контакта» с современностью, а поиски героем некоего «синтеза» в отношениях с окружающим миром остаются чаще всего открытыми, незавершёнными. Типологическим содержательным принципом «студий» является рассмотрение писателем сложности, противоречивости жизни через призму проблемы «человек и общество»[446].
Связь между «завершающими» возможностями повести как жанра и характером художественного мышления эпохи проявилась в освоении новых форм изображения целостного образа отдельных граней, процессов, сторон действительности, которым свойственно укрупнение масштабов типизации.
Об этом свидетельствуют циклы произведений «студийного» типа, которые, начиная с 1870-х годов, создают разные по мировоззрению и творческому потенциалу писатели – Тургенев («Отрывки из воспоминаний – своих и чужих»), Луканина («Старинные дела. Рассказы и воспоминания»), О. Забытый [Г.И. Недетовский] («По селам и захолустьям. Деревенские рассказы»), Хвощинская («Альбом. Группы и портреты»), Веселитская («Мимочка-невеста», «Мимочка на водах», «Мимочка отравилась») и др.
Образ «целостной односторонности» в рамках более усложнённого континуума в романических повестях ещё не столь монолитен (он обусловлен, скорее, авторской субъективностью, чем самим материалом подобной художественной «модели»), как в повестях «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина или «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, где авторская субъективность интегрирует качество художественного сознания новой эпохи, проявляющееся в формах масштабного эпического повествования[447], но это были поиски таких жанрообразующих средств, которые позволяли наметить связи между отдельными сторонами жизненного процесса. Структура романической повести усложнялась и совершенствовалась (не случайно многие исследователи такие повести, как «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Трое», «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, относят к жанру романа).
Закономерности структурного обогащения повести в результате взаимодействия с «соседними» жанрами проявляются в жанровой динамике на методологическом уровне: новое содержание, осваиваемое повестью, «отрицает» «консервативность» найденных уже, «утвердившихся» художественных принципов. Стремление к интегрированному изображению жизни в развитии, в движении определяло процессы жанровых взаимовлияний.
В конечном счёте это вызвано усложнением проблематики повести. В её романизированных формах писатели чаще обращались к художественному анализу значительных социально-исторических сдвигов и перемен. Такая повесть приспосабливалась к раскрытию «романного содержания», к освещению взаимосвязей личности и общества, которые порой рассматривались в свете универсальных, сверхчувственных, метафизических начал бытия («Первая любовь», «Клара Милич» И.С. Тургенева, «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)» Н.С. Лескова, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского и др.). Соотношения между «завершающими» возможностями жанра и характером художественного мышления эпохи проявлялись в освоении новых средств воссоздания «во всей полноте» образа «отдельных» сторон и процессов действительности, целостного бытия человека, то есть в жанровых взаимодействиях и взаимовлияниях.
Исследование внутреннего динамизма жанра повести, «санкционирующего» поиски новых форм и средств художественного обобщения явлений действительности, показывает, что во взаимодействие вступали жанроформирующие и жанрообразующие факторы и средства (в том числе компоненты разных жанров), благодаря чему и могла «нарушаться» логическая непротиворечивость внутренних связей «традиционной» «целостности» (то есть проявлялись новые тенденции в формировании содержания). При этом «двуаспектность» художественной структуры в любых разновидностях повести оставалась «стабильной», что и позволяло ей сохранять свой «жанровый центр», своё место в системе эпических жанров любого историко-литературного периода в развитии классического реализма.
Заключение Парадигма жанрового типа русской классической повести
Когда рассматривается история жанров, то исследование, как писал М.М. Бахтин, «переносится в плоскость исторической поэтики»[448]. При этом актуализируются теоретические аспекты жанрологии. Данные исторической поэтики способствуют идентификации категориальных определений того или иного жанра, его дефиниций.
Изучение поэтики жанрового типа классической повести второй половины XIX в. позволяет сделать вывод о том, что это самодостаточный жанр эпической прозы, имеющий свой объём жанрового «события», свой конструктивный принцип, активно взаимодействующий с «большими» и «малыми» повествовательными формами, а также с литературными видами других родов. Будучи органической частью жанровых систем, динамикой которых очерчиваются границы, пределы доминантной «идеи человека» классического реализма, повесть на всех этапах его эволюции сохраняла в этих системах роль одного из ведущих («старших») жанров.
Философско-эстетической трактовкой природы и сущности человека, характерной для историко-литературной эпохи классического реализма, было причинно обусловлено доминирование эпических жанров, развитие и расцвет тех из них, потенциал которых оказался в большей мере соответствующим адекватному воплощению этой «идеи»: в 1830-е годы – «синкретический» роман; в 1840-е – очерк, повесть, роман; в 1850-е – повесть, роман; в 1860—1870-е – роман, повесть; в 1880—1890-е – рассказ, повесть[449]. В перспективе развития литературы роль этого жанра всё более возрастает. В XX – начале XXI в. повесть стала явлением и фактом мирового литературного процесса, вышла далеко за рамки национальной русской литературы.
Как мы стремились показать, дефиниции «объём жанрового события», «сущность и объём самого содержания» (В.Г. Белинский), «объём сюжета» (Г.Н. Поспелов), «объём вобранности мира» (поэт Виктор Боков) и т. д. являются качественными, то есть содержательными характеристиками жанра, художественного «высказывания как смыслового целого»[450]. Сопоставления повести с другими видами эпической прозы (эпопеей, романом, рассказом, новеллой и т. д.) привлекались с той целью, чтобы отчётливее показать, как этот жанр «тематически ориентируется на жизнь», какими он способен «овладеть… сторонами действительности», какими располагает «принципами отбора», «формами видения и понимания этой действительности», какая ему свойственна «степень широты охвата и глубины» изображаемого мира[451].
Анализ поэтики жанрового типа русской классической повести в свете соприродности его «частей» и «целого» создаёт предпосылки для обобщений относительно объективации «понимающего бытия» этого жанра на важнейшей стадии его эволюции. Исторические формы данного «бытия» охватываются рамками реализма XIX в. как литературного направления, художественно-познавательного цикла, «большого стиля». Какие можно сделать выводы на основе такого исследования, совмещающего теоретический и историко-литературный аспекты и ориентированного на разработанные эпистемологией философской и литературоведческой герменевтики (H. – G. Gadamer, P. Ricoeur, H. – R. Jauβ, P. Scondi, E. Betti и др.) принципы и методы изучения литературных феноменов?
Жанр повести характеризуется «двуаспектностью» «ситуации» (эстетической «модели» мира), формирующей его художественную структуру («человек» – «микросреда»), он предрасположен к изображению «бывшего», «случившегося» «с одной стороны» (отдельные аспекты жизненного процесса), но «в целом». Такое изображение является результатом сопоставления «завершённых» героев одного типа сознания, характеры которых имеют нравственно-психологическую доминанту и которые «равны» сюжету как достигшие своего «максимума», совпадающие с самими собой.
Жанровая структура повести основана на однонаправленном ряде неоднородных художественных ситуаций (наличие, как правило, одной, хорошо проработанной коллизии), её сюжет характеризуется сочетанием экстенсивного и интенсивного принципов организации при тяготении к одному из них. Этому жанру присущ такой тип повествования, который определяется «присоединением» эпизодов по ходу изображения событий в их последовательности, что и обеспечивает совпадение сюжета и фабулы. В связи с этим персонажи изображаются с одной целевой установкой, в одной пространственно-временной плоскости, а источником сюжетной активности является действие сил, идущих извне, так как «микросреда» лишена тенденции к дифференциации.
Романическая повесть – это повесть, восходящая к построениям романного типа, структурно обогащённая в результате ассимиляции некоторых особенностей проблематики и поэтики романа и отличающаяся от «традиционной» повести тем, что в ней изображаются герои разного типа сознания, имеется тенденция к дифференциации «микросреды», персонажи не только сопоставляются, но и противопоставляются, происходит совмещение экстенсивного и интенсивного принципов организации сюжета, намечена «зона контакта» с «неготовой современностью»[452], а сюжетное развитие активизируется взаимодействиями, отношениями между героями разного уровня сознания. Такой художественный синтез объясняется актуализацией для автора романической повести проблемы личности и общества, то есть усложнением и одновременной специализированностью её жанровой проблематики.
В повести, как в любом литературном жанре, выделяется два аспекта – «архаический» (типологический) и «исторический».
«Архаика» обусловлена типом жанровой проблематики и определяется доминантным конструктивным принципом жанра, создающим устойчивую структуру повести (то есть принципом изображения человека в его отношениях с окружающей средой, с миром). «Историческое» определено «идеей человека», «типом мироотношения». Меняется «идея человека», и приходят в действие основные жанрообразующие факторы, появляются новые жанровые разновидности. Но остаются в известной мере традиционными факторы жанроформирования, свойственные повести возможности освоения явлений действительности, «степени широты охвата и глубины произведений» (М.М. Бахтин).
Эстетическая концепция человека в его отношении к миру («мирообраз») в повести как жанре обладает своей спецификой: в ней освещается какая-либо отдельная сторона (один уровень) многообразных и многосложных взаимодействий человека и мира вследствие того, что сам человек раскрывается преимущественно с «одной стороны», а в образе «микросреды» фиксируются отдельные грани, аспекты, процессы «макромира». Именно в этом смысле жанр повести предрасположен к изображению в «отдельных проявлениях», но «во всей полноте». Характер осмысления человеческого бытия, сущности человека, его места в мире, «тематическая ориентация на жизнь», «объём вобранности мира» причинно обусловливают структуру этого жанра.
Учитывая, что основой содержания «эпической поэзии» является событие, действие, необходимо особо подчеркнуть, что в роли жанрообусловливающего фактора в повести выступает не просто «концепция человека» (тем более «концепция личности») и не «образ обстоятельств» (то есть та или иная среда, воссоздаваемая в произведении), а именно принцип изображения человека в мире.
В этом жанре не только герой дан в одной ипостаси, но и среда предстаёт как «ближайшее окружение», то есть как «микросреда», что всегда отличает большую повесть от небольшогоромана. Именно поэтому исследователи обоснованно говорят о воплощении в повести трёх основных проблемно-тематических аспектов содержания эпической прозы – характера, среды, взаимоотношений человека и среды[453]. При этом следует иметь в виду, что эти проблемно-тематические стороны эпического содержания авторами повестей разрабатываются тоже в «отдельных проявлениях». «Отдельные» стороны жизни являются в этом жанре предметом и средством художественного «понимания» и познания жизни одновременно.
Во всех видах эпической прозы изображается человек в его отношениях с действительностью, но в повести есть своя доминанта, организующая художественный мир произведения: это выделение определенного аспекта в многосоставном человеческом характере, раскрываемом в рамках «микросреды». В романических повестях «микросреда» не сливается с «макромиром», но рельефнее, многограннее выявляет его сущностные черты. Поскольку в повести доминирует один проблемно-тематический срез, то особо функциональным становится нравственный аспект изображения.
Будучи эпическим жанром повесть характеризуется тем, что в ней содержится однонаправленный ряд разнокачественных художественных ситуаций, неоднородных по своей сути, фиксирующих вполне определившиеся противоречия. Конфликты «социального» и «человеческого» раскрываются, как правило, в небольшом количестве сюжетообразующих событий, организованных в композиционном отношении так, что напряжённость, целеустремленность действия создается притяжением всего художественного материала к двум полярным полюсам.
Используя потенциал жанра, писатели добивались того, чтобы сюжет с небольшим количеством сюжетных линий становился «самодостаточным», отвечал «нормам» художественно-завершающего оформления жизненного материала, определяющим целостность жанра. Сюжет повести подчиняется задачам изображения героя в его наиболее характерных проявлениях. Он, будучи «масштабом жанра»[454], не позволял рассматривать частную жизнь в перспективе широкого исторического движения, поэтому композиция повестей и обусловлена сосредоточенностью на каком-либо одном объекте изображения: на обстоятельствах («Ставленник» Решетникова, «Воробьиные ночи» Нелидовой), характерах («Несчастная» Тургенева, «Давняя встреча» Кохановской), либо на взаимосвязях характеров и обстоятельств («Похороны», «Старческое горе» Салтыкова-Щедрина, «Домашний очаг» Стахеева).
Противоречия реализуются в этом жанре не столько в конфликтных отношениях между персонажами, сколько как бы «проходят» через каждого из них. Этот композиционный принцип является типологическим, он обусловлен «двуаспектностью» жанровой структуры повести.
В романических повестях, где синтетический тип сюжета определяют столкновения героя и среды, данные конфликты персонифицированы, и «микросреда» позволяет показать разных по уровню развития самосознания героев (то есть содержит тенденцию к дифференциации). Если в повестях традиционного типа действующие лица чаще всего сопоставляются, то в романических – противопоставляются.
Но в любом случае «микросреда» синтезирует свойства «отдельных» граней, сторон, проявлений, процессов «макросреды». Характер раскрытия противоречий определяет доминирование одной коллизии, концентрацию действия вокруг одного конфликта, чаще всего – однолинейность сюжета, изображение одного или немногих героев с определённой целевой установкой, а в связи с этим сюжет повести строится на основах художественного контрапункта, важную скрепляющую роль играют в нём лейтмотивы, единство повествовательного тона. Принцип «двухстороннего освещения главной темы»[455],лежащий в основе художественного контрапункта, позволяет авторам самой композицией сюжета выявить драматизм изображаемых событий и преодолеть опасность «неполного» воссоздания отдельных граней и сторон жизненного процесса. В сюжете такого типа характеры предстают как «завершённые», и это становится важным жанроформирующим и сюжетообразующим принципом.
В основе характера лежит концепция «закрытости» человеческого сознания и бытия, завершённости внутреннего духовного опыта. Человек в повести «равен» своему сюжету, совпадает с ним. Этот жанр имеет «предел» в раскрытии связей человека и общества, так как сфера его жизнедеятельности ограничена рамками «микросреды». Сюжетно-композиционная структура «средней эпической формы» не ориентирована на художественный анализ масштабных, эпохальных закономерностей, но способна охватить такой жизненный материал, который может дать представление об основных исторических тенденциях эпохи и бытийных процессах.
Максимальная выявленность человека в формах «случившегося» (совпадение героя со своим сюжетом) не свидетельствует об исчерпанности конфликта, поэтому финал повести нередко приобретает «символический», «открытый» характер. Усиливающаяся тенденция к изображению «подвижности» сознания героя повести обусловила обращение к романным принципам изображения, в чём проявлялась связь между возможностями «тематического завершения» и уровнем философско-эстетического сознания историко-литературной эпохи.
В компетенции факторов жанроформирования повести всегда остаются соотношения субъектных и внесубъектных планов произведения, которые обусловлены жанровой «концепцией человека» (человек в его отношении к миру).
Художественное время-пространство как фактор жанроформирования выполняет моделирующую функцию, выражающуюся в воссоздании действительности в «отдельных картинах», но во всей полноте. Концептуальный хронотоп повести типологичен по своей сути: для него характерна многосоставная временная ретроспектива (чем и определяется форма «сообщающего повествования»[456]), а герои событийного сюжета изображаются, как правило, в одной пространственно-временной плоскости[457]. Ретроспективно-локализуемому образу художественного времени всегда соответствует пространство «микросреды». Взаимосвязью авторского, повествовательного и событийного времени определяется то, что в целостности жанра «примиряется» «абсолютное прошлое» (М.М. Бахтин) художественного мира произведений с актуальностью их проблематики.
Как и во всяком литературном жанре, в повести многообразные отношения автора с хронотопом осуществляются прежде всего в сфере действия жанрообразующих факторов и средств. Стилеобразующим началом является индивидуальное, вне-каноническое воплощение оценочных отношений автора к изображаемому, объективирующихся в формах выраженности хронотопа на уровне жанра, «поджанра» и оригинальных средств жанрообразования. То, что в повести «настоящее» событийного времени всегда является «прошлым», а пространство ограничено рамками «микросреды», обращает писателей к поискам разнообразных средств композиционного расширения авторского кругозора и форм повествования. Характер отграниченности пространственно-временного континуума произведений этого жанра связан не только с количественными показателями (объём), но прежде всего с качественными свойствами типологического пространства. Данный континуум моделирует не «части» целого определённых жизненных процессов и явлений, а такой образ «отдельных» сторон жизни, который представляет собой системную организацию, обладающую свойствами органической целостности.
В рамках «микросреды» изображаются разные по масштабам характеры, но общим в повестях является то, что художественное время-пространство соответствует жанровой обусловленности характера, в котором всегда имеется определенная доминанта и синтезируются черты того или иного исторически обусловленного типа сознания и поведения.
В романических повестях тенденция к дифференциации «микросреды» вызывает появление разных пространственных планов, противопоставляемых друг другу непосредственно в событийном хронотопе. Выходы за пределы «микросреды», открытость финала обеспечиваются функциональной ролью универсального хронотопа, символики, образов мыслительного время-пространства, диалогом сюжетных подсистем[458], объективирующих множественность сознаний в сфере первичных и вторичных носителей речи.
Для этого жанра характерен «диалог» разных «этико-пространственных полей» субъектов речи и сознания, а также разных типов пространства персонажей и повествователя, часто включающего сферу автора-повествователя[459]. Наличие посредника-рассказчика, субъективированного или объективированного повествователя всегда создаёт основу для «диалога» в рамках «монологического целого»[460] повести, для оценки «случившегося» с точки зрения событийного (временная точка зрения в плоскости совершаемого события) и повествовательного (точка зрения знания результата) «настоящего», что и обеспечивает актуальность, злободневность повести для времени автора-творца.
Связь стиля как элемента жанровой целостности с другими «частями» повести реализуется в системе корреляций типа повествования и системы повествования. Использование первичных носителей речи в разных модификациях систем Er-Form и Ich-Erzählsituation[461] подчиняется законам выражения автора как носителя «диалогической активности» в «монологической» повествовательной ситуации (термины М.М. Бахтина). «Завершаемость» «авторским кругозором»[462] всех героев и явлений связана со спецификой «далевого образа» этого жанра, с присущей ему «эпической дистанцией».
Даже в романической повести Достоевского «Записки из подполья», где, по словам М.М. Бахтина, парадоксалист не является «объектным образом» и в соответствии с идейными задачами произведения «разрушается монологизм художественного мира», «слово автора противостоит… чистому слову героя»[463] не так, как в его же романах. М.М. Бахтин не может не подчеркнуть (хотя вопрос о жанровой специфике типа повествования им специально не рассматривается), что автор «оставляет за своим героем последнее слово», которое на самом деле является «тенденцией к нему». Исследователь указывает, по существу, на переходный характер такой формы. Здесь мы имеем дело с особым типом повествования (выше подчеркивалось, что это является проявлением творческой индивидуальности Достоевского-художника), где, условно говоря, функции автора-творца «передоверены» герою, их точки зрения как бы сливаются. Но не до конца. В таких случаях, может быть, наиболее наглядно проявляется то, что автор произведения полифонического типа «не отказывается от себя и своего сознания», а «необычайно расширяет, углубляет и перестраивает это сознание», чтобы оно «могло вместить чужие сознания». Проблема авторского слова в этом случае требует углублённого исследования всей художественной структуры произведения. Но автор «Записок» в конечном счёте, «дублируя» автора-творца, выступает как носитель речи, охватывающий всех и вся своим «кругозором», в результате чего сохраняется методология «монологического» повествования. Не случайно М.М. Бахтин писал о том, что в повестях приходилось «искать для автора какую-то внекругозорную… точку» (в повести «Кроткая», например, «внекругозорную фантастическую точку»)[464].
Стиль реалистической повести предстаёт как воплощение авторского «кругозора», как выражение масштабности этого взгляда, и такие качества он приобретает в процессе создания содержательной формы, в результате взаимодействия с другими компонентами жанровой структуры (тематическими, композиционными, время-пространственными и т. д.), отличающимися относительной устойчивостью. Плюрализм повествовательных форм является сущностной чертой жанрового стиля повести.
В русской реалистической повести второй половины XIX в. отчётливо выразилась тенденция формирования «персональной повествовательной ситуации», свидетельствующая об интенсивности поисков повествовательной идентичности, в частности способов лингвистического опосредования идентичности персонажа разными дискурсивными средствами в системе единства повествовательного тона.
Типизируя тенденции глубоких исторических изменений, повесть «дробит жизнь»[465], видоизменяясь в соответствии с задачами изображения. Все её разновидности можно рассматривать как элементы развивающейся жанровой системы, которые активно взаимодействуют как друг с другом, так и с «большими» и «малыми» повествовательными формами.
«Односторонность» в освещении явлений жизненного процесса становится в повести формой типизации «целого строя жизни» (Н.А. Добролюбов). Художественная структура жанра позволяла «с одной стороны», но «во всей полноте» раскрывать «сокровенные тенденции», закономерности действительности, поскольку её изображение в повседневных проявлениях имеет объективный характер. Эффект полной адекватности сюжета жизненному течению достигался приёмом свободного, «непреднамеренного» обращения с материалом. Типизирующая функция сюжета проявляется в установке на исследование конфликта в системе причинно-следственных связей, но без углубления в его генезис. Композиция повести подчиняется цели такого изображения «эпизода» из «жизни человеческой», при котором общее выражается в частном, конкретном средствами воссоздания в целом одного аспекта многостороннего жизненного процесса. Освещение основных тенденций эпохи позволяло в рамках хронотопа повести показывать жизнь в движении, в развитии, выявляя связи прошлого и настоящего, прогнозируя будущее.
Внутренней логикой художественного мира повести проверяются «идеи времени». Но существенна и другая сторона творческого процесса: логика обновления, развития повести в соответствии с задачами типизации нового, неосвоенного жизненного материала проявлялась в изменениях на уровне жанровой структуры, в обогащении «проблематики жанра».
В повести сложилась особая система отражения и моделирования каузальных процессов на основе «порядкового» принципа членения универсальных закономерных связей, а характеры являют собой средоточие действия разнонаправленных детерминант при доминировании определенного их типа.
Динамизм жанра осуществлялся в системе как родовых, так и жанрово-видовых взаимодействий, в появлении новых жанровых разновидностей. Но, будучи жанром подвижным, меняющимся, открытым для воздействия поэтики романа, произведений «малой прозы» и т. д., повесть сохраняла «устойчивые» черты, свойственные её содержанию и форме.
Структурное обогащение было результатом контаминации родовых или видовых признаков, которая обусловливалась освоением обновляющейся концепции человека, лежащей в основе творческого метода, формированием новой «идеи человека». Процессы динамизма жанра направляются, как в этом можно было убедиться, основными особенностями его структуры. Талантливые художники шли по пути освоения многообразных средств жанрообразования.
Интеграция жанровых форм и их дифференциация – это две стороны единого, по сути, эволюционного процесса. Повесть не только вбирала, ассимилировала свойства произведений других родов и жанров, она и сама оказывала влияние на них.
Скажем, драматизация повести, связанная с отражением обостряющихся социальных и нравственных конфликтов исторической эпохи 1860-1880-х годов, преобразует традиционную систему повествования в этом эпическом жанре: драматическое действие изнутри активизирует роль взаимоотношений персонажей, нередко сообщает коллизии трагическую огласовку («Велено приискивать» Недетовского, «Две карьеры» Плещеева, «Несчастная» Тургенева, «Кроткая» Достоевского, «Николай Суетнов» Салова, «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» Славутинского, «После потопа» Хвощинской), а «случайное» изображается как глубоко закономерное («Старческий грех» Писемского, «Единственный случай» Нелидовой).
Неизбежность столкновений растущего чувства личности с формирующимся «новым» укладом, пришедшим на смену патриархальному, изображается во многих повестях второй половины XIX в., что и вызывает «реорганизацию» художественного материала: вместо традиционного сюжета, основанного на принципе «присоединения», «примыкания», лишённого строгой нацеленности на раскрытие конфликта, появляется сюжет драматизированный, в котором единство действия становится как раз важнейшим свойством воссоздаваемого хода событий («Егорка-пастух» Н. Успенского, «Трудное время» Слепцова, «Волхонская барышня» Эртеля). Драматический конфликт развивается в системе эпического повествования (содержание развивается «само из себя», как об этом писал по поводу явно драматизированных повестей С.Т. Славутинского Н.А. Добролюбов[466]), фактором же, активизирующим развитие сюжета, остается действие сил, идущих извне, подкрепляемое при этом взаимоотношениями между персонажами.
Но и драматические жанры испытывают воздействие повести. Наиболее яркий пример – драматургия Чехова.
Новаторство Чехова-драматурга чаще всего рассматривают в рамках жанровой поэтики произведений драматического рода, в то время как эстетика чеховского театра формировалась под сильным влиянием эпической традиции, прежде всего – повести. Опыт Чехова-прозаика не прошёл бесследно для Чехова-драматурга. Типологические черты повести (особенности характерологии, ослабление роли отношений между героями, их сопоставление и сближение, источники действия, идущие извне, система художественных ситуаций, тенденция к художественному синтезу на жанровом уровне, отношения автора с хронотопом и т. д.) хорошо просматриваются в поэтике Чехова-драматурга, поскольку вся структура чеховских пьес связана с особенностями художественных средств «средней повествовательной формы».
Органический синтез драматического и эпического имеет здесь иную специфику по сравнению, скажем, с поэтикой А.Н. Островского. В пьесах Чехова функциональны жанровые черты именно повести, а не эпические традиции вообще. Писатель создает новую форму, он находит неиспользованные ещё возможности и средства для адекватного выражения идейного содержания драматических произведений, для воплощения специфической, «чеховской» концепции человека и действительности[467].
С этой точки зрения становятся объяснимыми те особенности художественной реализации конфликта в чеховских драмах, а также расстановки персонажей в них (когда действующие лица не противодействуют, а, скорее, сопоставляются), о которых писал в своё время А.П. Скафтымов[468]. Указывая на тяготение Чехова-драматурга к прозе, на включение в драматургию принципов прозаического повествования, надо отметить, что драматическое и эпическое в его пьесах не противостоят друг другу. По этой причине и герои в них не только противопоставляются и сопоставляются, но и сближаются (Раневская, Лопахин, Петя Трофимов в «Вишнёвом саде», например). Чехов «переносит» закономерности организации художественного мира повести в драму, не нарушая законов драматического «моделирования жизни».
Связь драматургии Чехова с прозаической культурой, с жанровыми традициями повести способствовала расширению традиционных возможностей драматических жанров, раскрытию их внутреннего потенциала. Не случайно подтекст, система психологизма, способы раскрытия характера, «новеллизм» и многие другие средства, освоенные в творческой практике писателей-прозаиков и самого Чехова, играют большую роль в его драматургической эстетике. Эта тема до сих пор ждёт своего исследователя.
Романизация повести и жанров «малой прозы», осуществляемая в соответствии с конструктивными законами «средней» эпической формы, оказалась наиболее перспективной тенденцией её художественного обновления. «Сущностью и объёмом самого содержания» определяется типологическая общность всех разновидностей (повести, восходящие к построениям романного типа или лишённые единого сквозного действия; повести-студии; повествовательные формы, создававшиеся на очерковой основе или состоящие из очерков; произведения, имеющие драматизированный или новеллистический сюжет и т. д.) и «поджанров» повести, создающих в своей совокупности динамичную «подсистему» в жанровой системе историко-литературного периода русского классического реализма.
Поиски новых форм и средств художественного обобщения отражают пути развития повести, которое сопровождается «обособлением» «частей» «целого» жанра: они обладают относительной самостоятельностью. Это является источником жанровой динамики, поскольку те или иные трансформации на «территории» «частей» ведут к тому, что не только «части», но и «целое» приобретают новые свойства (например, на уровне сюжета при появлении тенденции к дифференциации «микросреды» или хронотопа при установлении «зоны контакта» с современностью). В этом случае во взаимодействие вступают жанроформирующие и жанрообразующие факторы и средства (в том числе и компоненты разных жанров). При этом традиционная «двуаспектность» жанровой структуры определяет (в любых разновидностях повести) качественные характеристики «охвата» явлений действительности.
В лучших образцах жанра проявляется внутренняя целесообразность взаимосвязи всех компонентов, составляющих его целостность. Диалектическое единство «архитектонически устойчивого и динамически живого»[469] в любом жанровом типе является конкретным выражением соприродности жанрообусловливающих, жанроформирующих и жанрообразующих факторов и средств. Это такая эстетическая системность, которая обладает специфическими смыслосозидающими свойствами. Целостность повести как жанра раскрывается не просто в связях, корреляциях, возникающих между её отдельными «частями» и «целым». Связность – это свойство, характеризующее любой текст, в том числе и нехудожественный.
Для литературного жанра существенно особое качество целостности – органичность, взаимозависимость, соприродность «частей» и «целого». Оно представляет собой не механическую сумму «частей», а их внутреннюю сопряженность, при которой «части» как бы «прорастают» друг в друга, образуя органическое единство. Это является предметом изучения герменевтики жанра как проблемы теоретической поэтики[470]. «Часть» в этом случае рассматривается вместе со своим отношением к «целому».
«Части» (обусловливающие, формирующие, образующие факторы и средства жанра), создающие конкретное произведение, содержат в себе качества смыслосозидающего «целого», а «целое» жанра как специфическое качество определяется органической взаимосвязью не выводимых друг из друга, но ассоциированных «частей». Эта органическая целостность, создающаяся внутренними связями жанроформирующих и жанрообразующих факторов и жанрообразующих средств, просматривается как на уровне литературного вида, так и жанрового своеобразия конкретного произведения. Все «части» несут в себе качество жанрового «события» повести.
Жанрообусловливающими факторами повести детерминированы особенности жанрового типа русской классической повести:
– особый тип конфликта: его открытость и персонифици-рованность; несводимость к одному ситуативному конфликту; фиксация определенных сторон в отношениях «родового», «видового» и «индивидуального» при изображении человека; равнозначность функциональных ролей конфликтных ситуаций и действия (событий);
– типологические черты сюжетно-композиционной системы: изображение характера, среды или их взаимоотношений и, как следствие, доминирование одной, хорошо проработанной коллизии; однонаправленный ряд неоднородных художественных ситуаций; группировка образов в рамках одного сюжетного узла; сочетание или совмещение (в романических повестях) построений интенсивного и экстенсивного типов при тяготении к одному из этих принципов; организация сюжета в системе контрапункта; наличие двух сюжетно-композиционных полюсов, создающих основу «диалога», раскрываемого в монологической системе повествования; «завершённость» изображаемого и «открытость» финала, открытость в том смысле, что он подводит «к итогу, но не итоги»;
– специфика характерологии: «односторонность» характера, выделение в нём нравственно-психологической доминанты; максимальная выявленность заложенных в характере возможностей; «равенство» героя самому себе (тенденция к «несовпадению с самим собою» в романических повестях)[471]; совпадение героя со своим сюжетом и «завершённость» как особенность структуры характера; сопоставление или противопоставление (в романических повестях) персонажей при одновременном их сближении; доминирование в характере детерминант определённого типа;
– видовые черты концептуального хронотопа: «абсолютное прошлое» событийного сюжета, дистанцированность событийного и повествовательного времени; жанровый принцип отграниченности пространства рамками «микросреды»; изображение героев событийного сюжета в одной пространственно-временной плоскости и в хронологической, линейной последовательности событий; однонаправленность течения времени; подчинённость время-пространственных отношений раскрытию «самодвижения» жизни в формах уже «состоявшегося», «завершенного» явления; структурные функции оппозиции «тогда – теперь» и «примирение» «абсолютного прошлого» художественного мира повести с актуальностью проблематики, сопряжённой в некоторых жанровых разновидностях с освещением событий в аспекте вневременных, универсальных закономерностей бытия;
– тип повествования: совпадение сюжета и фабулы; последовательное изложение событий по принципу «присоединения», «примыкания» эпизодов в повестях с эпическим и новеллистическим заданием на основе хроникального течения событий; формообразующее действие сил, идущих извне, или их сочетание с активной ролью внутреннего драматизма, создаваемого отношениями между персонажами в повестях, восходящих к построениям романного типа; опосредованность автора по отношению к «ситуации»; функциональная активность субъектов речи в системах Er-Form и Ich-Erzählsituation, использование различных форм «письменного» повествования или «устного» рассказывания; единство повествовательного тона, эффект «самодвижения» жизни (развитие действия «самого из себя»); актуализация «персонального повествования» как формы повествовательной идентичности.
Жанрообусловливающие и жанроформирующие факторы повести определяют и поэтику художественного обобщения: «объективность» и «аналитизм»; изображение отдельных сторон, граней, аспектов жизненного процесса «во всей полноте», «в целом» («целостная односторонность» образа); использование многообразных средств и форм типизации, в том числе и свойственных «соседним» жанрам; функциональная роль источников в системе реалистической типизации; предрасположенность к синтезу родовых и жанрово-видовых признаков и свойств. Жанровая «норма» повести создаётся внутренней организацией целостной системы, проявляющейся в единстве «устойчивых» корреляций между её «частями» и «целым», но в каждом новом эстетическом образовании она всегда чревата сдвигом. Этой нормой определяется наличие у повести своего «жанрового центра», что и не позволяет ей растворять свои черты в «больших» и «малых» эпических формах.
Повесть в истории русской литературы сохраняла своё самостоятельное значение независимо от того, лидировал или отступал на второй план жанр романа. Она и сейчас сохраняет такое значение. «Жизнестойкость» повести объясняется «универсальным» характером проблематики жанра и динамизмом её жанровой структуры. Характер тематического и художественно-завершающего оформления жизненного материала позволял повести чутко реагировать на все исторические перемены, на актуальные вопросы, порождённые временем. Эстетический потенциал жанра выявлялся и раскрывался в результате освоения нового содержания по мере развития художественно-философского сознания. Это стимулировало эволюцию повести, создавало условия для её активного функционирования в историко-литературном процессе XIX в.
Указатель художественных произведений
«Агитрейд» А. Житкова (Октябрь. – 2000. – № 7) – 100
«Альбом. Группы и портреты» Н.Д. Хвощинской (Вестник Европы. – 1874. – № 2–9; 1877. – № 3) – 219, 221
«Анна Каренина» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 8–9. – М., 1981–1982) – 85–86, 106, 112
«Армия любовников» Г.Н. Щербаковой (Новый мир. – 1998. – № 2–3) – 83
«Ася» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 7. – М.; Л., 1964) – 165
«Бабушка-генеральша» Федосеевца [Абрамова Я.В.] (Отечественные записки. – 1881. – № 6) – 199
«Бабушкины россказни» П.И. Мельникова-Печерского (Мельников П.И. [Андрей Печерский]. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 1. – М., 1976) – 151, 198
«Бедные люди» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 1. – Л., 1972) – 117
«Безысходная доля. Повесть в тринадцати письмах» А.А. Брянчанинова (Русский вестник. – 1868. – № 11) – 121, 151
«Бесы» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 10. – Л., 1974) – 157
«Благодеяние» А.Н. Плещеева (Плещеев А.Н. Повести и рассказы: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1897) – 12, 91, 105, 182, 209, 210
«Братец» Н.Д. Хвощинской (Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести и рассказы. – М., 1963) – 140
«Братья-разбойники» М.А. Воронова (Воронов М.А. Повести и рассказы. – М., 1961) – 198
«Бунт Ивана Ивановича» М. Белинского [Ясинского И.И.] (Вестник Европы. – 1882. – № 2, 3) – 82, 136
«Былое и думы» А.И. Герцена (Герцен А.И. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 4–6. – М., 1956–1957) – 46, 54
«В степи» Федосеевца [Я.В. Абрамова] (Устои. – 1882. – № 1; 3–5) – 198—205
«В усадьбе и на порядке» П.Д. Боборыкина (Вестник Европы. – 1875. – № 1) – 100
«Варенька Ульмина» Л.Я. Стечькиной (Вестник Европы. – 1879. – № 11, 12) – 95, 119, 165
«Велено приискивать» О. Забытого [Недетовского Г.И.] (Вестник Европы. – 1877. – № 9—11) – 91, 111, 136, 143, 170, 195, 220, 236
«Вешние воды» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 11. – М.; Л., 1966) – 11, 15, 142–143, 173
«Вишнёвый сад» А.П. Чехова (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Соч. – Т. – 13. – М., 1978) – 238
«Война и мир» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 4–7. – М., 1979–1981) – 14, 65, 174, 181
«Воительница» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1956) – 11, 82, 137, 176
«Волхонская барышня» А.И. Эртеля (Эртель А.И. Волхонская барышня. Смена. Карьера Струкова. – М.; Л., 1959) – 84, 102, 133, 236
«Воробьиные ночи» Л.Ф. Нелидовой [Ломовской-Маклаковой Л.Ф.] (Вестник Европы. – 1881. – № 5–7) – 91, 111, 136, 229
«Воспитанница» Т.А. Астраковой (Современник. – 1857. – № 9—10) – 175
«Гайка» Н. Кохановской [Соханской Н.С.] (Кохановская Н. Повести: В 2 т. – Т. 1. – М., 1863) – 91, 175
«Где же счастье? Повествование в письмах» Н.О. [?] (Русский вестник. – 1864. – № 9) – 151
«Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. – Т. 13. – М., 1972) – 117
«Грачевский крокодил» И.А. Салова (Салов И.А. Грачевский крокодил: Повести и рассказы. – М., 1984) – 89, 90, 95, 111, 136, 139, 173, 176, 180, 182, 210
«Давняя встреча» Н. Кохановской [Соханской Н.С.] (Кохановская Н. Повести: В 2 т. – Т. 1. – М., 1863) – 229
«Два памятных дня» Н.Д. Хвощинской (Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести, рассказы и очерки. – М., 1963) – 182
«Два раза замужем. Повесть» Ф.С. Стулли (Вестник Европы. – 1875. – № 4) – 91, 151, 180, 200
«Две карьеры» А.Н. Плещеева (Плещеев А.Н. Житейские сцены. – М., 1986) – 90,105, 111, 117, 132, 135, 174, 178, 181, 183, 195, 196, 207, 210, 236
«Дворянское гнездо» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 7. – М.; Л., 1964) – 112
«Дело Артамоновых» М. Горького (Горький М. Собр. соч.: В 18 т. – Т. 11. – М., 1962) – 197
«День итога» М.Н. Альбова (Альбов М.Н. Повести. – СПб., 1884) – 95
«Деревенские мироеды» А.А. Потехина (Вестник Европы. – 1880. – Т. 2. – № 4. – Т. 3. – № 5) – 200
«Детские годы. В деревне» К.И. Бабикова (Русский вестник. – 1861. – № 5) – 120, 126, 134, 165
«Детские годы. (Из воспоминаний Меркула Праотцева)» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 5. – М., 1957) – 84, 95, 121, 135, 151, 165, 172, 179, 180, 182, 222
«Детство» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 1. – М., 1978)– 173
«Детство и юность. (Из одних записок)» М.А. Воронова (Воронов М.А. Повести и рассказы. – М., 1961) – 151, 198
«Дитя души. Старинная восточная повесть» К.Н. Леонтьева (Русский вестник. – 1876. – № 6, 7) – 151
«Дневник семинариста» И.С. Никитина (Никитин И.С. Соч.: В 4 т. – Т. 4. – М., 1984) – 198
«Довольно» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 9. – М.; Л., 1965) – 88, 95, 121, 127, 165, 182
«Домашний очаг. Повесть» Д.И. Стахеева (Вестник Европы. – 1879. – № 9—12) – 102, 133, 134, 144–145, 180, 229
«Донские гишпанцы» Е. Салиаса [Е.А. Салиаса-де-Турнемир]. (Салиас Е.А. Ведунья. Донские гишпанцы. – М., 1992) – 165
«Дочь управляющего» N [Хвощинской-Зайончковской С.Д. (?)] (Русский вестник. – 1864. – № 10) – 120
«Дьявол» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 12. – М., 1982) – 82
«Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 2 – Л., 1972) – 157
«Егорка-пастух» Н.В. Успенского (Успенский Н.В. Повести, рассказы и очерки. – М., 1957) – 119, 139, 181, 195, 196, 236
«Единственный случай» Л.Ф. Нелидовой [Ломовской-Маклаковой Л.Ф.] (Вестник Европы. – 1882. – № 4) – 133, 180, 195, 196, 218, 236
«Железная воля» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 6. – М., 1957) – 95
«Живые игрушки» М.А. Воронова (Дело. – 1869. – № 6, 7) – 12, 105, 135, 175
«Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина (Бунин И.А Собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. – М., 1967) – 221, 222
«Живые мощи» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 4. – М.; Л., 1963) – 187
«Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» С.Т. Славутинского (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1956) – 119, 172, 198, 205, 236
«Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет). Повесть» М. Горького [Пешкова А.М.] (Горький М. Собр. соч.: В 18 т. – Т. 12–15. – М., 1962–1963) – 221—222
«Житие одной бабы» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 1. – М., 1956) – 11, 172, 173, 175
«Житейские сцены. Отец и дочь» А.Н. Плещеева (Плещеев А.Н. Житейские сцены. – М., 1986) – 207
«Замок Эйзен» А.А. Бестужева-Марлинского (Русская романтическая повесть (первая треть XIX века). – М., 1983) – 122 – 124
«Записки из подполья» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 5. – Л., 1973) – 11, 83, 95, 121, 151, 156, 165, 222, 233–234, 241
«Записки причетника» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956) – 91, 172, 181, 198
«Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 5. – М., 1957) – 11, 90, 117, 122, 132, 150, 156, 165, 170
«Знамения времени» Д.Л. Мордовцева (Мордовцев Д.Л. Знамения времени. – М., 1957) – 106
«Золотая медаль» В.Т. Шаламова (Шаламов В.Т. Собр. соч. – Т. 1. – М., 1998) – 219
«Золотые сердца» Н.Н. Златовратского (Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки. – М., 1988) – 73, 85, 102, 107, 113–116, 132, 134, 135, 205
«Из огня да полымя» Е. Н-ской [Н.П. Шаликовой] (Русский вестник. – 1865. – № 12) – 100
«Издалека и вблизи» Н.В. Успенского (Успенский Н.В. Повести, рассказы и очерки. – М., 1957) – 90, 107, 109–110, 112–113, 140
«Институтка» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957) – 95, 106, 127
«Ионыч» А.П. Чехова (Чехов А.П. Полн. собр. соч и писем: В 30 т. – Соч. – Т. 10. – М., 1977) – 96
«Ищущий правды» Федосеевца [Абрамова Я.В.] (Отечественные записки. – 1882. – № 5) – 176, 213—218
«Казаки. Кавказская повесть» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 3. – М., 1979) – 11, 90, 91, 116, 121, 165
«Карьера Струкова» А.И. Эртеля (Эртель А.И. Волхонская барышня. Смена. Карьера Струкова. – М.; Л., 1959) – 102, 133, 187
«Клара Милич (После смерти)» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 11, 88, 182, 185–187, 222
«Крапивники» И.А. Салова (Русские повести XIX в. / 70 – 90-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1957) – 11
«Крейцерова соната» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 12. – М., 1982) – 82
«Крестьяне-присяжные» Н.Н. Златовратского (Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки. – М., 1988) – 91, 107, 110–111, 136, 205
«Крестьянское горе» Ф.Д. Нефёдова (Крестьянское горе: рассказы и повести писателей-народников 70—80-х годов XIX в. – М., 1980) – 94
«Кроткая. Фантастический рассказ» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 24. – Л., 1982) – 127, 140, 218, 221, 234, 236
«Крутоярская царевна» Е. Салиаса [Салиаса-де-Турнемир Е.А.]. (Салиас Е.А. Ведунья. Донские гишпанцы. – М., 1992) – 165
«Кум Иван. Историческая быль. 1485 год» Д.Л. Мордовцева (Русская историческая повесть: В 2 т. – Т. 2. – М., 1988. – С. 314–342) – 165
«Kinder der Welt» P. Heyse (пер.: Гейзе П. Дети века: В 2 т. – СПб., 1873) – 63
«Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 1. – М., 1956) – 82, 196
«Магдалина. (Из рассказов одного знакомого)» М.В. Авдеева (Дело. – 1869. – № 1) – 85–86, 151, 168, 181
«Мачеха» Новинской [Павловой А.В.] (Русский вестник. – 1861. – № 5–6) – 137–138, 140, 173
«Маша» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956) – 169, 218, 221
«Между людьми» Ф.М. Решетникова (Решетников Ф.М. Между людьми: Повести, рассказы, очерки. – М., 1985) – 102, 132, 134, 151, 166—167, 174–175, 180, 182, 183, 198, 205
«Мельница купца Чесалкина» И.А. Салова (Русские повести XIX в. / 70—90-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1957) – 91, 140, 164
«Мещанский мыслитель» Федосеевца [Я.В. Абрамова] (Слово. – 1881. – № 4) – 194
«Мещанское счастье» Н.Г. Помяловского (Помяловский Н.Г. Соч.: В 2 т. – Т. 1. – М.; Л., 1965) – 91, 95, 98, 100, 139, 151
«Мимочка-невеста» Л.И. Веселитской (Вестник Европы. – 1883. – № 9) – 151, 218, 221
«Мимочка на водах» Л.И. Веселитской (Вестник Европы. – 1891. – № 2) – 221
«Мимочка отравилась» Л.И. Веселитской (Вестник Европы. – 1893. – № 10) – 221
«Мирская беда» («Своя рубашка») С.Т. Славутинского (Современник. – 1859. – № 6) – 205
«Молодые побеги» А.А. Потехина (Вестник Европы. – 1878. – № 10–12) – 102, 106, 135, 180, 205, 210
«Молотов» Н.Г. Помяловского (Помяловский Н.Г. Соч.: В 2 т. – Т. 1. – М.; Л., 1965) – 100, 117, 139, 151
«Мы победили» Г.А. Мачтета (Русские повести XIX в. / 70—90-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1957) – 91, 151, 164
«На миру» А.А. Потехина (Вестник Европы. – 1877. – № 4, 5) – 119, 164
«На точке» М.Н. Альбова (Писатели чеховской поры: Избран. произв. писателей 1880—1890-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1982) – 218, 219, 220
«Надо жить» Л. Лукьянова [Л.А. Полонского] (Вестник Европы. – 1878. – № 19) – 102
«Накануне ликвидации» А.О. Осиповича-Новодворского (Русские повести XIX в. / 70—90-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1957) – 11
«Накануне Христова дня. Повесть» А.И. Левитова (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1957) – 83, 106, 151, 172, 173, 180, 197, 204, 205
«Наталия Карповна» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 103
«Немая» В. К-ова [?] (Русский вестник. – 1864. – № 11) – 120
«Несчастная» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 10. – М.; Л., 1965) – 229, 236
«Несчастные дети. Рассказ» М.А. Воронова (Дело. – 1870. – № 8) – 12
«Николай Негорев, или Благополучный россиянин» И.А. Кущевского (Кущевский И.А. Николай Негоряев, или Благополучный россиянин. – М., 1958) – 106
«Николай Суетнов. История одного крестьянина» И.А. Салова (Салов И.А. Грачевский крокодил: повести и рассказы. – М., 1984) – 94, 181, 213, 221, 236
«Ниночка. (Роман)» А.П. Чехова (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 4. – М., 1976) – 139, 218, 219
«Новые русские люди» Д.Л. Мордовцева (Отечественные записки. – 1870. – № 7) – 106
«Новь» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 12. – М.; Л., 1966) – 103
«Обломов» И.А. Гончарова (Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 4. – М., 1979) – 81
«Окольным путём» В.Г. Авсеенко (Русский вестник. – 1873. – № 3) – 95
«Отец Иван и отец Стефан» Р. Сосны [Радонежской Р.Р.] (Вестник Европы. – 1881. – № 6–8) – 136
«Отрочество» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 1. – М., 1978) – 173
«Отрывки из воспоминаний – своих и чужих» И.С. Тургенева. См.: «Старые портреты», «Отчаянный». «Отцы и дети» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 8. – М.; Л., 1964) – 85
«Отчаянный» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 12, 87, 103, 104, 139, 176, 180, 182, 183, 197, 218, 219, 220
«Очарованный странник» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 4. – М., 1957) – 11, 89, 105, 132, 169, 182
«Ошибка за ошибку» Н.Р. [?] (Русский вестник. – 1860. – № 5) – 100
«Пансионерка» Н.Д. Хвощинской (Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести и рассказы. – М., 1963) – 95, 132, 135, 139, 143–144, 180
«По-американски!..» П.Д. Боборыкина (Дело. – 1870. – № 9) – 86–87, 182, 183
«Пахатник и бархатник» Д.В. Григоровича (Григорович Д.В. Избр. соч. – М., 1955) – 95, 96, 152, 169–170, 172
«Пашинцев» А.Н. Плещеева (Плещеев А.Н. Житейские сцены. – М.,
1986) – 83, 105, 110, 139, 172, 173, 180, 181, 205, 207–209
«Первая борьба. Из записок» Н.Д. Хвощинской (Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести и рассказы. – М., 1963) – 91, 173
«Первая гроза. Рассказ» Л.Я. Стечькиной (Русский вестник. – 1875. – № 7) – 120
«Первая любовь» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 9. – М.; Л., 1965) – 88, 120, 126, 140, 151, 165, 173, 182, 222
«Первый возраст в мещанстве» М.П. Фёдорова (Дело. – 1870. – №№ 8) – 91, 106, 119, 139, 175, 181, 198, 200
«Перед зарёй» П. Фелонова (Отечественные записки. – 1873. – №№ 8) – 102, 106, 111, 133, 135, 176, 180, 210
«Переписка» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 6. – М.; Л., 1963) – 121
«Песнь торжествующей любви» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 11
«Питомка. Деревенские сцены» В.А. Слепцова (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1956) – 151, 195, 196
«Подлиповцы» Ф.М. Решетникова (Решетников Ф.М. Между людьми: Повести, рассказы и очерки. – М., 1985) – 140, 205
«Поликушка» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 3. – М., 1979) – 119, 151–152, 165
«Полоса» Л.Ф. Нелидовой [Ломовской-Маклаковой Л.Ф.] (Вестник Европы. – 1879. – № 10) – 11, 91, 100–101, 119–120, 127, 135, 143, 156
«По сёлам и захолустьям. Деревенские рассказы» О. Забытого [Недетовского Г.И.] (Вестник Европы. – 1875. – № 5, 6, 12) – 221
«Последний поклон» В.П. Астафьева (Астафьев В.П. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 3. – М., 1980) – 83
«После потопа» Н.Д. Хвощинской (Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский псевдоним]. Повести и рассказы. – М., 1963) – 102, 133, 146–150, 195, 196, 236
«Похороны» М.Е. Салтыкова-Щедрина (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. – Т. 12. – М., 1971) – 91, 151, 229
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 6. – Л., 1973) – 96, 100
«Призвание» А.Н. Плещеева (Плещеев А.Н. Повести и рассказы: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1897) – 105, 181, 207–209
«Призраки» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 9. – М.; Л., 1965) – 94, 121
«Птичница» А.Н. Луканиной (Вестник Европы. – 1878. – № 6) – 218, 221
«Пунин и Бабурин» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 11. – М.; Л., 1966) – 11, 83, 87, 102, 103, 134, 135, 151, 168, 181, 183
«Путешествие во внутрь страны» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957) – 146–147, 149, 150, 196
«Разоренье» Г.И. Успенского (Успенский Г.И. Избр. соч. – М.; Л., 1949) – 198, 205
«Рудин» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 6. – М.; Л., 1963) – 15, 85, 112, 114
«Саша» Н.В. Успенского (Успенский Н.В. Повести, рассказы и очерки. – М., 1957) – 107 – 110
«Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 3. – Л., 1972) – 95, 151
«Сельская идиллия (Из дневника неопытной помещицы)» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957) – 151
«Сельское учение. Степная идиллия» А.И. Левитова (Вестник Европы. – 1872. – № 2) – 137, 198
«Сельцо Малиновка» О. Шелешовской [Львовой Е.В.] (Вестник Европы. – 1875. – № 11) – 102, 132, 134
«Сквозь мрак к свету» К. Гуцкова (Отечественные записки. – 1870. – № 9—10) – 63
«Смех и горе» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 3. – М., 1957) – 12, 128–132, 151, 156, 196
«Сон бабушки и внучки» Ольги N. [Энгельгардт С.В.] (Вестник Европы. – 1869. – № 6) – 100, 180
«Сорока-воровка» А.И. Герцена (Герцен А.И. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1955) – 100
«Ставленник» Ф.М. Решетникова (Решетников Ф.М. Избр. произв.: В 2 т. – Т. 1. – М., 1956) – 91, 111, 135, 139, 180, 198, 200, 229
«Старина» Н. Кохановской [Соханской Н.С.] (Кохановская Н. Старина. – М., 1891) – 122, 165
«Старинные дела. Рассказы и воспоминания» А.Н. Луканиной (Вестник Европы. – 1878. – № 3, 6, 7) – 221
«Старческий грех. Совершенно романическое приключение» А.Ф. Писемского (Писемский А.Ф. Соч.: В 3 т. – Т. 2. – М., 1956) – 12, 236
«Старческое горе» М.Е. Салтыкова-Щедрина (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 12. – М., 1971) – 229
«Старые годы. Повесть» П.И. Мельникова-Печерского (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1956) – 94, 122, 124, 165, 198, 204
«Старые годы в селе Плодомасове» Н.С. Лескова (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 3. – М., 1957) – 123–125, 197, 205
«Старые голубки» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 103
«Старые портреты» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 103, 218, 220
«Степан Огоньков. Повесть» П.В. Засодимского (Засодимский П.В. [Вологдин]. Собр. соч.: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1895) – 91, 140, 182
«Степан Рулёв. Повесть» Н.Ф. Бажина (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956) – 89, 96, 111, 133, 170, 180, 181
«Степной король Лир» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 10. – М.; Л., 1965) – 119, 173, 196
«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – М.; Л., 1967) – 185
«Стоянка человека» Ф.А. Искандера (Знамя. – 1989. – № 9) – 83, 117
«Странная история» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 10. – М.; Л., 1965) – 11, 103, 133, 151, 156, 180, 183, 195, 196, 218, 219—220
«Стук… стук… стук!..» И.С. Тургенева (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 10. – М.; Л., 1965) – 12, 95, 103, 218
«Судьба человека» М.А. Шолохова (Шолохов М.А. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 3. – М., 1961) – 219 «Сухая любовь» М.В. Авдеева (Дело. – 1870. – № 10) – 95, 134
«Тёмные силы. Повесть» П.В. Засодимского (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956) – 89–90, 173, 181
«Тёплое гнёздышко» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957) – 82
«Три дороги» П.В. Засодимского (Засодимский П.В. [Вологдин]. Собр. соч.: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1895) – 90, 95, 106, 132–135, 205
«Три сестры» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957) – 90, 102, 135, 140, 175, 177, 182
«Трое» М. Горького (Горький М. Собр. соч.: В 18 т. – Т. 3. – М., 1960) – 222
«Трудное время. Повесть» В.А. Слепцова (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956) – 12, 85, 87, 102, 117, 119, 135, 139, 154–156, 170, 172, 180, 181, 183, 187, 195, 196, 211–212, 236
«Тюлевая баба» М. Вовчок (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957)– 151
«У источника» Дроза (Отечественные записки. – 1870. – № 8) – 63
«У ног лежачих женщин» Г.Н. Щербаковой (Новый мир. – 1996. – № 1) – 83, 100
«Униженные и оскорблённые» Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М.
Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 3. – Л., 1972) – 106
«Учительница» Н.Д. Хвощинской (Хвощинская Н.Д. [В. Крестовскийпсевдоним]. Повести и рассказы. – М., 1963) – 11, 102, 133, 210
«Француз» Е. Салиаса [Салиаса-де-Турнемир Е.А.] (Салиас Е.А. Ведунья. Донские гишпанцы. – М., 1992) – 165
«Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 14. – М., 1983) – 182, 184
«Хмелева ночь» Д.В. Аверкиева (Аверкиев Д.В. Повести из старинного быта: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1898) – 165
«Царевич Алексей» Г.П. Данилевского (Русская историческая повесть: В 2 т. – Т. 2. – М., 1988. – С. 366–407) – 165
«Церковный староста» О. Забытого [Недетовского Г.И.] (Вестник Европы. – 1876. – № 5, 6) – 218, 220
«Червонный король» М. Вовчок [Виленской-Маркович М.А.] (Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957) – 94, 151
«Читальщица» С.Т. Славутинского (Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956) – 165, 195, 196, 232
«Чтец, певец и свещеносец» О. Забытого [Недетовского Г.И.] (Вестник Европы. – 1875. – № 12) – 218
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского (Современник. – 1863. – Т. XCV. Отд. 1. – Т. XCVI. – Отд. 1) – 106
«Чужие письма» А. Морозова (Морозов А. Чужие письма. – М, 1999) – 117
«Шаг за шагом» И.В. Фёдорова-Омулевского (Омулевский И.В. [Фёдоров].
Шаг за шагом. – М., 1957) – 81,106
«Штосс» М.Ю. Лермонтова (Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. / под ред. и с примеч. проф. Д.И. Абрамовича. – Т. 4. – Пг.: Императ. АН, 1916 [Академ. Биб-ка русских писателей: Вып. 5]) – 185
«Эпизод из жизни ни павы, ни вороны» А.О. Осиповича-Новодворского (Русские повести XIX в. / 70—90-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1957) – 135, 151
«Юность» Л.Н. Толстого (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 1. – М., 1978) – 173
«Юровая» Н.И. Наумова (Русские повести XIX в. / 70—90-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1957) – 95, 119, 139, 164
«Яшенька» М.Е. Салтыкова-Щедрина (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. – Т. 4. – М., 1966) – 95, 198
Предметно-тематический указатель[472]
Автор – 20, 22, 53, 77, 79, 91, 107, 123–127, 129, 136, 141–143, 146, 152, 154, 156, 157, 166, 197, 199–204, 209, 219, 222, 231–234, 242
• автор-повествователь – 118, 120, 123, 129, 130, 138, 150–152, 155, 156, 166, 199, 232
• авторская позиция – 105, 110, 117, 118, 120, 124, 127, 128, 131, 132, 140, 142, 155, 156, 158, 171, 173
• «адресованность» – 20, 29, 54
• образ автора» – 151, 156
Аксиология / аксиологическое – 52, 53, 56, 81, 127, 207
Аналитичность – 68, 69, 80, 155, 242
Антиутопия – 191
Антропологическая парадигма – 52
Архетип – 46, 184, 186, 187
Архитектоника эстетического объекта – 7, 48, 51, 52
Биография художественная – 199
Вид – 14, 17, 19, 23–27, 31, 32, 36–39, 44, 54, 57, 59, 61, 64, 80, 84, 93, 122, 190–192, 203, 224, 240, 241
Герменевтика – 7, 9, 10, 46–50, 54, 55, 57, 158, 225
• герменевтика жанра – 7, 38, 48, 49, 58, 61, 77, 225, 238–240, 242
• герменевтический круг – 49, 50
• горизонты понимания – 49, 50
Герой (тип героя) – 43, 54, 81, 85, 86, 101–104, 113, 117, 118, 121, 123, 133, 137, 139, 141, 142, 160, 162, 165, 166, 176, 178, 181, 197, 199, 205, 207, 209–212, 214, 216, 226, 230, 231, 233, 241
Гносеология – 52, 53, 190
Деталь художественная – 44, 198, 212
Детерминизм – 141, 158–160, 177
Детерминизм художественный – 14, 44, 54, 57, 133, 158, 159, 202
• жанровая специфика художественного детерминизма – 94, 95, 150, 158–187, 190, 196
• детерминанты – 14, 79, 112, 158–187, 190, 193, 235, 241
– внешние – 112, 158, 160, 162, 164–168, 170–173, 179, 183
– внутренние – 158, 160, 161, 162, 165–168, 170–173, 179
• объёмный принцип членения универсальных закономерных связей – 163
• порядковый принцип членения универсальных закономерных связей – 163, 164, 166, 169, 183, 239
Диалог – 54, 55, 127, 155, 156, 196, 212, 232
Диалогизм – 29, 54, 121, 129, 131, 135, 153–157, 199, 210, 240
Динамика (динамизм) жанра – 13, 16, 21, 43–45, 50, 57, 60, 61, 184, 188,
193, 206–223, 235, 238, 239, 242—243
Дискурс – 44, 48, 141, 142, 234 Драма – 192, 196, 236, 237, 238 Драматизация повести – 91, 195–197, 236, 238 «Другой» – 153, 155, 156 Документализм – 44, 197, 198, 201, 204 Достоверность – 44, 68, 69, 201, 204, 208, 214 Жанр – 45
• как содержательно-формальная категория – 21–23, 27–30, 36
• как проблемно-содержательная категория – 21–24, 28, 31—36
• авторские жанровые определения – 12, 44
• «архаика» – 13, 29, 30, 38, 40, 47–49, 51, 54–57, 59–62, 101, 106, 125, 203, 206, 227
• генезис – 4, 7, 20, 62
• жанровая группа – 26, 33, 71, 76, 191
• жанровая доминанта – 17, 19, 20, 25, 43, 118, 122, 164
• жанровая норма – 17, 125, 128, 132, 141, 149, 183, 242
• жанровая «концепция личности» – 76, 83, 189
• жанровая «концепция человека» – 15, 40–42, 54, 62, 73, 76, 79, 83, 99, 117, 153, 163, 189, 227
• жанровая общность – 32
• жанровая проблематика (тип проблематики) – 15, 19, 21, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 54, 55, 62, 69, 70, 82, 83, 99, 133, 198, 204, 226,
227, 242
• жанровая система – 60, 86, 158, 190, 191, 224, 234, 238
• жанровая структура – 13, 16, 18, 21, 30–32, 37, 49, 55, 60, 61, 71, 77, 133, 197, 212, 234, 235
• жанровая форма – 17–20, 21, 22, 27, 30–34, 40, 43, 140, 190, 236
• жанровое новаторство – 45
• жанровое «событие» – 16, 35, 40, 70, 84, 99, 136, 168, 182, 187, 193, 208, 224, 225, 240
• жанровое содержание – 17, 19, 20, 21, 31–34, 38, 45, 64, 69, 70, 99
• «жанровый предел» – 99, 101
• жанровые модификации – 7, 43, 191
• жанровые разновидности («поджанры») – 17, 19, 20, 23, 37, 43, 60, 82, 95, 119, 122, 126, 164, 178, 191, 193, 205, 227, 231, 234, 235, 238, 239, 241
• жанровый канон – 100, 194
• жанровый ряд – 43, 191, 218
• жанровый тип – 7, 10, 17, 18, 24, 36, 42, 44, 59—60—62, 77, 94– 157, 162, 184, 191, 224—243
• жанровый «центр» – 19, 76, 223, 242
• жанрообразующие принципы – 20, 207
• жанрообразующие средства – 38, 42, 43–45, 50, 62, 93, 98, 99, 118, 122, 139, 181, 191, 194, 198, 206, 207, 222, 223, 230, 231, 236, 239, 240
• жанрообразующие факторы / жанрообразование – 17, 38–40, 42, 44, 45, 50, 62, 73, 118, 122, 125–128, 134, 153, 189, 190, 223, 227, 231, 236, 239, 240
• жанроформирующие факторы / жанроформирование – 17, 38–40, 41, 42, 44, 45, 50, 55, 62, 73, 74, 94, 117, 118, 122, 125, 138, 152, 189, 193, 223, 227, 230, 239, 240, 242
• жанрообусловливающие факторы / жанрообусловливание – 15, 38, 40, 42, 44, 45, 50, 54–58, 62, 73, 74, 79, 80, 93, 99, 189, 214, 227, 239, 242
• «идея жанра» – 36, 41
• индивидуальное в жанре – 45, 57, 122
• «индивидуальные жанры» – 12, 26
• конститутивное начало – 20, 22, 24, 41, 53
• конструктивный принцип жанра – 19, 24, 32, 35, 38, 41, 43, 54, 57, 62, 66, 77, 125, 189, 204, 206, 211, 224, 238
• корреляции детерминант как признак жанра – 158—187
• «масштаб жанра» – 229, …
• метажанр – 24, 194
• метапоэтика жанра (самоинтерпретация писателя) – 64, 67
• «младший жанр» – 25
• моделирующая функция – 18, 21, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 66, 126, 128, 158, 187, 221, 225, 230, 231, 235, 238
• мотивировки восприятия – 20
• «новое» в жанре – 29, 30, 38, 54, 57, 79
• «носители жанра» – 19, 201
• обобщающая функция – 13, 93, 158
• объём содержания – 21, 30, 45, 54, 57, 70, 83, 225, 238
• «память жанра» – 49, 55, 81, 119, 205
• «письменные» жанры – 69
• познавательное качество – 36, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 52, 54, 55, 60, 79, 197, 228
• «понимающее бытие» – 9, 10, 16, 21, 22, 28, 39, 42, 44–59, 62, 79, 214, 225, 228
• потенциал жанра – 16, 42, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 78, 83, 104, 128, 190, 224, 228, 238, 243
• «рассказываемые» жанры – 69
• речевые жанры – 7, 20
• «старший жанр» – 25, 190, 224
• сущность содержания – 21, 30, 40, 41, 45, 50, 54, 57, 70, 83, 238
• «тематическая ориентация на жизнь» жанра – 21, 29, 56, 58, 62, 227
• типологическое и историческое в жанре – 31, 32, 38, 45, 60, 101, 103–117, 227, 230
• устойчивое в жанре – 21, 29, 31, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 57, 59, 79, 84, 188, 235, 239, 242
• целостность жанра – 10, 14, 15, 17, 19, 21–23, 25, 28, 30, 32, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 59, 61, 62, 78, 93, 94, 99, 118, 125, 136, 164, 183, 213, 223, 225, 228, 231, 232, 238—240
Жизнедеятельность – 81, 101, 112, 118, 128, 131, 132, 187
Завершение – 20, 21, 29, 30, 35, 42, 45, 46, 49, 56, 58, 62, 99, 193, 209, 221, 222, 233, 243
• художественно-оформляющее – 15, 21, 41, 61, 70, 99, 116, 146, 193, 217, 243
• тематическое завершение – 15, 21, 27, 29, 61, 70, 99, 116, 197, 209, 211, 230, 243
«Идея человека» (тип мироотношения) – 12, 15, 42, 43, 62, 93, 158, 184, 188 – 206, 224, 227, 235
Интерпретация – 47, 48, 52, 55, 57, 58, 60, 105
Историзм – 4, 29, 54, 104, 160
Историко-культурная (литературная) эпоха – 7, 13, 15, 42, 60, 158, 189, 190, 224, 230
Источники произведения – 44, 194, 209, 242
Композиция – 19, 43, 66
Контрапункт – 109, 110, 115, 134, 229, 230, 240
Конфликт – 41, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 103, 117, 137–139, 155, 170, 173, 181, 196, 208, 209, 212, 213, 220, 228–230, 235–237
Контекст – 46, 120, 123
Концепт – 45
«Кругозор» – 107, 127, 130, 131, 135, 142, 152
Лейтмотив – 109, 114, 229
Личное (индивидуальное) творчество – 5, 8, 9
Личность – 79–82, 85, 102, 108, 133, 141, 162, 175, 176, 192, 194, 199, 203, 204, 206, 219, 220, 222, 237
• личность как эстетическая категория – 15, 84, 89, 142, 190, 191, 207, 213, 215, 221, 226
Метод художественный – 12, 19, 27, 36, 39, 42–44, 59–61, 73, 122, 158, 159, 189, 192, 235
«Мирообраз» – 40, 126, 227
Модификация произведений – 9, 51
Направление литературное – 59, 225
Новаторство – 237
Новелла – 19, 26, 28, 32, 67, 68, 96, 108, 139, 215–217, 219, 225
• новеллизм – 69, 104, 139, 140, 196, 197, 214, 215, 217, 238, 242
• новеллизация – 43, 213, 214, 217, 238
• pointe – 215, 216 Обусловленность – 159, 160, 175, 182
Общечеловеческое – см. «Человек»: «родовое»
Онтология / онтологическое (бытийная концепция) – 49, 51, 52, 81, 86 – 89, 121, 125, 126, 129, 182, 183, 206, 220, 230, 241
Очерк – 11, 65, 68, 193, 195, 197–204, 206, 219, 224, 238
• новеллистического типа – 197, 198
• очерковость – 199, 205, 206, 208
• очерк-портрет – 201, 202, 209
Пафос – 202
Пейзаж – 212
Познание – 45–59
Полифоничность – 154, 233
Повествование – 11, 19, 20, 43, 65, 70, 77, 123, 136–157, 196, 197, 201, 204, 205, 209, 222, 229, 231, 232, 234, 238, 242
• аукториальная повествовательная ситуация – 141, 143
• монологизм повествования – 152–156, 199, 232, 233, 240
• первичные формы словесно организованного повествования -55, 139, 151
• персональная повествовательная ситуация – 141, 142, 144–147, 150, 234, 242
• повествователь – 91, 125, 127–129, 131, 140, 141, 143–156, 197, 204, 232
• повествовательная идентичность персонажа – 141, 142, 144, 145, 149, 150, 153, 234
• рассказчик – 114, 123, 128, 129, 131, 151, 156, 197, 204, 219, 232
• ритм повествования – 19
• система Er-Form – 140–149, 232, 242
• система Ich-Erzahlsituation – 149–152, 233, 242
• субъектная организация текста – 43, 118, 120, 122–125, 128, 129, 131, 134, 140, 148, 151–156, 165, 197, 198, 204, 209, 232, 242
• тип повествования – 20, 41, 69, 117, 137, 141, 152, 209, 226, 229, 232, 233, 242
• тип повествования в повести – 136–139, 141, 204, 209, 232, 237
• «чужое слово» – 146
Повесть – 11–16, 18, 19, 26, 28, 33, 44, 59, 61-259
• «архаика» – 68, 79 – 93
• влияние на драму – 237-238
• герой – 83, 84, 87–91, 97, 98, 101–104, 113, 117, 118, 121, 123, 133, 137, 139, 141, 142, 160, 162, 165, 166, 176, 178, 181, 197, 199, 205, 207, 209–212, 214, 216, 226, 230, 231, 233, 241
• двуаспектная ситуация «человек – микросреда» – 84, 87–97, 106, 111, 114, 115, 118, 121, 126–128, 131, 133, 135, 137, 138, 163, 164, 166, 169, 170, 180, 182, 183, 206, 208–210, 213, 214, 217, 221, 225-232, 239, 241
• драматизированная – 43, 99, 139, 165, 195, 223, 237
• жанровая «концепция человека» – 80, 87, 96, 153, 230
• жанровая проблематика – 94, 96, 220, 222, 235
• жанровая специфика – 67, 69, 70, 75–79, 83, 84, 87–89, 95, 96,
98, 103–105, 108, 110, 115–118, 121, 123, 131, 135–140, 152, 154, 163, 168, 169, 172, 174, 175, 178, 179, 182, 183, 203, 206–209, 218, 221, 224-243
• жанровый тип характера – 67, 68, 94, 135, 166–167, 174, 178, 180, 182, 211, 220, 226, 235, 240
• историческая – 165
• коллизия – 90, 98, 100, 108, 109, 114–116, 139, 168, 195, 203205, 209, 212, 218, 226, 229, 237, 240
• лирическая – 120, 165
• на очерковой основе – 43, 44, 99, 107, 139, 165, 198, 204, 205, 210, 238
• парадигма жанрового типа реалистической повести – 224—243
• повесть-новелла – 99, 139, 165
• повесть-рассказ – 142, 144, 146, 149, 165
• романическая – 12, 26, 33, 43, 44, 76, 87, 89, 91, 99, 107, 111, 116, 117, 139, 165, 170, 205, 217, 221, 222, 226, 229, 232, 233, 238, 240, 241
• социальная – 96
• социально-бытовая – 119, 164, 208
• социально-психологическая – 119, 165
• структура – 64, 70, 71, 77, 80, 84, 97, 99, 119, 138, 146, 163, 188, 195, 206, 207, 219, 222, 227, 230, 234
• сюжетно-композиционная система – 68, 69, 76, 77, 84, 88, 89, 91, 93, 94, 97, 99, 100, 103–118, 122, 123, 125, 126, 149, 153, 156, 157, 166, 168, 170, 226, 228, 229–231, 234–236, 240—242
• тип конфликта – 65, 87, 91, 93—103, 240
• тип повествования – 68, 69, 74, 93, 94, 136–138, 140, 141, 226, 232, 242
• «удлинённая» – 63
• философская – 121, 165, 171, 179
• финал – 100, 116, 120, 230, 240
• хроникальная – 99, 122–125, 165, 170
• хронотоп – 65, 67, 74–77, 93, 112, 117–136, 141, 142, 150, 153, 156, 157, 183, 196, 208, 226, 230–232, 239, 241
• художественные ситуации – 41, 77, 94—103, 140, 142, 150, 203, 205, 209, 217, 220, 226, 228, 240
Подробность художественная – 44, 198
Поступок – см. «Философия поступка»
Поэма – 14
Поэтика – 4—10, 17, 34, 59, 61, 64, 99, 100, 198, 202, 205, 208, 235, 237
• индуктивная – 4, 5
• историческая – 4—10, 17, 59–62, 136, 191, 224
• мифопоэтика – 185—187
• общая (теоретическая, систематическая) – 6, 17, 60, 239
• описательная (частная) – 6, 60
• художественной модальности – 8, 10
• эйдетическая – 8
Предпонимание – 48, 49
Причинность – 158, 159, 163, 170, 182
Психологизм – 44, 145, 148, 171, 212, 213, 238
Психопоэтика – 142, 148, 172, 178, 186, 212, 217
Портрет – 44, 198, 200, 212
Публицистичность – 44, 194, 197, 198, 199, 204, 218
Рассказ – 11, 12, 18, 19, 26, 33, 44, 65, 67, 68, 77, 79, 88, 96, 97, 137, 191, 192, 199, 213, 214, 216, 219, 224, 225
• рассказ-очерк – 213, 214
• романоподобный – 12, 76, 139, 213, 215—217
• художественные ситуации – 88, 92, 137, 217
Реализм – 13, 44, 167, 182, 183, 185, 187, 189, 190, 192–194, 200, 201, 205—207, 223–225, 238, 242
Роман – 11–15, 18, 19, 28, 44, 55, 63–88, 92, 95–97, 106, 108, 113, 114, 116–118, 138, 164, 171, 178, 186, 190, 192, 195, 199, 207–209, 211, 214, 217, 219, 222, 224–226, 228, 235, 241, 242
• романная кульминация – 81, 85, 207
Романизация – 79, 80, 117, 139, 206–223, 230, 238 Романтизм – 186
Род – 8, 17, 18, 23, 24, 27, 31, 36, 39, 59, 70, 190, 192, 194, 203
• родовое содержание – 18, 33, 34, 40, 77
• родовые взаимодействия – 62
• родовые формы – 18, 22, 33, 37, 40, 117, 191, 192, 195
Синкретизм художественный – 8
Синтез художественный – 43, 44, 46, 77, 139, 140, 142, 158–224, 236, 242
• жанрово-видовой – 12, 13, 77, 139, 163, 188, 191, 194, 222, 235, 242
• жанрово-родовой – 13, 139, 163, 188, 191, 194, 235, 242 Система – 50, 53, 60–62, 190, 191, 239
Ситуации художественные – см. «Повесть»: «художественные ситуации»; «Рассказ»: «художественные ситуации»
Смысловое целое – 30, 39, 50, 126, 225, 239, 240
Смыслоожидание – 49
Содержание и форма – 29, 31, 66, 71, 92, 121
Сравнительный метод – 4, 5, 8, 59
Стиль – 8, 26, 27, 34, 36, 39, 43, 44, 60, 61, 122, 125, 132, 138, 141, 151, 155, 156, 190, 192, 201, 204, 206, 232, 233
• «большой стиль» – 8, 194, 225
• «жанровый стиль» – 140, 234
• идиостиль – 144, 146, 199
Стихотворение в прозе – 191
«Студия» («студия типа») – 12, 44, 104, 191, 218–221, 238
Субъект познания – 51
Сюжет – 15, 19, 20, 43, 44, 134, 197, 198, 203, 204, 208, 209, 211, 213–216, 219, 220, 226, 229–231, 234–236, 241, 242
• интенсивный – 107, 111–114, 203, 204, 209, 226, 240
• концентрический принцип – 106, 107, 113, 208
• мотивировки – 86, 158–160, 177-179
• объём сюжета – 70, 142, 225
• экстенсивный – 107, 108, 111–113, 122, 203, 204, 209, 226, 240
• хроникальный принцип – 106, 107
Сюжетно-композиционная организация – 99, 100, 138, 192, 197, 201, 204, 205, 207, 209, 212, 214, 230
Сюжетно-композиционная типология – 33, 41, 60, 117, 136, 139, 168, 219, 234
Сюжетно-композиционная структура – 20, 44, 69, 195, 208, 230
Текст – 15, 37, 44, 45, 48, 54, 127, 139, 170, 198, 203
• метатекст – 203
• объём (размер) текста – 30, 70-72
• подтекст – 212, 238
• сверхтекст – 44, 84
«Тип мироотношения» – см. «Идея человека»
Типизация (художественное обобщение) – 13, 158–160, 166, 173, 178, 182, 183, 194, 197, 198, 204, 205, 207–209, 213, 221, 234, 235, 238, 242
Тип структуры – 47, 60
Типология / типологическое – 5, 8, 15, 21, 22, 32, 33, 37, 44, 57, 59–62, 72, 79, 81, 99, 102, 105, 117, 122, 126, 158, 167, 188–190, 192, 194, 201, 217, 227, 229, 231, 238
Типология жанровая – 21–23, 25, 31, 32, 45, 72, 88, 92, 120, 131, 133, 139, 157, 195, 203, 211, 221, 238, 240, 241
• жанрово-родовая – 23, 37, 45, 72
• жанрово-видовая – 23, 32, 37
• родо-видовая – 45
Типы художественного (поэтического) сознания – 8, 9
Традиция – 45, 48, 49, 57–59, 85, 200, 203, 206, 237, 238
Условия – 154, 170
Фабула – 136, 150, 153, 168, 209, 226, 242
Философия поступка – 51–53, 57
Фон произведения – 20
Форма художественная – 22, 23, 30, 34, 60
Характер – 32, 41, 81, 84, 85, 87, 91, 92, 131, 149, 160, 161, 167, 179, 197, 200, 208–211, 213, 216, 228, 230–232, 238, 240, 241
Характерология – 15, 43, 76, 77, 79, 81, 85, 93, 103–117, 158, 171, 178, 192, 197, 207, 229, 240
Хронотоп (времяпространство) – 15, 20, 41, 43, 52, 70, 77, 117–136, 166, 230, 231, 234
• авантюрный хронотоп – 124, 125
• вытянутое точечное пространство – 129-130
• концептуальный хронотоп – 117–136, 204, 230
• линеарное пространство – 129, 132, 134, 135, 144, 211
• образ «пути» – 130, 132, 133
• перцептуальное времяпространство – 117, 127
• «пространственно-этическое поле» – 127, 131, 134, 232
• точечное пространство – 129-131
• хронотоп двери – 130
• хронотоп дороги – 133, 135
Художественная концепция человека / личности – 15, 44, 190–192, 199, 227, 235
Художественная речь – 19
Художественное событие – 16
Художественное обобщение – см. «Типизация»
Художественное целое – 7, 45, 122, 209, 213, 217, 225
Художественно-познавательный цикл – 9, 15, 189, 191, 225
Целостность художественная – см. «Художественное целое»
Циклизация – 197–199, 205 Цитата – 46
Человек – 81, 159, 161–163, 165, 187, 190–192, 194, 202, 205, 206, 221
• в литературе – 76, 77, 80–82, 84, 91, 104, 121, 126, 166, 168, 171, 176, 179, 187, 191, 192, 197, 206, 208–210, 213, 215, 228, 230
• в повести – 65, 76, 77, 82, 84, 87, 91, 94, 101, 103, 117, 227, 230
• «видовое» – 14, 79, 81, 83, 91, 94, 96, 97, 107, 160, 162–164, 172, 193, 202
• «индивидуальное» – 14, 96, 163, 164, 172, 193
• общественный человек – 103, 176, 220
• природа человека – 42, 172, 190, 224
• «родовое» – 14, 79, 83, 94–97, 107, 162–164, 193
• сущность человека – 42, 98, 177, 190, 192, 224, 227
• целостного бытия изображение – 13–14, 79, 83, 103, 172, 193, 222
• «частный человек» – 103, 104
Читатель (слушатель) – 20, 29, 84, 146, 154, 164
Эволюция литературная – 4, 5, 8, 9, 43, 59, 60–62, 185, 243
Эпическое (повествовательное) – 43, 69, 77, 120, 126, 137, 139, 140, 163, 184, 196, 222, 227, 233, 236, 238, 242
Эпопея – 74–77, 225
Эстетическая деятельность – 8, 48
Эстетический объект – 7, 49, 53
Указатель имён
Абрамов Я.В. (Федосеевец) – 176, 194, 198–203, 205, 213, 216–218
Абрамович Г.Л. – 23
Авдеев М.В. – 85, 86, 95, 101, 134, 151, 168, 181
Аверкиев Д.В. – 165
Авсеенко В.Г. – 95, 184
Акимов В. – 68
Аллен Л. – 185
Альбов М.Н. – 95, 218—220
Андреев Л.Н. – 187
Амфитеатров А.В. – 185
Астафьев В.П. – 83
Астракова Т.А. – 175
Аюпов С.М. – 88
Бабиков К.И. – 120, 126, 134, 165
Бажин Н.Ф. – 89, 96, 111, 133, 170, 180, 181
Бальзак О. – 208
Батюто А.И. – 185
Бахтин М.М. – 7–9, 13, 15, 16, 18, 20–24, 27–31, 33, 35, 36, 40–43, 45–55, 70–79, 85, 99, 124, 126, 127, 133, 146, 153–156, 199, 207, 214, 224–227, 231–234, 239, 241
Белинский В.Г. – 13, 16, 30, 35, 39–41, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 82, 141, 168, 188, 190, 225, 234
Белинский М. (Ясинский И.И.) – 82, 136
Белый А. (Бугаев Б.Н.) – 29
Бердяев Н.А. – 187
Бестужев-Марлинский А.А. – 73, 122–124
Боборыкин П.Д. – 86, 100, 182, 183
Боков В.Ф. – 66, 225
Борев Ю.Б. – 47, 48
Бородина А.Г. – 184
Бройтман С.Н. – 6–9
Брянчанинов А.А. – 121, 151, 184
Буданова Н.Ф. – 187
Буланов А.М. – 124
Бунин И.А. – 187, 221, 222
Бурсов Б.И. – 88
Буслаев Ф.И. – 65
Васильев А.З. – 23, 28
Верли М. – 63
Веселитская Л.И. – 151, 218, 221
Веселовский А.Н. – 4–6, 8
Виноградов В.В. – 60
Виноградов И.А. – 96, 197
Вовчок М. (Виленская-Маркович М.А.) – 82, 91, 95, 102, 106, 127, 135, 140, 144, 146, 149–151, 156, 169, 172, 175, 177, 181, 182, 196, 198, 218, 221
Воронов М.А. – 12, 105, 135, 151, 175, 198
Гадамер Х. – Г. (Gadamer H. – G.) – 47–50, 58, 225
Гачев Г.Д. – 22, 34
Гартман И.Н. – 50
Гегель Г. – В. – Ф. – 35, 71, 186
Гейзе П. (Heyse P.) – 63
Герцен А.И. – 54, 55, 100
Гинзбург Л.Я. – 46, 159, 160
Гиршман М.М. – 42
Гоголь Н.В. – 29, 64, 65, 118, 127, 234
Головко В.М. – 9, 12, 42, 44, 70, 71, 78, 88, 96, 100, 103, 105, 108, 112, 119, 125, 127, 130, 142, 153, 155, 156, 168, 178, 179, 185, 187, 203, 209, 212, 219, 221, 232, 239
Гончаров И.А. – 81, 108
Горский И.К. – 5, 6, 8
Горький А.М. – 187, 197, 222
Григорович Д.В. – 95, 96, 152, 169, 170, 172
Гроссман Л.П. – 109, 229
Гуревич И.А. – 237
Гумбольдт фон В. (Humboldt W.) – 48, 56
Гуссерль Э. (Husserl E.) – 55
Гуцков К. – 63
Данилевский Г.П. – 165, 184
Джойс Д. – 187
Диккенс Ч. – 208
Дильтей В. (Dilthey W.) – 55–57
Днепров В.Д. – 19, 213
Добролюбов Н.А. – 65, 105, 110, 140, 209, 234, 236
Долгополов Л.К. – 184
Достоевский Ф.М. – 11, 13, 54, 59, 81–83, 95, 96, 100, 106, 108, 109, 117, 121, 127, 140, 151, 153–157, 165, 171, 187, 218, 221, 222, 224, 229, 232, 233, 236, 241
Дроз – 63
Ждановский Н.П. – 161
Жирмунский В.М. – 69, 161
Житков А. – 100
Забытый О. – (см. Недетовский Г.И.)
Засодимский П.В. – 89–91, 95, 106, 132–135, 140, 173, 181, 182, 205
Захаров В.Н. – 19, 20, 28, 69, 70
Златовратский Н.Н. – 73, 85, 91, 102, 107, 110, 113–116, 132, 134–136, 205
Зунделович Я.О. – 40, 126 Иванов В.В. – 162
Искандер Ф.А. – 83, 117
Каган М.С. – 23, 38
Канке В.А. – 47, 52
Канунова Ф.З. – 69, 73
Каразин В.Н. – 185
Касаткина Т.А. – 36
Кассирер Э. (Cassirer E.) – 185
Кашина Н.В. – 171
Келдыш В.А. – 160, 161
Кедров Б.М. – 163
Киносита Т. – 171
К-ов В. (?) – 120
Ковалевский П.В. – 184
Кожевников В.М. – 7
Кожинов В.В. – 19, 22, 23, 34, 36, 69, 217
Кормилов С.И. – 158, 161, 167, 181
Кохановская Н. (см. Соханская Н.С.)
Кросс Я. – 66
Кузьмин А.И. – 18, 23, 68–70, 72
Кузьмичев И.К. – 17–19, 23, 26, 27, 33, 35–37, 42, 74
Купер К. – 162
Курляндская Г.Б. – 69, 161, 185
Кущевский И.А. – 106
Лазарева К.В. – 185
Левитов А.И. – 83, 106, 137, 151, 172, 173, 180, 197, 198, 202, 204
Лейдерман Н.Л. – 19, 20, 23, 24, 36, 66, 69, 71, 76, 79, 88, 110, 154
Леонтьев А.Н. – 102
Леонтьев К.Н. – 151
Лермонтов М.Ю. – 29, 127, 185
Лесков Н.С. – 11, 12, 65, 66, 82, 84, 89, 90, 95, 105, 117, 121–125, 128–132, 135, 137, 151, 156, 165, 169, 170, 172, 173, 176, 179, 180, 182, 187, 196, 197, 205, 222
Лихачёв Д.С. – 8, 18, 71
Лосев А.Ф. – 186
Лотман Ю.М. – 127, 132, 133
Луговой А. (Тихонов А.А.) – 184
Лужановский А.В. – 88, 97, 99, 137, 217
Луканина А.Н. – 218, 221
Лукин В.А. – 57, 72
Лукьянов Л. (см. Полонский Л.А.)
Львова Е.В. (Шелешовская О.) – 102, 132, 134
Манн Ю.В. – 200 Маркович В.М. – 161
Матюшенко Л.И. – 164, 181
Махлин В.Л. – 50
Мачтет Г.А. – 91, 151, 164
Медведев П.Н. – 9, 15, 16, 18, 20, 22, 28–30, 35, 41, 42, 46, 48, 54, 56, 58, 59, 70, 74, 78, 146, 225
Мейлах Б.С. – 12
Мелетинский Е.М. – 7
Мельников-Печерский П.И. – 94, 122–124, 151, 165, 198, 204
Микешина Л.А. – 51–54
Михайлов А. В. – 6, 7, 10
Мокроносов Г.В. – 12, 42, 77, 163
Мордовцев Д.Л. – 106, 165
Морозов А. – 117
Москвина Р.Р. – 12, 42, 77, 163
Надеждин Н.И. – 64, 70
Наумов Н.И. – 95, 119, 139, 164
Недетовский Г.И. (О. Забытый) – 91, 111, 136, 143, 170, 195, 218, 220, 221, 236
Недзвецкий В.А. – 81, 82, 88, 95
Некрасов Н.А. – 192
Нелидова Л.Ф. (Ломовская-Маклакова) – 11, 91, 100, 111, 120, 127,
133, 135, 136, 143–145, 156, 180, 195, 196, 218, 229, 236
Нефедов Ф.Д. – 94
Никитин И.С. – 198
Николаев П.А. – 7, 161
Новинская (см. Павлова А.В.)
Н.О. (?) – 151
Новикова Е.Г. – 69
Н-ская Е. (см. Шаликова Н.П.)
Н.Р. (?) – 100
N (Хвощинская-Заиончковская Н.Д. (?)) – 120
Ольга N (см. Энгельгардт С.В.) Осипович-Новодворский А.О. – 11, 135, 151
Остолопов Н.Ф. – 64
Островский А.Н. – 192, 237
Павера Л. – 41
Павлова А.В. (Новинская) – 137, 140, 173, 184
Писемский А.Ф. – 12, 236
Плещеев А.Н. – 12, 83, 90, 91, 105, 110, 111, 117, 132, 135, 139, 172–174, 178, 180–183, 195, 196, 198, 205, 207–210, 236
Подлубнова Ю.С. – 24
Полевой К.А. – 71
Полонский Л.А. (Л. Лукьянов) – 102
Поляков М.Я. – 8
Помяловский Н.Г. – 91, 95, 98, 101, 117, 139, 151, 202
Поспелов Г.Н. – 17–19, 22–26, 28, 31–35, 37, 45, 70, 72, 160, 181, 225
Потебня А.А. – 117
Потехин А.А. – 102, 106, 119, 135, 144, 145, 164, 180, 200, 205, 210
Пруст М. – 187
Пушкин А.С. – 29, 127, 185
Радонежская Р.Р. (Р. Сосна) – 136
Реизов Б.Г. – 161
Решетников Ф.М. – 91, 100, 102, 111, 132, 134, 135, 139, 140, 151, 166,
167, 174, 175, 180, 182, 183, 198, 200, 202, 205, 229
Рикёр П. (Ricoeur P.) – 46, 48, 54, 55, 57, 58, 141, 148, 225
Рубинштейн С.Л. – 177
Руднев В.П. – 45
Салиас Е. (Салиас-де-Турнемир Е.А.) – 165
Салов И.А. – 11, 89–91, 94, 95, 111, 136, 139, 140, 164, 173, 176, 180—182, 210, 213, 221, 236
Салтыков-Щедрин М.Е. – 91, 95, 101, 108, 117, 151, 198, 229
Синенко В.С. – 23, 68, 69–72, 74, 79, 197, 229
Сиповский В.В. – 80
Скафтымов А.П. – 237
Скоблев В.П. – 17, 20, 23–25, 88, 89, 92, 231
Славутинский С.Т. – 65, 119, 156, 165, 172, 195, 196, 198, 205, 232, 236
Слепцов В.А. – 12, 85, 87, 101, 102, 117, 119, 135, 139, 151, 154, 156, 170, 172, 180, 181, 183, 187, 195, 196, 202, 211, 212, 236
Смелков Ю. – 66
Смирнов Н.Ф. – 91
Соколов А.А. – 185
Солженицын А.И. – 67
Сосна Р. (см. Радонежская Р.Р.)
Соханская Н.С. (Кохановская Н.) – 91, 122, 165, 175, 184, 229
Стахеев Д.И. – 102, 108, 133, 134, 144, 145, 180, 229
Стеблин-Каменский М.И. – 8
Стенник Ю.В. – 18, 20, 23, 25, 73
Стёпин В.С. – 80
Стечькина Л.Я. – 95, 119, 120, 165
Стулли Ф.С. – 91, 151, 180, 200
Сурков Е.А. – 69, 73
Суровцев Ю.И. – 68, 219
Сучков Б.Л. – 161
Сычёв Ю.В. – 87, 89, 162, 177
Тамарченко Н.Д. – 17, 18, 22–24, 36, 68, 71, 72, 78, 96, 121
Тимофеев Л.И. – 17, 19, 23, 60
Толстой Л.Н. – 11, 13, 14, 65, 66, 82,85, 86, 90, 91, 99, 100, 106, 108, 112,
116, 119, 121, 151, 152, 165, 173, 174, 182, 184, 187
Томашевский Б.В. – 22, 23, 96
Турбин В.Н. – 29
Тургенев И.С. – 11–13, 15, 63, 68, 81–83, 85, 87, 88, 92, 94, 95, 102–104, 112–114, 119–121, 126, 127, 133–135, 139, 140, 142, 143, 151, 156, 165, 168, 173, 176, 180–183, 185–187, 192, 195–197, 217–222, 229, 236, 237
Тынянов Ю.Н. – 9, 19, 23, 25, 190
Тюпа В.И. – 52
Успенский Г.И. – 198, 205
Успенский Н.В. – 90, 101, 107–110, 112, 113, 119, 139, 140, 181, 195, 196, 202, 236
Утехин Н.П. – 11, 18, 20, 23, 25, 37, 68, 69, 71, 72, 74, 79, 92, 205, 228
Ушаков В.А. – 64
Фёдоров М.П. – 91, 106, 119, 139, 175, 181, 198, 200
Фёдоров-Омулевский И.В. – 81, 106
Федосеевец (см. Абрамов Я.В.)
Федотов О.И. – 18, 19, 23, 43, 71
Фелонов П.И. – 102, 106, 111, 133, 135, 176, 180, 210
Флобер Г. – 208
Фридлендер Г.М. – 43, 160
Хайдеггер М. (Heidegger M.) – 51, 52, 55, 59
Хализев В.Е. – 7, 10
Хвощинская Н.Д. (В. Крестовский-псевдоним) – 11, 91, 95, 102, 132, 133, 135, 139, 140, 143, 144, 146–150, 173, 180, 182, 195, 196, 210, 219, 221, 236
Храпченко М.Б. – 6, 23, 36
Черкасова Л.Я. – 184
Чернец Л.В. – 22, 23, 31, 34, 35, 38
Чернышевский Н.Г. – 106
Чехов А.П. – 96, 139, 144, 146, 148, 187, 192, 199, 218, 219, 237, 238
Шагинян М.С. – 229
Шаламов В.Т. – 219
Шаликова Н.П. – 100
Шатин Ю.В. – 20
Шелешовская О. (см. Львова Е.В.)
Шеллинг Г.В. – 186, 213
Шерер В. – 5
Шкловский В.Б. – 68
Шолохов М.А. – 219
Шопенгауэр А. (Schopenhauer A.) – 185
Щенников Г.К. – 171
Щербакова Г.Н. – 83, 100
Энгельгардт С.В. (Ольга N) – 100, 180, 184
Эртель А.И. – 84, 102, 133, 187, 236
Эсалнек А.Я. – 18, 23, 24, 34, 35, 72, 76, 80, 84, 90, 92, 137, 138, 207
Юнг К. – 185
Ясперс К. – 51
Betti E. – 225
Gansel C. – 37
Gansel Ch. – 37
Glowinski M. – 90
Kostkiewieczowa T. – 90
McLanghlin S. – 185
Okopien-Slawienska A. – 90
Slawien2ski J. – 90
Scondi P. – 225
Stanzel F. – K. – 141, 231, 233
Wilpert G. von – 74, 171
Jauβ H. – R. – 225
Рекомендуемая литература
1. Головко В.М. Поэтика русской повести. – Саратов, 1992.
2. Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995.
3. Головко В.М. Повесть как жанр эпической прозы. – М.; Ставрополь, 1997.
4. Головко В.М. Историческая поэтика русской классической повести. – М.; Ставрополь, 2001.
5. Канунова Ф.З. Эстетика романтической повести (А. Бестужев-Марлинский и романтики-беллетристы 20-30-х годов XIX века). – Томск, 1973.
6. Кузьмин А.И. Повесть как жанр литературы. – М., 1984.
7. Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. – Л., 1973.
8. Утехин Н.П. Современность классики. – М., 1986.
9. Сурков Е.А. Русская повесть в историко-литературном контексте XVIII – первой трети XIX в. – Кемерово, 2007.
Примечания
1
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989. – С. 32, 42.
(обратно)2
Там же. – С. 42.
(обратно)3
Веселовский А.Н. Неизданная глава из «Исторической поэтики» // Русская литература. – 1959. – № 2. – С. 180.
(обратно)4
Веселовский А.Н. Из введения в историческую поэтику // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – С. 42.
(обратно)5
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – С. 41.
(обратно)6
Там же. – С. 42.
(обратно)7
Там же. – С. 42, 300.
(обратно)8
Там же. – С. 299.
(обратно)9
Горский И.К. Об исторической поэтике и сравнительном литературоведении // Русская литература. – 1983. – № 3. – С. 85.
(обратно)10
Там же. – С. 95. То же: Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М., 1986. – С. 149.
(обратно)11
Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М., 1986. – С. 3.
(обратно)12
Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб., 2006. – С. 7.
(обратно)13
Бройтман С.Н. Историческая поэтика: Учебное пособие. – М., 2001. – С. 8.
(обратно)14
Храпченко М.Б. Историческая поэтика: основные направления исследований // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – С. 13.
(обратно)15
Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – С. 19.
(обратно)16
Хализев В.Е. Историческая поэтика: историко-методологические аспекты // Вестник Московского университета. – Сер. 9. Филология. – 1990. – № 3. – С. 10–11.
(обратно)17
Бахтин М.М.: 1) Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 17–22; 2) Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 390.
(обратно)18
Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – С. 9.
(обратно)19
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 351; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 141; Литературный энциклопедический словарь / под общей ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. – М., 1987. – С. 296.
(обратно)20
См.: Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 234–407; Мелетинский Е.М.: 1) Историческая поэтика новеллы. – М., 1990; 2) Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М., 1986; 3) Историческая поэтика пасторали: сб. научн. тр. – М., 2007.
(обратно)21
Бройтман С. Н. Историческая поэтика. – С. 14.
(обратно)22
Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М., 1986; Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М., 1994.
(обратно)23
См., напр.: Лихачёв Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – СПб., 1999; Поляков М.Я. В мире идей и образов: историческая поэтика и теория жанров. – М., 1983; Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. – Л., 1978 и др.
(обратно)24
Горский И.К. Об исторической поэтике Александра Веселовского // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – С. 17.
(обратно)25
Бройтман С. Н. Историческая поэтика. – М., 2001. См. также: Теория литературы: В 2 т. – Т. 2. – М., 2004.
(обратно)26
Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 281.
(обратно)27
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1928. – С. 178. См.: Головко В.М. Понимающий потенциал литературного жанра как проблема теоретической поэтики М.М. Бахтина // Знание. Понимание. Умение. – М., 2009. – № 3. – С. 136–140.
(обратно)28
Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб., 2006; Хализев Е.В. Историческая поэтика: теоретико-методологические аспекты // Вестник Московского университета. – Сер. 9. Филология. – 1990. – № 3. – С. 17–18.
(обратно)29
Хализев В.Е. Историческая поэтика: теоретико-методологические аспекты. – С. 18.
(обратно)30
Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. – Л., 1973. – С. 3.
(обратно)31
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 21.
(обратно)32
Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. – Т. 2 – М., 1956. – С. 501.
(обратно)33
Тургенев. И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Письма. – Т. 13. – Кн. 1. – Л., 1968. – С. 180.
(обратно)34
См., напр.: МейлахБ.С. Русская повесть 60-х годов XIX в. // Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1956. – С. 401, 405.
(обратно)35
Дело. – 1870. – № 8. – С. 198.
(обратно)36
Русские писатели: 1800–1917. Биографический словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 488.
(обратно)37
Москвина Р.Р., Мокроносов Г.В. Человек как объект философии и литературы. – Иркутск, 1987. – С. 89—162; Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 26–98.
(обратно)38
Термин М.М. Бахтина. См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 141–142.
(обратно)39
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 154.
(обратно)40
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 18. – М., 1984. – С. 479.
(обратно)41
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Письма. – Т. 5. – С. 216.
(обратно)42
На чем стоит повесть // Литературное обозрение. – 1975. – № 10. – С. 17.
(обратно)43
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 7. – С. 356–357.
(обратно)44
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 310, 318.
(обратно)45
См.: [Бахтин М.М.] Медведев Н.П. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1928. – С. 175–190.
(обратно)46
В издании Полного собрания сочинений и писем И.С. Тургенева в 28 т. (М.; Л., 1960–1968) объём текста романа «Рудин» составляет 131 стр., а повести «Вешние воды» того же писателя – 149 стр., но по жанру «Рудин» – именно роман, а «Вешние воды» – повесть. (См.: Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 6. – С. 237–368; Т. 11. – С. 7—156.)
(обратно)47
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – С. 176, 177, 180.
(обратно)48
Термин В.Г. Белинского. См.: Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 3. – С. 296. М.М. Бахтин оперирует термином «художественное событие» (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 71).
(обратно)49
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М., 1976. – С. 341; Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки: типология жанров, их историческая судьба. – Горький, 1983. – С. 120; Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – Воронеж, 1982. – С. 39.
(обратно)50
Поспелов Г.Н.: 1) Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972. – С. 202–212; 2) Вопросы методологии и поэтики. – М., 1983. – С. 152–207; Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – М., 2007. – С. 14–40.
(обратно)51
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 40; Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки. – С. 40; Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч. – Ч. 2. – М., 2003. – С. 144.
(обратно)52
Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике XX в. // Теория литературы. – Т. 3. – Роды и жанры. – М., 2003. – С. 92.
(обратно)53
Утехин Н.Д. Основные типы эпической прозы и проблема жанра повести // Русская литература. – 1973. – № 4. – С. 101.
(обратно)54
См., напр.: ЛихачёвД.С. Неравнодушная проза // Кузьмин А.П. Повесть как жанр литературы. – М., 1984; Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982; Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике XX в. – С. 82–83.
(обратно)55
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1982. – С. 180; Эсалнек АЯ. Внутрижанровая типология и пути её изучения. – М., 1985. – С. 20.
(обратно)56
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 164; Федотов О.И. Основы теории литературы. – Ч. 2. – С. 151.
(обратно)57
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С.152; Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе // Историко-литературный процесс: проблемы и методы изучения. – Л., 1974. – С. 194.
(обратно)58
Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки. – С. 4, 35; Федотов О.И. Основы теории литературы. – Ч. 2. – С. 144–156.
(обратно)59
Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра: жанровые закономерности развития советской прозы в 60 – 70-е годы. – Свердловск, 1982. – С. 140.
(обратно)60
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 191.
(обратно)61
Там же. – С. 166.
(обратно)62
Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки. – С. 47, 132.
(обратно)63
Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. – С. 24.
(обратно)64
Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л., 1980. – С. 101.
(обратно)65
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – С. 341.
(обратно)66
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 164; Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки. – С. 35.
(обратно)67
Федотов О.И. Основы теории литературы. – Ч. 2. – С. 151.
(обратно)68
Кожинов В.В. Происхождение романа. – М., 1963. – С. 121–122.
(обратно)69
Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – С. 100.
(обратно)70
Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. – С. 24–26.
(обратно)71
Захаров В.Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. – Л., 1985. – С. 38.
(обратно)72
Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе. – C. 184.
(обратно)73
Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. – С. 24.
(обратно)74
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – С. 176; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 235.
(обратно)75
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – С. 21, 65–66, 99, 12—129, 136.
(обратно)76
Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. – С. 6.
(обратно)77
Шатин Ю.В. Художественная целостность и жанрообразовательные процессы. – Новосибирск, 1991.
(обратно)78
Лейдерман НЛ. Движение времени и законы жанра. – С. 24–26; Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – С. 39–45. Вопрос об «адресованности высказывания» как «конститутивной особенности» жанра (в том числе речевого жанра) обоснован в исследованиях М.М. Бахтина. См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 290–291, 294 и др.
(обратно)79
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. – Т. 2: Роды и жанры литературы. – М., 1964. – С. 21.
(обратно)80
Чернец Л.В. К типологии жанров по содержанию // Вестник Московского университета. – Сер. 9. Филология. – 1964. – № 6. – С. 28.
(обратно)81
Томашевский В.Б. Стилистика и стихосложение. – Л.,1959. – С. 502.
(обратно)82
Гачев Г.Д., Кожинов В.В. Содержательность литературных форм // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. – Т. 2: Роды и жанры литературы. – М., 1964. – С. 21.
(обратно)83
Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике XX в. – С. 94.
(обратно)84
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 155.
(обратно)85
См.: Васильев А.З. Генеалогические проблемы художественной культуры (к методологии изучения жанра) // Художественная культура и искусство: методологические проблемы. – Л., 1987.
(обратно)86
Каган М.С. Морфология искусства. – Л., 1972. – С. 410–424.
(обратно)87
Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. – М., 1982. – С. 19–23.
(обратно)88
Эти два аспекта всегда выражены в той или иной мере, даже если категория жанра трактуется на проблемно-содержательной основе; на это указывают Н.Л. Лейдерман, А.Я. Эсалнек и др. (Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. – С. 137; Эсалнек АЯ. Внутрижанровая типология и пути её изучения. – С. 68). Второй уровень абстракции у М.М. Бахтина выступает в анализе «жанровых типов» (эпос, меннипея, роман). Н.Л. Лейдерман определяет его как «метажанр»: это, по мнению исследователя, «наджанровое содержательно-конструктивное направление», «некие общие конструктивные принципы, присущие ряду родственных с этой точки зрения жанров» (Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. – С. 139, 137. О трактовках понятия «метажанр» см.: Подлубнова Ю.С. Метажанры, мегажанры и другие жанровые образования в русской литературе // Герменевтика литературных жанров. – Ставрополь, 2007. – С. 293–298).
(обратно)89
Весьма характерно в этом плане высказывание В.П. Скобелева: «…Видовые признаки принято называть жанровыми, а различные виды словесного искусства внутри того или иного рода – жанрами». Показательно, что в «Теории литературы» Г.Н. Поспелова «вид» как научная категория не рассматривается и, по существу, исключается из понятийного аппарата, отсутствует даже в «Предметном указателе». (См.: Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – С. 39; Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М., 1978.)
(обратно)90
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 245. «Младший» и «старший жанр» – это не определение двух уровней научного абстрагирования, а указание на доминирование оды в жанровой системе этого времени. Это то, что Ю.В. Стенник называет «жанровой доминантой» и определяет как «переориентацию в представлении об эстетической значимости той или иной группы жанров» (СтенникЮ.В. Система жанров в историко-литературном процессе. – С. 184. Об иной трактовке категории «жанровая доминанта» см. далее). Главной же для Ю.Н. Тынянова остается проблема «осознания ценности жанра» как решающего явления в литературе, которое дифференцируется по отношению к литературному виду. Приведённое высказывание известного писателя и литературоведа показывает, что он чётко дифференцировал такие понятия, как «жанр» и «вид».
(обратно)91
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 169.
(обратно)92
Поспелов Г.Н. Типология литературных родов и жанров // Вестник Московского государственного университета. – Сер. 9. Филология. – 1978. – № 4. – С. 17–18.
(обратно)93
Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки. – С. 42. Исследователь неоднократно подчеркивает, что «род и жанр (точнее следовало сказать бы: вид) соотносятся между собою как содержание и форма…» (С. 40). В этом утверждении особенно примечательно то, что как явления одного порядка рассматриваются «вид» и «жанр». Повесть при таком подходе к жанру, как и рассказ, новелла и т. д., неизбежно утрачивает свою самостоятельность и оказывается среди «жанровых форм» «романической группы».
(обратно)94
Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки. – С. 34, 49–50, 115.
(обратно)95
Об эволюции трактовки понятия «жанр», начиная со времени использования его в классификационном значении (конец XIX века), см. в специальных исследованиях: Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. – С. 9—10; Васильев А.З. Из истории категории «жанр»// Проблемы исторической поэтики. – Петрозаводск, 1990.
(обратно)96
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 182.
(обратно)97
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 142.
(обратно)98
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – С. 175, 177, 176.
(обратно)99
Бахтин М.М.: 1) Проблемы поэтики Достоевского. – С.142; 2) Вопросы литературы и эстетики. – С. 452.
(обратно)100
Бахтин М.М.: 1) Вопросы литературы и эстетики. – С. 89; 2) Эстетика словесного творчества. – С. 279.
(обратно)101
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 183, 177. Данные аспекты теории жанра М.М. Бахтина («связи социальной действительности и мира художественных явлений», регулирование взаимоотношений писателя и читателя) получили развитие в ряде специальных работ. См., напр.: Турбин В.Н. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. – М., 1978.
(обратно)102
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 189.
(обратно)103
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 56, 70.
(обратно)104
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 180.
(обратно)105
Там же. – С. 185.
(обратно)106
Бахтин М.М.: 1) Проблемы поэтики Достоевского. – С.142; 2) Эстетика словесного творчества. – С. 351.
(обратно)107
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 182, 180.
(обратно)108
Там же. – С. 30, 185.
(обратно)109
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 3. – С. 327.
(обратно)110
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 382.
(обратно)111
Чернец Л.В. К типологии жанров по содержанию // Вестник Московского университета. – Сер. 9. Филология. – 1964. – № 6. – С. 27, 28. В работах последнего времени Л.В. Чернец акцентирует внимание на соотношении конкретно-исторического и типологического подходов при изучении жанров, при этом подчеркивает, что «при типологическом подходе на первый план выдвигается не коммуникативная функция жанровых номинаций, но классификационная». Поскольку ею актуализируется вопрос об исследовании жанровых систем, то в качестве предмета теоретического анализа определяется «выделение наиболее устойчивых в смене систем групповых признаков произведений» (Чернец Л.В. К теории литературных жанров // Литературные жанры: теоретические и историко-литературные аспекты. – М., 2008. – С. 7). Общий методологический пафос жанрологии Г.Н. Поспелова сохраняется в работах такого типа. Для М.М. Бахтина, как мы могли уже убедиться, «коммуникативная функция жанровых номинаций», как и соотношение типологического и конкретно-исторического, всегда в равной мере оставались теоретическими проблемами «первого плана». «Классификационную функцию», судя по всему, Л.В. Чернец вполне оправданно закрепляет за типологической структурой жанра – литературным видом.
(обратно)112
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 204, 32.
(обратно)113
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 155.
(обратно)114
Там же. – С. 155, 156.
(обратно)115
Там же. – С. 155, 198, 191.
(обратно)116
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 163.
(обратно)117
Поспелов Г.Н. Вопросы методологии и поэтики. – С. 206, 208, 210.
(обратно)118
Некоторые теоретики литературы полагают, что «родовые формы» у Г.Н. Поспелова – это устойчивые композиционно-стилистические структуры повести, рассказа и т. д. Но сам учёный убеждён в том, что «каждый жанр в своем историческом развитии проявляется в самых разных стилях, в частности, в самых различных системах сюжетно-композиционных приёмов», и искать какую-то общность в этой сфере – «дело совершенно безнадёжное». (Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – С. 191. См. также: Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки: Типология жанров, их историческая судьба. – Горький, 1983.)
(обратно)119
Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М., 1978. – С. 230, 239.
(обратно)120
Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. – С. 101.
(обратно)121
Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. – С. 21, 98–99. Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути её изучения. – С. 58.
(обратно)122
Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. – С. 21, 23; Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути её изучения. – С. 67.
(обратно)123
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 176, 180.
(обратно)124
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 3. – С. 453; Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 71.
(обратно)125
Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути её изучения. – С. 68.
(обратно)126
Кузьмичёв И.К. Литературные перекрёстки: Типология жанров, их историческая судьба. – С. 132.
(обратно)127
Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике XX в. – С. 82, 92, 83.
(обратно)128
Попытки критического пересмотра такой жанрологической парадигмы, предпринимавшиеся некоторыми учёными последнего времени, не дали плодотворных результатов. Так, Т.А. Касаткина, полемизируя с предшественниками, рассматривающими жанр как содержательно-формальную категорию, по сути, пришла к отождествлению таких понятий, как «жанр» и «нравственно-эстетическая позиция писателя», не обогатив научные традиции отечественной жанрологии. См.: Касаткина Т.А. О творящей природе слова: онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». – М., 2004. – С. 94—140.
(обратно)129
О том, как в современной науке рассматриваются типы текстов и жанровые разновидности в междисциплинарном аспекте, можно судить, например, по такой работе: Gansel Ch., Gansel C. Textsorten und Gattungen interdisziplinar. Pladoyer fur eine sozial wissenschaftliche Perspektive // Wirkendes Wort. – Dusseldorf, 2005. – Jg. 55. – H. 3. – S. 481–499.
(обратно)130
Л.В. Чернец справедливо утверждает, что «перекрёстная» классификация жанров, созданная М. С. Каганом на основе теории полифункциональности искусства и предусматривающая четыре основных направления жанрового варьирования («тематическая плоскость», «познавательная ёмкость», «аксиологическая плоскость», «тип… образных моделей»), которые имеют «структурные последствия», в литературоведческих исследованиях обнаруживает много спорных моментов, обусловленных специфичностью их предмета. См.: Каган М.С. Морфология искусства. – Л.,1972. – С. 412–418; Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. – С. 102.
(обратно)131
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – С. 154.
(обратно)132
Зунделович Я.О. Романы Достоевского: статьи. – Ташкент, 1963.
(обратно)133
Проявление этой имманентной, внутренней связи в различных жанрах на содержательном уровне и возможности родовых взаимодействий, видимо, имел в виду В.Г. Белинский, подчеркивавший, что не существует прямой связи между родовым содержанием и родовой формой (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 3. – С. 308, 314).
(обратно)134
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 3. – С. 327.
(обратно)135
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 176, 180.
(обратно)136
Павера Либор. Текст, жанр и интерпретация: Пер. с чешск. – М., 2008. – С. 9.
(обратно)137
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 447–448.
(обратно)138
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 181.
(обратно)139
Гиршман М.М. Ещё о целостности художественного произведения // Известия АН СССР. – Серия лит. и яз. – 1979. – Т. 38. – № 5.
(обратно)140
Этот вопрос глубоко и всесторонне на методологическом уровне рассмотрен в книге Р.Р. Москвиной и Г.В. Мокроносова «Человек как объект философии и литературы» (Иркутск, 1987. – С. 200). «Идея человека» («тип мироотношения») – это воззренческая и одновременно эстетическая категория, поскольку она определяет философско-эстетическую сущность трактовки природы и сущности человека, свойственной той или иной культурно-исторической эпохе (С. 89—162). Жанровая функция категории «идея человека» в её соотношениях с понятием жанровой «концепции человека» рассматривается в монографии: Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. (См.: С. 26–98.)
(обратно)141
Произведения одного и того же жанра могут иметь разные «жанровые доминанты», которыми определяются «жанровые разновидности», по терминологии Г.М. Фридлендера – «поджанры», О.И. Федотова – «жанровые модификации» (Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. – Л., 1971. – С. 64; Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч. – Ч. 2. – С. 144).
(обратно)142
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 9.
(обратно)143
См.: Источники литературного произведения: Пособие для учителя / Под ред. В.М. Головко. – Ставрополь, 1995.
(обратно)144
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1928. – С. 180.
(обратно)145
Там же. – С. 181.
(обратно)146
См., напр.: Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 1995. – С. 7.
(обратно)147
См., напр.: Гинзбург ЛЯ. «Былое и думы» // История русского романа: В 2 т. – Т. 1. – М.; Л., 1962. – С. 590.
(обратно)148
Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – С. 3.
(обратно)149
Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. – М., 2000. – С. 58, 69.
(обратно)150
Борев Ю.Б. Теория художественного восприятия и рецептивная эстетика: методология критики и герменевтика // Теории, школы, концепции [Критические анализы]: Художественная рецепция и герменевтика. – М., 1985. – С. 47.
(обратно)151
О данной категории см.: Гадамер Х. – Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики: Пер. с нем. – М., 1988.
(обратно)152
Борев Ю. Б. Теория художественного восприятия и рецептивная эстетика: методология критики и герменевтика. – С. 47.
(обратно)153
Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – С. 5, 7.
(обратно)154
См.: Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 17–38.
(обратно)155
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 182.
(обратно)156
Там же. – С. 180.
(обратно)157
Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры: Пер. с нем. – М., 1985. – С. 300.
(обратно)158
Гадамер Х. – Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – С. 317.
(обратно)159
Там же. – С. 318, 348.
(обратно)160
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 258, 362.
(обратно)161
Гадамер Х. – Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – С. 349.
(обратно)162
Там же.
(обратно)163
Там же. – С. 348.
(обратно)164
Гадамер Х. – Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. – С. 72.
(обратно)165
Махлин ВЛ. «Систематическое понятие» (заметки к истории Невельской школы) // Невельский сб.: Статьи и воспоминания. – Вып. 1. – СПб., 1996. – С. 78–79.
(обратно)166
См.: Онтология // Философский энциклопедический словарь. – М., 2004. – С. 318.
(обратно)167
Микешина Л.А. Значение идей Бахтина для современной эпистемологии // Единство места и времени: Сб. стат. – www. I. – U. ru. (Российский гуманитарный интернет-университет).
(обратно)168
Бахтин М.М.: 1) Вопросы литературы и эстетики. – С. 24–32; 2) К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник: 1984–1985. – М., 1986.
(обратно)169
Бахтин М.М.: 1) Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 16–18; 2) Вопросы литературы и эстетики. – С. 24–32.
(обратно)170
Микешина Л.А. Значение идей Бахтина для современной эпистемологии. – С. 6.
(обратно)171
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 9—25.
(обратно)172
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 29, 17. См. также: Тюпа В.И. Архитектоника эстетического дискурса // Бахтинология: исследования, переводы, публикации. – СПб., 1995. – С. 206–216.
(обратно)173
Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. – С. 37.
(обратно)174
Бахтин М.М.. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 16.
(обратно)175
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 29.
(обратно)176
Бахтин М.М. К философии поступка. – С. 103. См. также: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 29–32.
(обратно)177
Микешина Л.А. Значение идей Бахтина для современной эпистемологии. – С. 4.
(обратно)178
Микешина Л.А. Значение идей Бахтина для современной эпистемологии. – С. 5.
(обратно)179
Там же.
(обратно)180
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 142.
(обратно)181
Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – С. 10.
(обратно)182
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 306.
(обратно)183
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 178.
(обратно)184
Феноменологией и герменевтикой от «Логических исследований» Э. Гуссерля до «Бытия и времени» М. Хайдеггера уже был накоплен опыт обоснования первичности онтологии понимания и вторичности эпистемологии (принципов интерпретации).
(обратно)185
Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – С. 10.
(обратно)186
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 183.
(обратно)187
Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры. – С. 300.
(обратно)188
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 182.
(обратно)189
Там же. – С. 180.
(обратно)190
Там же. – С. 183.
(обратно)191
Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории: Аналитический минимум. – М., 2009. – С. 306.
(обратно)192
Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – С. 9.
(обратно)193
Бахтин М.М. [Медведев П.Н.]. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 181.
(обратно)194
Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – С. 15
(обратно)195
Гадамер Х. – Г. Текст и интерпретация // Герменевтика и деконструкция. – СПб., 1999. – С. 208.
(обратно)196
Хайдеггер М. Бытие и время: Пер. с нем. – М., 1997. – С. 37.
(обратно)197
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1928. – С. 175; Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – М., 1963. – С. 141.
(обратно)198
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М., 1976. – С. 349.
(обратно)199
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963. – С. 184.
(обратно)200
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 150.
(обратно)201
Верли М. Общее литературоведение. – М., 1957. – С. 111–116.
(обратно)202
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Письма. – Т. 10. – М.; Л., 1965. – С. 429.
(обратно)203
Там же. – С. 215.
(обратно)204
Телескоп. – 1831. – Ч. I. – № 3. – С. 383.
(обратно)205
Остолопов Н.Ф. Словарь древней и новой поэзии: В 3 ч. – Ч. 2. – СПб., 1821. – С. 23.
(обратно)206
Сын отечества. – 1828. – Ч. 118. – № 7. – С. 244–245.
(обратно)207
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – С. 150.
(обратно)208
Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – Т. 6. – М., 1979. – С. 397–398.
(обратно)209
Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. – М.; Л., 1963. – С. 51, 53.
(обратно)210
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – М.; Л., 1928–1958. – Т. 13. – С. 54; Т. 30. – С. 298–299.
(обратно)211
Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 10. – М., 1958. – С. 450–451.
(обратно)212
На чём стоит повесть // Литературное обозрение. – 1975. – № 10. – С. 15–17.
(обратно)213
Виктор Боков о творческом процессе и проблемах художественности // Вестник Ставропольского гос. университета. – 1996. – № 5. – С. 145. Эти положения В.Ф. Бокова перекликаются с выводами В.Г. Белинского о том, что «личный (субъективный)… элемент, который бы всё проникал и оттенял собою», в повести является показателем «истинной художественности» (Белинский В.Г. Русская литература в 1842 году // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 5. – С. 212). Л.Н. Толстой, отмечая, что в повести что-то «доказывается», тоже, по сути, говорил о роли «субъективного элемента».
(обратно)214
Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. – Париж:.YMCA-PRESS, 1975. – С. 31.
(обратно)215
Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра: жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. – Свердловск, 1982. – С. 73.
(обратно)216
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 73.
(обратно)217
Синенко В.С. Русская советская повесть 40—50-х годов: Вопросы поэтики и типологии жанра // Проблемы жанра и стиля. – Уфа, 1970. – С. 47–68. [Уч. зап. Башкирск. ун-та. – Вып. 44. – Сер. филолог. наук. – № 17 (21)]. «Аналитичность» ещё И.С. Тургенев рассматривал как свойство не только повести, но и романа. (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Письма. – Т. 2. – С. 67.)
(обратно)218
Кузьмин А.И. Повесть как жанр литературы. – М., 1984. – С. 45. «Чувство достоверности» В.Г. Белинский трактовал как качество реалистической повести (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 5. – С. 211–212; Т. 1. – С. 161–162). Эту мысль развивали В.Б. Шкловский и Н.П. Утехин. (См.: Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков. – М., 1955. – С. 92.; Утехин Н.П. Современность классики. – М., 1986. – С. 26.)
(обратно)219
Акимов В. Где же искать ответ? // Звезда. – 1968. – № 5. – С. 210–212. Следуя этому положению, Н.Д. Тамарченко, изучавший поэтику сюжета повести Серебряного века, делает вывод о том, что в произведениях данного жанра осуществляется «изображение текущей современной действительности… с опорой на вневременные ценности» (Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – М., 2007. – С. 205).
(обратно)220
Суровцев Ю.И. Родные братья, но не близнецы // Звезда. – 1968. – № 5. – С. 205.
(обратно)221
На чём стоит повесть // Литературное обозрение. – 1975. – № 10. – С. 16.
(обратно)222
Кожинов В.В. Повесть // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – Т. 5. – М., 1968. – С. 814–815; Кузьмин А. И. Повесть как жанр литературы. – М., 1984. – С. 6.
(обратно)223
Жирмунский В.М. Становление реализма в мировой литературе и классический реализм XIX в. // Проблемы реализма в мировой литературе. – М., 1959. – С. 162; Захаров В.Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. – Л., 1985. – С. 43.
(обратно)224
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 15.
(обратно)225
Новикова Е.Г. Проблема малого жанра в эстетике И.С. Тургенева // Проблемы метода и жанра. – Томск, 1978. – С. 19.
(обратно)226
См. также: Русская повесть XIX века: история и проблематика жанра. – Л., 1973; Русская повесть как форма времени: Сб. статей. – Томск, 2002.
(обратно)227
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972. – С. 163. «Объём сюжета» или «объём содержания» (В.Г. Белинский) – это не количественная, а качественная характеристика жанра. М.М. Бахтин сформулировал общеметодологический принцип рассмотрения такой проблемы: в каждом жанре раскрывается специфическая «качественная сторона жизни, тематически понятой действительности, связанная с новым, качественным же построением жанровой действительности произведения». (Бахтин М.М. [Медведев П.Н.] Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 185.)
(обратно)228
См., напр.: Синенко В.С. Русская советская повесть 40—50-х годов: Вопросы поэтики и типологии жанра // Проблемы жанра и стиля. – Уфа, 1970; Кузьмин А. И. Повесть как жанр литературы. – М., 1984; Захаров В.Н. Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. – Л., 1985; Головко В.М. Повесть как жанр эпической прозы. – М.; Ставрополь, 1997 и др. В последней из названных работ анализом содержательности жанровой структуры повести аргументируется неэффективность «количественного критерия» при дифференциации эпических жанров.
(обратно)229
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – С. 327.
(обратно)230
Гегель Г. – В. – Ф. Сочинения: В 14 т. – Т. 14. – М.; Л., 1959. – С. 321.
(обратно)231
Московский телеграф. – 1829. – Ч. 8. – № 15.
(обратно)232
Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного в. (Проблемы типологии сюжета и жанра). – С. 15.
(обратно)233
Положение о том, что «объём» произведения, «размер текста» «не может быть определяющим принципом» дифференциации жанров эпической прозы, обосновано, например, всей системой анализа в работе: Головко В.М. Повесть как жанр эпической прозы. – М.; Ставрополь, 1997. Количественные характеристики жанра во многих исследованиях о поэтике повести не отделяются от качественных (работы В.С. Синенко, Д.С. Лихачёва, Н.П. Утехина, Н.Л. Лейдермана и др. учёных).
(обратно)234
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 237.
(обратно)235
См., напр.: Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч. – Ч. 2. – М., 2003. – С. 154; Теория литературы: Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). – Т. 3. – М., 2003. – С. 7.
(обратно)236
Об условности «критериев размера текста» свидетельствует и тот факт, что некоторые филологи к «текстам большого объёма» относят не только роман, но и повесть, поэму и т. д., актуализируя при этом «содержательный характер» этих жанров. (См.: Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории: Аналитический минимум. – М., 2009. – С. 252–253.)
(обратно)237
Утехин Н.П. Основные типы эпической прозы и проблема жанра повести (к постановке вопроса) // Русская литература. – 1973. – № 4. – С. 86—102.
(обратно)238
Синенко В.С. О повести наших дней. – М., 1971; Кузьмин А.И. Повесть как жанр литературы. – М., 1984.
(обратно)239
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972. – С. 191; Эсалнек А.Я.: 1) Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – М., 1991. – С. 6—10, 163; 2) Внутрижанровая типология и пути её изучения. – М., 1985. – С. 51, 64.
(обратно)240
Канунова Ф.З. Эстетика романтической повести (А. Бестужев-Марлинский и романтики-беллетристы 20—30-х годов XIX в.). – Томск, 1973; Сурков Е.А.: 1) Русская повесть первой трети XIX века: генезис и поэтика жанра. – Кемерово, 1991; 2) Русская повесть в историко-литературном контексте XVIII – первой трети XIX в. – Кемерово, 2007.
(обратно)241
Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе // Историко-литературный процесс: Проблемы и методы изучения. – Л., 1974. – С. 175.
(обратно)242
Этот вопрос является дискуссионным. Одни считают, что в повести изображаются события «отстоявшиеся» (Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – С. 129), другие придерживаются противоположного мнения. Так, В.С. Синенко пишет: «С назначением повести – постигать мир в его движении, когда события не отстоялись, механизм социальных изменений ясен не до конца, связана тенденция к анализу отдельного, частного, разрозненного, ведущих к общему. Односторонность жизненного процесса, воспроизводимого повестью, ограниченный характер исследования действительности… являются производными от цели – брать мир не уложившимся, события не отстоявшимися, общественные процессы не завершенными, без их первопричин, корней, истоков» (Синенко В.С. Русская советская повесть 40—50-х годов: Вопросы поэтики и типологии жанра // Проблемы жанра и стиля. – Уфа, 1970. – С. 67, 68). Интересным является вопрос, почему и как в этом жанре «примиряются» «абсолютное прошлое» и повышенная актуальность проблематики произведений. Далее он будет рассматриваться в пособии с нескольких точек зрения.
(обратно)243
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 176; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 470, 478, 476.
(обратно)244
Кузьмичёв И.К. Герой и народ. – М., 1973. – С. 120. О «децентрализованности» «развёртываемого повествовательного материала» в повести ставится вопрос и в исследовании: Wilpert G. von. Sachwörterbuch der Literatur. – Stuttgart, 1989. – S. 266.
(обратно)245
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 455– 479.
(обратно)246
Там же. – С. 481.
(обратно)247
Там же. – С. 479. См. также: Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути её изучения. – М., 1985. – С. 11, 39.
(обратно)248
Лейдерман НЛ. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. – Свердловск, 1982. – С. 134.
(обратно)249
Сходные суждения о выражении целостного представления о действительности средствами отдельных элементов стихийного практического философствования, создающих новое качество – жанр повести, содержатся в исследовании: Москвина Р.Р., Мокроносов Г.В. Человек как объект философии и литературы. – Иркутск, 1987. – С. 190.
(обратно)250
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 5. – С. 478, 211–212; Т. 1. – С. 161—162.
(обратно)251
Целесообразность такого подхода к изучению типологии и поэтики жанра повести, обоснованная нами в книге «Повесть как жанр эпической прозы» (М.; Ставрополь, 1997), подтверждает и исследование Н.Д. Тамарченко, сравнивавшего повесть с новеллой, рассказом, романом и рассматривавшего повесть Серебряного века на основе анализа типов сюжетных ситуаций и определения структурных признаков жанра (типология сюжета, хронотоп, композиционно-речевая организация, тип контакта между миром героя и действительностью автора и читателя и т. д.). См.: Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – С. 11, 15, 17.
(обратно)252
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – С. 176; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 178, 175.
(обратно)253
Данное положение, отрицающее тезис о «промежуточности» жанра повести, было сформулировано и аргументировано в работе: Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 22 и далее. Тем не менее Н.Д. Тамарченко утверждает, что вопрос о «несосотоятельности… популярного представления о повести как жанре «промежуточном» не ставился и не рассматривался». (Тамарченко Н.Д. Повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – С. 9.)
(обратно)254
См., напр.: Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. – С. 211; Русская повесть XIX века: история и проблематика жанра. – С. 417; Синенко В.С. О повести наших дней. – М., 1971. – С. 4; Утехин Н.П. Основные типы эпической прозы и проблема жанра повести (к постановке вопроса). – С. 86.
(обратно)255
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 141—142.
(обратно)256
Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – М., 1991. – С. 10.
(обратно)257
В философии человек рассматривается как явление биосоциальное, естественно-историческое. Утверждая мысль об общественной природе человека, исследователи признают социальность в качестве имманентной характеристики человека как родового существа. Понятие «человек» значительно шире категории «личность», которая охватывает не все качества, которыми обладает человек, а только выработанные, социально обусловленные, так как личностями не рождаются, а становятся. Это понятие включает в себя прежде всего представление о «социальных качествах» человека. Личность – категория ценностная, поскольку в ней фиксируется понятие о сущности человека как относительно самостоятельном, деятельном и ответственном субъекте. (См.: Стёпин В.С. Философская антропология и философия науки. – М., 1992.)
(обратно)258
Сиповский В.В. Очерки по истории русского романа. – СПб., 1909. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 321.
(обратно)259
Недзвецкий В.А. Русский социально-универсальный роман XIX века: становление и жанровая эволюция. – М., 1997.
(обратно)260
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 149.
(обратно)261
Недзвецкий В.А. Русский социально-универсальный роман XIX века: становление и жанровая эволюция. – С. 20.
(обратно)262
Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – С. 20.
(обратно)263
Там же. – С. 18–19.
(обратно)264
Дело. – 1869. – № 1. – С. 99, 89.
(обратно)265
Дело. – 1870. – № 9. – С. 6, 8.
(обратно)266
Сычёв Ю.В. Микросреда и личность: философский анализ. – М., 1983. – С. 146.
(обратно)267
Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 257–268. Не случайно в своё время Б.И. Бурсов, учитывая опыт философской критики конца XIX – начала XX века, занимавшейся изучением художественной метафизики Тургенева, писал, что в его романах герой поставлен перед лицом эпохи в её общественном содержании, а в повести – перед вечностью. (Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы. – М.; Л., 1964. – С. 373.) Но такой содержательно-тематический принцип жанровой типологии произведений И.С. Тургенева оказывается не всегда результативным. Б.И. Бурсов вынужден признать, что в повести Тургенева с её сюжетом, который «пренебрегает общественно-историческим элементом, слышится всё же голос эпохи». (Там же.) То, что подобный принцип нельзя абсолютизировать, показывают исследования поэтики тургеневского романа, в котором конфликты и герои рассматриваются в свете сверхреальных, метафизических первооснов бытия. (См., напр.: Аюпов С.М. Эволюция тургеневского романа 1856–1862 гг.: Соотношение метафизического и конкретно-исторического. – Казань, 2001; Недзвецкий В.А. И.С. Тургенев: логика творчества и менталитете героя. – М., 2008. – С. 88—125; 140–154).
(обратно)268
Лейдерман Н. Л. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. – С. 140.
(обратно)269
Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – Воронеж, 1982. – С. 51, 73, 140; Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. – Вильнюс, 1988. – С. 15–17.
(обратно)270
Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – С. 47.
(обратно)271
Сычёв Ю.В. Микросреда и личность: философский анализ. – С. 146.
(обратно)272
Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – М., 1956. – С. 348– 354.
(обратно)273
Glowinski M., Kostiewieczowa Т., Okopien-Slawienska A., Slawienski J. Podreczny slovnik terminow literackich. – Warszawa, 2001. – S. 200.
(обратно)274
Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – С. 21.
(обратно)275
На чём стоит повесть // Литературное обозрение. – 1975. – № 10. – С. 17. Эсалнек АЯ. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. – М., 1985. – С. 51.
(обратно)276
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 44–45; Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – С. 51.
(обратно)277
Недзвецкий В.А. Русский социально-универсальный роман XIX века: становление и жанровая эволюция. – М., 1997. – С. 20.
(обратно)278
Головко В.М. Повесть как жанр эпической прозы. – М.;Ставрополь, 1997. – С. 46; Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного в. (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – М., 2007. – С. 205.
(обратно)279
Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. – Вильнюс, 1988. – С. 21. Если Б.В. Томашевский в своё время писал, что в рассказе, новелле «одной ситуации достаточно для тематического заполнения», то И.А. Виноградов отмечал однородность, однокачественность «ситуаций», их «количественное суммирование» в таких произведениях «малой прозы». (См.: Томашевский Б.В. Поэтика. – М.; Л., 1931. – С. 193; Виноградов И.А. Борьба за стиль. – Л., 1937. – С. 18.)
(обратно)280
Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. – С. 24, 26.
(обратно)281
Помяловский Н.Г. Сочинения: В 2 т. – М.; Л., 1965. – С. 172, 179, 185, 192.
(обратно)282
ТолстойЛ.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – М.; Л., 1928–1958. – Т. 13. – С. 53 и далее.
(обратно)283
Головко В.М. Поэтика русской повести. – Саратов, 1992. – С. 14–26.
(обратно)284
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – Т. 13. – С. 57; На чём стоит повесть // Литературное обозрение. – 1975. – № 10. – С. 15.
(обратно)285
Помяловский Н.Г. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – С. 362.
(обратно)286
Вестник Европы. – 1879. – № 10. – С. 635.
(обратно)287
Авдеев М.В. Магдалина // Дело. – 1869. – № 1. – С. 47.
(обратно)288
Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в психологии // Вопросы философии. – 1972. – № 9. – С. 99.
(обратно)289
Головко В.М. Художественно-философские искания позднего Тургенева (изображение человека). – Свердловск, 1989. – С. 10–95.
(обратно)290
Головко В.М. Поэтика русской повести. – Саратов, 1992. – С. 71 – 110, 127–147.
(обратно)291
Плещеев А.Н. Повести и рассказы: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1897. – С. 280, 276.
(обратно)292
Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.; Л., 1934. См. об этом: Головко В. М. Поэтика русской повести. – С.71—110.
(обратно)293
Дело. – 1870. – № 8. – С. 117.
(обратно)294
Успенский Н.В. Повести, рассказы и очерки. – М., 1957. – С. 362, 333, 337.
(обратно)295
Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 133–142.
(обратно)296
Гроссман Л.П. Достоевский-художник // Творчество Ф.М. Достоевского. – М., 1959. – С. 341–342.
(обратно)297
Там же. – С. 342.
(обратно)298
Добролюбов Н.А. – Собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. – М.; Л., 1963. – С. 51; На чём стоит повесть // Литературное обозрение. – 1975. – № 10 – С. 16; Лейдерман Н. Л. Движение времени и законы жанра: жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. – Свердловск, 1982. – С. 109.
(обратно)299
Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – С. 152–156.
(обратно)300
Успенский Н.В. Повести, рассказы и очерки. – М., 1957. – С. 419, 440, 443. Ср.: Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 7. – М.; Л., 1964. – С. 293.
(обратно)301
Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки. – М., 1988. – С. 140–148; Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 12. – С. 314.
(обратно)302
Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки. – С. 216.
(обратно)303
Там же. – С. 319.
(обратно)304
Там же. – С. 282, 294, 319.
(обратно)305
Там же. – С. 210, 308.
(обратно)306
Ср., например, Адама Первомайского из повести «Чужие письма», синтезирующего черты характера и языка гоголевского Башмачкина, Макара Девушкина и Иудушки Головлёва, с героями романов «Бедные люди» Достоевского и «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина в аспекте специфики жанрового раскрытия основных конфликтов в этих произведениях.
(обратно)307
См. далее раздел «Романизация повести как выражение процессов жанрового динамизма».
(обратно)308
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905. – С. 531.
(обратно)309
Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 6. – М., 1978. – С. 398, 397.
(обратно)310
См. подробнее: Головко В.М. Поэтика русской повести. – Саратов, 1992. – С. 110–124.
(обратно)311
В монографии «Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра» (М.; Ставрополь, 1995) мы для определения такого принципа «опредмечивания» образа мира и бытия героя ввели термин «метонимический хронотоп» (С. 240). В таком же смысле этот термин используется Н.Д. Тамарченко. (См.: Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики и сюжета жанра). – М., 2007. – С. 205.)
(обратно)312
Исследование функциональной роли хронотопа при классификации «поджанров» с точки зрения характера жанровой доминанты – это путь типологического анализа, основывающегося на изучении факторов жанрообразования. Возможен и другой подход – рассмотрение хронотопа повести в аспекте жанровых интеграций.
(обратно)313
Бестужев-Марлинский А.А. Замок Эйзен // Русская романтическая повесть (первая треть XIX века). – М., 1983. – С. 106.
(обратно)314
Там же. – С. 107–108.
(обратно)315
Там же. – С. 107, 106.
(обратно)316
Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 1. – М., 1956. – С. 360.
(обратно)317
Такая неверная трактовка дается в работе: Буланов А.М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины XIX в. – Волгоград, 1989. – С. 29.
(обратно)318
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 239–240.
(обратно)319
Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – С. 245–255.
(обратно)320
В повести Лескова, например, перевод одного литературного материала (авантюрный хронотоп, фольклорно-сказовая манера, нацеленные на столкновение устно-фольклорной и письменно-литературной традиций) в другую эстетическую систему (реалистическая повесть) является результатом и формой выражения несовпадений авторского сознания и сознания первичного субъекта речи.
(обратно)321
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 481.
(обратно)322
Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М., 1988. – С. 257. В данной работе обоснованы семантико-метафорические значения разных типов художественного пространства.
(обратно)323
Там же; Головко В.М. Оценочные функции хронотопа «усадьбы» / «дома» в «студиях» цикла «Отрывки из воспоминаний – своих и чужих» И.С. Тургенева // Город, усадьба, дом в литературе: Сб. научн. стат. – Оренбург, 2004. – С. 134–139.
(обратно)324
Жанровая «норма» – логическая непротиворечивость внутренних связей структуры жанра, выявленность основных особенностей этой структуры, взятой в непрерывном развитии и взаимодействии с другими жанрами, направляемость которых определяется её же спецификой.
(обратно)325
См. подробнее: Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – С. 286–301.
(обратно)326
Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – Т. 3. – М., 1957. – С. 483, 383, 547, 561,
(обратно)327
Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. – С. 288–292.
(обратно)328
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 392; Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. – С. 290.
(обратно)329
Вестник Европы. – 1879. – № 9. – С. 97, 95.
(обратно)330
Категорией «кругозора» определяется масштаб самосознания героя, его возвышение до миропонимания, до соотнесения своего «я» с закономерностями бытия.
(обратно)331
Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. – Вильнюс, 1988. – С. 17.
(обратно)332
А.Я. Эсалнек справедливо утверждает, что движение действия за счёт «толчка извне» характерно для произведений, в которых показан герой нероманного типа. (Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – М., 1991. – С. 63, 64.)
(обратно)333
Напряжённость коллизии произведения определена последствиями поступков этой героини, которая, надев личину «добродетели» («до двадцатисемилетнего возраста много успело накопиться в душе её желчи, эгоизма и недоброжелательства к людям»), сумела понравиться генералу-вдовцу Асонину, стать «генеральшей», а затем принесла много зла его дочери Анюте.
(обратно)334
Русский вестник. – 1861. – № 5. – С. 313, 312, 365.
(обратно)335
Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – С. 18–20; 52–58.
(обратно)336
Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. – М.; Л., 1963. – С. 51.
(обратно)337
Белинский В. Т. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 161, 162.
(обратно)338
Рикёр Поль. Герменевтика. Эстетика. Политика. – М., 1995. – С. 19–37.
(обратно)339
См.: Stanzel F. – K. Typische Formen des Romans. 12. Auflage. – Gottinqen, 1993.
(обратно)340
См.: Головко В.М. Формирование персональной повествовательной ситуации в русской прозе второй половины XIX в. (поэтика повествовательной идентичности) // Принципы и методы исследования в филологии: конец XX в. – СПб.; Ставрополь, 2001. – С. 485–491.
(обратно)341
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 11. – С. 9.
(обратно)342
Вестник Европы. – 1877. – № 10. – С. 491.
(обратно)343
Нелидова Л. Полоса // Вестник Европы. – 1879. – № 10. – С. 627, 633.
(обратно)344
Тургенев И.С. Вешние воды // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 1. – С. 126.
(обратно)345
Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести и рассказы. – М., 1963. – С. 116.
(обратно)346
Вестник Европы. – 1879. – № 11. – С. 101.
(обратно)347
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 455.
(обратно)348
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1928. – С. 177.
(обратно)349
Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957. – С. 495, 496, 497, 459,
(обратно)350
Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести и рассказы. – С. 493.
(обратно)351
Рикёр Поль. Герменевтика. Эстетика. Политика. – С. 19.
(обратно)352
Хвощинская Н.Д. [В. Крестовский-псевдоним]. Повести и рассказы. – С. 492, 488–489.
(обратно)353
Толстой Л.Н. Поликушка. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 3. – М., 1978. – С. 336.
(обратно)354
См.: Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 345–364.
(обратно)355
См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 93–97; Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – С. 364–417.
(обратно)356
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 455.
(обратно)357
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 93.
(обратно)358
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 336.
(обратно)359
Там же. – С. 290, 388.
(обратно)360
Лейдерман НЛ. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. – Свердловск, 1982. – С. 109.
(обратно)361
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 252.
(обратно)362
Там же.
(обратно)363
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 95.
(обратно)364
Головко В.М. Поэтика русской повести. – Саратов, 1992. – С. 26–45.
(обратно)365
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 339.
(обратно)366
Головко В.М. Художественно-философские искания позднего Тургенева (изображение человека). – Свердловск, 1989. – С. 99—108.
(обратно)367
Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – С. 364–418.
(обратно)368
См., напр.: Кормилов С.И. Проблемы детерминизма в литературе критического и социалистического реализма // Актуальные проблемы социалистического реализма. – М., 1981. – С. 162–163. Устаревшая терминология («критический», «социалистический реализм») не снижает теоретической значимости анализа категории «художественный детерминизм», содержащегося в данной работе.
(обратно)369
В философской литературе понятие «причины» отличается от понятия «условия». Причина есть относительно активный фактор, производящий данное следствие. Условие есть относительно пассивный фактор, влияющий на результат, вызываемый причиной, но не являющийся его причиной.
(обратно)370
Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1971. – С. 69.
(обратно)371
См., напр.: Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма. – Л., 1971. – С. 117.
(обратно)372
Келдыш В.А. Русский реализм начала XX в. – М., 1975. – С. 81—102.
(обратно)373
Поспелов Г.Н. Реализм и его разновидности в русской литературе XIX в. // Проблемы типологии русского реализма. – М., 1969. – С. 103.
(обратно)374
Николаев П.А. Реализм как творческий метод. – М., 1976. – С. 110–120.
(обратно)375
Жирмунский В.М. Становление реализма в мировой литературе и классический реализм XIX в. // Проблемы реализма в мировой литературе. – М., 1959. – С. 448.
(обратно)376
Реизов Б.Г. Творчество Флобера. – М., 1955. – С. 224; Сучков БЛ. Исторические судьбы реализма. – М., 1970. – С. 283; Ждановский Н. П. Особенности реализма писателей-демократов 60-х годов XIX в. // Проблемы типологии русского реализма. – М., 1968. – С. 316; Курляндская Г.Б. Эстетический мир И.С. Тургенева. – Орёл, 1994. – С. 292, 293.
(обратно)377
Келдыш В.А. Русский реализм начала XX в. – С. 80, 87; Кормилов С.И. Проблемы детерминизма в литературе критического и социалистического реализма. – С. 171.
(обратно)378
Маркович В.М. Человек в романах И.С. Тургенева. – Л., 1975. – С. 134.
(обратно)379
Купер К. Индивидуальные различия: Пер. с англ. – М., 2000. – С. 71; Иванов В.В. Наука о человеке. Введение в современную антропологию. – М., 2004. – С. 39.
(обратно)380
Сычёв Ю.В. Что определяет развитие личности: философский анализ. – М., 1983. – С. 33.
(обратно)381
Отношения «родового», «видового» и «индивидуального» в человеке Р.Р. Москвина и Г.В. Мокроносов справедливо рассматривают в качестве важнейшей составляющей дифференциации литературных жанров. (См.: Москвина Р.Р., Мокроносов Г.В. Человек как объект философии и литературы. – Иркутск, 1987.)
(обратно)382
Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм: законы природы. – М., 1973. – С. 6—35.
(обратно)383
Матюшенко Л.И. О соотношении жанров повести и романа в творчестве И.С. Тургенева // Проблемы истории и теории литературы. – М., 1971. – С. 319.
(обратно)384
Решетников Ф.М. Между людьми: Повести, рассказы и очерки. – М., 1985. – С. 292, 253.
(обратно)385
Кормилов С.И. Проблема детерминизма в литературе критического и социалистического реализма. – С. 173.
(обратно)386
Головко В.М. Идейная эволюция героя в повести И.С. Тургенева «Пунин и Бабурин» (материалы к реальному и историко-литературному комментарию) // Русская литература. – 1988. – № 1. – С. 195–204.
(обратно)387
Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. – Л., 1973. – С. 460.
(обратно)388
Григорович Д.В. Избр. соч. – М., 1955. – С. 241.
(обратно)389
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Т. 5. – Л., 1973. – С. 111, 78–81, 112, 178. Об изображении человека в романах Ф.М. Достоевского см.: Кашина Н.В. Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. – М., 1986; Щенников Г.К. Целостность Достоевского. – Екатеринбург, 2001; Киносита Т. Антропология и поэтика Ф.М. Достоевского. – СПб., 2005.
(обратно)390
Некоторые исследователи не случайно подчеркивают, что повесть как жанр отличается «избеганием нереального». (См.: Wilpert G. von. Sachworter-buch der Literatur. – Stuttgart, 1989. – S. 266.)
(обратно)391
Русские повести XIX в. / 60-х годов: В 2 т. – Т. 2. – С. 443, 456, 773.
(обратно)392
Григорович Д.В. Избр. соч. – М., 1955. – С. 265; Плещеев А.Н. Житейские сцены. – М., 1986. – С. 145.
(обратно)393
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. – Т. 18. – М., 1984. – С. 479.
(обратно)394
Там же. – Т. 7. – С. 332.
(обратно)395
Решетников Ф. М. Между людьми. – С. 162.
(обратно)396
Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1957. – С. 461.
(обратно)397
Фелонов П. Перед зарёй // Отечественные записки. – 1873. – № 9. – С. 245.
(обратно)398
Федосеевец [Абрамов Я.В]. Ищущий правды // Отечественные записки. – 1882. – № 5. – С. 39, 63, 67.
(обратно)399
Вовчок М. Собр. соч.: В 3 т. – Т. 1. – С. 460, 464–465, 467, 461.
(обратно)400
Сычёв Ю.В. Что определяет развитие личности: философский анализ. – С. 33.
(обратно)401
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. – М., 1957. – С. 284–285. (См. также: Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб., 2003.)
(обратно)402
Головко В.М. Поэтика русской повести. – Саратов, 1992. – С. 71—110, 127—147.
(обратно)403
Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 176–182, 240–242.
(обратно)404
Поспелов Г.Н. Реализм и его разновидности в русской литературе XIX в. // Проблемы типологии русского реализма. – М., 1969. – С. 109.
(обратно)405
Кормилов С.И. Проблемы детерминизма в литературе критического и социалистического реализма. – С. 182.
(обратно)406
Матюшенко Л.И. О соотношении жанров повести и романа в творчестве И.С. Тургенева // Проблемы истории и теории литературы. – М., 1971. – С. 319.
(обратно)407
Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. – Л., 1973. – С. 455 (точка зрения Л.К. Долгополова).
(обратно)408
Головко В.М. Стратегия эстетического дискурса и опыт реконструкции неоконченной повести «Штосс»: [Незавершённый замысел М.Ю. Лермонтова в творческой интерпретации А.А. Соколова] // Лермонтовский текст: Исследования 1900–2007 годов: Антология: В 2 т. – Т. 2. – СПб.; Ставрополь, 2007. – С. 57–64.
(обратно)409
Батюто А.И. Тургенев-романист. – Л., 1972. – С. 109–165; Головко В.М. Об одной философской полемике в «Стихотворениях в прозе» // И.С. Тургенев в современном мире. – М., 1987. – С. 284–293; McLaughlin S. Schopenhauer in Rupiand: zur literarische Rezeption bei Turgenev. – Wiezbaden: Harrasowitz, 1984; Аллен Луи. Тургенев и Шопенгауэр // Пушкин и Тургенев. – СПб.; Орёл, 1998. – С. 87–92; КурляндскаяГ.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. – Тула, 2001. – С. 100–182.
(обратно)410
См.: Лазарева К.В. Мифопоэтика «таинственных повестей» И.С. Тургенева. – Ульяновск, 2008.
(обратно)411
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. – Т. 13. – С. 98.
(обратно)412
Головко В.М. Черты национального архетипа в мифологеме Христа произведений позднего И.С. Тургенева // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Проблемы исторической поэтики. – Вып. 3. – Петрозаводск, 1994. – С. 231–248; Буданова Н.Ф. Рассказ Тургенева «Живые мощи» и православная традиция (к постановке проблемы) // Русская литература. – 1995. – № 1. – С. 188–192.
(обратно)413
Ср., например, повести В.А. Слепцова «Трудное время» (1865) и А.И. Эртеля «Карьера Струкова» (1895).
(обратно)414
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 154.
(обратно)415
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. Мещанский мыслитель // Слово. – 1881. – № 4. – С. 77.
(обратно)416
Виноградов И.А. Борьба за стиль. – Л., 1937. – С. 26–27, 24.
(обратно)417
Синенко В.С. О повести наших дней. – М., 1971. – С. 39–44.
(обратно)418
Там же. – С. 43.
(обратно)419
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. Бабушка-генеральша // Отечественные записки. – 1881. – № 6. – С. 516.
(обратно)420
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. В степи // Устои. – 1882. – № 5. – С. 95.
(обратно)421
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. В степи // Устои. – 1882. – № 1. – С. 133, 145.
(обратно)422
См.: Манн Ю.В. Натуральная школа // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – Т. 1. – М., 1972. – С. 272.
(обратно)423
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. В степи // Устои. – 1882. – № 1. – С. 133 – 137, 145.
(обратно)424
Помяловский Н.Г. Соч.: В 2 т. – Т. 1. – М.; Л., 1965. – С. 331.
(обратно)425
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. В степи // Устои. – 1882. – № 1. – С. 162.
(обратно)426
Головко В.М. Яков Абрамов: самоактуализация в художественном творчестве. – Ставрополь, 2008. – С. 85—109.
(обратно)427
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 129.
(обратно)428
См.: Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). – М., 1991. – С. 54–57; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 478–479.
(обратно)429
Плещеев А.Н. Житейские сцены. – М., 1986. – С. 257.
(обратно)430
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1986. – С. 479, 480.
(обратно)431
Плещеев А.Н. Житейские сцены. – С. 279.
(обратно)432
Головко В.М. Литературные реминисценции в повестях А.Н. Плещеева // В.М. Головко Поэтика русской повести. – Саратов, 1992. – С. 127–147.
(обратно)433
Там же. – С. 71—109, 127–147.
(обратно)434
Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. – Л., 1973. – С. 457.
(обратно)435
Анализ психопоэтики повести см.: Головко В.М. Поэтика русской повести. – С. 110–124.
(обратно)436
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. Ищущий правды // Отечественные записки. – 1882. – № 5. – С. 57, 66.
(обратно)437
Цит. по: Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л., 1980. – С. 104.
(обратно)438
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. Ищущий правды. – С. 39, 57, 61, 68, 66, 37, 57,
49, 52, 58, 72, 39, 57, 69, 59, 63.
(обратно)439
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Письма. – Т. 10. – С. 296.
(обратно)440
Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. – Вильнюс, 1988. – С. 17.
(обратно)441
Федосеевец [Абрамов Я.В.]. Ищущий правды. – С. 65, 67.
(обратно)442
Тургенев И.С. Полн. собр. и писем: В 28 т. – Письма. – Т. 13. – Кн. 1. – С. 266.
(обратно)443
Там же. – Соч. – Т. 10. – С. 266; Письма. – Т. 13. – Кн. 1. – С. 15, 145, 165, 180, 184 и др.
(обратно)444
О повестях такого типа в литературе 1960-х годов см.: Суровцев Ю.И. О композиции повести // Дружба народов. – 1971. – № 1. – С. 245–249.
(обратно)445
См.: Головко В.М. «Отчаянный» И.С. Тургенева: жанровая структура «студии типа» // И.С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. – Л., 1990. – С. 89—107.
(обратно)446
Головко В.М. Художественно-философские искания позднего Тургенева (изображение человека). – Свердловск, 1989. – С. 96—140.
(обратно)447
Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. – С. 511, 525.
(обратно)448
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 141.
(обратно)449
Наши обобщения подтверждаются данными «Синхронной таблицы», фиксирующей наиболее значительные явления в литературном процессе XIX в. См.: История всемирной литературы: В 9 т. – Т. 7. – М., 1991. – С. 784– 824.
(обратно)450
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 319.
(обратно)451
[Бахтин М.М.] Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – Л., 1928. – С. 177, 178.
(обратно)452
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 481.
(обратно)453
Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. – Л., 1982. – С. 15, 27.
(обратно)454
Определение М.С. Шагинян. См. также: Синенко В.С. Русская советская повесть 40—50-х годов: Вопросы поэтики и типологии жанра // Проблемы жанра и стиля. – Уфа, 1970. – С. 48. [Уч. зап. Башкирск. ун-та. – Вып. 44. – Сер. филол. наук. – № 17(21).]
(обратно)455
Гроссман Л.П. Достоевский-художник // Творчество Ф.М. Достоевского. – М., 1959. – С. 342.
(обратно)456
Stanzel F. – K. Typische Formen des Romans. – 12 Auflage. – ОоШ1щеп, 1993, – S. 14.
(обратно)457
См. подробнее: Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – Воронеж, 1982. – С. 47–48.
(обратно)458
См. на примере повести С.Т. Славутинского «Читальщица»: Головко В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.; Ставрополь, 1995. – С. 367–377.
(обратно)459
Там же. – С. 314–363.
(обратно)460
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 97.
(обратно)461
См.: StanzelF. – K. Typische Formen des Romans. – 12 Auflage. – Göttinqen, 1993.
(обратно)462
См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – С. 93–97.
(обратно)463
Там же. – С. 71, 76, 75.
(обратно)464
Там же. – С. 71, 92, 72.
(обратно)465
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // В.Г. Белинский. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 150.
(обратно)466
Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. – М.; Л.; 1963. – С. 51.
(обратно)467
См. об этой концепции: Гуревич И.А. Проза А.П. Чехова: человек и действительность. – М., 1970.
(обратно)468
Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 1972. Косвенно это подтверждается и тем, что прямой предшественник Чехова в области драмы – И.С. Тургенев считал, что его пьесы предназначены для чтения, а не для постановки в театре. Необходимы были смелые режиссёрские решения, чтобы драматургия Тургенева и Чехова раскрыла свойства подлинной сценичности.
(обратно)469
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 9.
(обратно)470
Головко В.М. Герменевтика жанра: проектная концепция литературоведческих исследований // Литературоведение на пороге XXI в. – М., 1998. – С. 207–211.
(обратно)471
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – С. 68. На первый взгляд, этому тезису противоречит вывод М.М. Бахтина о герое повести Достоевского «Записки из подполья» – о том, что он «ни в один миг не совпадает с самим собою». Но, во-первых, в данном случае речь идет о романической повести, а во-вторых, даже будучи «субъектом сознания и мечты», парадоксалист предстает как «завершённый» (то есть не романный) характер, в принципе совпадающий с самим собой: М.М. Бахтин не случайно подчеркивает «безысходную незавершимость, дурную бесконечность» его самосознания. Это оборотная сторона одного и того же явления – завершённости (своего рода движущаяся стабильность). Этим подчеркивается отсутствие развития как качественного изменения в характере, то есть «устойчивость», «твёрдость» бытия героя, «конечность» его «субстанции», его «равенство самому себе». В повести Достоевского мы наблюдаем лишь оригинальные формы выражения типологических особенностей характерологии повести, не противоречащие её жанровым законам. (Там же. – С. 67, 68.)
(обратно)472
Страницы, на которых содержатся определения понятий и категорий, выделены жирным шрифтом.
(обратно)

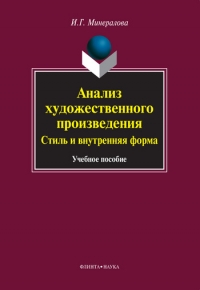

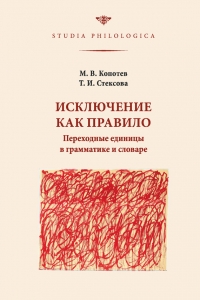
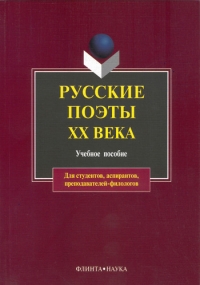
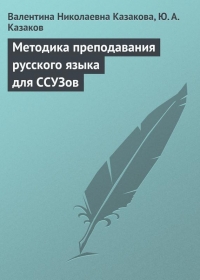

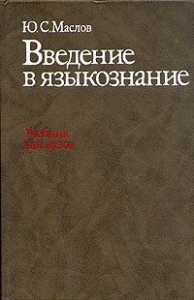
Комментарии к книге «Историческая поэтика русской классической повести: учебное пособие», Вячеслав Михайлович Головко
Всего 0 комментариев