О. М. Буранок Русская литература XVIII века. Петровская эпоха. Феофан Прокопович. Учебное пособие
©Издательство «ФЛИНТА», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Введение
Феофан Прокопович (1681–1736) – философ, политический деятель, писатель, сумевший в своём творчестве отразить одну из самых сложных и драматических эпох в истории духовного развития России – первую треть XVIII века.
Объективный идеалист, метафизик, деист, Феофан Прокопович шёл от схоластики к философии Просвещения.
Сложность и противоречивость его философских взглядов обусловливается переходным характером эпохи и уровнем развития отечественной философии. Он был сторонником просвещённого абсолютизма, рано понял и принял реформу Петра I. Недаром В. Г. Белинский назвал Феофана «одним из птенцов его орлиного гнезда»[1]. И «птенец гнезда Петрова» словом и делом (собственно, «слово» у него всегда было «делом») последовательно отстаивал деяния Петра в течение всей своей жизни.
Творчество Феофана Прокоповича – теолога, крупнейшего государственного и церковного деятеля, философа-просветителя, оратора, художника слова – выразило все сложнейшие перипетии бурного времени, названного Петровской эпохой, более того, и сам Феофан Прокопович, и всё содеянное им не только связаны неразрывными узами с эпохой, но и явились её порождением.
Идеология абсолютизма обусловила эстетические воззрения Феофана Прокоповича-предклассициста: блестяще усвоив теорию и практику западноевропейского барокко, Феофан – теоретик и художник слова – вплотную подошёл к классицизму.
* * *
В настоящем учебном пособии автор поставил цель: рассмотреть драматургическое и ораторское творчество Феофана Прокоповича («Владимир», «Разговоры», «слова» и «речи») в контексте драматургии и ораторского искусства первой трети XVIII в., решая вопрос о традициях и новаторстве Прокоповича – драматурга и оратора. В учебном пособии даются также контрольные вопросы после каждого раздела книги. Подробные методические рекомендации по изучению творчества Феофана Прокоповича в контексте литературы Петровской эпохи содержатся в учебном пособии: Буранок О. М. Методика изучения русской литературы XVIII века в вузе. – М., 1997.
Произведения Феофана Прокоповича цитируются в тексте учебного пособия по изданиям:
1. Феофан Прокопович. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
При цитировании этого издания в скобках указывается номер страницы, например: (215); при цитировании предисловия И. П. Ерёмина (с. 3—19), примечаний И. П. Ерёмина (с. 459–491) и Г. А. Стратановского (с. 491–500) номер страницы указывается курсивом, например: (5).
2. Феофан Прокопович. Слова и речи: В 4 ч. – СПб., 1760–1774. (Ч. I – 1760; ч. 2 – 1761; ч. III – 1765; ч. IV – 1774).
В тексте номер части указывается римской цифрой, далее после запятой номер страницы арабской цифрой, например: (II, 15).
В учебном пособии анализируются «слова» и «речи», опубликованные в трёх первых частях; четвёртая часть содержит сугубо богословские ораторские сочинения, которые нами не рассматриваются. В случае, когда произведение опубликовано и в издании XVIII в., и И. П. Ерёминым (1961), нами цитируется издание под редакцией И. П. Ерёмина.
Итоги и проблемы изучения драматургии и ораторской прозы Феодана Прокоповича
В современном отечественном и зарубежном литературоведении совершенно закономерен большой и вполне обоснованный интерес к литературе переходного периода (конец XVII – начало XVIII в.). «Изучение так называемой переходной или Петровской эпохи представляет собой одну из важнейших задач нашей науки»[2].
Важнейшей составной частью литературного процесса первой трети XVIII в. являются театр, драматургия и ораторское искусство, о чём неоднократно писали многие исследователи. И драматические, и ораторские произведения Феофана Прокоповича чрезвычайно значимы и значительны в литературе Петровской эпохи. Г. А. Гуковский назвал Феофана Прокоповича «пропагандистом Петра и его дела», «крупнейшим литератором петровского времени»[3]. Его «проповеди, – пишет учёный, – имеют в малой степени церковный характер. Это политические агитационные речи и статьи, написанные очень живо, ярко, просто»[4].
Ораторская проза Феофана Прокоповича, в отличие от его драматургии и стихотворства, и в XVIII, и в XIX вв. привлекала внимание церковных деятелей, историков церкви, исследователей-филологов.
В XVIII в. литературная критика ещё только начинает формироваться: в письмах писателей, мемуарах, литературных произведениях встречаются отдельные замечания литературного характера, которые можно рассматривать как критические. Есть такие замечания и об ораторской прозе Феофана Прокоповича.
О восприятии проповедей Феофана Прокоповича его современниками есть несколько свидетельств. Иностранца Моро-де-Бразе (участвовавшего в армии Петра в Прутском походе; его записки перевёл А. С. Пушкин) удивила способность «придворного священника» «целых полтора часа говорить проповедь»[5] (речь идёт о проповеди Феофана Прокоповича, произнесённой 27 июня 1711 г., во время Прутского похода, в память Полтавского сражения). Соотечественники же Прокоповича, его современники, как замечает И. И. Лажечников в своём письме А. С. Пушкину (от 22.XI.1835), умели «уже сочувствовать красноречивому витийству Феофана»[6]. Высоко оценил его ораторский талант и свежесть мысли Пётр I[7].
А. Д. Кантемир одну из своих сатир (№ 3) посвятил Феофану Прокоповичу, высоко оценившему его первую сатиру и ответившему на неё стихотворным посланием «Не знаю, кто ты, пророче рогатый» (216–217).
В сатире Кантемир обращается к Прокоповичу:
Мудрый первосвященник, ему же Минерва Откры все сокровенна Феофан, ему же все известно, что знати Может человек и ум человечь поняти![8]В примечаниях к сатире Кантемир даёт биографические сведения о Феофане и свою оценку его личности: «Между церковными не было его учейнейшего, и в народе таким почитан». Есть здесь замечание и об ораторской прозе проповедника: «великого числа поучений, которые он говорил в присутствии монархов и к общему наслаждению слушателей»[9]. Черновые рукописи М. В. Ломоносова донесли до нашего времени его отзыв об ораторском искусстве Феофана Прокоповича. В рукописи «Риторики» (1744–1747) есть не вошедшая в опубликованный текст («Краткое руководство к красноречию», 1748) фраза: «Но лучшие сего примеры (чем у Флешье – О.Б.) читать можно в словах надгробных покойного Феофана Прокоповича, архиепископа новгородского»[10]. Авторы примечаний «Полного собрания сочинений» Ломоносова, комментируя эту фразу, подчёркивают: «в глазах Ломоносова Феофан Прокопович был более крупным мастером слова, чем прославленный на Западе Флешье», «этот зачёркнутый Ломоносовым текст интересен как единственный дошедший до нас отзыв об ораторском даровании Феофана Прокоповича»[11].
Здесь же они приводят мнение А. П. Сумарокова об ораторском даре Прокоповича и указывают, что в черновике сумароковской «Эпистолы о стихотворстве» (1748) этот отзыв был более развёрнутым, нежели в опубликованном варианте. В черновой рукописи А. П. Сумароков говорит о Феофане:
Последователь сей пресладка Цицерона И красноречия российского корона Он ритор из числа во всей Европе главныхВ окончательном тексте останутся лишь строки:
Разумный Феофан, которого природа Произвела красой словенского народа, Что в красноречии касалось до него[12].Все комплименты относятся именно к ораторской прозе, ибо, по мнению Сумарокова, Феофан «достойного в стихах не создал ничего»[13].
Во второй половине XVIII в. высказывания об ораторской прозе Феофана Прокоповича связаны с публикацией первого достаточно полного и, главное, научного издания его «слов» и «речей», вышедшего в свет по инициативе С. Ф. Наковальнина (3 части в 1760–1765 гг., 4-я часть вышла позже – в 1774). Издатель напечатал 53 произведения; в четвертой части, вышедшей значительно позднее, были помещены исключительно богословские сочинения Феофана Прокоповича (см.: 4). Три киевских «слова» напечатаны в первой части (I, 1—73), т. к. все они были широко известны при жизни автора, печатались типографским способом, а остальные – в третьей части с пометой издателя: «Сие и следующия слова проповеданы в Киеве, а которых годов неизвестно» (III, 254). Остальные «речи» относятся к петербургскому периоду творчества Прокоповича-оратора.
С. Ф. Наковальнин и его сотрудники провели большую подготовительную работу, как бы мы сейчас сказали, текстологические изыскания, опубликовав на высоком для того времени уровне «слова» и «речи» Феофана Прокоповича в типографии Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса.
В «Предисловии» к первой части воздаётся должное ораторскому искусству Феофана Прокоповича – «первого из наших писателей, который многоразличным учением столь себя прославил, что в ученой истории заслужил место между славнейшими Полиисторами, Феофана красноречием толь великого, что некоторые ученейшие люди почтили его именем российского златоустого, и, что всех большее есть, Феофана поборника и провозвестника великих трудов и преславных дел обновителя и просветителя России Петра Великого» (I, б./н.[14]).
Автор «Предисловия» убедительно доказывает, что слава великого оратора сопровождала Феофана Прокоповича долго и после его смерти. При этом отметается обвинение в адрес Феофана Прокоповича в нечистоте «штиля», столь обычное в 30—60-е гг. XVIII в. в связи с утверждением классицистами теории трёх стилей: Феофан Прокопович «мешает в словенский язык» «простонародные», «а иногда в великой России неупотребляемые речи» (I, б./н.), т. к. писал не на латыни – языке учёности тех лет, а хотел приблизить свои произведения к простому народу.
Высокую характеристику этому изданию даст, в своё время, И. П. Ерёмин, подчеркнув, что оно «пока единственное в нашей науке» (см.: 4–6). Нужно добавить, что первым и единственным полным изданием ораторской прозы Феофана Прокоповича на русском языке оно остаётся по сегодняшний день.
Именно это издание имеет в виду И. Ф. Богданович, советуя в письме к Я. Я. Штелину (не позднее 1772 г.): «Благоволите просмотреть собрание проповедей Феофана, где указаны все его труды»[15].
Н. И. Новиков в «Санктпетербургских ученых ведомостях» (1777, № 1) объявил интересный творческий конкурс на лучшую стихотворную надпись к изображениям выдающихся людей России (в предложенном им списке было имя и Феофана Прокоповича). В. И. Майков, откликнувшись на призыв знаменитого просветителя, сочинил четверостишие к портрету Феофана Прокоповича, образно раскрывающее главные стороны личности недюжинного государственного деятеля и талантливого человека:
Великого Петра дел славных проповедник, Витийством Златоуст, муз чистый собеседник, Историк, богослов, мудрец Российских стран — Таков был пастырь стад словесных Феофан[16].В первой половине XIX в. упоминания о Феофане-писателе ещё весьма эпизодичны, хотя литературная критика по-прежнему обращалась к его ораторскому наследию и обратила, наконец, внимание на его пьесу.
Н. М. Карамзин писал о Феофане Прокоповиче как о «муже просвещённом, благоразумном политике и любимце Петра»[17]. В центре внимания Карамзина оказалась именно ораторская проза «учёного богослова и природного оратора»[18]. Отмечая в его речах «множество цветов красноречия», Карамзин критикует его «слог», который «нечист и, можно сказать, неприятен»[19]. В целом оценка ораторского искусства Феофана Прокоповича у Н. М. Карамзина высока[20], критик замечательно тонко уловил характерные черты публицистики проповедника – страстность, темперамент, искренность. «Искреннее, жаркое чувство», «счастливые, живые черты, вдохновение истинного гения» – «вот прелесть Феофановых речей, которая всегда будет действовать на русские сердца»[21], – восклицает критик.
А. С. Пушкин называет Феофана Прокоповича «проповедником Парнаса»[22], говорит о роли Петра I в его судьбе: «Здесь он (в Киеве Пётр I. – О.Б.) узнал Феофана Прокоповича Речь его понравилась Петру, и он принял его в свою особую милость»[23]; «взял с собою (в Прутский поход. – О.Б.) Феофана Прокоповича, любя его разговор»[24]; «Петр Великий бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана»[25]. И в память потомков Феофан Прокопович войдёт именно как оратор, «один из птенцов его (Петра I. – О.Б.) орлиного гнезда», по выражению В. Г. Белинского[26].
Особенно примечательны критические суждения Н. И. Гнедича о «Владимире», высказанные им в письме к Н. П. Румянцеву[27]. В литературе о «Владимире» Н. И. Гнедич первым высоко оценил идейный замысел пьесы, отметив «смелость мыслей», «силу и резкость доводов» драматурга. Вместе с тем он, подчеркнув незаурядное дарование Феофана, уделил большое внимание художественным достоинствам «Владимира». Критик обнаружил связь с трагедиями Сенеки и произведениями античных комедиографов, увидел злободневность сатиры на жрецов, указал на искусное построение трагедокомедии, её язык. Лаконичная, но весьма ёмкая и проницательная оценка Н. И. Гнедичем пьесы Феофана привлекала внимание всех исследователей «Владимира».
Ю. Ф. Самарин, известный славянофил и общественный деятель второй половины XIX в., положил начало диссертационному, монографическому изучению личности и творчества Феофана Прокоповича. 3 июня 1844 г. он защитил диссертацию на степень магистра философии «Стефан Яворский и Феофан Прокопович».
Исследователь весьма обстоятельно характеризует богословское наследие двух известных публицистов Петровской эпохи, но историко-литературное значение ораторской прозы Феофана Прокоповича, её поэтика не интересовали Ю. Ф. Самарина. Полностью опубликована диссертация была в 1880 г. в пятом томе сочинений Ю. Ф. Самарина[28].
Характеризуя красноречие, ораторскую речь, Ю. Ф. Самарин считал, что «красноречию нет места в области искусства; ораторская речь не есть и не должна быть художественным произведением», т. к. деятельность оратора, т. е. «ораторская речь», «есть плод не свободного творчества, но результат расчёта», «свобода творчества заменяется служением практической цели, выходящей из области литературы вообще» (с. 297).
«Напрасно дают место красноречию в области изящной словесности и напрасно изучение красноречия возводят на степень науки. Так как оно есть не более как средство, служащее к достижению до бесконечности разнообразных, но для него постоянно внешних целей» (с. 298). При этом Самарин вовсе не умалял значения ораторской речи. На первое место он выдвигал красноречие духовное, которое «служит вечным, абсолютным истинам, догматам веры и нравственным законам, свыше открытым человечеству» (с. 298). Очень высоко учёный оценивал деятельность и личность проповедника: «Живой посредник между церковью и частными лицами есть проповедник; самое дело посредничества есть проповедь» (с. 300).
Стефана Яворского Самарин относил к прокатолическим сторонникам духовного красноречия, которые увлекались избытком образов, символизмом, искусственной правильностью речи, а Феофана Прокоповича к тем ораторам, которые ближе к протестантизму (с. 314). Хотя Ю. Ф. Самарин и не обратил внимания на проблему историко-литературного значения этого творчества, постановка её в формирующейся литературоведческой науке была уже не за горами.
Серьёзное внимание к творчеству Феофана Прокоповича русская историко-литературная наука начинает проявлять после выхода в свет работ П. Пекарского, Н. Петрова и И. Чистовича[29], ценных, главным образом, богатством фактического материала; особенно следует выделить книгу И. А. Чистовича «Феофан Прокопович и его время» (1868). В эту монографию включён раздел «Феофан-проповедник. Характер его проповеди» (§ 30)[30]. В нём весьма лапидарно учёный характеризует в целом Феофана как проповедника: «Как проповедник Феофан имеет огромную заслугу. Он преобразовал русскую церковную проповедь, выведши её из схоластической отвлечённости и сблизивши с жизнью, с нуждами народа, с потребностями времени и обстоятельств. Он произвёл эту реформу научно и практически: научно – посредством наставлений и правил; практически – своим примером и влиянием на современных проповедников»[31]. Сколько-нибудь подробного анализа «слов» и «речей» Феофана в книге И. А. Чистовича нет. Однако важным стало то обстоятельство, что в параграфе в обобщающем виде дана не только очень высокая оценка политической ценности ораторского искусства Феофана, но определена значимость влияния Феофана-оратора на его последователей в ораторском искусстве: «Феофан стоял во главе проповеднической школы петровского времени»[32]. Среди последователей названы Гавриил Бужинский, Феофил Кролик, Симон Кохановский и др. О «Владимире» И. А. Чистович писал мало, в основном цитируя и пересказывая пьесу Феофана Прокоповича.
Событием в истории изучения раннего русского театра стал выход двух томов «Драматических произведений 1672–1725 годов», собранных Н. С. Тихонравовым и изданных Д. Кожанчиковым (СПб., 1874). Это замечательное издание стало на многие годы, вплоть до появления пятитомника ИМЛИ им. А. М. Горького, главным сводом ранних русских пьес, послужившим стимулом для более пристального и глубокого изучения истоков русского театра и, в частности, Феофана-драматурга[33].
В 1879 году Н. С. Тихонравов публикует статью «Трагедокомедия Феофана Прокоповича “Владимир”»[34] положившую основу научного изучения пьесы. Глава культурно-исторической школы, академик Н. С. Тихонравов, предваряет анализ трагедокомедии историко-теоретическим экскурсом о школьном театре Запада, Украины, Москвы.
Развивая мысль Н. И. Гнедича, Н. С. Тихонравов отыскивает параллели «Владимиру» в античном и средневековом западном театре. Он называет имена Сенеки, Теренция, Плавта (правда, сопоставлений более тщательных в статье нет). Учёный указал возможные исторические источники, которыми мог воспользоваться Прокопович при изучении далёкой эпохи крещения Руси; развитие сюжета он тесно связал с теоретическими высказываниями о драме самого Феофана в его «Поэтике»; наметил связь проповеди Прокоповича на день святого Владимира с пьесой.
Однако идейно-художественный анализ, при многих частных глубоких и тонких наблюдениях, страдает описательностью: Н. С. Тихонравов пересказывает трагедокомедию действие за действием, делая обширные выписки из пьесы и других трудов Феофана. Важен вывод учёного о том, что «трагедокомедия во многом отошла от типа школьной драмы»[35], но отход Н. С. Тихонравов увидел более в форме, нежели в содержании произведения. Сатирические выпады, политическую остроту пьесы исследователь относит всего лишь к комической стороне «Владимира», для него это – осмеяние частных пороков, не более. Близка ему чисто религиозная сторона пьесы. Не проводит он и весьма важной для понимания «Владимира» связи между Петром I и героем трагедокомедии.
«Урожайным» в изучении творчества Прокоповича стал 1880 г.: появляются монография П. О. Морозова «Феофан Прокопович как писатель» и «Очерки из истории украинской литературы XVIII века» Н. И. Петрова. Впервые о Феофане заговорили как о выдающемся писателе своего времени. П. О. Морозов высоко оценивает творчество Прокоповича: «Литературная деятельность Феофана, столь обширная и разнообразная, представляет яркое воплощение идей и стремлений передовой части русского общества в эпоху преобразования; вопросы, им затронутые, нередко были для нашего общества вопросами первостепенной важности, влияние его на дальнейший ход нашей литературы едва ли подлежит сомнению»[36]. Характеристика художника слова даётся исследователем на весьма широком общественно-литературном фоне, в сопоставлении с украинской и польской литературой. Однако анализ трагедокомедии «Владимир» у П. О. Морозова поверхностный, описательный, со ссылками на разборы Н. И. Гнедича и особенно Н. С. Тихонравова[37].
Н. И. Петров, используя свои работы 1860-х гг., создаёт интересное, во многом полезное до сего времени исследование об украинском театре и драматургии XVII–XVIII вв. Правда, исходная позиция учёного страдает узостью, так как он не рассматривает эту литературу как один из этапов в общем развитии русского искусства, но склонен видеть в ней «специальную, самодовлеющую область литературы», существующую вне взаимосвязи с русской[38]. Анализ пьесы Феофана Прокоповича, проделанный Н. И. Петровым, стандартен, во многом повторяет Н. С. Тихонравова и П. О. Морозова. Лишь в одном исследователь расходится с ними: им отрицается одна из важнейших сторон пьесы – её сатирическая направленность против русского духовенства. Полемизируя с Н. С. Тихонравовым и П. О. Морозовым, Н. И. Петров считает, что намёки и сатира направлены Феофаном против католического духовенства[39], что нельзя признать справедливым. Однако именно Н. И. Петров впервые поставил вопрос о жанровом своеобразии «Владимира» и о влиянии пьесы Феофана на формирование трагедокомедии как нового жанрообразования в школьной драматургии[40].
В последнюю треть XIX – начале ХХ вв. появляется ряд искусствоведческих работ по истории русского театра, в которых даётся, как правило, со ссылкой на Н. С. Тихонравова, П. О. Морозова, Н. И. Петрова краткая характеристика Феофана-драматурга. Это исследования А. Липовского, В. Всеволодского-Гернгросса, В. Варнеке и ряда других. Ничего принципиально нового не сказали о Феофане-драматурге и авторы книг по истории русской литературы этого периода. И. Н. Жданов, например, даёт подробный пересказ пьесы и больше внимания уделяет Феофану-проповеднику[41].
В 1914 г. была защищена магистерская диссертация Алексея Тихомирова «Феофан Прокопович как церковный и политический деятель», отзыв на которую дал В. О. Ключевский.
Таким образом, русское дореволюционное литературоведение сделало достаточно много для освоения творческого наследия Феофана Прокоповича. Были обнаружены списки трагедокомедии и опубликован Н. С. Тихонравовым текст пьесы с разночтениями; созданы обобщающие труды о жизни и творчестве Феофана (И. А. Чистович, П. О. Морозов); сделан обстоятельный анализ непосредственно самой пьесы (Н. С. Тихонравов); уделено внимание, и порой пристальное, «Владимиру» в работах по ранней русской драматургии и театру (П. О. Морозов, Н. И. Петров и др.). Однако методологическая ограниченность старой филологической науки определила ряд серьёзных недостатков в работах по творчеству Прокоповича: анализ проводился без учёта исторического процесса и общественных отношений конца XVII – начала XVIII вв. Вопрос о месте Феофана в историко-литературном процессе как художника, поэта и публициста и особенно драматурга по-настоящему не был поставлен. Анализ трагедокомедии и ораторской прозы вёлся без учёта всей совокупности философских, общественных и идейно-художественных взглядов автора. Проблем поэтики касались лишь некоторые исследователи, например, Н. С. Тихонравов.
В 1920-е гг. к трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» обратились Я. Гординский и А. Белецкий.
В монографии Я. Гординского достаточно много интересных наблюдений частного плана. Так, исследователь обратил внимание на жанр трагедокомедии. Прокопович-драматург, считает исследователь, пошёл «за новейшими струями в светской драматургии. И примером ему была не столько классическая римская комедия, сколько ново-латинская драма XVI в.»[42]. Однако идейный анализ пьесы ведётся с националистических позиций: решительно отрицается очевидная идейная направленность трагедокомедии – защита петровских реформ и параллель Владимир I – Петр I; тенденциозно трактуется пролог и хор-монолог апостола Андрея. Я. Гординский утверждает, что пьеса посвящена не Петру I, а целиком прославлению Мазепы[43]. Западно-украинский исследователь игнорирует работы многочисленных русских учёных, сделавших в изучении как раз этих сторон пьесы весьма много.
С совершенно иных идейных позиций дана краткая, но яркая и интересная характеристика «Владимира» А. Белецким в книге «Старинный театр в России». «Борьба христианства с язычеством в легендарной Руси времён князя Владимира – это борьба новых идей со старыми, с застоем и невежеством; язычество – это синоним последнего, им только оно и держится»[44], – делает убедительный вывод учёный. Пьеса Феофана Прокоповича, считает А. Белецкий, носит общероссийский характер по своему идейному пафосу и направленности. Недостатком работы следует признать то, что «Владимир» генетически связывается лишь с польским театром; крайне мало внимания уделено поэтике; система образов почти не рассмотрена.
В 1930-е гг. ни одной книги или статьи, посвящённых Феофану Прокоповичу и его пьесе, не появилось. В третьем издании «Истории русского театра XVII – XIX веков» В. Варнеке была повторена лаконичная характеристика «Владимира», не добавлявшая ничего нового для понимания пьесы[45].
В 1920—1930-е гг. никто не занимался сколько-нибудь серьёзно изучением и ораторской прозы Феофана Прокоповича. Событием стало появление в 1939 г. первого учебника по русской литературе XVIII в., написанного Г. А. Гуковским. В этом пособии, не потерявшем своей ценности до сих пор (учебник переиздан в 1999 г.), несколько страниц, посвящённых творчеству Феофана Прокоповича, стали отправным моментом в дальнейшем изучении художника. Дав в небольшом введении характеристику общественно-политических взглядов Феофана, Г. А. Гуковский совершенно справедливо уделил наибольшее внимание трагедо-комедии «Владимир». Он впервые указал на принципиальную важность сатиры в пьесе, определил идейный конфликт произведения, сказал о незаурядности «Владимира» как художественного явления. Новаторство пьесы, по сравнению с традиционными школьными драмами, учёный увидел в попытке драматурга «изобразить душевный, психологический конфликт в сознании Владимира», в «бытовых сатирических мотивах иронических и забавных чёрточках, придающих “трагедокомедии” подлинную живость»[46]. Развёрнутой характеристики «Владимира» на фоне театра эпохи, в связях с западным театром Г. А. Гуковский не дал. Видимо, это и не входило в задачу автора вузовского пособия. Ораторской прозе посвящено несколько страниц с краткой характеристикой Феофана-оратора и с упоминанием четырёх его проповедей[47].
Статья Н. К. Гудзия[48] – этапное исследование для постижения Феофана – драматурга и оратора. Н. К. Гудзий назвал Феофана выразителем идей Ренессанса и реформации. Принципиально то обстоятельство, что творчество Прокоповича прослежено в эволюции, в связи с литературной эпохой.
Д. Д. Благой в известном учебнике «История русской литературы XVIII века» (1-е изд. 1945 г.) называет Феофана Прокоповича «одним из самых выдающихся государственных и культурных деятелей данной эпохи»[49]. Характеризуя его литературную деятельность, Д. Д. Благой пишет, что «его основными литературными жанрами являются жанры богословского трактата, церковной проповеди, законодательных постановлений»[50]. Учёный отмечает несомненное влияние публицистики Феофана на сатиры Кантемира, басни Сумарокова; подчёркивает стремление Феофана «говорить и писать как можно обыкновеннее и проще»[51].
В отдельном параграфе анализируется трагедокомедия «Владимир». Д. Д. Благой считает пьесу художественным явлением не только украинской, но и русской литературы. Национально-исторический сюжет, «жгучая современность», умелое соединение серьёзного с комическим, что явилось новаторским по сравнению со старой структурой школьной драмы, определили, по мысли автора учебника, популярность пьесы[52].
В самом конце 1940-х и в 1950-е гг. идёт дальнейший процесс фундаментального накопления исторических, философских, культурных знаний по Петровской эпохе, в связи с чем ни один из учёных, занимавшихся разработкой этих проблем, не может обойти такой колоритной фигуры эпохи, как Феофан Прокопович.
Вышли в свет работы по истории русского театра С. С. Данилова, В. Н. Всеволодского-Гернгросса, Б. Н. Асеева, в которых высоко оценивалась пьеса «Владимир», делались интересные частные наблюдения, но в связи с характером работ – театроведческих – исследователи не могли уделить пристального внимания трагедокомедии, поэтому «Владимир» не получил в этих трудах всестороннего анализа[53].
В томе «Очерков по истории СССР», посвящённом эпохе Петра I, о литературе и театре переходного периода написал очерк А. В. Кокорев, выделив среди всех деятелей культуры первой трети XVIII в. Феофана Прокоповича и назвав его пьесу выдающейся для своего времени, прокладывающей «путь к подлинной национально-исторической тематике в русской драматургии»[54].
Начавшие вновь интенсивно выходить сборники «XVIII век» не баловали Феофана Прокоповича своим вниманием: его имя появлялось в обзорных статьях, указывалось на необходимость изучения творчества Феофана, были статьи об его ораторской прозе, стихах и т. д., но ни одной работы, посвящённой «Владимиру», не было.
В конце 1950-х г. выходит в свет трехтомная академическая «История русской литературы» (гл. ред. Д. Д. Благой). В первом томе П. Н. Берков в главе «На путях к новой русской литературе» пишет о том, что в публицистике Петровской эпохи отразилась борьба новых и старых идейных тенденций.
Особое внимание исследователя привлекли «многочисленные насыщенные публицистическими элементами проповеди Феофана Прокоповича»[55]. П. Н. Берков упоминает прозаические произведения Феофана – «Слово похвальное в день рождения великого князя Петра Петровича», «Похвальное слово о флоте российском», «Слово о власти и чести царской», а также трактаты «Духовный регламент» и «Правда воли монаршей». «Все речи и публицистические произведения Феофана Прокоповича, – подчёркивает П. Н. Берков, – проникнуты гордостью за успехи русской культуры, русской государственности»[56].
Трагедокомедию «Владимир» П. Н. Берков связывает с новой русской литературой, которая заложила основы классицизма в идейных представлениях, в выборе тем, зарождении литературных жанров, исканиях в области языка. Учёный указывает, что литература этого периода «представляет интерес и сама по себе – как отражение важного в определённом отношении переломного момента в истории русской культуры»[57].
В 1950-е гг. всё более пристально изучается Феофан Прокопович за рубежом[58]: появляются статьи И. Тетцнера, Э. Винтера, Ф. Вентури и др. Наибольший интерес представляет статья немецкого слависта И. Тетцнера «Феофан Прокопович и русское раннее Просвещение» (1958). Важная для уяснения теоретико-эстетических взглядов Феофана, она почти не касается его «Владимира». Литературные, общественно-политические, философские взгляды Феофана учёный связывает с развитием Просвещения на Западе и в России. И. Тетцнер прослеживает становление личности молодого монаха в киевский период его жизни и творчества, отмечая, что уже там произошла «закладка» мировоззрения будущего сподвижника и идеолога Петра I[59].
И. Тетцнер подмечает важное обстоятельство смены духовного климата в Петровскую эпоху: принявший перемены дышал воздухом реформ Петра, становился его сподвижником, не принявший – погибал не только внутренне, духовно, но и физически. Учёный приводит примеры: Дмитрий Ростовский и Стефан Яворский. «Как хорошо вошёл Прокопович в мир Петра, – считает И. Тетцнер, – можно видеть из сравнения его киевских проповедей с проповедями петербургского времени» (с. 354). Темы о загробной жизни («помни о смерти!»), изображение вечного благоденствия и, наоборот, ада, бесконечность мук в загробном мире – всё это отступает в проповедях петербургского периода на второй план. А на первый выступают заботы о земном, сиюминутном, обязанности монарха и его подданных, а польза народа становится доминантой многих слов и речей Феофана Прокоповича этого периода. «Петра же он славит как неутомимого работника он оправдывает даже воскресную работу» (с. 354). Особенной целенаправленностью в этом смысле отличаются, по мысли исследователя, петербургские проповеди, посвящённые смерти Петра. «В полном осознании начинающейся реакции Прокопович повторяет слово “будет” как некую клятву для дальнейшего существования петровских реформ и требует от преемников Петра завершения Петрова дела» (с. 355).
Проводя демаркационную линию в проповедях киевского и петербургского периодов, И. Тетцнер видит их различие в двух понятиях – знание и от ечество (с. 355).
И. Тетцнер, анализируя ораторскую прозу, доказывает, что, в отличие от киевского, в петербургский период Феофан в «словах» и «речах» более патриотичен. Исследователь высказывает достаточно спорное для сегодняшнего времени суждение о том, что «Прокопович, несмотря на всю просвещённость, остаётся верующим христианином, архиепископом с субъективными религиозными целевыми установками» (с. 359–360). На наш взгляд, И. Тетцнер делает поспешный вывод о том, что стремление Прокоповича подчинить Академию наук влиянию Святейшего Синода показывает ограниченность Прокоповича. Феофан, по мнению учёного, не смог вскрыть ход развития взаимоотношений Синода и Академии. В этом он ещё усматривает и достаточно большое влияние на Феофана киевского периода его деятельности и творчества.
Оба периода – киевский и петербургский – в творчестве Феофана Прокоповича объединяет любимая всеми просветителями антитеза «свет – тьма», а также понятия «разум», «рассуждение», «доказательство», «мышление», «ясность», «польза». Немецкий исследователь считает, что эти понятия в обоих периодах у Феофана идентичны (с. 363). На наш взгляд, это не так. При всей возможной близости трактовок этих понятий Прокоповичем (до его переезда в Петербург и после), они всё-таки и идеологически, и художественно несут разную нагрузку. А главное, не только в жизни Феофана Прокоповича, но и в жизни России в 1716–1717 гг. произошёл окончательный поворот от Московского государства к России, а затем к Российской империи.
Далее И. Тетцнер анализирует язык проповедей Феофана Прокоповича, пишет о постепенном переходе его от церковнославянского языка на «простой стиль» и делает это в основном с опорой на известных исследователей творчества Феофана Прокоповича – И. А. Чистовича, Д. М. Чижевского. Пожалуй, наиболее интересным в статье является разработка проблемы «творчество Феофана Прокоповича и барокко». Исследователь пишет: «Прокопович старается преодолеть стиль барокко, особенно аллегоризм стиля, который так характерен для барокко. Он использует аллегории, но они ни в коей мере не были основными образами, как у Стефана Яворского» (с. 365).
Однако, считает немецкий славист, Прокопович, проникшись с самого начала идеями Просвещения, характерными для петровских реформ, отошёл от мировоззрения киевского барокко; «Прокопович стал представителем первого поколения русского раннего Просвещения» (с. 366).
Для раннего русского Просвещения, по И. Тетцнеру, характерны отсутствие антифеодализма и критика христианства, что сближает его с немецким ранним Просвещением. Заканчивая статью, И. Тетцнер ещё раз подчёркивает согласованность, совпадение идей русского раннего Просвещения с петровскими реформами, их взаимообусловленность, их дидактизм; совпадение, по существу, взглядов на точные науки и технику, на веротерпимость, отсутствие антифеодализма и критики вероисповедания. Всё это стало государственной идеологией в Петровскую эпоху. Вместе с тем Прокопович, находившийся в центре раннего русского Просвещения, своим творчеством определил основные идеи эпохи.
Статья И. Тетцнера, на наш взгляд, вносит определённый вклад в дискуссию о происхождении и путях просветительских идей в славянских литературах.
Известный немецкий славист, академик Эдуард Винтер, на протяжении многих лет занимался исследованием истории и литературы Восточной Европы. Он выпустил 15 томов трудов «Материалы и исследования по истории восточной Европы», серия издавалась с 1958 по 1966 гг. Она приобрела большое международное научное значение.
По признанию самого Э. Винтера, «благодаря изданным нами работам, стал очевидным факт тесного культурного общения, существовавшего между Германией и Россией в XVIII столетии»[60].
Но наиболее фундаментальной его работой является монография «Раннее Просвещение» (1966)[61]. На чрезвычайно широком историко-литературном фоне исследователь рисует борьбу против конфессионализма в средней и восточной Европе и подробно анализирует немецко-славянские связи.
Большое внимание Э. Винтер уделяет в связи с этим деятельности Феофана Прокоповича во всех её аспектах: общественно-политической, культурной деятельности. Учёный считает Прокоповича противником схоластики, «вследствие этого, он занимал позитивную позицию в отношении просвещения и мог оказать Петру значительные услуги при утверждении раннего Просвещения» (с. 282).
Достаточно подробно Винтер излагает взаимоотношения Феофана Прокоповича с иерархами русской церкви, говорит о его деятельности по организации Святейшего Синода, особенно о просвещённом характере устава для него, о роли Феофана в становлении Академии наук России, о библиотеках вообще и, в частности, о знаменитой библиотеке Феофана Прокоповича (см. с. 299). Оценивая влияние Феофана Прокоповича на русскую литературу Петровской эпохи, Э. Винтер считает, что «Прокопович своей любовью к русской литературе оказывал стимулирующее воздействие на молодых сторонников Петра – Кантемира, Тредиаковского.
Особым аспектом в исследовании Э. Винтера является то обстоятельство, что Прокопович по национальности украинец. Несмотря на всё сопротивление обскурантов и схоластов, раннее Просвещение начало действовать на Украине уже в начале XVIII в. Подробно проанализировав раннюю деятельность Прокоповича-просветителя, Э. Винтер пришёл к выводу, что Россия и Украина были тесно связаны со всей Европой и «составляли в истории раннего Просвещения единое целое» (с. 350). Среди активных деятелей раннего Просвещения в центральной и восточной Европе Э. Винтер называет архиепископа русской православной церкви Прокоповича (с. 353).
Большим стимулом для изучения творчества Феофана Прокоповича послужило появление издания «Сочинений» Феофана Прокоповича под редакцией И. П. Ерёмина, где были помещены одиннадцать наиболее известных ораторских произведений Прокоповича, «Владимир», 24 стихотворения и «Поэтика». Издание снабжено блестящим предисловием и примечаниями И. П. Ерёмина[62]. Выход в свет столь авторитетного издания определил повышение интереса к жизни и творчеству Феофана и у нас, и за рубежом. К ораторской прозе Феофана Прокоповича стали прибегать как к источнику для характеристики его философских, исторических, экономических, эстетических взглядов[63]. В учебнике О. В. Орлова и В. И. Фёдорова дана краткая характеристика проповедей Прокоповича с опорой на «Слово о заключении мира со Швецией» и «Слово о власти и чести царской»[64].
Этапом в изучении «слов» и «речей» Феофана явилась статья Н. Д. Кочетковой «Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма» (1974)[65]. Исследовательница определила проблематику и тематику ораторского наследия Феофана, обозначила два периода его ораторского творчества: киевский и петербургский, охарактеризовала более десятка «слов» и «речей» оратора. Н. Д. Кочетков анализирует ораторскую прозу Феофана Прокоповича в широком историко-литературном контексте: Стефан Яворский, Гавриил Бужинский и другие ораторы Петровской эпохи сопоставляются с Феофаном-оратором. Принципиально важно, что исследовательница определила влияние его «слов» и «речей» на творчество М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. «Живое слово Феофана, проникнутое мирскими заботами и интересами, нашло сочувственный отклик не только у его современников и ближайших продолжателей, но и у русских писателей второй половины XVIII века»[66]. Н. Д. Кочеткова отметила, что влияние жанра было плодотворным, а вся «ораторская проза Феофана Прокоповича представляла собой богатый и ценный источник для писателей русского классицизма, обращавшихся к самым разным жанрам, на протяжении нескольких десятилетий она оставалась живым явлением и участвовала в литературной борьбе последующих поколений»[67].
Украинские исследователи М. Д. Рогович, В. М. Ничик, Д. П. Кирик, И. В. Иваньо подготовили к изданию трёхтомник трудов Феофана Прокоповича в переводе на украинский язык[68], сопроводив его весьма обстоятельным предисловием. Особенно важным явилось внесённое ими уточнение философских и эстетических взглядов Феофана Прокоповича.
В 1979 г. в серии «Русская старопечатная литература (XVI – первая четверть XVIII в.)» вышел том «Панегирическая литература петровского времени», подготовленный В. П. Гребенюком. Здесь помещены шесть «слов» Феофана Прокоповича, дан обстоятельный обзор произведений первой четверти XVIII в. с панегирическим содержанием. Открывается издание весьма содержательной статьёй В. П. Гребенюка «Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями», в которой исследователь называет Феофана Прокоповича не только идеологом Петра, пропагандирующим его идеи и начинания, но и «проповедником нового типа»[69]. Учёный на примере «Панегирикоса, или Слова похвального о преславной над войсками свейскими победе» представляет образец жанра панегирического произведения, его проблематику, поэтику, отмечает характерную для Феофана-художника черту – взаимодействие разных жанров, созданных на одну тему, в данном случае – «Панегирикоса» и эпической поэмы «Епиникион». В. П. Гребенюк пишет об их влиянии на дальнейшую судьбу жанров, особенно по линии панегирической литературы: «Своим похвальным словом, одобренным Петром, Прокопович дал пример использования панегирических образов в литературе и искусстве»[70].
Однако трагедокомедия «Владимир» не стала предметом сколько-нибудь детального анализа, чаще всего исследователи лишь отмечали актуальность, сатиру, систему политических намёков, своеобразие языка, присущие пьесе.
В начале 1980-х гг. появились монографии Г. Н. Моисеевой («Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли XVIII века», 1980), В. А. Бочкарёва («У истоков русской исторической драматургии: Последняя треть XVII – первая половина XVIII века», 1981).
В. А. Бочкарёв рассмотрел трагедокомедию «Владимир» как историческую пьесу, в контексте становления ранней русской драматургии.
Труд Г. Н. Моисеевой посвящён важной и сложной проблеме: изучению того, как отражались в искусстве XVIII в. памятники древнерусской культуры[71]. Поэтому в связи с характером источников трагедокомедии «Владимир» наблюдения Г. Н. Моисеевой представляют для нас несомненную ценность, о чём в работе будет говориться особо при сопоставлении исторических материалов (летопись, жития, «Синопсис») с пьесой.
В главе «На путях к новой русской литературе» (1980) Г. Н. Моисеева даёт высокую оценку творчества Феофана Прокоповича как горячего сторонника реформ Петра I и умелого пропагандиста идей преобразователя. Г. Н. Моисеева отмечает публицистичность и злободневность «Владимира», сближая пьесу с классицистической драматургией, называя её «преддверием трагедий Сумарокова на темы древнерусской истории… Ломоносова, Княжнина»[72]. На примере анализа «Слова похвального о преславной над войсками свейскими победе» Г. Н. Моисеева характеризует ораторскую прозу Феофана не столько как панегирическую, сколько как историко-философскую с характерным для оратора ироническим и, чаще, сатирическим элементом[73].
А. С. Курилов высоко оценивает «Риторику» Феофана Прокоповича[74]. Поскольку проза являлась исключительно предметом риторики, то «слова» и «речи» могли относить ся либо к высоким жанрам и соответственно высокому стилю, если они были возвышенными, торжественными, величественными, пышными, либо к хвалебным речам, т. е. умеренно пристойным, спокойным. Учёный отводит значительную роль теоретическому наследию Феофана Прокоповича в становлении словесных наук в России первой четверти XVIII в.[75]
В. И. Фёдоров в своём фундаментальном учебнике (М., 1982; 2-е изд. – 1990) не только дал характеристику Феофану Прокоповичу как предклассицисту в целом, но и как оратору, отметив среди выдающихся его «речей» «Слово на погребение Петра Великого»[76].
В 1980-е г. появились первые кандидатские диссертации о литературном творчестве Феофана Прокоповича: их защитили Т. Е. Автухович («Литературное творчество Феофана Прокоповича». – Л., 1981) и О. М. Буранок («Пьеса Феофана Прокоповича “Владимир” и жанр трагедокомедии в русской драматургии первой половины XVIII века». – М., 1984).
Характеризуя литературное творчество Феофана Прокоповича, Т. Е. Автухович третью главу своего исследования посвятила ораторской прозе Феофана. В киевском периоде она выделяет проповеди учительские – «Слово о ненавидении греха», «Слово в день равноапостольного князя Владимира», «Слово в неделю мытаря и фарисея», «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе». «Стиль светских проповедей Феофана тоже определяется законами барочного красноречия»[77]. Правда, уже в киевских проповедях Феофана исследовательница усматривает умеренное использование метафор и аллегорий, в отличие от барочных произведений его современников. «Эволюция жанра проповеди продолжется в Петербурге», – пишет Т. Е. Автухович, – где в выступлениях Феофана, посвящённых общественно-политическим проблемам, разрабатывается новая этическая теория»[78].
Много внимания Т. Е. Автухович уделяет образу Петра, теме «государство и личность» в «словах» и «речах» петербургского периода. В связи с этим вызывает недоумение резюме исследовательницы: «Но исключительная сложность личности самого Петра не отразилась в проповеди Феофана. Прокоповича интересует лишь официальный облик его героя как государя. Это было связано с тем, что задачей публицистики петровского времени было формирование естественного мнения и утверждение новых критериев оценки человеческой личности. Образ Петра поэтому не столько является объектом славословия, сколько помогает утвердить осуществимость новой этической нормы»[79].
Трудно согласиться с ещё одним итоговым резюме автора диссертации: «Ораторская проза Прокоповича и в период его сотрудничества с Петром отмечена влиянием поэтики барокко. Но это уже другое, “рационализированное” барокко, изменившееся вместе с эпохой»[80].
Спорными являются выводы Т. Е. Автухович и о траге-докомедии «Владимир». Всё художественное своеобразие пьесы исследовательница определяет как проявление барокко: «Двуплановость содержания и принципы его воплощения, – замечает Т. Е. Автухович, – связывают трагедокомедию с эстетикой барочной драматургии»[81].
Недостаточно убедительным, на наш взгляд, является утверждение исследовательницы о том, что «переменчивому герою первых пьес русского театра противостоит князь Владимир, сознающий подобную переменчивость уже как недостаток: его смущает необходимость изменить своей вере»[82].
Необходимо уточнить, что князя смущает и волнует не измена вере, к которой он, по словам Жеривола, охладел (Владимир видит все достоинства христианства, долгая беседа с Философом была заключительным аккордом в его размышлениях о необходимости перемен). Тревожат Владимира сугубо мирские помыслы, прежде всего – гордость, ущемления которой перед греческой короной опасается князь, а также страшит Владимира аскетизм христианства.
Сделав ряд интересных наблюдений над образами жрецов, показав их роль в трагедокомедии, Т. Е. Автухович переходит к поэтике пьесы, рассматривая её опять-таки как чисто барочную. «Антонимичность жизненного миропонимания у Прокоповича, – утверждает она, – как всегда в барочном тексте, выражается в нагнетании антитез, контрастов, в потоке синонимии, в использовании книжных метафор и так называемых вставочных рассказов, не имеющих отношения к ходу действия. Таким образом, поэтика трагедокомедии определяется законами барокко»[83].
На наш взгляд, это суждение является не совсем верным, так как поэтика «Владимира» определяется не только (и не столько) законами барокко.
Мы, в отличие от Т. Е. Автухович, художественный метод Феофана Прокоповича, в том числе в его драматургии и ораторской прозе, рассматриваем как предклассицизм (о чём и будет идти речь в данном учебном пособии).
Здесь уместно вспомнить предупреждение П. Н. Беркова, который писал, что нельзя «всю русскую литературу переходного периода покрасить в пёстрые цвета всеобъемлющего барокко»[84]. Учёный считал Феофана предклассицистом. В очерке о Прокоповиче в учебнике по литературе XVIII века О. В. Орлов и В. И. Фёдоров пишут о нём как о ярчайшем писателе предклассицизма[85]. В. А. Западов также обосновывает свой вывод о Феофане как предклассицисте[86]. Солидаризируется с этими учёными Ю. К. Бегунов в статье «Изучение литературы петровской эпохи за последнее десятилетие»[87].
С. А. Кибальник, характеризуя «Риторику» Феофана Прокоповича[88], делает экскурс в дискуссию о литературном направлении, к которому относится Феофан – теоретик и художник слова, но учитывает мнения по данному вопросу далеко не всех «восемнадцативечников». Исследователь отмечает, что как предклассициста Прокоповича рассматривают А. А. Смирнов, В. Д. Кузьмина, О. А. Державина, Н. Д. Кочеткова. Но при этом С. А. Кибальник не упоминает о точке зрения В. И. Фёдорова и А. С. Курилова на Прокоповича как предклассициста. – Л. И. Кулакова и В. А. Западов ещё более определённо относили его к классицизму. Об этом тоже не сказано в обзоре.
С. А. Кибальник приводит и другую, противоположную точку зрения – Д. Чижевского, А. М. Панченко, Р. Лужного, И. В. Иваньо – о барочном направлении творчества Феофана. Однако вне статьи С. А. Кибальника остались работы И. А. Чернова, Т. Е. Автухович, А. А. Морозова, которые относят Феофана к барокко. Странно, что этих исследователей, страстно пропагандирующих идеи барокко в литературе Петровской эпохи, С. А. Кибальник не учитывает в своей работе. Осветив полемику, С. А. Кибальник считает, что Феофан Прокопович (особенно в своей «Риторике»), хотя и критикует «курьёзность», «замысловатость» стиля тёмного барокко, хотя и борется за ясность, краткость, пристойность, всё же должен быть отнесён к представителям умеренного барокко.
«Не из эстетики классицизма, а именно из ренессансной и позднеренессансной теории искусства они (требования ясности и т. п. – О.Б.) попали в «Поэтику» и «Риторику» Феофана Прокоповича. Поэтому “признаки формирующегося классицизма” (Кибальник даёт сноску на В. Д. Кузьмину, – О.Б.) у Феофана можно видеть лишь ретроспективно. Но поскольку классицизм был своеобразным возвратом к Ренессансу, то, быть может, именно эта по существу ренессансная основа русской литературы и эстетики Петровской эпохи предопределила быстрое и успешное развитие классицизма в 30-е гг. XVIII в.»[89].
В целом интересная и глубокая статья С. А. Кибальника о «Риторике» Феофана Прокоповича всё-таки не проливает свет на проблему метода ни Феофана-теоретика, ни Феофана-художника. Кибальник, по существу, даёт третью точку зрения на эту проблему: Феофан – представитель умеренного барокко. Не убеждает исследователя и точка зрения А. Ф. Лосева (с которой тоже он полемизирует), о том, что «Прокопович развивает одно из самых центральных положений классицизма – о подражании древним образцам»[90].
В. А. Бочкарёв в свете решения проблем зарождения русской исторической драматургии чрезвычайно обстоятельно анализирует и трагедокомедию «Владимир». «Пьеса прозвучала, – пишет учёный, – как решительная поддержка всего нового, прогрессивного в борьбе против защитников косной старины, в том числе против невежественного реакционного духовенства, подвергнутого в ней осмеянию»[91]. Учёный убедительно доказывает важность и актуальность поставленных и разрешённых Прокоповичем в пьесе проблем, указывая на принципиальные особенности «Владимира» как одного из первых русских драматических произведений на тему из отечественной истории и определяя место трагедокомедии в истории русской исторической драматургии.
Анализу трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» посвящена статья Л. А. Софроновой[92]. Нельзя согласиться с тем, что исследовательница определяет пьесу как «драматический панегирик»[93], т. к. и сам Феофан Прокопович в поэтике совершенно чётко определил жанр трагедокомедии и следовал ему в своей пьесе, и все исследователи, занимавшиеся изучением «Владимира», также определяют его жанр как трагедокомедию. Вызывает недоумение тот факт, что статья почти полностью по своим идеям и проблемам, ходу анализа соответствует тому, что было уже сказано и опубликовано в статьях и двух диссертациях (Т. Е. Автухович и О. М. Буранка), защищённых задолго до написания статьи, но, к сожалению, не упомянутых Л. А. Софроновой. Мы далеки от мысли обвинять исследовательницу в заимствованиях, однако факт остаётся фактом: она или не знала, или пренебрегла сделанным до неё; в результате многое, что она заявила в статье как бы впервые, в науке уже прозвучало задолго до её статьи.
А. С. Елеонская, завершая своё обстоятельное исследование об ораторской прозе XVII в., ставит вопрос о судьбе ораторской прозы в XVIII в., подчёркивая, что при этом одним из блестящих продолжателей древнерусского политического красноречия будет являться Феофан Прокопович. «Говоря о преемственности между ораторской прозой XVII и XVIII вв., следует подчеркнуть общность тематики: это концепция общего блага прославление побед русского оружия призывы просвещать народ и бороться с суевериями»[94].
В 1994 г. в «Серии избранных биографий» вышла книга В. Г. Смирнова «Феофан Прокопович», в которой помимо изложения биографии Феофана опубликованы некоторые из его произведений[95].
Творчество Феофана Прокоповича рассматривает С. И. Николаев, исследуя литературную культуру Петровской эпохи[96].
О. Б. Лебедева в своём учебнике (2000), характеризуя идеологическую прозу первой трети XVIII века, уделяет достаточно большое внимание поэтике ораторской прозы и жанру проповеди в творчестве Феофана Прокоповича. Вслед за К. В. Пигаревым она относит проповеди Феофана к панегирическим. «Слово похвальное о флоте российском», «Слово о власти и чести царской», «Слово похвальное о баталии Полтавской» привлекаются ею при анализе поэтики проповедей Феофана. Импонирует вывод автора учебника о том, что жанр «слова» в творчестве Феофана-оратора стал «одним из самых совершенных в эстетическом отношении жанров словесного творчества Петровской эпохи. Поэтому понятно, что ораторская проза Прокоповича должна была оказать определённое влияние на становление новой русской литературы»[97].
Л. Е. Татаринова в учебнике «Русская литература и журналистика XVIII века» (2001) под углом публицистики и пропаганды рассматривает «слова» и «речи» Феофана Прокоповича, упоминает «Похвальное слово о флоте российском», «Слово о пользе путешествий», «Слово похвальное в день рождение Петра Петровича», «Слово на погребение Петра Великого»[98].
«Слова» и «речи» помогали многим исследователям более глубоко постичь Прокоповича-художника.
Несмотря на активное изучение литературного наследия Феофана Прокоповича, в отечественном и зарубежном литературоведении не был поставлен вопрос о целостном монографическом исследовании Феофана Прокоповича как оратора и драматурга. Исследователи недостаточно полно рассмотрели многие вопросы ораторского творчества Феофана Прокоповича, например: эволюция жанровых особенностей, проблематика и поэтика ораторской прозы Феофана Прокоповича; её место в культуре и литературе Петровской эпохи и влияние на последующую литературу и ораторскую культуру; взаимодействие ораторской прозы с жанрами драматургии и поэзии.
В литературоведении не был поставлен вопрос о целостном, монографическом исследовании Феофана-драматурга. Совершенно не касались исследователи проблемы жанрового своеобразия трагедокомедии «Владимир». Весьма бегло рассмотрен исследователями вопрос о литературных (по линии драматургии) связях Ф. Прокоповича с ранней русской драматургией, в частности, со школьным театром. Названные вопросы были рассмотрены в нашей кандидатской диссертации, а также в ряде статей и учебных пособий, в том числе в настоящем учебном пособии (см. список основных опубликованных работ в конце данного учебного пособия).
Тема «Феофан Прокопович и Ломоносов», «Феофан Прокопович и древнерусская литература», «Феофан Прокопович и западноевропейская литература», «Феофан Прокопович и античная литература», «Феофан Прокопович и поэзия XVIII века» в той или иной степени разрабатывались, но монографического освещения не получили. Не получила должной разработки и проблема «Драматургия Феофана Прокоповича и драматургия предшествующая и последующая» (лишь отчасти этого вопроса касались В. А. Бочкарёв и др.).
Всё вышеназванное ещё ждёт изучения.
Контрольные вопросы
1. Какие и чьи высказывания о Феофане Прокоповиче и его творчестве содержатся в литературной критике XVIII в.?
2. Как литературная критика и литературоведение XIX в. воспринимали Феофана Прокоповича и его творчество?
3. Как изучалось творчество Феофана Прокоповича в ХХ в.?
4. Когда, где и кем было выпущено в свет первое научное издание «слов» и «речей» Феофана Прокоповича?
5. Назовите и охарактеризуйте имеющиеся на сегодняшний день издания сочинений Феофана Прокоповича.
6. Какие диссертации (их авторы, названия) посвящены творчеству Феофана Прокоповича? Каковы их главные идеи?
7. Назовите исследователей и названия их трудов, посвящённых вопросам жизни и творчества Феофана Прокоповича.
8. Назовите исследователей и названия их трудов, посвящённых культуре и литературе Петровской эпохи.
9. Охарактеризуйте идущую в литературоведении полемику о художественном методе Феофана Прокоповича.
10. Используя данное учебное пособие, а также библиографические указатели[99], библиотечные каталоги, составьте библиографию научных работ о Феофане Прокоповиче по проблемам:
• биография Феофана Прокоповича;
• Феофан Прокопович как идеолог Петровской эпохи;
• литературное творчество Феофана Прокоповича в контексте культуры Петровской эпохи;
• художественный метод Феофана Прокоповича;
• изучение драматургии Феофана Прокоповича;
• изучение ораторской прозы Феофана Прокоповича.
Драматургия Феодана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века
1. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир»
Театр – составная часть художественного национального сознания. Коренные изменения, происходившие в России в переходную эпоху (конец XVII – начало XVIII вв.), обусловили значительный перелом в художественном сознании того времени; при этом преемственность литературных традиций осталась в силе. «Древняя русская литература, – пишет Д. С. Лихачёв, – и новая русская литература – не две разные литературы, одна внезапно прервавшаяся, а другая внезапно начавшаяся, а единая литература, но с опозданием совершившая переход от средневековой литературной системы к литературной системе нового времени, а потому вынужденная на ходу перестраивать и восстанавливать свои связи с передовой литературой Западной Европы»[100].
В Петровскую эпоху в России утверждается абсолютизм, стремившийся «преодолеть отсталость страны, создать условия, обеспечивающие её национальную независимость, хозяйственное и культурное развитие, обороноспособность»[101]. Процесс образования русского централизованного государства способствовал значительному прогрессу в области экономики, науки, культуры[102]. Правительство Петра I всей своей политикой в области культуры обнаруживает явную заинтересованность ею. Русская литература переходного периода представляет собой самостоятельный этап в развитии искусства слова, она «не сводима ни к древнерусскому прошлому, ни к новому русскому будущему, ни к смеси элементов того и другого. У неё своё лицо»[103].
Театр начала XVIII века представляет собой значительное общественное явление. Репертуар театра отражает сложные и противоречивые процессы общественно-политической жизни того времени. По сравнению с ранней русской драматургией, пьесы петровского времени отошли от изображения абстрактно-богословского мира, т. к. пробудился горячий интерес драматургов ко внешнеполитическим проблемам, к проблемам России. Запросам нового времени сумел ответить школьный театр; все исследователи пишут о его ярко выраженной политической направленности.
Исключительно важное место в историко-литературном процессе Петровской эпохи занимал Феофан Прокопович, который, «бесспорно, принадлежит к замечательнейшим и наиболее выдающимся личностям русской истории первой половины XVIII столетия. В своей сфере он был такой же новатор, как и Пётр Великий в сфере государственной»[104]. Феофан Прокопович не был ортодоксом ни в вопросах теории, ни в вопросах творчества: он всегда высказывался против рабского подражания и копирования даже самых высоких образцов, но в то же время с удивительным упорством и любознательностью добывал знания у других, учился. «Черпать из собственных запасов» (336) он начал тогда, когда овладел обширнейшими сведениями из разных наук и культур.
Самое начало XVIII в. было ознаменовано в истории русской драматургии появлением интереснейшего произведения – трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» (1705). Это не было случайностью ни для самого автора, ни для общественной мысли начала XVIII в. Предопределили создание пьесы те огромные сдвиги социально-экономического, политического и культурного характера, которые произошли в Петровскую эпоху. В результате общественная мысль обратилась к «иноземной» и отечественной истории, к сопоставлению истории с современностью. С накоплением исторических знаний углублялось осмысление настоящего, что, в свою очередь, вело к логически закономерным аналогиям.
В литературоведении давно укрепилась мысль, что Феофан первым в русской драматургии обратился к отечественной истории как к теме, источнику содержания пьесы. Обращение к истории Киевской Руси дало драматургу большие возможности для утверждения пропагандистских идей и создания политических аллюзий. Историческая аналогия – Владимир I и Пётр I – была вполне оправдана: введение христианства – «тоже реформа»[105], не менее важная, чем петровские преобразования. Феофан не однажды будет обращаться в своей литературной и политической деятельности к сопоставлению и этих событий (введение христианства и реформы Петра I), и этих имён (Владимир I и Пётр I). Через 15 лет после написания трагедокомедии он доказывал в «Предисловии к доброхотному читателю», которое сопровождало «Устав морской», что «самое начало истории – владычество первых киевских князей – было в сущности предвосхищением дел Петра. Одним из значительнейших шагов на пути к правильному устройству рисуется ему крещение Руси Владимиром»[106].
Написанная в расчёте на современность пьеса не является реставрацией прошлого, т. к. само историческое прошлое, исторические реалии не имеют во «Владимире» первостепенного значения. Однако образы седой старины явились исходной позицией для обращения к актуальным проблемам жизни начала XVIII в.
Широта интересов Феофана Прокоповича, круг исторического чтения, характерная для него тщательность позволяют предположить, что, выбирая эпизод из далёкого прошлого в качестве фабулы трагедокомедии, Феофан Прокопович обратился к нескольким источникам[107].
Есть основания считать, что он читал житийную, полулегендарную литературу (такого рода чтение входило в обязанности духовного пастыря); изучал труды зарубежных историков, особенно польских; знал «Синопсис» – популярнейший учебник по истории; не мог Феофан пройти мимо древнерусских летописных материалов; нельзя забывать и о возможном знакомстве драматурга с фольклорными жанрами, посвящёнными киевскому князю Владимиру. Необходимо помнить, что в то время в число исторических источников равноправно входили и такие, в основе которых лежали библейские, мифологические и т. п. сюжеты.
Феофан Прокопович, в силу своих теоретических воззрений, весьма своеобразно относился к использованию и трансформации исторических материалов в произведении искусства. Трагедокомедия создавалась в тот же год, когда начинающий преподаватель разрабатывал курс лекций «О поэтическом искусстве», четвертая глава которого «Различие между поэтическим и историческим повествованием» и пятая «О поэтическом вымысле» дают возможность выявить отношение драматурга к истории. Он считает необходимым для поэта перенимать у историка ясность и правдоподобие изложения, но если историк располагает повествование в хронологическом порядке, то поэт – «в художественном», при этом «стиль и украшения поэтического повествования делают его совершенно отличным от истории» (402). Главным отличием поэтического создания от исторического повествования он считает, вслед за Аристотелем, наличие вымысла: если поэт «даже описывает истинное событие, то расскажет о нем не так, как оно происходило в действительности, но так, как оно могло или должно было произойти, это достигается благодаря вымыслу или воспроизведению» (402).
В отношении исторических деталей поэт, утверждает Феофан Прокопович, отличается, бесспорно, большей пытливостью и подмечает мелочи, которые в историческом произведении были бы бесполезны и излишни (406). Этих теоретических положений Феофан Прокопович довольно строго придерживался при создании пьесы, так что становится ясно, почему в его трагедокомедии нет сколько-нибудь существенных заимствований из житийной литературы и даже «Синопсиса» (из него драматург позаимствовал лишь сведения о языческих богах Позвизде, Купало, Мошко, Коляде, Волосе, о которых нет упоминания в летописи).
Сопоставление начального летописного свода, составленного Нестором («Повесть временных лет»), с трагедокомедией «Владимир» убедительно показывает, что Феофан Прокопович при создании пьесы опирался прежде всего на летопись[108]. Характер использования исторического материала в трагедокомедии довольно многообразен. Во-первых, автор художественного произведения нашёл в летописи ту драматическую ситуацию, которая вполне отвечала его идейному замыслу. Во-вторых, в каждом действии имеются явления, узловые моменты, организующим центром которых стала та или иная ситуация из летописи. В-третьих, часто композиция летописного рассказа, его форма подсказывали драматургу способ организации явления, действия; многие места в пьесе почти аналогичны летописным, т. е. летопись становилась формообразующей основой трагедокомедии. Безусловно, необходимо учитывать, что по широте охвата действительности пьеса значительно уступает летописи, ибо драматург отбирает только то, что имеет самое непосредственное отношение к действию пьесы, её конфликту. И, наконец, главное: авторитет первоисточника – «Повести временных лет», – давшего толчок художественной мысли Феофана Прокоповича, был для него очень велик не только с чисто фактической, но и с эстетической, художественной стороны. Можно говорить об определённом эффекте эстетического воздействия летописного произведения на художественную природу искусства, в данном случае – драматургического. «Повесть временных лет» стала и исторической, и художественной основой трагедокомедии «Владимир». Летопись отвечала двум главным задачам драматурга – познавательной (информативной) и эстетической. Весьма существенным было стремление драматурга вызвать у зрителей и читателей ассоциации со злободневными современными событиями. Феофан, отобрав нужный ему материал, «пропустив через себя» эпоху, воплотил задуманное в ярких художественных образах. Несмотря на огромную историческую дистанцию (конец Х в. – начало XVIII в.), Прокоповичу удалось создать в высшей степени актуальное произведение.
«Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» написано позже трагедокомедии и не могло стать её источником. Напротив, работа над пьесой и сама она стали отправным пунктом для создания проповеди[109].
* * *
Феофан Прокопович, говоря о предмете поэзии, определяет его как «изображение людских действий посредством стихотворной речи» (347). Это положение автор «Владимира» конкретизирует при обращении к драматургии, считая, что в трагедокомедии – смешанном роде – «остроумное и смешное смешивалось с серьёзным и грустным и ничтожные действующие лица – с выдающимися»; изложение же ведётся «посредством действия» и «в речах действующих лиц» (422). Таким образом, теоретик выделил основу и специфику жанра.
Система образов трагедокомедии в соответствии с замыслом драматурга и его теоретическими взглядами построена так, что все персонажи довольно строго относятся к двум противоборствующим лагерям: сторонники преобразований – сам Владимир, его сыновья Борис и Глеб, Философ, вождь Мечислав, воин Храбрий; противники преобразований – Ярополк, жрецы и помогающие им бесы (аллегорические образы). Из такой системы образов вовсе не следует, что Феофану Прокоповичу свойственно прямолинейное разделение образов на добрых и злых, положительных и отрицательных.
Главный герой пьесы – киевский князь Владимир: подлинное лицо введено в вымышленный контекст, «структура образа заведомо двойная»[110], так как читатель (зритель) знает о таких лицах независимо от художника, ибо имеет уже определённое представление о таком герое. На протяжении веков «все помнили Владимира таким, как он изображён в житии, то есть подвижником этой веры, создателем христианства» на Руси[111]. При этом важно, что официальные круги общества и церковь стремились закрепить память о Владимире исключительно как о святом.
У народа же этот образ ассоциировался с образом щедрого, «ласкового» князя; фольклор прославляет его пиры, походы, но практически не упоминает о нём как о первокрестителе Руси[112].
Феофан Прокопович, несомненно, хорошо представлял и первое, и второе мнение о Владимире, но не пошёл ни за одним из них. Его более привлекал (и это закономерно для Прокоповича) Владимир как преобразователь, реформатор, крупный политический деятель, победивший неверие тьмы во имя торжества великого света. Летописец в «Повести временных лет» довольно правдиво, почти не идеализируя, изображает Владимира. Он резко критикует князя за убийство брата Ярополка, за свойственные Владимиру лживость и коварство. Особенно непримирим автор начального летописного свода к язычнику-прелюбодею; не очень одобрительно рисует летописец крутые меры князя во время принятия народом христианства. Вместе с тем летопись высоко оценивает просветительскую миссию Владимира, его силу воли, храбрость и ум. Как и в летописи, в трагедокомедии Прокоповича образ Владимира противоречив и неоднозначен. Одержанная победа далась Владимиру нелегко: мучения и сомнения не раз посещали его душу. И всё же жажда нового, лучшего, понимание необходимости перемен заставляют Владимира принять новое самому и помочь, а чаще заставить других, непонимающих или сомневающихся, сопротивляющихся, принять преобразования.
Из монолога тени Ярополка следует, что Владимир – братоубийца, отнявший киевский престол у Ярополка. Драматург в этом первом упоминании о герое пьесы интересно обыгрывает слова «брат» и «Владимир», выдвигая им антитезы. «Не Владимир мой брат ест, но враг мой, безбожний братоубийца!» (152). Брат – враг – важное противопоставление для дальнейшего понимания первого действия трагедокомедии.
Вторая антитеза основана на анализе этимологии имени «Владимир». «Кая лесть! Многаджи красно имя будет, но своей вещи несогласно, – говорит Ярополк. – Владимир – владение мира знаменует, а брат мой с родственною кровию воюет» (152–153). Мир, в понимании Ярополка, – это покой, тишина, а брат нарушил благоденствие не только семьи, но и государства, оттого слово «брат» далее в пьесе вторично обрастает эпитетами, но куда более экспрессивными, нежели первичное «ложний»: «брат мой… враг мой, супостат лютий, жрец моея кровы» (153). Владимир в передаче Ярополка рисуется, несмотря на явно отрицательное отношение к нему последнего, как образ могущественного правителя, владеющего «цветущей областью», имеющего несметные сокровища, заставляющего трепетать подчинённых и врагов. «Мнозы от иноземных приходят со дари, господем зовут…» (154).
Примечательно, что нигде драматург не отвергает и не подвергает сомнению то, что уже было сказано о какой-либо черте или грани характера героя. Это делает характер Владимира, с одной стороны, сложным и противоречивым, а с другой – ёмким. Так, в трагедокомедии нет опровержения факта братоубийства или женолюбия Владимира, хотя эти сведения рисуют его не с лучшей стороны.
Не отступая от созданного в монологе Ярополка контура образа Владимира, Феофан Прокопович продолжает его разработку в диалоге Жеривола и Ярополка. Жеривол обличает князя как лицемерного верующего, утратившего щедрость к языческим богам; причем Жеривола волнует в значительно большей степени меркантильная сторона религиозности князя, а не сила его религиозного чувства.
Наиболее выразительным моментом первого действия является рассказ Ярополка о том, «яко брат брата умертви безчинно»: Владимир расправился с братом, хитростью заманив его в западню. За этим стоят политическая изворотливость и ловкость Владимира, способность пренебречь родственными чувствами во имя достижения победы в междоусобной борьбе. Да и Ярополка оскорбила не сама борьба и смерть, а то обстоятельство, что он был побеждён не на поле брани, не в открытом, честном бою, а «безмужним» способом. По своему экспрессивному накалу монолог тени Ярополка представляет собой вершину первого действия. Образ Ярополка, дающего первичную характеристику Владимиру, важен для более глубокого постижения главного героя. Выполнив свою функцию, Ярополк более не появляется в произведении.
Третье действие трагедокомедии представляет собой спор-диалог сначала между Философом и Жериволом, а затем Владимиром и Философом. Диалоги построены по всем правилам риторики, в них идет напряжённый поиск истины, раскрывается нарочито дидактичная идея пьесы. В столкновении жреца и Философа первый терпит сокрушительное поражение. Жеривол ведёт спор на таком «заниженном» уровне, что Владимиру становится стыдно за него. Философ же в этой сцене полон чувства собственного достоинства, ответы его предельно лаконичны, так как он вполне осознаёт, с кем имеет дело, оттого перед невеждою не вдаётся в объяснения. Он знает, что основная беседа впереди, с князем Владимиром. Однако греческому послу важно изобличить перед князем и его окружением скудоумие верховного жреца. В ответ на первую серию вопросов Жеривола посол долго молчит, а затем гордо произносит: «Таков слову твоему ответ подобает» (179). Фраза вызвала у Н. И. Гнедича восхищение: «Это близко к высокому»[113].
Столкновение Владимира и его окружения с лагерем жрецов и их пособников придаёт пьесе остроконфликтный характер. Прокопович обнажил главное противоречие соответственно двух эпох (X и XVIII вв.), найдя в них точки соприкосновения: борьба нового со старым, света с тьмой.
Драматическое действие построено не только на борьбе героя с тем, что ему противостоит, но и на преодолении сильнейшего внутреннего сопротивления, больших душевных сомнений. Г. А. Гуковский увидел в этом значительное отличие пьесы Феофана Прокоповича от обычных школьных драм. «Брань духовная» – это, по Г. А. Гуковскому, «попытка изобразить душевный, психологический конфликт в сознании Владимира, раздираемого сложной борьбой старых привычных представлений с новой истиной, постепенно открывающейся ему, и, с другой стороны, борьбой плотских вожделений его с высоким идеалом морали, преодолевающим страсти»[114]. Зритель и читатель подготовлены к восприятию «брани духовной», которую князь переживает в третьем и четвертом действиях, т. к. во втором действии получили об этом уведомление.
Песней-заклинанием Жеривол вызвал бесов мира, хули и плоти, которые бахвалятся силой своих чар и клянутся Жериволу в том, что не допустят Владимира к измене языческой вере. Бес мира (или гордыни), уверен, что властолюбивый и гордый киевский князь не преклонит «свою распятому и нищему вию Христу» (167). В интересном монологе беса мира Феофан Прокопович ставит крайне важную для раннего русского просветительства тему разумности. Бес мира так характеризует желание Владимира принять христианство:
…Аз недоумею Объяти се мислию, ниже помисл умний может сие сказати. И аще безумний Сотворить тако, аще от греков прелстится, весте ли вы, кому он в сем уподобится? (167)Далее бес говорит о Константине Великом, римском императоре, который стал в конце своей жизни христианином, чем сильно опечалил бесов, и теперь они плачут «толику его погибель помняще» (167). Феофан-драматург наделяет аллегорические образы чисто человеческими качествами, максимально приближая их к обычным действующим лицам, что выгодно отличает их от аллегорических образов-символов в пьесах начала XVIII в.
После третьего явления (III действие), изображающего дискуссию, драматургический рисунок пьесы меняется: в самом большом в пьесе четвёртом явлении происходит очень обстоятельный и серьёзный теолого-философский разговор Философа и князя Владимира. Вопросно-ответная форма явления давала возможность подчеркнуть интеллектуальную мощь Философа и сильный характер Владимира.
Киевский князь осознаёт, насколько низок уровень образования и воспитания его подданных и его самого. В том, что так невежественен Жеривол, он усматривает не только субъективные, но и объективные причины. «Род наш жесток, и безсловний, и писмен ненавидяй», – говорит князь Философу (181). Вопросы Владимира обнаруживают в нём человека любознательного, быстро улавливающего суть сообщаемых ему Философом сведений. Феофан Прокопович устами Философа изложил свои теологические и философские воззрения. При этом важно, что Философ стремился сформировать убеждения у своего собеседника, прибегая не столько к его чувствам, сколько к разуму. В качестве примеров Философ использует сопоставления с явлениями природы и человеческой жизни, обращается к греческой («еллинской») истории, к теории естественного права, к философии Платона и Эпикура. Теолого-философский монолог проповедника – искусное ораторское произведение, построенное по правилам риторики.
Владимир живо откликается на мысли Философа, находя во многих его суждениях ответ на мучившие его вопросы. Ход идейной борьбы (а пьеса основана на борьбе идей), все перипетии спора, блестящая речь Философа – всё способствует в трагедокомедии тому, чтобы зрительчитатель осознал и принял необходимость реформы. Феофан Прокопович очень жёстко монтирует и фабульный, и композиционный каркас пьесы. Стремительность развёртывания сюжета нарастает: для князя наступает время окончательного выбора.
Кульминация пьесы – второе явление в четвёртом действии. Образу героя придаётся значительная импульсивность, он делается многомернее. Феофан не скрывает, насколько трудной была борьба нового с грузом старых заблуждений в душе князя. В художественном отношении монолог Владимира весьма примечателен: это размышление, спор с самим собой; «брань духовная» представлена драматургом в виде сложного внутреннего процесса (конечно, при этом не следует забывать о художественном уровне русской литературы того времени). Драматург чётко делит монолог на три части: поочередно Владимира искушают бесы мира, плоти, хулы, а тот в той же последовательности на искушения каждого из них отыскивает в своей душе и своих помыслах опровержения, базирующиеся на идейно-нравственном фундаменте, сформированном беседой с Философом. Плодом искушения беса мира явились в душе Владимира сильнейшие волнения его гордости, княжеской чести: он, прославленный воин, великий государь, – в роли ученика. Но князь убеждает себя в правильности того, что собирается предпринять. Удовлетворяет гордого Владимира то, что именно он совершит реформу («на мне се ново явится – от праотец никто же не бяше християнин»), «учитися добраго во всяком не стидно ест времени» (190), т. е. никогда не поздно; кроме того, у христиан тоже много славных князей-воинов. После глубоких раздумий он приходит к выводу, что препоны гордости, славы, людской молвы нужно отринуть. Но тут женолюбивого князя испытывает бес плоти, который недаром так был уверен в силе своих чар: Владимир не мыслит своей жизни без любовных утех. А тут еще и бес хулы подключается к бесу плоти и твердит, что «учение христово» «учит утоляти похоть плотскую» и тем самым «уязвляет естество» (191). Герой в своих сомнениях близок здесь к отрицанию Бога. Однако вслед за этим совершается поворот в мыслях и чувствах князя, так как на память ему приходит проповедь Философа. Владимир пытается понять, что же в учении христовом есть «противно разуму» и «естеству»; оказывается, учение «всякому естеству не творит обиди». Христос не против плотских чувств, но против похоти плотской: «не яко же скоти» (191). Владимир осознает, насколько трудно сломить, преодолеть старые обычаи, но в нём крепнет убеждение, что сделать это возможно. В заключение он обращается за помощью к Богу. Важнейшей особенностью всех перипетий выбора новой веры является неоднократно упоминаемая Философом и Владимиром необходимость разумного, вдумчивого подхода к делу. Владимир в решении поставленной перед ним сложнейшей проблемы обнаружил поистине государственный ум, твёрдость воли, личное мужество. В разработке образа киевского князя Феофан Прокопович проявил себя незаурядным художником слова.
Образ Владимира типологически соответствует тому идеалу, который выдвинула драматургия начала XVIII в. Решительный, деятельный, мудрый правитель на сцене был рождён Петровской эпохой, острой потребностью времени. «Появлению в драматургии нового эстетического идеала, – пишет А. С. Елеонская, – в значительной степени способствовало обращение Петра I к принципу «общего блага», положенного им в основу как законодательства, так и практической деятельности»[115]. К теории «общего блага» Феофан Прокопович относился весьма положительно. Знаменательно, что он разрабатывал и пропагандировал её не только в своей общественно-политической практике, но и в искусстве, конкретизировав свой идеал в образе киевского князя Владимира.
* * *
Вопросы художественной формы при анализе произведения имеют огромное значение: в одинаковой степени важны и архитектоника произведения, и пространственно-временные отношения, и язык, т. е. всё, что принято называть поэтикой художественного произведения.
Эстетическое преломление категорий времени и пространства в пьесе оказывает влияние на идейно-проблемную сторону произведения.
Время в пьесе Феофана Прокоповича «Владимир» исторически локализовано: из всего бурного периода княжения Владимира I взят из летописи эпизод принятия веры – крещение Руси. В жизни он занимал несколько лет (приход в Киев представителей разных вер, совет с боярами о верах, испытание религий, поход князя на Корсунь, крещение там Владимира, насильственное крещение киевлян и, наконец, принятие решения о введении христианства на всей Руси). Драматургу же в связи с законами поэтики школьной драмы[116] необходимо было всё это «уложить» так, чтобы сценическое время не превышало двух или трёх дней. Произошла и временная концентрация, и пространственная деформация, что повлияло на композиционные и сюжетные компоненты трагедокомедии.
Протяжённость исторического времени «Владимира» огромна: мы узнаём не только о далёких событиях Киевской Руси конца Х в., но и о последующей (показанной, правда, весьма конспективно и прерывисто) судьбе Киева вплоть до XVIII в. Такие временные перепады необходимы были драматургу, чтобы добиться наиболее отчётливой и яркой переклички эпох, безусловно входившей в его сверхзадачу. Это заставило Феофана Прокоповича совершить сложные для искусства начала XVIII в. манипуляции с художественным временем.
Из «Пролога к слушателям» выясняется, что «на позор» (зрелище) представляется «не ино что, токмо повесть о обращении к Христу равноапостолного князя нашого Владимира» (152). С первых же слов в пьесе появились временные ориентиры, определённым образом настраивающие зрителей на восприятие одного из видов художественного времени трагедокомедии.
Во-первых, это прошлое время, во-вторых, историческое – значит, в пьесе будет действовать «открытое» время.
Здесь же, в прологе, происходит наложение времён (чувствуется влияние аллюзии): сопрягаются историческое прошлое и историческое настоящее, что делает «Владимира» явлением исключительным для литературного процесса рубежа эпох. Феофан Прокопович в своём стремлении «выстроить мировой исторический процесс по ранжиру идеи самодержавия»[117] проводит прямую историческую аналогию, предлагая «зреть» в прошлом современность, во Владимире – Петра I, что и для исторических трудов конца XVII – начала XVIII в. было весьма характерно.
В пространном монологе Ярополка (первое действие, первое явление) происходящее в настоящий момент, сценическое настоящее время, воспринимается героем ярко и эмоционально в связи с короткими ретроспективными вкраплениями: прошлое, как боль утрат, вызывает бешеную ненависть Ярополка, захлёстывающую его разум, заставляющую негативно воспринимать всё, что делает Владимир, его брат и враг, его убийца. Воспоминание (как одна из форм прошлого времени) служит средством введения зрителя в суть происходящего, это предыстория. Образ Ярополка строится на стыке двух времён, на своеобразном чередовании прошлого и настоящего. Когда герой посредством чудесной силы из ада попадает на землю, у него появляется ощущение настоящего, но прошлое неотступно следует за ним, держит его. «Механизм» припоминания чётко «срабатывает», подвергая душу Ярополка страшным мучениям, а зрителю тем самым даётся прекрасная возможность вхождения в фабульную канву пьесы. По просьбе Жеривола Ярополк рассказывает о том, как он был убит братом (отсчёт исторического времени начинается с 980 г.). Монологу героя присущ глубокий драматизм. «О день и час лютий!» – восклицает он (159). Происходит изменение темпа времени, что позволяет наблюдать, как скомпонованы различные временные пласты – от настоящего и ближайшего прошедшего (вчера) драматург обратился к достаточно далёкому прошлому, при этом хорошо видны «временные швы», так как спрессованы пласты ещё неискусно, перепады времени легко уловимы. Лишь литературой XIX в. будет освоена текучесть времени, неуловимость переходов и т. п. Во «Владимире» происходит отход от «замкнутого», чисто событийного времени, к времени «открытому», ибо многие «изображаемые события связаны с общим движением исторического времени»[118].
Сцена убийства (далёкое прошлое) рисуется как происходящее в настоящем времени, оценку же описываемых им событий Ярополк производит, учитывая историческую дистанцию. Так, рассказывая, как он, обманутый, входил в дом Владимира, Ярополк как бы в сторону, для себя, говорит: «Во мрак вечний внийдох имы» (159). Поэтому, несмотря на использование глаголов настоящего времени, вся сцена ощущается в рамках «открытого времени» и осмысляется в широком историческом контексте (заметим, что в летописи эпизод имеет большую временную протяжённость, в пьесе же произошло существенное уплотнение времени).
В диалоге Жеривола и Ярополка имеется упоминание о тех благодатных днях в прошлом, когда языческие боги почитались Владимиром, в жертву им приносились щедрые дары. Затем из политических соображений Владимир отходит от язычества и укрепляется в мысли о принятии христианства. Этот-то переход так верно схвачен Феофаном Прокоповичем в, казалось бы, незначительном эпизоде, который заключает реплика Жеривола: «Но уже тую щедрость измени. О студа!» (158). В качестве доказательства наступления «студного» времени для языческих богов и их жрецов Жеривол ссылается на ближайшее прошлое: «Даде вчера едного козла, тако худа, тако престарелаго, тако базтелесна…» (158). Сетования Жеривола представлены в глубоко сатирическом виде, изобличают жадность и ханжество жрецов, и здесь тем более интересен выпад этого лицемера против времени (в сниженном, обыденном варианте) – «Кое се настало время!» (158). В своих обвинениях Владимира Ярополк и Жеривол оперируют количественными характеристиками времени: «первее», «прежде» и т. п.
Временной рисунок пьесы меняется во втором действии, которое строится на основе событийного сценического времени, поэтому в целом время второго действия является «замкнутым». Но это не означает, что во времени перестали происходить какие-либо изменения. Оно в этом действии не однонаправлено: Жеривол рассказывает Курояду и Пиару о своём страхе перед «христовым законом» и о принятых им мерах – обращении за помощью к бесам. Феофан Прокопович вводит в пьесу элемент чудесного с явно выраженной сатирической направленностью как ещё один из способов доказать ложность веры в волшебное, чудесное, что для начала XVIII в. было смелым шагом. Лишь однажды «замкнутое» время действия нарушается, когда бес тела, желая показать свою силу, рассказывает о причинах Троянской войны.
В третьем действии наблюдается значительное нарушение хронологии, происходит концентрация времени за счёт сжатия временных интервалов по сравнению с летописью. Исторические лица, отделённые друг от друга десятилетиями, вместе действуют в пьесе. Так, Борис и Глеб, сыновья Владимира, о которых в летописи под 988 г. и не упоминается, принимают самое непосредственное участие в обсуждении новой веры и играют существенную роль в её принятии. Этот явный анахронизм (и определённый временной сдвиг) объясняется культом этих князей-святых в русской христианской религии, что, по замыслу драматурга, должно было показать безусловную правильность сделанного их отцом выбора.
В третьем явлении III действия в художественное время пьесы вторгается сон. Сон Жеривола – очередное и весьма действенное средство для сатирического обличения этого изворотливого жреца. При этом употребляется приём саморазоблачения, т. к. Жеривол пытается обмануть Владимира и Философа: будто бы он видел сон, что боги за скудные жертвоприношения грозятся иссушить Днепр. Жеривол не достиг цели: Владимир скептически отнёсся ко сну, а Философ опроверг его, пророчествуя гибель языческих богов в водах Днепра. Пророчество – это одна из форм будущего времени.
В диалоге Философа и Владимира (четвёртое явление III действия) появляется время как философская категория (здесь нашли отражение философские представления, мировоззрение самого драматурга). Характеризуя философские взгляды Феофана, В. М. Ничик пишет, что «при рассмотрении движения Прокопович значительное внимание уделяет пространственно-временным отношениям, в истолковании которых весьма заметна материалистическая тенденция. И прежде всего он рассматривает их как характеристики бытия самих природных тел»[119]. Исследовательница установила, что во многих трудах Прокоповича есть неоднократное обращение к этим категориям, показывающее, что он шёл в данном вопросе в ногу с передовыми мыслителями эпохи, являясь продолжателем линии Аристотеля – Декарта – Лейбница[120]. Отсюда составными художественного времени и пространства в его пьесе являются время и пространство в их философском аспекте.
В речах Философа обнаруживается деистическое толкование данных проблем: время и пространство, утверждает Философ, неотделимы от природных тел, они существуют реально, объективно, началом же начал является Бог. Интересны рассуждения героев о загробной жизни, где «вечное» время предстаёт как форма будущего. Философ настойчиво втолковывает язычнику идею бессмертия души. Оказывается, проблема будущего давно волновала Владимира, он предчувствовал, что за все злые деяния нужно будет перед кем-то отвечать. Но продолжал, несмотря на угрызения совести, творить их, ибо «все житие наше зде кончается, мне же кто зде может бити судия – но так внутрней скорби утолити не могох» (184). Рассуждения Философа удовлетворили князя, поскольку прояснили волновавшую его проблему. В качестве последнего доказательства греческий посол даёт описание «судного дня», появляется «надвременная», по Прокоповичу, категория, не имеющая ни изменений, ни пределов, – «вечный огнь!» (186).
Сон Владимира открывает четвёртое действие и имеет символическое значение: герою предстоит проделать нелёгкий путь избавления от тьмы невежества, дебрей суеверия, чтобы, преодолев все страхи и сомнения, прийти к убеждению о необходимости реформы. Второе явление IV действия целиком занимает монолог Владимира, являющийся кульминацией пьесы: князю предстоит сделать выбор. Время монолога предельно растянуто, оно почти остановилось, что вообще характерно для монолога. Настоящее сценическое время с весьма замедленным темпом драматург использует как возможность детально проследить все перипетии «духовной брани» героя.
Аллегорический образ Прелести создаётся на основании использования трёх форм времени – прошлого, настоящего и будущего. В своём воззвании к Владимиру Прелесть делает особый упор на прошлом: она заставляет князя вспомнить любовные утехи, чтобы вызвать нужное ответное чувство в душе сластолюбца. Видя, что князь не уступает, Прелесть переходит к упрёкам и угрозам, которые осуществляют функцию будущего времени.
Движение сюжетного времени в пьесе нагляднее всего осуществляется в смене событий. Для пьес, подчиняющихся закону единства времени, характерно, что большие по временным затратам события происходят «за сценой»: о них сообщается кем-либо из героев или они домысливаются. Во «Владимире» об акте крещения и последующих за этим событиях говорится в пятом действии (т. е. между четвертым и пятым действиями существует определённый интервал без чётких указаний на то, сколько времени прошло в этом междудействии). В рассказе о крещении вновь используется прошедшее время: Пиар с ужасом вспоминает о том, как Владимир, «на богов возъяриша», «повеле повсюду крушити боги» (195). В монологе вождя Храбрия, рассказывающего о крещении воину Мечиславу, «работает» прошедшее время. Но если в первом и во втором действиях рассказ Ярополка о прошедшем шёл с употреблением глаголов настоящего времени, то Храбрий использует глаголы лишь прошедшего времени, т. е. «чистое» прошедшее время.
Обращённое вспять время действует и в третьем явлении последнего действия, когда вестник приносит послание от Владимира-христианина Храбрию о том, как он «ко свету от тми прейдох» (202). «Открытое» время этого явления – предтеча большого исторического времени в заключающем пьесу хоре апостола Андрея с ангелами. Являющийся по летописи покровителем Киева апостол Андрей воспевает прошлое, настоящее и будущее древней русской столицы. Вспоминая прошлое, он обращается к именам святых мучеников Бориса и Глеба, отмечает основателей Киево-Печерского монастыря Антония и Феодосия Печерских, с гневом и печалью говорит о разорителе Киева хане Батые. От славного и грозного исторического прошлого Феофан Прокопович переходит в хоре к настоящему, являющемуся достойным преемником прошедшего. Драматург верно ощущает историческую дистанцию, показывая ход времени как одну из важнейших характеристик истории, которая не мыслится им вне движения и перемен.
Будущее время в эпилоге (им является в пьесе хор) – это предвидение апостола. Перемешаны исторические эпизоды, нарушена строгая хронология, присутствуют разные временные пласты. В настоящем времени Киева (т. е. начало XVIII в.) Прокопович отмечает заслуги киевского митрополита Варлаама Ясинского и местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского, достаточно много места отведит гетману Мазепе, отмечая его заслуги перед киевским духовенством. Последние строки пьесы – пожелание «брани победной» русскому оружию, а «державе» – «здравие» и «тишину безбедну». Примечательно, что образ «тишины», столь характерный для русской литературы XVIII в., звучит уже в одном из самых первых художественных произведений века.
Сфера исторического времени открыла в пьесе большую временную перспективу, столь важную для всякого художественного произведения, но особенно значимую в историческом жанре.
Пространственные измерения в летописи богаче, чем в трагедокомедии, однако и в пьесе, где действие происходит в Киеве, художественное пространство от действия к действию раздвигается, захватывая всё большие, а порой космические дали. Упоминаются Днепр, Киев, Византия, Греция, Троя, «вражия Махомета грады». Все эти реальные, исторические места служат для зрителя пространственными ориентирами. Действие не замыкается узкой сценической площадкой, но посредством этих упоминаний-ориентиров автор заставляет зрителя чувствовать себя сопричастным большому историческому пространству. Более того, в третьем действии драматургу понадобилось покинуть земное пространство: Философ много и обстоятельно говорит о рае и аде. Наряду с «вечным» ирреальным временем появляется ирреальное пространство.
Итак, достаточно сложная пространственно-временная организация трагедокомедии «Владимир» свидетельствует о значительном прогрессе в области поэтики русской драматургии начала XVIII в. по сравнению с драматургией конца XVII в.
* * *
При изучении поэтики драматургического произведения невозможно обойти вопрос о языке. При этом необходимо учитывать специфику языка драмы. Это не просто разговорная речь, перенесённая на сцену. Создавая пьесу, автор связан с жанровой природой художественного творения, с его сюжетикой, композицией, ритмом, звукописью и т. д. Язык же играет во всём этом первостепенную роль и далеко не только формальную.
Художественное слово во «Владимире», как и в большинстве пьес русской драматургии конца XVII–XVIII вв., превалирует над действием, поступком, сценическим жестом. О совершаемых поступках сообщается в рассказах героев. Статичность пьесы обусловлена многими причинами, среди которых немаловажной является сама установка автора на создание пьесы-идеи, пьесы-диспута; недаром драматург, обращаясь в прологе к зрителям, назвал их «слышателями» (152).
Феофан Прокопович сделал определённые попытки индивидуализации речи персонажей.
Речь положительных героев почти нейтральна, это язык проповедей, «слов» и «речей» Феофана, язык книжный, чаще всего язык высокой литературы, т. к. эти места в пьесе – «серьезный и возвышенный род письма» (434), а герои относятся к людям знаменитым или значительным для содержания пьесы.
Язык Философа соответствует этимологии имени героя: греческий посол уснащает свою речь сложной лексикой, носящей ярко выраженный книжный характер, это стиль научного языка начала XVIII в. Философ часто прибегает к прямому и косвенному цитированию священных книг, упоминает имена древних философов, употребляет, правда умеренно, сравнения, метафоры и другие тропы.
Структура монологов в пьесе строится на основании правил риторики, по композиции они однотипны: приступ, наращение и раскрытие темы, пафосная часть и, наконец, заключение. Драматург ни разу не обрывает и не усекает монолога персонажа, он не даёт герою уйти в сторону в раскрытии мысли, увлечься. Речь продумана, точна, ясна и по мысли, и по способу выражения, рационалистична (см.: 181–187).
У жрецов своя речь, представляющая значительный интерес: в ней отразился живой разговорный язык начала XVIII в., причём с сильной примесью жаргонной (если не в языковом, то в смысловом плане) лексики. Тенденция индивидуализации речи комических, отрицательных персонажей наметилась в русской литературе достаточно давно, ещё в древнерусской литературе.
Решая проблему сатирического и комического изображения противников принятия реформы, Феофан Прокопович обратился к нелитературному источнику, т. е. к сниженной, часто просторечной части русского народного языка. Драматург увидел богатые выразительные возможности сниженной лексики. Истоки этого нужно искать в русской демократической сатире, в народном театре. Эмоционально-экспрессивная речь жрецов используется автором пьесы прежде всего ради эффекта комических контрастов. Феофан Прокопович, создавая историческое произведение, безусловно, и не задумывался над проблемой стилизации языка эпохи Х в.: у него не обнаруживается сознательного использования языка и стиля исторических литературных памятников. Основой стала система современного драматургу языка, с помощью которой Прокопович пытается живописать образы, в ряде случаев делая это весьма успешно[121].
Итак, предклассицист по своим идейно-эстетическим взглядам, Феофан Прокопович создал пьесу, ставшую предтечей русской драматургии классицизма, в ней не отразилось сколько-нибудь существенно влияние искусства барокко[122].
Система образов пьесы (лагерь князя Владимира противостоит жрецам) способствует раскрытию идейного замысла произведения. Сильной стороной пьесы, созданной в историческом жанре, стала её политическая направленность, обусловленная полнейшим принятием автором реформ Петра I.
«Владимир» – значительное явление русского искусства Петровской эпохи, поэтому становится необходимым более пристальное внимание к литературному контексту, окружению «Владимира»; важнейшей является проблема влияния пьесы Феофана Прокоповича на русскую драматургию последующих десятилетий XVIII в., о чём и пойдёт речь далее.
Контрольные вопросы
1. Расскажите о раннем русском театре и его роли в культуре Петровской эпохи.
2. Каковы источники трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир»?
3. Объясните, в чём специфика жанра трагедокомедии. Как Феофан Прокопович характеризует жанр в своей «Поэтике»?
4. Какова композиция пьесы «Владимир»?
5. Охарактеризуйте конфликт и систему образов в трагедокомедии Феофана Прокоповича.
6. В чём своеобразие образа князя Владимира в трагедокомедии Прокоповича?
7. Каковы приёмы индивидуализации речи персонажей?
8. В чём и как проявляется комическое начало в пьесе Феофана Прокоповича?
9. Какие аллегорические персонажи действуют в пьесе Феофана? Какова их функция?
10. Охарактеризуйте своеобразие художественного времени и пространства в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир».
11. В чём своеобразие трагедокомедии «Владимир» как исторической пьесы?
2. Жанр трагедокомедии в русской драматургии первой половины XVIII века
Бурная эпоха преобразований Петра I явилась перед взором молодого, только что прибывшего из заграницы монаха в виде грандиозного театра, на сцене которого происходили поразительные вещи. Ломались сословные, казалось бы незыблемые, перегородки, воздвигались «из топи блат» города, создавалась новая культура – во всех сферах жизни России шла перестройка, при этом контрасты, полярность становились определёнными знаками времени. Новое содержание бытия требовало наиболее адекватного, нового художественного отражения, что осознал Феофан, сразу же ставший в ряды приверженцев и последователей дела Петра I[123].
Для Феофана Прокоповича жанр трагедокомедии давал возможность максимально приблизиться к жизни, ибо жанр совмещал в себе высокое и низкое. В нём «остроумное и смешное смешивалось с серьёзным и грустным и ничтожные действующие лица – с выдающимися», – так определял жанр трагедокомедии Прокопович в своей «Поэтике» (432).
Трагедокомедия – жанр, невозможный для классицизма, требующего предельно строгого соблюдения тематической демаркации, а в силу этого и чёткого соблюдения жанровых границ. Теоретик русского классицизма А. П. Сумароков в своей «Эпистоле о стихотворстве» (1747) не допускал не только трагедокомедии, но и проникновения комического в трагедию, а трагического в комедию:
Знай в стихотворстве ты различие родов (жанров. – О.Б.) И, что начнешь, ищи к тому приличных слов, Не раздражая муз худым своим успехом: Слезами Талию, а Мельпомену смехом[124].Однако в поэтике начала XVIII в. совмещение комического и трагического было допустимо и опиралось на определённые традиции. Усвоив опыт античной драматургии, достижения театра Возрождения, школьный театр в жанровом отношении был ступенью выше, нежели русский придворный театр царя Алексея Михайловича или же театр Кунста-Фюрста; школьная драматургия мирилась с соединением высокого и низкого, трагических и фарсовых сцен в своих произведениях. В литературе первой половины XVIII в. жанр трагедокомедии являлся устоявшейся целостной литературной конструкцией, при помощи которой оформлялся определённый объект изображения. Художественную целостность жанру придают устойчивые признаки в объекте изображения, в особенностях языка и стиля. Жанр трагедокомедии позволил, совместив высокое и низкое, не только прославить реформы, новое, но и сатирически, зло высмеять противников преобразований. Тип совмещения трагического и комического с сохранением их конструирующих начал во «Владимире» для русской эстетики совершенно новый: в основу пьесы легла сатира. Генезис такого жанрообразования – культура эпохи Возрождения, дух которой ещё застал Феофан Прокопович, обучаясь в течение трёх лет в Риме. Гуманисты сломали жанровые рамки, что особенно заметно в итальянской драматургии XVI–XVII вв., где и теоретически, и практически художники доказывали жизненность новых жанров, обосновывая право поэта на их создание. Кроме связей с античным театром, культурой эпохи Возрождения, русской демократической литературой, интермедиальным опытом первых русских пьес, произведение Феофана Прокоповича, являясь школьной драмой, самым непосредственным образом связано с традициями школьного театра. Всякое новое жанровое образование является новым относительно: литературная традиция так или иначе сказывается и в этом новом жанре, такова типологическая сущность любой жанровой структуры.
* * *
На подступах к рождению жанра трагедокомедии стоит пьеса Евфимия Морогина «Венец Димитрию» (1704), представление которой состоялось в Ростове ровно за год до появления «Владимира». Автор пьесы – человек политической и эстетической ориентации Димитрия Ростовского (Туптало). П. О. Морозов, П. Н. Берков, О. А. Державина, А. С. Елеонская, В. А. Бочкарёв отмечали антипетровскую направленность «Венца Димитрию», которая шла от консервативных взглядов Туптало, недовольного реформами и особенно церковной политикой Петра I.
Е. Морогин умело вводит в серьёзное произведение, основанное на житийной литературе, вымышленный комический элемент, что, вместе с политической актуальностью темы, даёт основание для сопоставления «Венца Димитрию» с «Владимиром». Вряд ли Феофан Прокопович знал о создании и содержании этого произведения, но объективно трагедокомедия молодого киевского драматурга стала в идейной своей направленности антиподом пьесе школы Димитрия Ростовского, что свидетельствует в очередной раз о прозорливости Феофана. Своей пьесой он даёт бой и на театральных подмостках.
Конфликт «Венца Димитрию» основан на столкновении царя Максимиана, защитника идолопоклонничества, и юноши Димитрия Солунского, проповедующего новое религиозное учение – православие. Могущественный, жестокий правитель пытается с помощью уговоров, наград и, наконец, угроз, насилия заставить Димитрия отречься от веры, которую открыто и успешно проповедует тот. Однако ничто не в силах поколебать юношу.
Литературной основой пьесы стала часть жития о Димитрии Солунском из Четьих-Миней митрополита Макария, переработанная самим Димитрием Ростовским[125]. Так же как и во «Владимире», не вся жизнь святого драматизируется, о чём писал в «Поэтике» Феофан Прокопович, – берётся наиболее интересный и острый момент жития. По характеру конфликта и его разрешения это типично школьная драма. Однако система намёков, сходство ситуаций в пьесе и в действительности сообщают произведению актуальность, политическую злободневность. А. С. Елеонская пишет, что в «Венце Димитрию» аллегорически изображаются взаимоотношения Петра I с его противником Димитрием Ростовским, «дискредитируется право царя на вмешательство в дела церкви»[126].
Насилие, совершаемое светской властью над Димитрием Солунским, «носителем истинных духовных ценностей в пьесе»[127], проецируется автором на отношение Петра к духовенству. Так же как и в русской действительности, светское начало физически, через насилие, побеждает. Тщеславие Максимианово торжествует, однако духовная победа, по мысли автора, принадлежит Димитрию (второе действие, 5-е явление). Слава Димитриева заявляет о скоротечности земного, т. е. светского:
Максимиана в весь мир все проклинаше, Ад же гортань на него свою простираше…[128]Димитрий же становится святым, слава его «ввеки пребывает»[129]. Таким образом, отдаётся предпочтение духовному началу. Главный герой, делая выбор, задаёт себе вопрос: «Лучше ли боятися царя земного или небесного?» – ответ Димитрий и автор пьесы дают в пользу духовного начала, осуждая деспотизм гонителей православия. При сходстве тем (обращение от идолопоклонничества к христианству), а также исходного материала (образы святых православной церкви, летопись, жития), Ф. Прокопович и Е. Морогин по-разному ставят и разрешают проблемы в своих пьесах, придают им разную идейную направленность. При этом, несмотря на противоположность своих идейных воззрений, авторы сопоставляемых пьес близки в художественном воплощении замысла произведений. В обеих пьесах имеются такие структурные элементы, как пролог, антипролог, по объему пьесы почти совпадают (хотя количество действий разное: во «Владимире» – пять действий, в «Венце Димитрию» – два), обе пьесы написаны силлабическими стихами (13-сложник с цезурой после седьмого слога), однако эта метрика не везде выдерживается в пьесах. Так, песня Прелести во «Владимире» строится на иной метрической основе, то же и в «Венце Димитрию»: Усердие христианства (аллегорический персонаж) весьма напоминает и стенаниями, и метрикой песню Прелести. Однако в целом метрическое своеобразие трагедокомедии Феофана проявляется сильнее, Прокопович – более значительный поэт, нежели Е. Морогин.
Есть определённое сходство между образами Максимиана и Владимира: оба могущественные правители, оба отличаются силой характера. Безусловно, Владимир – гораздо более мощная, интеллектуально более значимая фигура.
Главным же, на чём основано жанровое родство пьес, является наличие в обеих комедийного начала, которое не выносится в интермедии, а входит в качестве составного элемента в художественную структуру пьесы. Симметрия и контраст, наблюдаемые во «Владимире» при выстраивании пообразной характеристики героев, имеются и в пьесе Е. Морогина: Максимиан противостоит Димитрию, а остальные персонажи соответственно делятся на два враждебных лагеря.
Но если в «Венце Димитрию» власть и вера (христианская, истинная, на стороне которой симпатии автора) разведены: царь не соответствует новой религии и не приемлет её, то во «Владимире» они в конце концов составляют гармоническое соединение: князь становится убеждённым христианином, осознав все преимущества новой веры. Примечательно, что комическое во «Владимире» связано с лагерем противников князя и перерастает в политическую сатиру, у Е. Морогина комедийные ситуации имеют часто интермедиальный характер, хотя и не вынесены в интермедии. Комедийное не является в «Венце Димитрию» столь же существенным структурным элементом, что и во «Владимире», но это и далеко не интермедия. Налицо попытка соединения высокого и низкого.
В большей степени, чем во «Владимире», присутствует в пьесе Е. Морогина трагическое: на сцене происходит поединок («борьба» – в ремарке) христианина Нестора и любимца Максимианова Лия, Нестор убивает Лия. Судя по ремарке, смерть его должна была произойти на самой сцене.
Значительно больше в «Венце Димитрию» аллегорических образов, олицетворений: Вера Православия, Надежда, Любовь, Многобожие, Православие, Усердие христианства, Молитва, Тщеславие Максимианово, Слава Димитриева, ангелы. Эти персонажи изображены в их изначальной функции, предусмотренной поэтикой школьной драмы, что отличает их от аллегорических образов во «Владимире», которые наделяются Феофаном человеческими качествами. Они «играют» в пьесе киевского драматурга, а не декламируют, как у Е. Морогина.
Наряду с образами из жития, аллегорическими персонажами, олицетворениями в пьесе Е. Морогина много вымышленных лиц: два вельможи, в чем-то перекликающиеся по своей функции с Борисом и Глебом (дают советы, утешают и т. п.), жрец, солуняне, нищие и др.
Достаточно глубок в своей разработке образ главного героя ростовского драматурга – Димитрия Солунского. Становясь против собственной воли правителем Солуни, герой пренебрегает светскими делами и обращает язычников солунян в христианство (здесь и фабульно, даже текстуально, и функционально Димитрий и Философ близки). В большом монологе он объясняет смысл православия солунянам[130], которые сразу же, без всяких раздумий и сомнений принимают христианство. Сцена решена драматургом куда менее сложно, нежели во «Владимире». Сказался житийный источник, на который лишь и опирался Е. Морогин. Предначертание и предопределение играют в житии решающую роль, что перенесено и в пьесу. Той психологической глубины, которой отличается «Владимир», нет в пьесе Е. Морогина. Не убеждением и анализом привлекает Димитрий солунян к христианству, а прославлением веры, пересказом библейских истин, обилием молитв[131]. Монолог Философа о сущности новой религии несравненно выше монолога Димитрия.
Киевский драматург поднимает на высокий философский уровень проблему реформы, перехода от старого к новому. А Е. Морогина волнует воплощение легендарной, житийной истории в связи с позицией его духовного пастыря – Димитрия Ростовского – по отношению к царю. Система намёков, конечно, свойственна обеим пьесам, но взгляд на проблему разный: у одного – широта мышления, которая позволяет Феофану теоретизировать, насытить философским содержанием изображаемое; у другого – местничество, не позволяющее Морогину подняться выше борьбы группировок. При определённом поэтическом сходстве пьес, произведение ростовского драматурга всё же не является пьесой литературы нового времени, а сохраняет традиции мистерии. Но довольно удачное совмещение комического и серьёзного свидетельствовало о начале процесса формирования жанра трагедокомедии. «Владимир» как новое жанрообразование возник не на голом месте.
Известно, что жанр (как исторически складывающийся тип литературного произведения) проходит в своём развитии очень сложный путь, претерпевая большие изменения. Он жив лишь до тех пор, пока сохраняет свои основополагающие, конституирующие черты. И хотя русская трагедокомедия никогда не занимала доминирующего положения, но в формировании русской драматургии первой трети XVIII в. она сыграла заметную роль. А Феофан Прокопович стимулировал развитие жанра, создав своим «Владимиром» школу.
* * *
Непосредственно опирался на достижения Феофана Прокоповича (в теоретическом и художественном плане) его последователь, учитель пиитики в Киево-Могилянской духовной академии Лаврентий Горка, написавший в 1708 г. трагедокомедию «Иосиф патриарха…»[132].
Сопоставление «Иосифа патриарха…» и «Владимира» обнаруживает близкое текстуальное, композиционное, ритмическое и т. д. сходство, что дало основание некоторым исследователям сделать упрёк Л. Горке в подражательности, копировании пьесы Ф. Прокоповича. На наш взгляд, дело обстоит несколько сложнее. Восприемник Феофана по пиитике и риторике, Л. Горка, действительно, подчас незначительно переделывая, помещает в свою пьесу целые явления из «Владимира». Например, Зависть во многом повторяет монолог тени Ярополка, а 2-е и 3-е явления первого действия «Иосифа патриарха…» живо напоминают 1-е, 2-е, 3-е явления первого действия «Владимира». За основу образа Прелести Л. Горка взял соответствующий образ из пьесы Прокоповича, правда, развив и значительно расширив его. Ту же роль, что и во «Владимире», играет в «Иосифе патриарха…» хор, причём хор и эпилог так же совмещены. В пьесе много аллегорических образов, появляется и бес плоти в действии. Через систему упоминаний (что было и у Феофана) есть попытка воспроизвести пространство, на котором происходит действие, даже природу Египта (море, корабли, верблюды, названия городов и т. п.). Характерен рассказ о событиях через третье лицо: так, в начале пьесы Друг Иосифов повествует о предыстории событий, которые развернутся на сцене, а о неудавшемся соблазнении Иосифа героиней пьесы и о её мести рассказывает Тайновидец. Подобные же приёмы встречались и во «Владимире», им обучал в своей «Поэтике» Феофан. Кроме прямого заимствования, в пьесе Л. Горки есть и самостоятельно поставленные проблемы, оригинальные места, интересные образы. Жанр трагедокомедии позволял смелее варьировать, совмещать, оформлять новые идеи и новое жизненное содержание по-новому. При общности доминанты сюжетов «Венца Димитрию», «Владимира», «Иосифа патриарха…», когда герой подвергается испытаниям, характер испытаний, протекание и художественное наполнение их существенно отличают вышеназванные пьесы друг от друга.
Димитрий обнаруживает стойкость духа, преданность вере, подвергаясь в основном угрозам Максимиана и физическим мучениям; Владимир вынужден принимать решение о реформе, находясь с самим собою в «духовной брани»; юноша Иосиф подвергается «прелщениям» со стороны Велможи и помогающих ей Прелести и беса тела.
Школьная драма не осмеливалась на откровенность в изображении страсти, женщина-героиня не могла появиться на сцене школьного театра, что Прокопович особо оговаривал в своей «Поэтике». Средневековая церковная точка зрения на женщину как воплощение греха и соблазна присуща и Феофану, и Л. Горке. Однако на последнего в значительной степени повлиял светский театр, в котором всё более усиливалась тенденция сближения с авантюрно-любовным романом, зарождающейся любовной лирикой.
Л. Горка, пожалуй, впервые в истории школьной драмы вводит в систему образов пьесы женщину, жену Пентефрия – Велможу. Долго, на протяжении всего первого действия, драматург готовит зрителя-читателя к появлению Велможи: Защищение божое, противодействуя Силе адовой и Зависти, извещает наперёд, что «от студной невесты искушение силно, на дела нечисты влекуще», будет Иосифом преодолено,
яко секира изощренна Не всечет адаманта, но сама сотренна будет: Тако и сего чистаго отрока Не пролетит напраженна от сердца глубока Любовь нечиста»[133].Причем очень часто Л. Горка прибегает в метафорах, сравнениях к слову «адамант» (алмаз), подчёркивая силу духа, стойкость своего героя, олицетворяемые чистотой, прозрачностью камня, что в свою очередь противостоит нечистым помыслам героини. Антитеза вообще была важной структурной единицей пьес школьного театра.
Второе действие и часть третьего в «Иосифе патриарха…» посвящены раскрытию темы любви. Если Владимира мучили воспоминания о любви, подогреваемые (как об этом были заранее извещены зрители-читатели) бесом тела, то чувство Велможи действенно; если герой Феофана побеждает страсть во имя утверждения нового, то героиня Л. Горки остаётся на протяжении всей трагедокомедии любящей женщиной, готовой на всё ради удовлетворения своего чувства. Примечателен диалог Велможи с Совестью, которая приходит и «хощет Велможу, – говорится в ремарке ко второму явлению второго действия, – отвести от сквернаго начинания, но ничто же успевает: Велможа бо, не послушавши совета, Совесть свою с безчестием связует и в темницу на смерть вовергает»[134]. Реплики Велмо-жи дают возможность увидеть, насколько сильно и глубоко героиня любит Иосифа. На укоры и уговоры Совести, весьма логичные и тонкие, Велможа отвечает, веря в силу любви, в силу женского начала в природе. В пьесе, таким образом, представлена, в определённом смысле, философия любви, поэтому героиня Л. Горки вызывает если не симпатию, то чувство понимания и часто сострадания. Женская красота, её возможности осмысляются драматургом иначе, нежели во «Владимире». Это роднит «Иосифа патриарха…» с такими пьесами 1720–1730 гг., как «Действие об Есфири», «История о царе Давиде и царе Соломоне» и др., где разрабатывались интимные стороны человеческой жизни по-новому, в духе Петровской эпохи. В изображении чувства «Иосиф патриарха…» во многом предвосхищает светскую драматургию первой половины XVIII в., где «женская красота, – замечает А. С. Елеонская, – становится как бы самостоятельной материальной силой»[135]. Л. Горка внимательно вглядывается во внутренний мир героини, дает ей возможность высказаться, обнаружить логику своего поведения. Не сила бесовского наваждения, а глубина чувства-страсти движет ею. В ответ на заявления Совести о суетности страсти, её недолговечности Велможа утверждает, что чувство не всегда поддаётся голосу рассудка, подкрепляя свои слова интереснейшей метафорой о корабле в бурном море: советом не спасёшь тонущего судна. Усиливается страсть ещё и потому, что нет рядом с нею Пентефрия, её супруга. Совесть стращает женщину «студом и срамом», которые она навлечёт на себя любовью, на что та отвечает: «Кий се срам и студ, чого сердце желает?»[136].
Эта мысль высказывалась и Владимиром, когда он отстаивал изначальную законность, естественность любви для человека. Надо признать успешной попытку Л. Горки показать на сцене зарождение и развитие любви, дать психологию чувства, хотя сама сцена объяснения и обольщения Велможей Иосифа отсутствует в пьесе.
Интересна перекличка «Иосифа патриарха…» с поздней драматургией XVIII в., в частности, с комедией Д. И. Фонвизина «Недоросль»: тема слепой материнской любви, впервые всего одной репликой представленная в пьесе Л. Горки, получит детальное освещение под пером великого русского драматурга. Совесть грозит Велможе: «Мати згубит тя», а последняя отвечает:
Всякая мати за своим ищадием готова подяти Язви. И како зхощет дщерь свою згубити, За нюже готова есть душу положити?»[137]Образом Простаковой Д. И. Фонвизин подтвердит и развернёт ответ Велможи.
Отступлением Л. Горки от завоеваний Феофана Прокоповича было возвращение к интермедии, куда вынесен в основном комический элемент пьесы. Снижен и несколько комичен и образ Прелести, играющей значительную роль в пьесе «Иосиф патриарха…» (во «Владимире» это чисто аллегорический образ, исполняющий лишь песню). Прелесть в полилоге с Велможей и Другиней хвалится своими возможностями, уверяя собеседниц в скорой победе. Однако чары Прелести не оказали никакого влияния на Иосифа. Хитрость сладострастных Велможи и Прелести высмеиваются автором.
Образ Велможи – художественное достижение Л. Горки, возможное, на наш взгляд, при обращении драматурга к жанру трагедокомедии, который давал значительную свободу автору в выборе темы, героев, свободу вымысла. В этом смысле главный герой пьесы – Иосиф – представляет меньший интерес.
«Совершеннейший инок» Иосиф стойко противодействует Велможе и Прелести, отвергая их притязания, но, кроме деклараций в виде реплик и молитвы на коленях перед Богом, душевное смятение юноши никак не изображено. Если Владимир страдал, мучился, боролся сам с собою, был близок к тому, чтобы и впредь потакать своей слабости (он завидует, рвётся к земным радостям, грешит и кается и т. д. – т. е. целая гамма чувств и переживаний раскрыта в пьесе Феофана через монологи и диалоги), то Иосиф – воплощение святости и кротости. Автор пьесы «Иосиф патриарха» совершенно не отходит от абстрактно-религиозного идеала, элементы психологического анализа сведены до минимума. Л. Горка весьма близок к принципам ортодоксального жития в изображении Иосифа: исходный библейский и житийный материал наложил свой неизгладимый отпечаток, не позволил драматургу следовать примеру Феофана в разработке образа главного героя.
Усвоение традиций шло в большей степени на уровне техники творчества. Автор «Иосифа патриарха…» в полной мере не осознал новаторства жанра, его возможности по линии смешения комического и трагического (смешное и высокое в их крайностях отсутствуют в пьесе). Однако в ней имеется ряд интересных открытий драматурга, позволяющих отвести Лаврентию Горке в истории русского школьного театра и в развитии жанра трагедокомедии пусть и скромное, но своё место.
* * *
В понимании природы жанра трагедокомедии теория предклассицизма не выработала жестких канонических правил, ограничась суждениями общего характера, что отличает вообще предклассицизм от классицизма. Неразработанность, неустойчивость, определённая свобода и стихийность – характерные черты предклассицизма. Здесь кроются и слабые, и сильные стороны этого направления: с одной стороны, законы поэтики строго не соблюдались, а с другой – художественная мысль имела больший простор: художник не ограничивался уже достигнутым в том жанре, к которому он обращался, поэтому сделанное в жанре трагедокомедии не тиражировалось слепо его последователями. Подтверждением этих теоретических посылок является пьеса Феофана Трофимовича «Милость Божия, Украину от неудобь носимых обид лядских чрез Богдана Зиновия Хмельницкого свободившая», поставленная в 1728 г. в Киеве. Идейное содержание «Милости Божией…» отвечало народно-патриотическим устремлениям современников Трофимовича: Украина и в Петровскую эпоху остро чувствовала последствия беспощадного угнетения со стороны польской шляхты и католической церкви. Актуальность политического содержания, близость автора к народным идеалам, тема тяжёлого положения народа – новое и наиболее важное в произведении Феофана Трофимовича по сравнению с тематикой традиционных школьных пьес. В этом, действительно, даже «Владимир» уступает «Милости Божией…», однако в художественном отношении, в разработке образа главного героя пьеса Феофана Трофимовича не может соперничать с трагедокомедией Феофана Прокоповича.
Появление «Милости Божией…» Н. И. Петров связывает с изданием двух малорусских летописей – Грабянки и Величка, давших богатый материал для изображения эпохи Богдана Хмельницкого. Патриотизм и демократизм первоисточников определил высокую гражданственность героев пьесы Ф. Трофимовича – Богдана Хмельницкого и казаков. Впервые в истории русской драматургии на сцене появилось столько действующих лиц из простого народа. Автор всецело на стороне казаков. Он открыто говорит о неисчислимых притеснениях со стороны господ и польской шляхты, объясняя этим необходимость борьбы с угнетателями. Тема народа начинается с первой ремарки пьесы: «Богдан Хмельницкий долю казацкую оплакует»[138]. Герой Феофана Трофимовича не только сочувствует тяжёлой доле украинского народа, он сам неотделим от него, что даёт ему право призвать народ на борьбу с «ляхами».
Первое действие состоит из сравнительно небольшого монолога Богдана и выступления хора, осуждающего неблагодарных панов за многие обиды казаков и предвещающего устами Музы и Аполло «грядущую ляхом гибель»[139].
Второе действие открывается очень большим монологом Хмельницкого, в котором гетман, представляющий собой образ идеального народного героя-руководителя, рассказывает запорожцам о славной истории Украины, о победах над татарами, турками и ставит проблему выбора: «или жити тако при козацких вольностях» или «вечными рабами в ляхов быть»[140]. Не забывает гетман и о тех заслугах, которые казаки оказали Польше в борьбе с внешними её врагами, выделяя на этом фоне чёрную неблагодарность панов. Хмельницкий призывает высказаться. Кошевой от имени казаков говорит:
…всея нам Украина мати, Кто ж не похощет руку помощи подати Погибающей матце… Будем себе и матку нашу боронити, Аще нам и умрети, будем ляхов бити![141].Вот такое единение в помыслах и поступках характерно для героев пьесы, простые казаки разделяют тревогу гетмана о судьбе Украины, а та (в виде аллегорического образа) молит Бога о помощи им. Весть (аллегорический персонаж) сообщает о победе казаков над «ляхами», Хмельницкий с торжеством возвращается в Киев, где его приветствуют Дети украинские. В ответном слове гетман скромен, не принимает похвал о победе только на свой счёт, призывает казаков жить сурово, не гнаться за богатством, ибо спутником казаков должно быть «железо доброе». Богдан поучает казаков:
З сребных полумис отцы наши не едали, И з золотых пугаров они не пивали: О железе старались, железо любили, И велику тем себе славу породили[142].Примечательно, что Хмельницкий (так же как и Владимир) призывает казаков учить «наукам» своих детей.
В пятом действии Украина воспевает победу над «ляхами», используя древнейший набор синонимичных антитез, переосмысливая их религиозное наполнение, секуляризуя и придавая им политическое звучание:
Пречь лютая от мене зима отступила. А благоприятная весна наступила; Тма во свет, а нощь в день златый пременена, Горесть сердца моего в сладость обращена[143].Традиционный для школьной драмы аллегорический образ Смотрения Божия предсказывает Украине союз с Россией, несущей ей «блаженство под крепкою непобедимых монархов Всероссийских рукою»[144]. Особенно высоко воспевается правление Петра II, в отличие от правления его деда, Петра Великого, позицию которого по отношению к Украине не разделяет автор пьесы; поётся хвала гетману Даниилу; хор вновь «поёт похвалы Хмельницкому» как «хранителю и защитителю» Украины и «древней козацкой славы соблюдателю»[145].
Пьеса мала по объёму (почти вдвое меньше «Владимира»), образ Богдана схематичен и декларативен, нет ни малейшей попытки индивидуализации, нет психологических наблюдений и, напротив, в ней довольно много аллегорических образов. Несмотря на это, всё же произведение Феофана Трофимовича высоко патриотично и народно: драматургу удалось запечатлеть один из сложнейших моментов в истории отечества, указав на огромную важность единства власти и народа. Хмельницкий в изображении Феофана Трофимовича близок к казакам, знает их думы и чаяния – это и его думы и чаяния. Герой пьесы весьма демократичен, отличен от князей, царей, правителей первых пьес русского театра, от героя пьесы Феофана Прокоповича. Важной стороной «Милости Божией…» является связь пьесы с фольклором: образ Богдана явно навеян историческими песнями, думами украинского народа.
Небольшие художественные завоевания Лаврентия Горки подкрепляются мощным проявлением патриотизма и народности в пьесе Феофана Трофимовича.
* * *
Следом за пьесой Феофана Трофимовича появилась ещё одна, но чрезвычайно слабая во всех отношениях трагедокомедия, автором которой стал учитель пиитики Сильвестр Ляскоронский. Не случайно своё произведение автор назвал просто «Трагедокомедия», т. к. три действия пьесы трудно объединить одной темой, одним тематическим заглавием: нет единой фабулы, персонажи, в основном аллегорические образы, действуют в одном-трёх явлениях, далее их сменяют другие дейстующие лица. Опыт драматургов 10—20-х гг. XVIII в. слабо сказался в пьесе С. Ляскоронского, которая, по верному замечанию Н. И. Петрова, более напоминает иезуитско-схоластическую драму первого периода истории киевской школьной драматургии[146].
Основой пьесы является библейско-мифологический сюжет о грехопадении человека, искуплении его грехов Иисусом, о страданиях Христа, распятии, воскресении; поэтому среди персонажей – архистратиг Михаил и Люципер (Люцифер), Человек и Земля, Зависть и Премудрость Божия, Милосердие, Моисей и Жиды и т. д. Трагедокомедия имеет открыто мистериальный характер, приурочена, видимо, к религиозным весенним праздникам. Тематика, герои, поэтика пьесы восходят по своей типологии к таким школьным драмам, как «Царство Натури людской» (1698), «Торжество естества человеческого» и т. п. Герои разбиты на пары-антитезы (Гнев – Милосердие, Михаил – Люцифер и т. д.), соблюдается закон симметрии, что является характерной особенностью школьной драмы.
Герой с чертами конкретности, попытками индивидуализации и художественного психологизма исчезает у С. Ляскоронского, появляется типично «школьный» герой – человек вообще, вне времени и земного пространства (на сцене у Ляскоронского – ад, рай, условный библейский Египет). Пьеса приобретает некий вселенский смысл. Драматического движения, стремящегося к кульминации, нет; система аллюзий отсутствует (или они настолько «зашифрованы», что не поддаются в настоящее время прочтению, лишь в восьмом явлении третьего действия изображается типичный символ петровской эпохи: «орел монархий перунами побивает льва, ангелом поющим кант»[147], т. е. Россия побеждает Швецию или Персию. В конце пьесы имеется панегирик царю: Орфей исполняет хвалебный кант. С. Ляскоронский отошёл от требований «Поэтики» Феофана Прокоповича, вводя в действие очень много персонажей (в «Поэтике» говорится о 10–15 действующих лицах). Постановка пьесы представляла значительную сложность для режиссёра и актёров: много пения, необходимость представить и рай, и ад, трон, скалы, много сценических эффектов – гром, молнии и т. п. Эта сложность делала пьесу зрелищной, эффектной, скрашивала бедность содержания.
В 30-е гг. XVIII в. в жанре трагедокомедии не написано ни одной пьесы, происходит временное затухание этого жанрового образования (хотя необходимо высказать и такое предположение, что не все пьесы тех лет дошли до нас, поэтому вполне возможно, что среди них были и трагедокомедии).
В 1740-е гг. интерес к трагедокомедии вновь пробуждается у драматургов; уже в 1742 г. появляется интересная пьеса Варлаама Лащевского «О мзде в будущей жизни», хотя и явно уступающая таким своим предшественницам по жанру, как «Владимир», «Милость Божия». Первое явление (пьеса состоит всего из пяти явлений, без деления на действия) представляет монолог Церкви, в котором та жалуется на современное состояние нравственности, на то, что религиозные устои пошатнулись, многие христиане её
оставивше: Ов на куплю, ов в село, ов же за женою — Вси пошли в след мира, вси за суетою![148]Мир, антипод Церкви (второе явление), не без оснований считает себя могущественным: «…аки бог обладаю светом»[149]. Но Благодать Божия (третье явление), этот типичнейший аллегорический образ школьной драмы, урезонивает похвальбу Мира, а грешникам грозит страшным судом и геенной.
В четвёртом явлении вышедшие из ада и рая сёстры Фавлия и Агафия, олицетворяющие порок и добродетель, вступают между собою в диалог.
В центре внимания автора судьба Злочестивой, т. е. Фавлии. Её образ является своеобразным развитием образа Велможи из «Иосифа патриарха…» Л. Горки. В экспрессивном монологе Злочестивая вспоминает свою земную жизнь, прошедшую в наслаждениях, греховных занятиях. Драматургом нарисован сатирический, карикатурный образ модницы, напоминающей щёголя Медора из знаменитой сатиры А. Кантемира. Рассказывает она о своём времяпрепровождении:
На уме мне танцы да плясы, Музыки, студны пики беху по вся часы![150].Фавлия-Злочестивая «срамословила», искусно льстила, ходила по «игрищам».
Антиподом Злочестивой является Агафия, поведавшая грешнице о своей благочестивой земной жизни. В конце явления Ангел и Диавол разводят сестёр соответственно в рай и ад. Сцена, навеянная реальной жизнью послепетровского времени, по замыслу автора, должна была послужить уроком для современниц. Видимо, процесс секуляризации и освобождения от законов Домостроя принёс не только позитивные результаты, но и негативные, поэтому видеть в драматурге только попа-ретрограда не следует.
В художественном отношении пьеса довольно примечательна: живо ведётся диалог, много злых, но метких замечаний. Завершает пьесу (пятое явление) диалог юношей, стремящихся наставить зрителей на путь истинный и отвратить от греховных соблазнов жизни. Пьеса нова по своей форме: нет пролога, антипролога, эпилога, хора; по размерам она очень компактна, стройна по композиции. Комедийно-сатирическое начало заложено в образе Фавлии. Однако в пьесе нет и попыток создания более сложного, противоречивого характера или отражения более существенных социальных проблем времени.
* * *
Очень близко по тематике и духу к трагедокомедии В. Лащевского примыкает пьеса Георгия Конисского «Воскресение мертвых…» (1746–1747). Известно, что Г. Конисский учился по теоретическим курсам Феофана Прокоповича и находился под сильным влиянием его творчества. Перед написанием своей трагедокомедии он усиленно штудировал предшественников.
Архитектоника пьесы Г. Конисского близка к типичной школьной драме: пролог, антипролог, разбитый на ремарки перед явлениями, пять действий, эпилог, вместо хора – канты. Комический элемент присутствует в пьесе наряду с трагическим. «Воскресение мертвых…» – пьеса, выгодно отличающаяся от произведений С. Ляскоронского и В. Лащевского. События развиваются энергичнее, особую живость придают четыре канта, сопровождающие все действия трагедокомедии, кроме третьего (причём, так же как во «Владимире», в пьесе Г. Конисского метрика кантов отличается разнообразием: 13-сложник чередуется с 3-, 4-, 5-, 6-, 7-сложником), всего два аллегорических образа – Отрада и Терпение. Пьеса пользовалась успехом.
Трагедокомедия открывается размышлением Земледела о тяжести крестьянского труда, о смысле человеческой жизни, о круговороте в природе. Г. Конисский пытается подняться на определённый философский уровень в этих размышлениях, но, по сравнению с Феофаном Прокоповичем, всё это представлено в весьма примитивном виде, с опорой только на Священное Писание. Религиозная метафора – рост зерна есть жизнь человеческая – дидактизирована Священником, собеседником Земледела, который наставляет своего прихожанина: зерно, сгнив, прорастает колосом, а человек, умирая, предстаёт перед Богом и начинает загробную, вечную жизнь; но, так же как не все зёрна дают одинаковые всходы, так и на том свете всем уготована жизнь разная. Эта метафора раскрывается в дальнейшем развитии действия. История братьев Гимопена и Диоктита художественно иллюстрирует её (такое уже наблюдалось на примере сестёр из пьесы В. Лащевского).
Средневековая христианская концепция необходимости искупления и платы за грехи на том свете объединяет эти пьесы, но художественно полноценнее «Воскресение мертвых…» Г. Конисского, сумевшего глубже, с элементами психологизма изобразить судьбы братьев.
В центре пьесы конфликт, довольно типичный для русской действительности того времени: драматург показал борьбу братьев за наследство. Хитрый и ловкий Диоктит не только сумел отнять у Гипомена поместье, леса, но, напав со слугами на брата, избил его и бросил в темницу. При этом Диоктит уверен в своей безнаказанности: он сам в суде заседает, а если Гипомен станет на него «апеллиовать выше», то Диоктит и там «патронов» сыщет. После ремарки «показует кошелек» следуют его слова: «Ослеплю очы дармы, рукы пленю мздою, хоть бы он был и святий, потягнет за мною»[151]. Несмотря на согласие трепещущего Гипомена всё отдать, лишь бы остаться живым и вернуться к жене и детям, Диоктит решает убить брата, чтобы не тратить деньги на суд.
Терпение (аллегорический образ) просит Бога за Гипомена, а Диоктиту желает мщения Божия. Отрада предсказывает дальнейшую судьбу братьев. В четвёртом действии умирающий Гипомен обвиняет в своих злоключениях стремление к богатству, проповедуя в духе Священного Писания отказ от почестей и благ земных. «Смерть касается косою до шеи», – указывает ремарка, и Гипомен, умиротворённый, отходит в рай, так много перестрадав в жизни. Нищие хоронят его.
Диоктит рад, но тем временем его настигает Господня кара: после пьянки он болеет и близок к смерти. Монолог персонажа насыщен ремарками, указывающими на его сценическое поведение: «содригается», «пиет и кричит», «схватится, захарчит»[152] и т. д. Таким образом, сценическое поведение героя, в отличие от ранних пьес, меняется, монолог сопровождается движениями, мимикой и т. п. Актер перестал быть декламатором, он живёт в образе, перед ним стоит задача сыграть умирающего, что и требует драматург серией ремарок. Монолог Диоктита крайне эмоционален, причём показана смена чувств героя: вначале он рад смерти брата, затем его тревожит боль, но тут же он с удовлетворением вспоминает вчерашний вечер. Ему приносят вновь вина, он пьёт и укладывается на ложе. Но тревога закрадывается в сердце Диоктита: мучит сон «злий», где себя он видел в аду, а брата Гипомена «в славу несказанную светло облаченна»[153]. Сон (предсказание, вещий сон) играет ту же роль в пьесе Георгия Конисского, что и у Феофана Прокоповича. Однако Диоктит уверен, что в этой жизни никто не может его наказать. Он вновь выпивает фляжку. Тут делается ему совсем худо, он кричит, жалеет об имении, а смерть прикасается – и Диоктит умирает.
Вот такая гамма чувств в достаточно сложной комбинации представлена в одном монологе: от радости до страха, со множеством оттенков. Изображения такого сложного психического состояния не было ни в одной из ранее рассматриваемых пьес. При этом драматург сатирически высмеивает жадность, пьянство и другие пороки персонажа. Сатирически заканчивается и вся сцена: слуги, увидевшие господина мёртвым, нисколько не жалеют его. На вопрос первого слуги: «А что нам делать?» – второй отвечает: «Что – тело отнесем в палати, а за службу поищем себе плати»[154].
В пятом действии Диоктит и Диавол, вышедшие из ада, встречаются с Гипоменом, находящимся в раю. Гипомен смеётся над злочестивым братом. Тот в отчаянии, а Гипомен воспевает райскую жизнь. Эпилог поучает, что, по примеру братьев умерших, но для наставления «в действии явленных», всех ждёт суд и расплата за жизнь на земле.
В пьесе Георгия Конисского встречаются отголоски влияния не только Феофана Прокоповича и других его предшественников-драматургов, но несомненна зависимость от А. Кантемира в обличении злободневных, типичных пороков действительности. Если В. Лащевский не поднимался до социальной сатиры в своей пьесе, то Г. Конисский вслед за Прокоповичем и Кантемиром (хотя и не столь талантливо и резко) пытается критиковать пороки людей, связывая их с общественным положением и материальным состоянием обличаемых им персонажей. Попадает под его критику и тогдашнее правосудие.
* * *
Последней из дошедших до нас трагедокомедий первой половины XVIII в. является пьеса Георгия Щербацкого «Фотий» (1749). Это произведение в своей основе имеет сюжет, взятый автором из истории церкви: в трагедокомедии изображён момент раскола христианства на православие (восточную церковь) и католичество (западную церковь). Поэтому творение Щербацкого можно считать в определённом смысле историческим. Драматург, как типичный представитель православия, обрушивается с сатирическими выпадами на католицизм.
«Говоря об идейной основе пьес первой половины XVIII века, – пишет А. С. Елеонская, – следует, однако, иметь в виду, что в это же время создавались произведения, отразившие религиозное миросозерцание. Герои этих пьес являются носителями христианских добродетелей»[155]. Именно такими героями являются в пьесе патриарх Фотий, монах Митрофан, а также Филофей и Аретофил, изображённые драматургом истинными христианами, убеждёными в правоте и святости православия. Комическое же начало сосредоточено, главным образом, в первом явлении первого действия, где встречаются Первейший Сатана и «шуточный бес». В остросатирическом диалоге они вспоминают все свои победы над человеком, начиная с Адама и Евы (имеется временной ориентир – шесть тысяч лет, т. е. от сотворения мира). Сатана спрашивает беса о том, помнит ли он это «дело», на что тот с гордостью отвечает: «Помню все до тоика цело: вот когда для обману жены немощныя ползал ты во образе холодного змия, храбрый воин»[156]. Говоря о людских пороках, Сатана считает их своей заслугой, т. к. именно он стоял у истоков первородного греха. «Ах, утробы мои! – восклицает Сатана. – Мне любезные чада: моя сладость, забава, утеха, отрада»[157]. В свой актив Сатана вносит и всемирный потоп, и Авраама с Сарой, Фарисея и многие другие «проделки» против Бога, но своей скорбью и печалью бесы считают сына Марии, Иисуса Христа, доставляющего аду столько бед и хлопот. Бес обвиняет Сатану в трусости: «Подогнул тогда и ты хвост, тебе утерты роги некогда»[158]. Однако посланцы ада не унывают и, продолжая считать греховодников на земле, называют десятки имён.
Георгий Щербацкий довольно искусно владеет мастерством сатирика, изображая аллегорические образы не просто смешными, но обличая (конечно, с церковной точки зрения) Сатану и беса, пытаясь дать их несколько индивидуализировано. При этом явление не выпадает из общего развития действия. Так же, как это было во «Владимире», автор «Фотия» увязывает комедийную сцену и композиционно, и сюжетно. Сатана задумывает через Рим «христьянскаго закона догматы некия лутчее вновь поисправляти, по нашому», а также гордость и мысль о первенстве вселить в римских епископов[159]. Таким образом, завязкой пьесы является конец первого явления, т. к. конфликт уже определён, далее он будет лишь обостряться и развиваться.
Уже в следующем явлении от «гречина» Филофея становится известным, что папа Николай объявил себя «земным богом», а другой «гречин», Аретофил, сокрушён этим сообщением. Далее монах Митрофан и два простолюдина, бегущие из «области Рымской», сообщают подробности раскола, обвиняя папу и римских священников в ереси. Об этом узнаёт константинопольский патриарх Фотий, страшно смущённый этими событиями. Оставшись один, патриарх в длиннейшем монологе размышляет о случившемся, решая порвать с нечестивым Римом. «То, что с гнилою деем тела частию; сечем уды гнилы, чтоб и здравых с временем те не заразити», – объясняет Фотий[160].
IV действие Георгий Щербацкий строит полностью ориентируясь на второе и третье явления пятого действия «Владимира».
В пьесе Феофана Храбрий рассказывает Мечиславу об акте крещения (200), а у Г. Щербацкого присутствовавший на соборе Филофей повествует об увиденном и услышанном Аретофилу[161]. Здесь много текстуальных совпадений, но композиционно рассказы отличаются: во «Владимире» – монолог, а в «Фотии» – диалог. Справедливости ради нужно отметить, что диалог воспринимается живее, сцена менее статична.
Заканчивается пьеса большим панегирическим монологом Фотия и речью Предувидения Божия, представляющими собой своеобразный эпилог, вновь перекликающийся и по форме, и по содержанию с эпилогом во «Владимире» – речью апостола Андрея. Предувидение предсказывает так же, как и апостол Андрей, рождение новой ветви православия – на Руси: «Владимир крещается и его всецела фамилия и русь вся»[162]. Перечислив имена многих славных русских князей и царей, патриархов и митрополитов, драматург прославляет Петра I, Екатерину I, Анну, но более других – Елизавету. Заканчивается трагедокомедия обращением Фотия ко времени: «тщете, века, годы, спешно, представите мирови оное утешно, дабы не таковни, як теперь, развраты болше солнцу и добрым людем несмущати»[163].
Действительно, по художественным приёмам, а часто и содержательно «Фотий» близок к пьесе Феофана Прокоповича, однако раскрытие темы, идейное звучание произведения Щербацкого намного ниже, мельче, нежели у Феофана. Образа Фотия (как образа-персонажа), собственно, в пьесе и нет – есть образ-схема, образ-декларация без попытки углубления в ту или иную сторону, т. е. Фотий не привлекает ни сложностью характера, ни способами раскрытия образа.
Как в ряде вышерассмотренных пьес, в «Фотии» три канта сопровождают действия произведения, а также в конце второго действия клирик Пахомий, певчий из церковного хора, по просьбе простолюдинов исполняет печальную песню, соответствующую скорбному настроению персонажей. Музыка играла в пьесах важнейшую структурную и идейно-художественную роль на протяжении всего существования жанра трагедокомедии. Хор или кант, песня почти всегда были связаны с содержанием пьес, характеризовали персонажей.
* * *
Становление, развитие и угасание жанра трагедокомедии на протяжении полувека продемонстрировали, насколько сложным и противоречивым был процесс жанрообразования в русском предклассицизме. Не все рассмотренные пьесы являются строго трагедокомедиями: не всем авторам, в силу их разного дарования, разного взгляда на теорию жанра, разного образования и т. п., удалось приблизиться к образцовому произведению в этом жанре – к пьесе Феофана Прокоповича «Владимир». Однако то на уровне проблематики, то на уровне поэтики сходство пьес больше, нежели их различие. В этом не могли не сказаться общая теоретическая база, относительная близость по времени написания и, наконец, явное стремление подражать «Владимиру», высшему авторитету для всех драматургов, разрабатывавших жанр трагедокомедии. Роднила их всех и единая культурная почва – эстетика школьного театра.
Симпатии зрителей и читателей вызывало стремление драматургов к соединению высокого и низкого, комического и трагического (а для некоторых пьес характерно зарождение драматического). При обращении в основном к темам и сюжетам, взятым из отечественной истории («Владимир», «Милость Божия…») и из истории церкви, из библейских источников, трагедокомедиям свойственна связь с общественной жизнью, с современностью. Комическое (как важнейший структурный элемент жанра) воплощено через сатиру, иронию, гротеск и т. д. Пьесам этого жанрообразования присущи публицистичность, дидактизм и явственно звучащая в лучших трагедокомедиях фольклорная струя, связь с народным театром. В трагедокомедиях, по сравнению с другими пьесами школьного, да и светского театра, меньше аллегорических образов, а те, что имеются, чаще всего даны очеловеченными, действующими, «живыми» персонажами. Дифференцированная речь героев трагедокомедии, особенно отрицательных персонажей, близка к народной разговорной речи, что будет свойственно и речи героев комедий классицизма. Жанр демократичен: драматурги изображали в трагедокомедиях не только «высоких» героев, но и «простых» людей. В качестве одной из основных сторон жанра следует отметить морализирование и обязательную победу добродетели и долга; трагическое не является доминантой трагедокомедии.
Во всех пьесах этого жанра немало общих типологических черт, но главной, определяющей рождение и существование жанра чертой является смешение трагического и комического, при этом трагическое, как правило, трансформируется в драматическое.
Для Феофана Прокоповича характерно не только смешение, перебивание трагических и комических пластов (это наиболее отчётливо прослеживается по первому и второму действиям «Владимира»), но и рождение категории драматического, что наиболее отчётливо проявляется в образе князя-первокрестителя. Владимир показан вне трагических ситуаций. Лишён трагичности в её «чистом» виде и конфликт трагедокомедии. Образ строится на принципиально ином способе художественного освоения действительности – драматическом. У истоков теоретического определения этого способа стоял Гегель, выявивший самый принцип сопряжения трагического и комического в новом жанре. Конечно, это уже не трагедокомедия, а жанр драмы, расцвет которой наступит в XIX – ХХ вв. Но фундаментом жанра драмы была именно трагедокомедия.
В отношении же образа Владимира необходимо сказать, что это – «выломившийся» герой, он не трагикомичен, а в полном смысле драматичен, хотя «новое вино» ещё налито в «старые меха». Данный персонаж глубже и рельефнее классицистических героев: Феофан далёк от мысли изобразить его «черно-белым». О. В. Орлов и В. И. Фёдоров пишут, что при раскрытии образа Владимира «есть уже основание говорить о некоторой реалистической тенденции в творчестве писателя (классицисты и романтики изображали преимущественно одну страсть, одно чувство, целиком владевшее героем)»[164].
Образ Владимира поистине философичен. Откуда это?! Как смог в нашей литературе на заре XVIII в. появиться такой герой?!
Создание образа Владимира было подготовлено в определённой мере мощным развитием русской литературы XVII века: уже совершается переход к новому художественному осмыслению действительности, появляется энергичный, «живой», индивидуализированный, осознающий своё место в жизни герой, возникает принципиально новое представление о действительности как о переменчивости жизни.
Драматическое начало построено не только на борьбе с оппозицией (борьба заканчивается без смертей), но и на преодолении сильнейшего внутреннего сопротивления. По сложности, ёмкости и противоречивости характера Владимир превосходит героев классицизма, т. к. классицистическая модель образа лишена этих черт, она во многом формальна и условна, задана строгой регламентацией в отношении сюжета и дидактичного конфликта. При этом нельзя говорить об однолинейности классицистических героев, но авторы классицизма шли от заданной схемы, а Феофан Прокопович – от летописи и действительности.
Прокопович-драматург вобрал в себя всё лучшее, что было в античности, эпохе Возрождения, не игнорируя при этом достижений русской культуры. «Владимир» – пьеса достаточно высокого уровня по постановке и разрешению проблем, по художественным достоинствам произведения.
Ни один из драматургов, разрабатывавших этот жанр, не смог подняться до уровня Феофана Прокоповича, поэтому трагедокомедия в своём развитии шла по нисходящей линии; кроме того, жанр не мог соперничать с сильной, отвечающей запросам времени системой классицистических жанров.
Контрольные вопросы
1. Что такое «школьная драма»?
2. Какую эволюцию претерпел в первой половине XVIII в. жанр трагедокомедии?
3. Кто являлся предшественником и последователями Феофана Прокоповича в жанре трагедокомедии? Каков их вклад в развитие жанра?
4. Как в трагедокомедиях отразилось отношение их авторов к реформам Петра I?
5. Какие из трагедокомедий первой половины XVIII в. являются историческими пьесами? Каковы особенности их историзма?
3. Жанр «разговора» в русской литературе первой трети XVIII века
Жанр «разговора» имеет много общего с драматургией, для русской литературы первой трети XVIII в. это новое жанрообразование.
Генетически жанр «разговора» восходит к античному диалогу: ещё софисты, заменяя дидактический эпос и наставительную лирику различными видами прозы, стали культивировать и диалог. Этапом в развитии жанра явился философский диалог Сократа и его учеников. Однако Платон от вопросно-ответной композиции пришёл к связному изложению, введя драматургические элементы в его структуру, насытив его комизмом и сатирой, индивидуализируя действующих лиц. «Живой драматизм диалогов подчёркнут сценарием»[165]: прогулка, пирушка и т. п. У Платона особый тип словесного движения преобразуется и поэтически, и содержательно, открытием стала диалогичность его произведений[166]. Диалог приобретает статус самостоятельного литературно-публицистического жанра, пережившего свой подлинный расцвет в творчестве Лукиана из Самосаты. Диалоги и разговоры Лукиана с их острой сатирой на общественные пороки, с их нападками на религию, с их художественными достижениями (особенно «Разговоры в царстве мёртвых») оказали сильное влияние на европейскую литературу Средневековья и эпохи Ренессанса. При этом в творчестве многих авторов завоевания Платона, Лукиана, Плавта, Вергилия были утрачены. Отмечая роль «диалогов», «разговоров» в формировании драмы, теоретики того времени Ф. Ланг, Я. Понтан упрощённо трактовали жанр. «Это, – замечает Ф. Ланг, – ровная простая беседа на какую-либо тему, серьёзную или забавную»[167]. Выходившие в XVI–XVII вв. сборники «разговоров» свидетельствует о деградации жанра, особенно в практике школяров.
Совершенно иначе будет выглядеть картина в «разговорах» первой трети XVIII в.: культ книги, гимн культуре, преклонение перед образованным человеком характерны для героев этого жанра в творчестве Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева, но особенно выделяются «Разговоры о множестве миров» в переводе А. Д. Кантемира[168].
Однако предтечей А. Д. Кантемира в жанре «разговора» явилось одно из первых изданий гражданской печати XVIII в. – стихотворный переводной диалог с неизвестного латинского оригинала – «Краткая беседа Милости с Истиною» А. Х. Белобоцкого, напечатанный в Санкт-Петербурге в 1712 г. Перевод был «ответом Белобоцкого на религиозные преследования, которые он наблюдал в своих странствиях, на нападки фанатиков, жертвой которых был он сам: в Польше преследуемый иезуитами, в Москве – ревнителями исконного благочестия». С гуманных просветительских позиций в «Беседе…» трактуется проблема снисхождения, милости к грешнику, суровая Истина уступает в конце диалога всепобеждающей Милости, что сближает позицию неизвестного гуманиста, автора «Беседы…», её переводчика с отношением к этому вопросу Феофана Прокоповича: идея веротерпимости, так ярко воплотившаяся в творчестве Феофана Прокоповича (в том числе его религиозных трудах), определила религиозную политику Петра I. «Интересно, – пишет А. Х. Горфункель в примечаниях к статье, – что в “Беседу” проникли сведения о существовании учения о множестве миров: “кровь Христа, аще бы тысяша еще миров к сему было, вси от грехов отмыти довольна”»[169]. Таким образом, почти за 20 лет до перевода А. Д. Кантемиром «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля идеи великих итальянцев прозвучали в России.
* * *
В русской литературе у истоков жанра стоит Феофан Прокопович. Его «Поэтика» и «Риторика» свидетельствуют о глубоком усвоении им традиций эстетической мысли античности, Средневековья, культуры нового времени. Предклассицист по своим эстетическим взглядам, Феофан Прокопович не оставил сколько-нибудь развёрнутых суждений о жанре «разговоров». Однако разбросанные в «Поэтике» замечания позволяют говорить, что русский автор, отдавая предпочтение «разговорам» Лукиана и Вергилия, был достаточно оригинален в теории и практике жанра. Поэт должен «воспевать вымышленное», «диалогисты же воспроизводят и изображают, но делают это не стихами, а в прозаической речи» (346). Подражание или поэтический вымысел, утверждает теоретик, может иметь место и в диалогах. «Ведь все, кто излагают свои чувствования в диалогизмах, явно пользуются поэтическим подражанием, так как они рисуют беседующих между собой лиц, изображая их разнообразные душевные и телесные движения» (348), но делают они это в прозе. Феофан Прокопович «поднимает» жанр, называя в качестве образцового автора Лукиана. В обращении «Человеку, назвавшему меня Прометеем красноречия», античный автор говорит, что его «произведение слагается из двух частей – философского диалога и комедии», «диалог и комедия звучат как самый высокий и самый низкий тона, разделённые дважды полною гаммой»[170]. Анализ двух «разговоров» Феофана Прокоповича убеждает, что русский автор во многом следовал античным образцам.
Вопрос о датировке «разговоров» в научной литературе, посвящённой творчеству Феофана Прокоповича, остаётся проблематичным: П. О. Морозов считает, что оба «разговора» написаны ещё в Киеве, до отъезда в Петербург, т. к. их язык близок к малороссийскому[171]. И. А. Чистович, Н. И. Петров, Н. К. Гудзий относят создание «разговоров» к 1716 г., т. е. уже к петербургскому периоду творчества[172]. Опираясь на свидетельство И. А. Чистовича, что в своей школе на Заячьем острове Феофан Прокопович завёл сценические представления, можно с большой долей уверенности говорить и о том, что именно для своих школяров он создал «разговоры» и что, по всей вероятности, они были разыгрываемы ими в период летних рекреаций – по типу и подобию Киево-Могилянской духовной академии.
«Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным» (научное издание этого произведения осуществлено П. В. Верховским[173]) ставит острую по тем временам проблему борьбы сторонников просвещения с людьми невежественными, противниками знаний, образования. Завязкой произведения является сцена перебранки, ссоры гражданина с селянином, перешедшая в длинный разговор о невежестве русского народа, о необходимости образования, правда, все это освещено религиозностью, церковными делами. В основе композиции лежит бытовой сценарий – древнейшая структурная единица текста. Если вспомнить идею М. М. Бахтина о «первичных» (бытовых) и «вторичных» (литературных) жанрах[174], то нельзя не увидеть, что «диалог», «разговор» является тем жанром, который сумел структурно сохранить родство со своей первоосновой – бытовым диалогом.
Этот жанр непосредственно включает в свою конструкцию «первичный» жанр, т. е. литературный жанр «разыгрывается» по законам речевого общения. Можно говорить об исторической преемственности, о типологической повторяемости содержания, об устойчивости поэтической конструкции, но, думается, в данном случае всё гораздо проще: бытовой диалог, речевая деятельность определили судьбу, жизнь литературного жанра.
Наряду с религиозными темами (необходимость знать молитвы, можно ли считать религиозное невежество грехом, проблема веротерпимости – и в связи с этим вопрос о католичестве, о «латинниках» и т. д.) Феофан Прокопович выдвигает важнейшие проблемы эпохи петровских преобразований. На первом плане – обличение невежества как основной силы, противостоящей реформам, движению вперед.
В ответ на реплику Певца о том, что не все знают и понимают молитвы, что «невежество бо не творит греха», Гражданин заявляет: «Невежество сугубо есть: одно простое и незлобное, другое нарочное, злобное и упорное»[175]. В духе просветительства, далеко выходя за рамки богословия, Гражданин разъясняет Певцу и Селянину пользу знаний, необходимость образования. «Всяк разуметы должен», – совсем по-петровски звучит безапелляционный приговор Феофана Прокоповича в устах Гражданина. Особенно достаётся от Гражданина «злым невеждам, который в невидении самохотно пребывают»[176]. К таким относит он Селянина, упорно не желающего учиться, живущего по старинке, жаждущего отсудить двор соседа и т. п. Гражданин долго и настойчиво разъяснял Певцу и Селянину вред от невежд всех мастей, необходимость каждого в познании сомневаться, вопрошать учителя, опасаться за своё «невидение».
Певец постепенно соглашается с Гражданином, живо расспрашивает его о непонятных вещах. Селянин же остаётся непреклонным в своем невежестве, с издёвкой заявляя: «Когда бы я с такими книжниками, как ты, часто сидел и слушал вас, мудрейшего и святешого паче мене не было. Однако ж стану у тебе, Дяче, хотя на полгода учиться писма, авось как умру писменный, просто до неба пойду»[177].
Позиция Селянина, его характер (а в «разговоре» делается попытка создания характера – и не безуспешная!), примитивизм самым непосредственным образом повлияют на образы героев первой сатиры А. Кантемира, особенно образы Силвана и Критона. Сравним: Селянин осуждает книжную мудрость: грамота, изучение библейских, религиозных текстов вредит, по его мнению, вере: «Вот грамотнии и молиться Богу не будут, уже в безбожие прийдут, се же от великия мудрости своея, яко много училися, глаголющеся быти мудри, объюродиша»[178]. Критон заявляет: «Приходит в безбожие, кто над книгой тает… Дети наши… / Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали; / Толкуют, всему хотят знать повод, причину, / Мало веры подавая священному чину»[179].
Селянин: «И без писма хлеб им… Другой бы ил, да нычего ясты, хотя и писменний он»[180], «Отци де наши не умели писма, но хлеб доволний имели и хлеб тогда луше радил бог, нежели ныне, когда писменних и латинников намножилось»[181]. Силван: «Живали мы преж сего, не зная латыне, / Гораздо обильнее, чем мы живем ныне: / Гораздо в невежестве больше хлеба жали; / Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли»[182] и т. п.
Конец XVII в. ознаменовался победой над латинствующими, их полным разгромом. В эпоху Петра I вновь остро встал вопрос о взаимоотношениях с иноверцами, особенно с католичеством; Феофан Прокопович ратует за гибкий подход к решению этой проблемы. Гражданин призывает с помощью латыни постигать учёность, премудрость книг и философских трактатов, вместе с тем он резко критикует тех «латинников», которые схватили только верхушки учения и кичатся знанием чужого языка, среди которых «горшии от невежд имеются»[183].
Гражданин в произведении формулирует любимые религиозно-философские идеи Феофана Прокоповича, являясь рупором авторских взглядов. Образ Гражданина построен по той же схеме, что и образ Философа в пьесе «Владимир», – так прокладывался путь резонёрствующим сугубо положительным героям комедий классицизма. Образ Певца дан в эволюции: постепенно, колеблясь, сомневаясь, этот герой переходит на сторону Гражданина, проникаясь новыми идеями. Селянин же – не просто тупой, озлобленный против знаний человек, это воинствующий, сознательный невежа, вполне довольный своей судьбой, страшащийся перемен, книг, учения; такие образы найдут своё продолжение в русской литературе XVIII в. Однако именно с этим персонажем связаны попытки создателя «разговора» оживить серьёзную, подчас затянутую религиозно-философскую часть произведения: элементы комизма, грубоватые шутки, издёвка появляются благодаря Селянину и в связи с ним. Поэтому «Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным» воспринимается скорее как небольшая пьеса-диспут, насыщенная теолого-философскими рассуждениями и элементами комедии, как раз в духе Лукиана.
Менее удачен «Разговор тектона, си есть древодела, с купцом» (не опубликован): в нём нет той социальной остроты, определённой живости героев, которые имели место в предыдущем «разговоре», поэтому, видимо, второй «разговор» никогда не был напечатан, мало привлекал внимание даже тех исследователей, которые непосредственно занимались изучением творчества Феофана Прокоповича. В этом «разговоре» речь идёт о значении храма, о Божием вездесущии и других церковных догматах. Интересными являются, пожалуй, два момента. Феофан Прокопович и в этом произведении пропагандирует любимую идею – о необходимости и возможности учиться везде, в том числе и у иноверцев. Купец, проведший в немецких городах несколько лет и познавший там многие учёные книги, объясняет Тектону сущность протестантства, его отличие от православия. Тектон же отдаёт предпочтение польскому католицизму, «Противоположность “Польши” и “немецких городов” указана здесь с достаточной ясностью, притом так, что не остаётся никакого сомнения, на чьей стороне стоит Феофан Прокопович, какому из этих двух направлений принадлежат его симпатии»[184]. Враги Феофана Прокоповича долгое время преследовали его за это, он вынужден был давать показания на сей счёт, доказывать, что не впадал в ересь.
Второй важный момент в «разговоре» связан с тем, что «в определениях Бога Прокопович нередко отходит от традиционно христианского понимания его как личности»[185]. У Прокоповича Бог мыслится как высший разум, предвечная мудрость, вечная истина и вместе с тем Бог как первопричина бытия, как некая закономерность природы. Такое понимание Бога стоит на грани деизма и пантеизма. Здесь усматривается влияние на Феофана Прокоповича философии Бруно и Спинозы[186]. В «Разговоре тектона, си есть древодела, с купцем» автор в очередной раз устами купца заявляет, что «в природе существует и живет Бог»[187].
Таким образом, Феофан Прокопович не только следовал традициям античного и западноевропейского диалога-разговора, но привнёс в развитие жанра много своего, нового. В «разговорах» русского автора поднимаются актуальные политические, теологические, нравственные проблемы, при этом делается попытка «оживления» серьёзного разговора-диспута за счёт введения сниженной лексики, грубоватой шутки, комического эффекта (здесь усматривается влияние русской демократической сатирической литературы, интермедиального опыта раннего русского театра). Далеко не всегда художник достигает успеха в этом. Сценка перебранки вновь сменяется утомительными теологическими рассуждениями. Правда, сейчас крайне сложно судить об эстетическом восприятии «разговоров» русскими читателями XVIII в., а имеющаяся, наверное, в произведениях многоплановая система аллюзий в настоящее время почти не поддаётся прочтению, расшифровке. Наряду с вопросно-ответной структурой диалога в композиции «разговоров» Феофана Прокоповича имеются полилог, элементы драматизации, умело организованная автором дискуссия, попытка представить чувства героя в движении как отдалённое эхо будущего художественного психологизма.
* * *
Не вызывает сомнений, что младший сподвижник и единомышленник Феофана Прокоповича Антиох Кантемир не только в своих сатирах оставил «знаки» внимательного прочтения «разговоров» главы «учёной дружины», но не случайно обратился к переводу произведения этого жанра – популярной книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров». Жанр с удачной подачи Феофана Прокоповича был уже в определённой степени усвоен, кроме того, вполне вероятно, что Кантемир знал стихотворение Феофана Прокоповича (на латыни) о папе, преследовавшем Галилея, «деятельного служителя природы», учёного со «светлыми мыслями», «проницательным умом»[188]. Эта блестящая эпиграмма может служить своеобразным прологом к переводу Кантемира.
История создания перевода и все перипетии его публикации, значение перевода в русской общественной мысли, в формировании русской научной лексики изучены достаточно хорошо[189]. Однако недостаточно исследованы место этого произведения в истории русской литературы первой трети XVIII в., его жанровое своеобразие. Этому мешало то обстоятельство, что на «Разговоры о множестве миров» русские читатели и исследователи смотрели исключительно как на переводное произведение, не видя в нём акта собственно литературной жизни эпохи, тем более не связывая с ним формирующейся подспудно, крайне сложно для эстетики 1720—1730-х гг. жанровой системы. Как и Феофан Прокопович, Кантемир создаёт свой перевод в рамках тех просветительных задач, что были поставлены перед искусством ещё Петром I. Наличие переходности не означает отсутствия целостности, системы, своей эстетики, пусть и с элементами эклектики[190]. Всё это позволяет без особых натяжек солидаризироваться с теми учёными, которые определяют начало XVIII в. в русской литературе как эпоху предклассицизма[191]. Нельзя не предположить наличия у предклассицистов определённой жанровой политики. У Феофана Прокоповича и Антиоха Кантемира различная степень близости к классицизму, что наглядно отражает и жанр «разговоров». Характерно «Авторово предисловие» в переводе А. Кантемира, в котором даётся эстетическая установка: «Должен я объявить тем, которые честь будут книгу сию, имея уже некоторое знание в фисике, что я их не намерен учить, но только забавлять, представляя им некаким приятнейшим и больше веселым образом то, что они основательно уже знают, а которым такие дела не знакомы, объявляю, что думаю, что могу их вдруг и учить и забавлять»[192].
Несмотря на очень серьёзную философскую тему – «таким образом сделан мир сей»[193], автор и переводчик сознательно отходят от строгого научного диспута собеседников, равных или нарочито противопоставленных (здесь автор преследовал бы сатирическую цель) по образованию и интеллектуальному уровню. Последнее было излюбленным приёмом в «разговорах» Феофана Прокоповича, где спор часто переходил в ссору. Если так можно выразиться, в «Разговорах о множестве миров» представлена совершенно иная культура ведения беседы – беседы между означенным в «разговоре» «Я» и некой маркизой.
И. В. Шкляр считает введение образа маркизы, описание природы в «Разговорах о множестве миров» приёмами оживления научного трактата[194]. В данном случае речь должна идти о развитии традиционных композиционных форм: ещё у Лукиана фигура вопрошающего играла весьма значительную роль в структуре диалога; сохранил этот образ и Феофан Прокопович, несколько утрировав и снизив его, что, видимо, шло от фольклорной традиции. Откровением для русского читателя явилось то, что в роли Любопытного выступила женщина. При этом в авторском предисловии нарочито оговорено, что это сделано «для ободрения госпож через образец одной жены»[195]. Тем самым представлена в действии сама политика Петра I в области этикета: маркиза задаёт вопросы не просто ради любопытства, но является женщиной, «которая, не выходя из пределов особы, не имеющей ни малого знания наук, однако ж разумеет то, что ей говорится, и изрядно распоряжает в голове своей без помешательства все вихри и миры»[196]. Стремление изобразить женщину по-новому, в духе времени, присутствовало в русской драматургии первой трети XVIII в. и анонимной повести, но там не было такого естественного, такого свободного «вхождения» образа в систему образов произведения.
Антиох Кантемир призывает «бережно» вводить «посторонние украшения», считая, что он «законными их учинил природною разговоров вольностию»[197]. Заметно выделяется среди других «посторонних украшений» вечерний пейзаж. «Время было очень приятно: холодок весьма усладительной утешал нас по дни зело теплом, каков мы тогда имели; луна взошла перед тем за час времени, и лучи ея, которые к нам чрез ветви древес проницали, утешное в них составляли зрелище. Небо было весьма чисто, так что не видать было ни одного облачка, который бы мог закрыть и помрачить хотя одну из самых меньших звезд. Все они казались чистаго и блистательнаго золота, и еще больше украшение подавал им голубой свод, к которому они прилеплены»[198]. Прецедентов изображения подобного пейзажа в нашей литературе переходного периода не было. В структуре данного произведения пейзаж является экспозицией с очень естественным и логическим переходом от восхищения вечером, ночным небом к серьёзному разговору о мироздании, об истории астрономии и, наконец, о гелиоцентрической системе Коперника. В русском классицизме, особенно в творчестве М. В. Ломоносова, пейзаж будет играть столь же заметную роль.
Композиционной основой «Разговоров о множестве миров» является, как и в классических античных, восточно-европейских образцах этого жанра, вопросно-ответная форма, но автором и переводчиком сделана успешная попытка создания иллюзии естественности беседы, её непринуждённости, попытка автора «скрыться» за действующими лицами при сохранении политической актуальности поднятых проблем[199].
Важную роль в процессе работы над переводом книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» играли комментарии, сделанные А. Кантемиром. В своем «Предисловии к читателю» он специально оговаривает необходимость примечаний «для изъяснения так чужестранных слов, которыя и не хотя принужден был употребить, своих равносильных не имея, как и для русских, употребленных в ином разумении, нежели обыкновенно чинится»[200]. Значение теоретико-литературных примечаний Кантемира в русской филологической культуре XVIII в. исследовал А. С. Курилов. «Перевод, – считает он, – латиноязычных литературных понятий на русский язык, начатый Кантемиром в его примечаниях к переводу книги Фонтенеля… знаменовал и начало массового… теоретико-литературного просвещения, становясь важнейшим шагом на пути формирования в сознании русских читателей и широкой литературной общественности новых понятий, закладывая основы отечественной филологической мысли XVIII в.»[201].
Жанр «разговора» следует рассматривать в контексте всего творчества Антиоха Кантемира; так же как и Ф. Прокопович, автор сатир не единожды обращался к этому жанру (до нас не дошёл сделанный А. Кантемиром перевод научно-популярного сочинения итальянского писателя Франческо Альгаротти «Разговор о свете»[202]). Сама форма диалога, способы «оживления», драматургические моменты как структурообразующие компоненты жанра влияли на позднейшую эволюцию сатирического творчества А. Кантемира.
* * *
Эволюционируя, жанр «разговора» распадался на несколько разновидностей: теологические диалоги, прения, беседы создают дидактико-этическое и философское направление; сатирические и в дальнейшем служат целям осмеяния; полемически заострённые социально-политические «разговоры» образуют большой пласт памфлетно-публицистического направления (например, «Разговор в царстве умерших между Карлусом XII Королем шведским и Фридрихом Четвертым герцогом Галштино-Готторнским и Паткулем», 1720)[203]. Одним из ярких примеров «разговора» на темы воспитания, морали, обучения является «Разговор дву (так. – О.Б.) приятелей о пользе науки и училищах» В. Н. Татищева.
Актуальность и демократичность жанра «разговора» сделали его популярным в России уже в первой трети XVIII в. В. Н. Татищев не смог обойти своим вниманием жанр, столь активно пропагандируемый «учёной дружиной».
В «Духовной» Татищев сам указал, что «Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах» «чрез разговоры ж с архиепископом Новгородским Феофаном Прокопови-чем… продолжил и тебе (сыну. – О.Б.) для памяти оставил»[204]. Г. В. Плеханов глубоко проанализировал содержание татищевского «Разговора», дающего читателю «гораздо больше, нежели обещает его заглавие. Это чуть ли не целая энциклопедия. В нём излагается всё миросозерцание этого замечательного человека»[205]. Научное издание произведения с выявлением всех редакций, списков, с изложением истории издания памятника осуществлено при выходе «Избранных произведений» В. Н. Татищева под общей редакцией С. Н. Валка[206].
Продолжая многие любимые идеи раннего русского Просвещения, В. Н. Татищев не пытается «оживить» жанр, нет в его «Разговоре» и намёка на создание игровой, зрелищной ситуации, не использует он возможностей пародии, сниженной лексики и т. п. Почему? На наш взгляд, это не входило в задачу В. Н. Татищева, решившего в сугубо академической манере изложить свои общественно-политические, философское взгляды, своё отношение к науке, образованию, воспитанию, высказать свою позицию в отношении дворянства. Более того, В. Н. Татищев предлагает целую программу преобразований для российской системы обучения[207]. Строгость суждений, многочисленные цитаты, исторические параллели, логичность отличают это произведение одного из «птенцов гнезда Петрова».
М. Н. Сперанский, исследуя рукописные сборники первой половины XVIII в., пишет о существенной роли «разговоров» среди других литературных жанров[208].
* * *
Среди переводных «разговоров» на морально-этические, теологические темы[209] привлекает внимание анонимное произведение «Разговоры бывшие между двумя российскими солдатами служившихся при галерном флоте в компании 1743 года»[210]. Солдаты Симон и Яков сопоставляют кампании 1736 и 1743 гг. Большой монолог Якова о войне 1736 г. насыщен патриотическими чувствами, критикой в адрес генералов-немцев, высока оценка деятельности Петра I[211]. При этом отсутствуют какие-либо религиозные пассажи, ссылки на религиозную литературу и т. п. Жанр действительно стал демократическим, популярным; он не был строго каноническим, что способствовало его модификации, лёгкой приспособляемости.
Таким образом, жанр «разговоров» получил своё дальнейшее развитие не только в творчестве Феофана Прокоповича, А. Д. Кантемира, В. Н. Татищева, а позднее и в творчестве В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, но и в анонимной рукописной литературе первой трети XVIII в.
В петербургских и московских журналах 1750—1760-х гг. «разговоры» были очень популярны: из 75 произведений этого жанра 17 – оригинальные, остальные – переводные[212]. Среди переводных – «разговоры» Лукиана, Ксенофонта, Эсхила, Вольтера, Галлера и т. д. Особой популярностью пользовались лукиановские произведения. «Используя традиционную форму лукиановских диалогов, – пишет С. И. Софронова, – сотрудники петербургских и московских журналов создают оригинальные самостоятельные произведения этого жанра, дополняя его новыми чертами и признаками»[213].
Это суждение необходимо дополнить. Важно подчеркнуть, что несомненная заслуга формирования жанра «разговора» в русской литературе, заслуга превращения его в самостоятельный литературно-публицистический жанр принадлежит Феофану Прокоповичу, А. Д. Кантемиру, В. Н. Татищеву.
А. Сумароков, М. Херасков, В. Приклонский, В. Санковский, П. Фонвизин в прозаической и стихотворной форме во второй половине XVIII в. успешно продолжили «жизнь» жанра на страницах русских журналов, развивая традиции, используя специфику жанра для утверждения просветительских идей, для выражения своих просветительских взглядов.
Жанр, уверенно заявив о себе в XVIII в., утвердился в системе жанров русской литературы, получив своё блестящее развитие в литературе последующих столетий.
Контрольные вопросы
1. Какова жанровая специфика «разговора»? Как в нём проявляется драматургическое начало?
2. Какова история жанра «разговора»?
3. Какие жанровые черты античного «разговора» были усвоены и развиты в русской культуре?
4. Какие произведения в жанре «разговора» создал Феофан Прокопович? Каковы их тематика, структура, образы, стиль?
5. Охарактеризуйте жанр «разговора» в творчестве А. Д. Кантемира. Какую роль в развитии жанра сыграл кантемировский перевод «Разговора о множестве миров» Фонтенеля?
6. В чём жанровое своеобразие «разговора» В. Н. Татищева?
7. Как «разговоры» первой трети XVIII века повлияли на дальнейшее развитие жанра в русской литературе?
8. Какие произведения (автор, название) были созданы в жанре «разговора» в XVIII в.? В XIX в.? В ХХ в.? Постарайтесь определить, каким образом эволюционировал жанр в русской литературе, как отразилась в «разговорах» «память жанра».
4. Традиции и новаторство Феофана Прокоповича-драматурга
Феофан Прокопович был наследником и продолжателем многих культурных традиций. В «Поэтике» (книга I, глава IХ, «Подражание») он размышляет о подражании в узком смысле слова (поэтический вымысел или подражание он считает одним из основополагающих эстетических принципов), т. е. уподоблении какому-либо выдающемуся поэту (381–385). Феофан Прокопович призывает к усиленному изучению авторов, замечая, что «в особенности необходимо читать соответственно роду поэтических произведений, каким ты хочешь заняться, – того автора, который всеми наиболее прославляется в этом роде поэзии» (382).
Учиться у великих поэтов теоретик советует прилежно и тщательно, заимствуя лучшее у них, но не копируя и не повторяя их произведения «до тошноты»; рекомендует обращать особое внимание при чтении не только на возвышенность мыслей, удачный вымысел, соблюдение пристойности и другие стороны содержания, но и на форму произведения (фигуры, ритм, изящество стихов, блеск речи и т. д.). Большое значение Феофан Прокопович отводит тренировке, упражнению в деле подражания-ученичества. Он решительно выступает против чрезмерного заимствования, которое называет плагиатом. Подытоживая, мыслитель пишет: «Подражание… заключается в каком-то совпадении нашего мышления с мышлением какого-либо образцового автора» (384). Не раз наставляет Феофан Прокопович своих слушателей словами «следуй», «подражай», «посмотри», «читай», но столь же часто предостерегает от рабского, слепого копирования. Уж если имеется заимствование, то, по Феофану Прокоповичу, оно должно быть «красивее и лучше у подражателя, чем у самого автора» (384). Собственными примерами он даёт блестящие образцы творческого усвоения опыта предшественников, действительно понимая подражание как активный творческий процесс[214].
Таким образом, Феофан Прокопович первым в истории отечественной эстетики обозначил проблему литературных традиций и влияния предшествующей литературы на художника слова, подняв её на высокий по тому времени теоретический уровень. Это даёт возможность отчётливо представить, с какими требованиями подходит Феофан Прокопович к художественному произведению и его творцу.
* * *
Говоря о роли античной культуры в формировании русской литературы, П. Н. Берков считает, что этот вопрос «по ряду причин ни в дореволюционном, ни в современном советском литературоведении не был с должной серьёзностью поставлен и исследован»[215]. Хотя эти слова написаны свыше двадцати лет тому назад, своей злободневности они не утратили: проблема «античность и русская литература X–XVIII вв.» остаётся крайне слабо исследованной. Между тем данная проблема имеет не только культурологическое, но и методологическое значение.
В поисках художественных образцов Феофан Прокопович обращался к античной культуре, которая оказала на него значительное воздействие. Его философские и эстетические взгляды во многом формировались под непосредственным влиянием античных мыслителей. «Поэтика» и «Риторика» Феофана Прокоповича в современной литературоведческой мысли оцениваются как глубоко новаторские для своего времени трактаты. Они же дают исчерпывающее представление о том, насколько плодотворно, творчески теоретик усвоил и переработал античных учёных, поэтов, драматургов и, прежде всего, Аристотеля, Горация, Вергилия. Блестящий знаток античности, Феофан Прокопович писал на латыни не только учёные труды, но и стихи. Лирика Феофана Прокоповича, особенно его эпиграммы, несут на себе черты влияния античной поэзии. Три солидных тома ораторской прозы свидетельствуют о чрезвычайной эрудированности автора в области мифологии, истории, поэзии. В качестве «обжитой» традиции Феофан Прокопович унаследовал определённую систему «вхождения» элементов античной культуры в литературу (и шире – культуру) Древней Руси. Нет сомнений, что уже автору «Слова о законе и благодати» была на определённом уровне знакома античность. Многочисленными цитатами из античных философов, историков, ссылками на корифеев античной культуры пестрят страницы летописей, повестей, слов, сказаний, житий; достаточно часто переводили на Руси античных авторов – т. е. налицо определённая литературная традиция.
В упоминавшейся выше главе «Подражание» теоретик призывает всех, кто захочет писать трагедию, читать Сенеку, авторитет которого для него был очень высок (382). Сопоставление трагедий Сенеки «Агамемнон» и «Фиест» («Тиэст») с «Владимиром» убеждает, что по линии трагического Феофан Прокопович многое унаследовал у древнеримского трагика. (Первыми на связь Феофана Прокоповича с античным театром указали Н. И. Гнедич, Н. С. Тихонравов, Я. Гординский[216], но при этом сопоставительного анализа они не дали.)
Сопоставление трагедий Сенеки и пьесы «Владимир» Феофана Прокоповича показывает, что античный драматург оказал влияние на последнего на нескольких уровнях. По чисто формальным признакам можно со всей определённостью говорить о том, что образ тени Ярополка, построение монологов в первом действии явно навеяны характерным для Сенеки началом его трагедий «Фиест» и «Агамемнон».
Пьеса «Фиест» открывается словами тени Тантала:
Кто из богов подземных прочь увёл меня Из мест, где ловит рот плоды бегучие[217].Затем Фурия вступает в довольно пространный монолог с тенью. Несколько иначе строится первое действие «Агамемнона».
Покинув царство Дита беспросветное, Пришёл я, выпущен из бездны Тартара; Какой мне ненавистней мир, не ведаю[218], —говорит тень Фиеста, и далее в его же большом монологе объясняется вся предыстория событий, которые должны будут развернуться в трагедии. На монолог тени Фиеста отвечает хор микенянок. Как такового действия, словесного, через диалог, в «Агамемноне» нет, поэтому сходство между этой трагедией Сенеки и «Владимиром» заключается лишь в чисто (и то незначительном) формообразующем плане. Поэтому Я. Гординский, на наш взгляд, не совсем прав, сопоставляя «Владимира» только с трагедией «Агамемнон» и отрицая связь «Фиеста» с пьесой Феофана Прокоповича.
З бездн подземных, з огненной выхожду геенни Ярополк, братним мечем люте убиенный, Брат князя Владимира! (152) – восклицает тень Ярополка.
Отчизны кровли и богатства Аргоса Родную землю и богов отеческих вижу я[219] —говорит Фиест, но первоначальная радость свидания с отчизной тут же омрачается упоминанием имени брата, отсюда страх в душе героя: «…и снова страхами душа полна, и тело хочет вспять она увлечь»[220]. Фиест убеждён, что царство не вместит их двоих, в нём сильно предчувствие гибели.
В трагедокомедии Ярополк говорит:
Что вижду – Киев се ест… Места сия! Зде княжий престол, зде державу всероссийской области и толику славу Брат завистний содержит… (153)Однако для Яропопка «сие поле болшу скорб и позор лютейший имеет». Герой утверждает: «Увидит мя Владимир и паки убиет» (152). И Фиест, и Ярополк молят о защите богов, призывая их в свидетели злодеяний братьев, оба, отчаявшись, ропщут на «всевышних». Не только первые строки монолога, открывающего «Фиеста», но и живой, органичный диалог в трагедии сближает её с произведением Прокоповича. Образ Ярополка в трагедии выражает во многом её трагическое начало. Ярополк обуреваем страстями, всё в нём клокочет от злобы и зависти. Снедаем ненавистью и Тантал, полный страсти мщения. Коварство и жестокость Атрея в чём-то переплетаются с поведением Владимира. Правда, два брата у Сенеки жестоко мстят друг другу и совершают ужасные злодеяния, исходя из иных побуждений, нежели у Феофана Прокоповича. Атреем движет жажда мести, Владимиром же политические соображения. Философия стоицизма, присущая трагедиям Сенеки, чужда героям трагедокомедии «Владимир». Трагедии Сенеки пользовались во времена Средневековья, а затем и в XVII–XVIII вв. огромной популярностью. Сенека-трагик считался образцовым художником, ему во многих странах усиленно подражали драматурги. Эпоха классицизма весьма высоко оценила творчество Сенеки, блестящими его трагедии считал Скалигер.
Во время трёхлетнего пребывания в Риме создатель «Владимира», несомненно, познакомился со многими постановками трагедий Сенеки в Италии, читал подражателей, «с тщанием» постиг художественный опыт знаменитого римского трагика, знал оценки, данные Сенеке в поэтиках (книги I и V «Поэтики» Ю. Ц. Скалигера Феофан Прокопович активно использовал в своих теоретических трудах). Трагедии Сенеки психологичны и дидактичны. В них слишком много прозрачных намёков на Нерона. Это также сближает насыщенную психологизмом и аллюзиями пьесу Феофана Прокоповича с творениями великого римского драматурга[221].
С античной традицией, несомненно, связана и комедийная сторона пьесы Феофана Прокоповича.
Яркое комическое дарование создателя трагедокомедии, проявленное им в обрисовке характеров жрецов, было замечено ещё Н. И. Гнедичем. Отметив «говорящие» имена жрецов – Жеривол, Курояд, Пиар, – критик пишет, что они обрисованы с поистине аристофановской весёлостью и свободой. Н. И. Гнедич, первым из критиков обратившийся к «Владимиру», увидел, что для петровской эпохи сатира на жрецов злободневна. Критик подмечает, что Феофан Прокопович осмеивал их, «бросая стрелы, может быть, в современных священнослужителей, имеющих те же слабости».
Правда, политической заостренности во всем этом Н. И. Гнедич не усмотрел. О поражении приверженцев старой веры, о крушении идолов он пишет как о смешном эпизоде, наполненном «красками и даже выражениями в духе Аристофана»[222]. Сам Феофан Прокопович считал образцовыми комедии Плавта и Теренция, призывал им подражать (382).
Сплав трагедии и комедии образует смешанный род, трагедокомедию, в качестве образца которой Феофан Прокопович называет «Амфитрион» Плавта. Симпатии автора «Владимира» к этой пьесе великого римского драматурга не случайны: она написана в жанре «средней аттической комедии», которую отличает занимательность интриги, динамичность действия, разворачивающегося в обстановке частного быта, близость к формам народного театра. Морализирование в комедиях Плавта, унаследованное комедиографом от своих греческих предшественников, взгляд на театр как на средство идеологического воспитания и пропаганды также могли импонировать Прокоповичу. Однако у Плавта нет стремления как можно сложнее, многограннее воплотить сущность характера человека. В разработке характера, в изображении внутреннего мира человека Феофан Прокопович не мог что-либо заимствовать у Плавта. Другое привлекало русского драматурга в творчестве Плавта: увлекательность комической интриги, смешные до буффонады положения, в которые попадают плавтовские герои, остроумие, подчас грубоватые шутки.
Самое начало комедии Плавта «Амфитрион» носит буффонный характер: настоящий раб Сосия встречает у дома своего хозяина мнимого раба Сосию-Меркурия, между ними завязывается острая перебранка, в которой очевидной становится трусость Сосия. Непритворный страх охватывает его душу, когда он видит хитроумного Меркурия в своём обличье, когда последний издевается над ним, бьёт его[223]. Страх, все более овладевающий рабом, втянутым в игру богов Юпитера и Меркурия, движет интригой сцены, а затем во многом и всей пьесой.
Начало второго явления первого действия «Владимира» основано на комическом эффекте, создаваемом страхом, что весьма напоминает сцену перебранки в «Амфитрионе» Плавта. Жеривол страшно испугался при появлении тени Ярополка. Эта трусость тем более комична, что жрец постоянно общается с «тёмными силами», ему «повинуются духи», от его чар «солнце менится, померкают зары. День во тму облачится» (156). Страх становится завязкой сцены, способствуя дальнейшему развитию действия, но страх при этом показан в его комической модификации.
Образы жрецов Пиара и Курояда ещё в большей степени напоминают Сосию из «Амфитриона». Трусливые, совершающие под страхом угроз и побоев святотатство по отношению к своим богам (второе явление пятого действия), они думают лишь о еде и о спасении своих жизней. Феофан Прокопович нарочито снижает образы жрецов, выставляя напоказ их трусость, глупость, грубость, обжорство, ставя их в комические, даже буффонадные ситуации. Так же как Плавту, Прокоповичу-драматургу снижение давало возможность добиться разнообразных и ярких комических эффектов. Черты художественного усвоения комического через Плавта чувствуются в трагедокомедии «Владимир». Ещё одной характерной для обоих художников чертой в разработке комического является их близость к народному театру, усвоение ими традиций народной комики.
В меньшей степени, на наш взгляд, сказалось в творчестве Феофана Прокоповича влияние комедий Теренция. В сопоставлении с Плавтом (а это сопоставление при прочтении того и другого античных комедиографов напрашивалось само собой) Теренций многое терял, т. к. Плавт более демократичен, более оригинален в художественном отношении. Смех не был подлинным и единственным героем пьес Теренция. В отличие от языка плавтовских комедий, язык пьес Теренция «приглажен и причёсан», драматург не решался шокировать элиту римского общества, для которой и писал, просторечием или тем более вульгарным словом. Теренций не любил буффонады, острокомедийных ситуаций; комическое в его пьесах ближе к юмору, а социальной остроты, намёков на современность в его произведениях нет. Обычная развязка комедий Теренция – счастливая свадьба, т. к. заблудившиеся герои по натуре своей благородны, чисты, склонны к добрым поступкам. Именно так обстоят дела в комедии Теренция «Братья»: совершив дурные поступки, братья в финале комедии исправляются. Комическое во «Владимире», таким образом, в большей степени испытало на себе влияние комедий Плавта, нежели Теренция.
Влияние античного театра на Феофана Прокоповича было многоплановым, а восприятие его шло в духе новой культуры, на уровне идей, образов, архитектоники, поэтики. Теоретик русского предклассицизма стоял у истоков нового понимания самих эстетических принципов усвоения чужой культуры, утверждая эти принципы не только чисто теоретически, декларативно, но и своей художественной практикой. О влиянии античных традиций на проблематику и поэтику «разговоров» Феофана Прокоповича подробно говорилось выше (см. с. 95–97).
* * *
Проблема влияния фольклора на литературу предклассицизма сложна и во многом ещё не изучена. Заслуживает внимания вопрос о литературной жизни фольклорных произведений: как пословицы, поговорки, загадки, песни, былины, народный театр вписывались в художественный контекст русской литературы конца XVII – начала XVIII вв., как фольклор «вписался» в литературный процесс Петровской эпохи.
В связи с демократизацией литературы XVII в. роль фольклора в развитии литературы возрастает, возможно говорить о новом отношении писателей к фольклору, «…в XVII в. народная поэзия активно вторгалась в литературу… В литературные произведения входят народно-поэтические приёмы описания, даже традиционно устойчивые формулы сказок и былин»[224], что не противоречило и литературному процессу начала XVIII в. Творчество Феофана Прокоповича даёт благодатный материал для изучения данной проблемы.
При создании трагедокомедии «Владимир» Феофан Прокопович опирался и на фольклорные традиции. В своём противостоянии невежеству духовенства, в обличении пороков служителей церкви он шёл в ногу со временем, продолжив традицию русской литературы и фольклора, тем самым став у истоков русского сатирического направления вместе с А. Кантемиром. Ведь именно в традициях мировой народной комики было резко отрицательным отношение к официальному миру, особенно к представителям духовенства. А. Н. Веселовкий считал, что основа политического театра – народная, это подтверждается и такой идущей из народа традицией комического театра, как сатирические нападки на развратное и лживое духовенство[225]. В. П. Адрианова-Перетц среди прямых предшественников «тех элементов сатиры в трагедокомедии Феофана Прокоповича “Владимир”, которые сосредоточены в изображении жрецов», усматривала сочинения Аввакума и антиклерикальную сатиру второй половины XVII в.[226] В арсенале поэтики народной смеховой культуры были пародирование, передразнивание, саморазоблачительный комизм, вскрывавшие жадность, чревоугодие, ханжество, паразитизм невежественных церковников.
В разработке комического Феофан Прокопович был близок к народному театру, усвоил традиции народной комики. Комическое начало, идущее от скоморохов, балагана, театра Петрушки, самым непосредственным образом повлияло на жанр интермедии и сформировало его, но вместе с тем оказывало воздействие на комическую сторону пьес и школьного театра, прежде всего в жанре трагедокомедии. Хотя комическое во «Владимире» в большей мере результат влияния античной комедии, однако нельзя забывать о народной драме и интермедии как о факторах, влиявших на Прокоповича-драматурга. П. Н. Берков писал, что «зависимость русской комедии от народного театра гораздо глубже, органичнее и многообразнее, чем это может показаться на первый взгляд»[227]. Молодой учитель пиитики и риторики в Киево-Могилянской духовной академии, выросший на Украине, пешком прошедший Европу, несомненно, был знаком с искусством театра Петрушки, балагана, другими видами народного театра Европы. «Глубоко плодотворным, – считает Б. Н. Асеев, – явилось обращение Прокоповича к традициям народной драмы, близость к которой и придала сатирическую силу, яркость и жизненность образам жрецов»[228].
В школьной драме комический элемент обычно выносился автором в интермедии, сопровождавшие или разрывавшие пьесу. Важно при этом наблюдение О. А. Державиной, что интермедия постепенно приобретает сатирическое звучание, «как самостоятельная сатирическая и пародийная пьеса, она была широко распространена в русском народном театре и городском демократическом театре начала XVIII в. Очень часто интермедия использовалась с дидактической цепью в школьной драме»[229].
Композиция и структура драматического сюжета «Владимира» дают возможность отчётливо представить тесную и ещё довольно органичную связь комически-фарсовых сцен (1-е, 2-е, 3-е явления второго действия и 1-е, 2-е явления пятого действия) с интермедиями раннего русского театра. Указанные явления строятся во многом по типу интермедий. Так, в самом начале второго действия слышатся отзвуки народных игрищ и приёмов, характерных для интермедий. Жрец Курояд весёлой песней сзывает людей на праздник Перуна, что так перекликается с началом представлений народного театра:
Слышете празнична рога! День прийде Перуна бога. День шумний, бурний, ужасний, празник громний, велегласний. Слышете, рустии люди! Домы, орудия, труды, Торгы, купля оставете. Спешно на празник идете! Воли, кравы избирайте, толстии жертвы давайте! Он есть бог молниелучний, любит мяса зело тучны (160) (и т. д.) Феофан Прокопович. «Владимир» Кто тут спрашивал подовых, господа честные Вот у меня куды хорошие какие! (и т. д.)[230] Интермедия «Маркитант и ставленник»Или:
О, мои детушки бажоные!.. О, мои кормильчики рожоные! Нутетко, начните играть, Повеселите меня, старичка, да и мать[231]. Интермедия «Дьячок и сыновья»Во «Владимире» второе явление второго действия живо напоминает типичную сценку спора-перебранки в диалогических интермедиях (кстати, этот же приём Феофан Прокопович применит много позже в своих «Разговорах…»). Однако ограничивать палитру комического во «Владимире» только интермедиальным опытом русского театра, а через него пытаться связать школьную драму с народным театром было бы, на наш взгляд, не совсем верно. Это значит обеднить талант драматурга, создавшего, по общему признанию исследователей, несомненно лучшую пьесу в литературе первой трети XVIII в.
Феофан Прокопович знал о культуре скоморохов и по долгу своей службы, и как свидетель одного из исчезавших пластов русского смеха. (Исследователи скоморошества выявили многочисленные свидетельства, документы, указы о скоморохах в XVII в., последний из них – указ патриарха Иоакима от 1684 г., следовательно, народная память о скоморохах, остатки их культуры тревожили официальные круги ещё долго после запрета «глумцов», «сквернословцов», «кощунников» – так называли скоморохов многие памятники Древней Руси[232].) Образы жрецов во «Владимире» выстроены в соответствии с поэтикой и древнерусской смеховой культуры. Слияние грубой физической силы, жизнерадостности, граничащей с чисто физиологическими запросами, и сатирическое обличение пороков – одна из ипостасей фольклора. Методологически важной является мысль А. М. Панченко о смене самого типа русского смеха в XVII в., когда «осмеивался не только объект, но и субъект повествования, ирония превращалась в автоиронию, она распространялась и на читателей, и на автора, смех был направлен на самого смеющегося. Это был “смех над самим собой”»[233].
Используя травестийное начало, Феофан Прокопович рисует яркие, колоритные образы жрецов Курояда, Пиара, Жеривола. В уже упоминавшейся сцене перебранки Пиар и Курояд разоблачают самих себя. Пиар, зная о некоей «скорби» Жеривола, уговаривает Курояда перестать петь и сзывать народ на праздник. Курояд же никак не может взять в толк, почему ненасытный Жеривол не готов к «жрому жертв». С почтением и завистью к верховному жрецу Курояд вспоминает, что видел Жеривола,
когда напитанний Многимы он жертвамы лежаше во хладе, а чрево его бяше превеликой кладе Подобное; обаче в ситости толикой знамение бе глада и алчбы великой: Скрежеташе зубамы, на мнозе без мери движи уста и гортань. (161–162)Дополняет портрет Жеривола реплика Пиара в первом явлении пятого действия:
Впаде (после крушения кумиров, – О.Б.) во премногу Болезнь от скорбей многих и едва возможет убежати от смерти… …он единаго токмо пожирает Бика за день. (196)Обжорство, прелюбодеяние, жадность, грубость – вот далеко не полный перечень пороков, так зло и метко выявленных драматургом в образах жрецов. Вместе с тем Феофан Прокопович далёк от деклараций: художник запечатлел жрецов в живых, запоминающихся сценах, наполненных иронией, сарказмом, гиперболой, гротеском, – словом, почти вся палитра комического живописует мир грубой плоти. Говоря об идеалах смехового мира, А. М. Панченко писал, что «они ничуть не похожи на христианские. Здесь никто не думает о царстве небесном. Здесь мечтают о стране, где всего вдоволь и все доступно»[234]. Жрецам весть о принятии Владимиром христианства знаменовала реальную угрозу их земному раю, угрозу их довольству и сытости, поэтому понятна ярость их нападок на Философа, призывающего свергнуть идолов и утвердить на Руси веру Христову, понятна ненависть Жеривола к Владимиру, вероотступнику, с точки зрения язычников.
Они, бесспорно, переживают трагедию, но она дана драматургом в фарсовом, трагикомедийном духе. Осложняется комический пласт в пьесе наличием аллюзий: Феофан Прокопович придаёт своему смеху политическую окраску, его сатира имеет ярко выраженную социальную направленность: вся сила обличения направлена на современные драматургу невежественные, реакционные духовенство и боярство, занявшие ту же непреклонную позицию по отношению к реформам Петра I, что и жрецы к преобразованиям Владимира I. Однако, будучи служителем церкви, Феофан Прокопович тем самым огонь своей сатиры в определённой степени направляет не только на объект, но и на субъект повествования, т. е. это – «смех над самим собой», столь свойственный древнерусской смеховой стихии, в том числе и культуре скоморохов. Д. С. Лихачев писал, что «древнерусская смеховая стихия пережила Древнюю Русь и отчасти проникла в XVIII и XIX вв.», при этом характерно, что «искусственное убыстрение культурного развития при Петре I способствовало тому, что многие характерные черты Древней Руси сохранили свою значимость для XVIII и XIX вв., – тип смеха в их числе»[235].
Скоморохи пародировали служителей культа, часто использовали ритуалы язычества: колдовство, волхвование, ритуальное веселье и т. п., все исследователи культуры скоморохов указывают на тесную связь скоморохов с язычеством. «Скоморохи поддерживали в народе антицерковные настроения»[236]. Характеризуя культуру, бытование скоморохов, А. С. Фаминцын отмечает в их поведении ругань, пьянство, грабежи, часто их приход в деревню напоминал набег[237]. На наш взгляд, драматург, воссоздавая далёкое прошлое времён язычества и незнакомую ему атмосферу быта жрецов, опирался на сохранившиеся свидетельства из жизни и быта скоморохов. Вполне возможно, что даже сам Феофан Прокопович ещё застал остатки этой запретной сферы русской жизни. Конечно, Феофан Прокопович оставался при этом сторонником официальной точки зрения на скоморохов, но именно они помогли ему так живо и занимательно, а главное – в общем-то и верно – воссоздать атмосферу язычества, т. к. только культура скоморохов на начало XVIII в. сохранила в себе крупицы быта и сознания той далёкой поры.
В пьесе верховный жрец Жеривол грозится отомстить великому князю за смерть Ярополка:
Не могу се слишати, но отмстити мушу! О бозы, помозете! Аще мои песны Силни сут и могут что, да пройдут в безвестны места, в дебри, в пещеры, в рекы, в бездны, в гробы, В глубокия великой матеры утробы. Подвигну мертвих, адских, воздушних и водних Соберу духов, к тому зверей многородных созову купно, прийдут змии страховидни, Гади, смоки, полозы, скорпии, ехидны; совлеку солнце з неба, помрачу светила, День в нощ претворю: яве буде моя сила. (159–160)Отзвуки волшебной сказки слышатся в проклятиях и угрозах Жеривола, тем более что в 3-м, 4-м, 5-м явлениях второго действия действительно появляются потусторонние силы, вызванные на помощь жрецом: Бес мира, Бес хули, Бес тела. Пародируя приемы фольклора, драматург глумится над жрецами и бесами, их усилия оказываются тщетными: Владимир после долгих раздумий и сомнений всё же решается на перемены. В пятом действии Мечислав и Храбрий силою заставляют самих же жрецов крушить идолов.
Решая проблему сатирического и комического изображения противников реформы, Феофан Прокопович обратился к дающему большие возможности источнику – нелитературному, т. е. к сниженной, часто просторечной, иногда с использованием жаргонизмов части русского народного языка. Истоки этого нужно искать в русской демократической сатире, в народном театре. В. Д. Кузьмина писала о связи русской рукописной драматургии XVIII в. со скоморошьей традицией на уровне поэтики и стиля[238]. «Разнообразные интермедии (= интерлюдии) открывали доступ на школьную сцену элементам устной народной драмы, как и рукописная драматургия демократического театра; школьные интермедии были предшественниками национальной бытовой комедии»[239].
Второе действие заканчивается пляскою, жрецы уверены в своём торжестве, Пиар радостно заявляет: «Нам прилично еще пред победою пети краснолично» (170). Жеривол приглашает для участия в «скакании» богов. Характерна ремарка: «Идолы со жрецами, поющими песнь, скачут» (170). Сравним с отрывком из грамоты в Белгород с текстом «первого» царского указа 1648 г. о скоморохах: «…а об Рождестве Христове и до Богоявленьева дня сходятся мужесково и женсково полу многие люди в бесовское сонмище по дьявольской прелести (не отсюда ли название женского образа Прелести в пьесе? – О.Б.), многое бесовское действо играют во всякий бесовские игры…»[240].
Таким образом, наследуя скоморохам, Феофан Прокопович шёл от противного: официальная церковь пыталась как можно быстрее размежеваться с остатками язычества, скоморошества, для чего издавались царские и патриаршеские указы, усиливались (особенно во второй половине XVII в.) репрессии по искоренению этих остатков, а драматург сатирически высмеивал не столько канувшее в Лету, сколько современные ему обскурантизм и невежество, смыкая эти разновременные и как будто бы вообще разные явления, ставя их на один уровень. В этом проявился национальный, идущий от эпохи Ренессанса, чисто просветительский подход будущего сподвижника и идеолога Петра Великого к оценке событий. «Коль скоро упразднён средневековый культурный запрет на смех, – пишет А. М. Панченко, – то закономерно эмансипируется комизм. Сначала он воплощается в “развлекательных” интермедиях и интерлюдиях, но очень быстро преобразуется в сатиру. Следствием “реформы веселья” было творчество Антиоха Кантемира»[241]. Этому быстрому преобразованию, несомненно, способствовало творчество Феофана Прокоповича, явившегося «буфером», переходным моментом в русской культуре, общественной мысли, но эта переходность не означала отсутствия своей системы ценностных установок. В этом нам и видится заслуга предклассицизма.
Нельзя снимать вопрос о возможном знакомстве Феофана Прокоповича с фольклорными жанрами, посвящёнными князю Владимиру, ибо в начале XVIII в. фольклорные, библейские, мифологические и т. п. сюжеты входили в число равноправных исторических источников при создании произведений.
В разработке образа Владимира несомненна опора Феофана Прокоповича и на «фольклорного» Владимира. Что же представляет собою Владимир в русском фольклоре?
В. Я. Пропп считает, что «идеализированный Владимир русского эпоса есть явление закономерное», при этом «высокий образ Владимира – более древний образ, сниженный образ принадлежит более поздним векам обостренной классовой борьбы»[242].
Народная память зафиксировала в русском героическом эпосе заслуги этого великого исторического деятеля перед Русью, связывая с его именем период расцвета и могущества нашей Отчизны. Все без исключения былины так называемого Владимирова цикла рисуют князя в суперлативных тонах, подчёркивая его патриотизм, мудрость, силу, награждая устойчивыми словосочетаниями, эпитетами: «славный князь Владимир стольнокиевский», «сударь ласковый Владимир-князь», «свет Владимир красно солнышко», «Володимир-князь земли святорусския» и т. п.[243]. Б. Н. Путилов пишет, что наряду с идеализацией князя «отношение творцов эпоса к нему достаточно противоречиво», «в его характеристику постоянно входит указание на слабость его как правителя и нравственную нестойкость», «беспомощный правитель, Владимир трусоват, а моментами и жалок». «Несомненно, – считает исследователь, – что в былинном Владимире нашли отражение исторические реалии, связанные с личностью Владимира Святославича и с другими князьями, носившими имя Владимир, но они подвергались эпической обработке в духе общей исторической концепции эпоса и в переосмысленном виде нашли себе место в типовой характеристике»[244].
Точка зрения В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова на былинного князя Владимира не является общепринятой, были и есть другие, часто противоположные суждения об этом герое. К. С. Аксаков характеризует князя Владимира радушным, ласковым хозяином земли Русской. Окружённый гостями и богатырями, пришедшими со всех сторон русской земли, он соединяет их всех около себя, радует всех приветом и праздником. Именно таким Владимир «живо остался в памяти и песнях народных с постоянным эпитетом своим «красное солнце», в котором выражается благотворное и вместе с тем всерусское значение великого князя Владимира»[245]. Праздничный, светлый мир былин Владимирова цикла, по К. С. Аксакову, – это «целый сказочный мир той эпохи», «это хоровод, движущийся согласно и стройно, – праздничный, полный веселья, образ русской общины». Но и образ князя, и «этот пир, как и вся жизнь, имеет критическую основу», «святое крещение, принятое великим князем Владимиром… вытеснило из памяти народной прежнюю языческую жизнь его»[246]. Правда, учёный не может не признать, что Владимир в песнях не одарён богатырской силой, не имеет даже храбрости, часто смущается и пугается перед бедою, но оправданием ему служат добродушие, привет и ласка – «неотъемлемые качества князя-христианина, живущего в мире праздника, счастья, любви и уважения[247].
Более ёмкую и не столь тенденциозную характеристику фольклорному Владимиру дал в своём исследовании Ф. И. Буслаев. Собиратель русской земли, ласковый князь, пирующий с богатырями и посылающий их на подвиги, политический деятель, умеющий ценить людей и выбирать достойных в своё окружение; человек, не лишённый ошибок, недостатков, – вот, пожалуй, и всё, что сообщает фольклор о характере Владимира. «Исторический идеал самого князя Владимира в народном эпосе мало выработался, – считает Ф. И. Буслаев, – не развился разнообразием подвигов и очертаний характера несмотря на то, что имя его так часто упоминается в богатырских былинах… Кажется, в самых интересах народного эпоса не имелось задачи дать князю Владимиру более яркий и глубокий характер… Для Владимира достаточно было его княжеского ореола, которым он постоянно выступает из толпы пирующих»[248]. Народная фантазия изображает Владимира «даже скорее язычником, нежели равноапостольным князем, которого чествует в нём позднейшая книжная легенда», – полемизирует с К. С. Аксаковым исследователь. Да и самый эпитет «красное солнышко», по мыс ли Ф. И. Буслаева, имеет куда более внутренний, глубинный смысл, определяемый народным верованием, т. к. данный эпитет указывает на изменение в знаковой системе, выражаясь современным термином, народной фантазии: вместо языческого Даждьбога или Сварога, божества солнца, народная мысль увидела в новой светской власти новую историческую силу, «в которой, однако, ещё чуялось ей обаяние старого верования в красно-солнышко»[249].
Л. Н. Майков подчёркивает, что только «в отсутствие богатырей-дружинников князь представляется в былинах бессильным, робким, трусливым», «однако участие Владимира в событиях, изображённых в былинах его цикла, настолько значительно и постоянно, что невозможно предположить вымысел большей части былинных сказаний помимо или раньше создания срединного лица»[250]. Л. Н. Майков оправдывает статичность образа князя в былинах его княжеским положением: совершают действия, поступки те, кому это положено, т. е. подлинные герои былин – богатыри. Принципиально ещё одно наблюдение исследователя: былина никогда не описывает жизни героев в биографической последовательности, воспроизводя в фольклорном духе несколько событий из жизни богатыря, «поэтому былинам редко удаётся представить всестороннее изображение характера отдельной личности, но зато они очень определённо воспроизводят общие типические свойства богатырей дружинников»[251].
В. П. Аникин считает, что князь Владимир в былинах «предстаёт не только как глава могучей Киевской державы, но и как представитель корыстного класса господ, превыше всего ставивший свои личные интересы, даже если они ослабляли силу Киевского государства»[252]. В былине о Сухмане «великий киевский князь изображён властным, поспешным в решениях господином», за деспотизм и коварство осуждён Владимир в былине о Даниле Ловчанине[253]. «Высоко ставя положение киевского князя, – пишет учёный, – былины, однако, не сделали князя Владимира главным героем эпоса»[254]. Всё это делает образ противоречивым, сложным, «великая княжеская вина в том, что власть стольного князя употреблялась во вред народу»[255].
Ю. И. Юдин пишет о злом, вероломном, жестоком, но сильном характере Владимира[256].
Полемизируя с В. Ф. Миллером, А. П. Скафтымовым, Д. С. Лихачёвым в оценке былинного Владимира как «тусклой», «бесцветной» фигуры, «пассивного персонажа», Ф. М. Селиванов пишет, что «этот образ очень колоритен в своей объективной противоречивости, причины которой коренятся в общественных отношениях эпохи Киевской Руси и усиливаются с обострением классовой борьбы»[257]. Важно слово князя, им «начинается движение сюжета во многих былинах», «за словом князя Владимира стоит сила – сила власти в её эпическом понимании». Наряду с жестокостью, заносчивостью и другими пороками князь в былинах (например, «Молодость Чурилы») и справедлив, и по-государственному мудр, умеет признавать и исправлять свои ошибки[258].
На наш взгляд, «поздний» «фольклорный» Владимир не очень импонировал Феофану Прокоповичу, который вполне мог уловить определённую тенденциозность авторов поздних вариантов[259]. Совсем (или почти совсем) проигнорировал драматург житийного Владимира, настолько тот и в полном, и в проложном житиях изображён вяло, блекло, статично; герой жития – лишь святой. Летописный же вариант был серьёзнейшим образом учтён, изучен Феофаном Прокоповичем. Летопись стала и сюжетообразующим, и во многом художественным, и историческим источником пьесы[260]. Но вместе с тем столь ёмкий, сложный характер, каким является Владимир в трагедокомедии, Феофан Прокопович не смог бы создать, не учитывая фольклорную разработку образа великого киевского князя. Летописный Владимир всё-таки не представляет собой монолита, образ раздвоен: летописец-христианин провёл чёткую грань между Владимиром-язычником и князем-первокрестителем. Владимир до 988 г. – язычник, женолюб, воин; после крещения, под явным влиянием житийной литературы, под давлением церкви образ теряет свою живость, жизненность, конкретику. «Уже в эпоху становления Повести (т. е. в начале XII в.) историческая личность Владимира Святославича вошла в народный эпос и даже отчасти на основании его была изображена летописцем»[261]. В фольклоре о язычнике Владимире вообще нет упоминаний, «религия лиц, действующих в былинах, – пишет Л. Н. Майков, – христианская, но рядом с истинно христианскими верованиями и обрядами у них много суеверий и обычаев, связанных с древними верованиями языческими»[262]. Отстоявшийся, выверенный народной мудростью образ Владимира в фольклоре представлен полнее и человечнее, нежели в летописи, в народной памяти он един, поэтому живой былинный образ мог подсказать многое Феофану Прокоповичу в разработке его героя. И как бы ни относился Феофан-теоретик к фольклору (а по сути дела нет в его трудах ничего касательно устного народного творчества), он вынужден был считаться с народным Владимиром. Ведь и в пьесе образ един, несмотря на то что герой изображается в самый критический момент его жизни и политической борьбы. Он страдает, мучается, гневается, полон сомнений, но это один характер, единый человек, черно-белые тона не употребил драматург при обрисовке образа (что так свойственно было поэтике древнерусской литературы и поэтике классицизма при всем своеобразии их).
Феофан Прокопович использовал, хотя и достаточно скромно, поэтику фольклора – на уровне пословиц, поговорок, фольклорных формул и ситуаций. Так, например, во второй монолог Ярополка очень естественно входит совершенно отсутствующий в летописи фольклорный мотив – троекратное предупреждение о надвигающейся опасности: конь споткнулся три раза, «три крати вран прилете черний, третий час дне три крати нарекох вечерний» (159).
В трудных случаях «духовной брани» князь Владимир не случайно обращается к народной мудрости, лежащей в основе пословиц, поговорок. «Дим ест един – людская и хула и слава» (190), «До смерти (обще гласит слово) всяк человек учится» (190), «Мзди без труда никто не имеет» (191), – это не только отсылка читателей, зрителей к фольклору как некоему авторитету, недаром в одной из пословиц имеется внутренняя ремарка – «обще гласит слово», но в данном случае употребление фольклоризмов психологически мотивировано драматургом. Владимир не может оперировать, как это делает греческий посол Философ, научными категориями, библеизмами и т. п. «Доселе бех невежа, и невежи бяху князы праотцы мои» (189). Поэтому обращение к народной мудрости, может быть, как к высшему авторитету (Владимир не имеет образования) рисует ещё одну грань характера князя-первокрестителя: в его арсенале просто нет другой интеллектуальной опоры.
Кроме того, применением пословиц и поговорок драматург достигал большей выразительности речи героев.
Художественные пространство и время также разрабатываются драматургом с частичной опорой на фольклорные традиции[263].
Наконец, фольклорное начало сказалось не только в словесной ткани пьесы, но и в танцах, музыке, хоре Прелести (170, 192–193). По ремаркам трудно судить о степени приближения танцев к народной хореографии, но, видимо, это был достаточно безыскусный танец того времени. В песне же Прелести налицо попытка тонизации стиха, его облегчения.
«Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным» и «Разговор тектона, си есть древодела, с купцем» Феофана Прокоповича обнаруживают определённое родство с народной сатирой, с театром балагана: введение сниженной лексики, грубоватой шутки, сцен-перебранок. Комический эффект, достигаемый этими средствами, генетически восходит к народной комике.
Феофан Прокопович, таким образом, как бы дал направление всей политике предклассицизма в отношении фольклора: он не отвергал решительно устного народного творчества, но при этом некоторое предубеждение учёного монаха к творчеству народных масс было. В самом раннем произведении Феофана Прокоповича – трагедокомедии «Владимир» – прорывается вопреки этому фольклорная стихия, русская народная смеховая культура.
* * *
Вопрос об отношений русской культуры нового времени к культуре Древней Руси поставил академик Д. С. Лихачёв, видя его решение прежде всего в том, «как памятники культуры Древней Руси конкретно отражались в новой русской культуре»[264].
Трагедокомедия «Владимир» – интересный пример влияния древнерусской литературы на художника нового времени.
Литература Древней Руси сыграла существенную роль в творчестве Феофана Прокоповича[265]. Он прекрасно знал конфессиональную и светскую предшествующую литературу. Петровские реформы обусловили значительные изменения в общественном сознании: передовые представители русского общества всё чаще стали обращаться к отечественной и «иноземной» истории. С накоплением исторических знаний и их осмыслением становилось всё более глубоким постижение настоящего. Сподвижники Петра понимали значимость преобразований, важность дел Петровых[266]. Естественно встала задача сопоставления, разыскания аналогий в отечественной истории. Логически закономерной в русской общественной мысли оказалась аналогия Владимир I – Петр I.
В разработке образа киевского князя-первокрестителя, весьма популярного на Руси, имелась в древнерусской литературе определённая традиция. В летописях, проповедях, поучениях, житийной литературе очень часто русские авторы обращались к образу Владимира, к эпохе крещения Руси.
Аллюзионное прочтение пьесы Феофана Прокоповича опиралось на уходящую в глубь веков, ставшую литературным трафаретом схему – сопоставление правящего государя с Владимиром. Восходит данная традиция к «Слову о законе и благодати», замечательному памятнику торжественного ораторского искусства первой половины XI в. Академик И. Н. Жданов установил, что сопоставление в «Слове о законе и благодати» Владимира Святославича с Константином Великим и тут же Владимира с Ярославом, современником автора, становится своеобразной формулой, которую активно эксплуатировали многочисленные позднейшие писатели. «Сопоставление Ярослава и Владимира, – пишет И. Н. Жданов, – основывалось на создании внутреннего единства между деятельностью одного и другого… Деятельность Ярослава только довершала то, основание чего положено было ещё Владимиром»[267]. Данная формула (и шире – всё «Слово о законе и благодати») стала образцом для подражания: в Ипатьевской летописи, в Палее, «Истории о Казанском царстве», в «Просветителе» И. Волоцкого, в многочисленных житиях о Владимире и других произведениях древнерусской литературы разнообразно использовался памятник, многие места которого со временем стали шаблонами[268].
В старопечатных предисловиях и послесловиях характернейшим структурным элементом является упоминание о предках, сопоставление деяний правящего государя с его предшественниками, «Особенно часто при этом, – пишет А. С. Елеонская, – упоминается киевский князь Владимир, выступающий то как духовный, то как кровный предок нынешних царей»[269]. Авторы предисловий и послесловий «Апостола», «Евангелия», «Трефологиона», «Триоди цветной» и многих других старопечатных изданий XVI–XVII вв. часто обращались к имени Владимира Святославича при сопоставлении прошлого с настоящим: так был велик авторитет этого князя у древнерусских людей[270]. Таким образом, на протяжении всего своего развития древнерусская литература поддерживала культ Владимира I, что стало традицией государственного значения, выполнением своеобразного идеологического заказа.
Феофан Прокопович, тонкий художник и знаток литературы Древней Руси, при выборе темы для своего первого творения и при разработке образа главного героя учитывал имеющуюся традицию, хотя привнёс в пьесу и немало новаторского.
Г. Н. Моисеева и В. А. Бочкарёв поставили проблему исторических источников «Владимира»: исследователи единодушны во мнении, что создатель трагедокомедии использовал в качестве основного исторического источника летопись «Повесть временных лет»[271]. Однако каков характер и метод трансформации и эстетического переосмысления данного первоисточника? Сопоставление пьесы с «Повестью временных лет» убеждает, что драматург черпал из летописи не только основные исторические сведения. Характер использования летописного материала в пьесе многообразен. Оттолкнувшись подчас от нескольких летописных строк, Прокопович создаёт яркую, живую картину напряжённой борьбы князя Владимира за принятие христианства.
Автор художественного произведения нашёл в летописи ту драматическую ситуацию, которая вполне отвечала его идейному замыслу. В каждом действии «Владимира» имеются такие узловые моменты, организующим центром которых стала та или иная ситуация из летописи. Часто композиция летописного рассказа, его форма подсказывали Феофану Прокоповичу сам способ организации явления, действия. Многие места в пьесе почти аналогичны летописным, т. е. летопись становилась формообразующей основой трагедокомедии.
Наконец, может быть, главное: авторитет «Повести временных лет», давшей толчок творческой мысли Прокоповича, был для него чрезвычайно велик не только с фактической, но и с художественной стороны, поэтому можно говорить об определённом эффекте эстетического воздействия летописного произведения на художественную природу искусства, в данном случае – драматургического[272].
Широта интересов Феофана Прокоповича, характерные для него глубина и тщательность в изучении всех проблем, за разрешение которых он брался, позволяют говорить о том, что при постижении эпохи крещения Руси и разработке образа Владимира драматург не ограничился изучением одного-двух источников, не следовал лишь летописной традиции.
Феофан обладал одной из самых богатых библиотек в России того времени[273], на протяжении всей жизни он изучал русскую историю, недаром В. Н. Татищев свидетельствовал, что Прокопович проявил «в испытании древностей великое тщание»[274]. «Исторические знания в период реформы, – пишет С. Л. Пештич, – получили не только более широкое распространение по сравнению с XVII в., но… стали играть самую активную роль в дипломатии, в законодательстве, в литературе (трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир») и т. д.»[275]. Активно формируется новый тип исторического мышления у русских людей переходного периода[276]. Осмысление настоящего требовало знания прошлого. Феофан Прокопович, выполняя социальный заказ Петра I, пишет ряд историко-политических трудов, апологируя реформы, защищая «право просвещения от глухой, но упорной вражды старого застоя»[277]. Часто Феофан-историк в качестве доказательств использует примеры из отечественной истории, в том числе из эпохи крещения Руси. «Слово о равноапостольном князе Владимире», другие «слова», «речи» и трактаты (например, «Предисловие к доброхотному читателю», сопровождающее «Устав морской») и т. д. свидетельствуют о блестящем знании Прокоповичем той далёкой эпохи, о ставшем для него закономерным сопоставлении Владимира I и Петра I, той реформы и происходящих преобразований. При этом деятельность Петра мыслится Феофаном как логическое продолжение деяний Владимира, Ярослава, Александра Невского. Но особенно выделял глава «учёной дружины» эпоху крещения Руси как предвосхищение преобразовательной политики Петра. Всё это в полной мере имеет место уже в пьесе, следовательно, мыслитель и художник находился в русле традиционного понимания и воплощения эпохи, вместе с тем вводя систему аллюзий.
В древнерусской письменности богато представлена житийная литература о Владимире, которую по долгу своей деятельности – профессор Киево-Могилянской духовной академии – Прокопович знал. Сказались ли традиции житийной литературы в пьесе? Острый ум Феофана, его скептическое отношение к чудесам, святым мощам и прочим атрибутам церкви позволяют предположить, что он видел слабость жития как исторического источника. Более того, создатель «Владимира» при сопоставлении мог обнаружить, что все жития о первокрестителе восходят в своём первоисточнике всё к той же летописи. Не мог Феофан Прокопович пропустить такое признание автора южнорусского жития о Владимире – «выбрано з летописца русскага, преподобнаго отца Нестора Печерскаго»[278].
А. И. Соболевский установил, что «летопись в рассказе о Владимире сообщает о нём гораздо больше, чем житие… Летопись – источник жития»[279].
Тенденциозность жития в создании образа святого также несомненно была ясна Прокоповичу. В. О. Ключевский, изучив жития как исторический источник, выявил специфическую черту жанра: идеализация святого, воспроизведение лишь выгодных для автора отдельных моментов жизни, игнорирование будничного, противоречивого[280].
В пьесе не выявляется сколько-нибудь заметное влияние житий о Владимире, однако в создании образов Бориса и Глеба художник опирался на богатую агиографическую литературу, посвящённую младшим сыновьям князя-реформатора.
Из двенадцати сыновей Владимира, о которых сообщает летопись, в трагедокомедии действуют лишь Борис и Глеб. Об их участии в акте крещения не упоминают ни летопись, ни «Сказание о Борисе и Глебе», ни одно из житий. В «Повести временных лет» говорится, что Владимир посадил княжить Бориса в Ростове, Глеба – в Муроме. Вновь внимание летописца они обращают на себя уже после 1015 г.[281]. Как известно, авторитет первых русских святых Бориса и Глеба в сознании человека Древней Руси был огромен, им была посвящена значительная литература. Это способствовало исключительности братьев; как образцовые христиане и князья, они как бы становятся продолжателями дела отца. Имена Владимир, Борис и Глеб (именно в такой последовательности и как некая триада) тесно удерживаются в сознании людей на протяжении веков и активно закрепляются конфессиональной литературой: популярное «Чтение о Борисе и Глебе» и т. д. По сути дела, Феофан-драматург, нарушивший летописную правду и произвольно соединивший Владимира, Бориса и Глеба в сцене принятия веры, психологически совершенно точен и прав. Здесь он следует в русле традиционного религиозного сознания, не противореча утвердившемуся восприятию эпохи.
В пьесе Борис и Глеб появляются и активно действуют в третьем и четвёртом действиях. Они любят и почитают отца, подают ему советы только с его разрешения. Герои разумны и единодушны в своих помыслах и поступках, что по достоинству оценивается Владимиром. «Аки би едино сердце имамы, Глебе!» – восклицает князь, радуясь умному совету сына (171). Борису и Глебу сразу же в душу запала «греческая вера», но они не смеют торопить отца, а лишь убеждают его выслушать «не спешно» Философа и «помыслить». И хотя они внутренне совершенно приняли сторону греческого посла, но, услышав о сомнениях в душе Владимира, вновь выражают полное послушание воле отца. «Мы, отче, – говорит Глеб, – веления от твоей державы ожидаем» (188). «Непременно согласие наше ест; ниже кров сродственна тако нас вяжет, яко вера божественна» (188), – в унисон брату заявляет Борис. В хоре апостола Андрея, используя иной временной пласт – будущее время (монолог апостола дан в виде предсказания), – драматург употребляет традиционную религиозную символику, чисто агиографическую метафору: «Се ти мученической кровы растут рожы: Борис, Глеб, ветвы святи корене святого. Люте! Уже мещет бес брата проклятаго, уже, вижу, копие и нож поощряет!» (203). В духе агиографии, в традициях всей русской церковной литературы изображены эти два героя пьесы. Представление о том, что Борис и Глеб во время принятия христианства не могли не находиться у его истоков, в конечном счёте повлияв на решение своего отца, жило в русском человеке. Это учёл Феофан Прокопович, это, видимо, входило в сверхзадачу драматурга при отборе действующих лиц.
Мы говорили выше о связи Феофана-драматурга с античным театром. Однако и по линии комического, и по линии трагического более плодотворными были у Прокоповича связи с древнерусской культурой.
Противоречивый, сильный характер князя Владимира создавался Ф. Прокоповичем с ориентацией прежде всего на летопись. Именно в «Повести временных лет» художник увидел Владимира и страстным женолюбцем, и гордым князем, победителем в многочисленных сражениях, и язычником, и человеком, принявшим после «испытания вер» христианство. Но и в летописи не всё удовлетворило Прокоповича: по летописи и агиографической литературе, Владимир пришёл к необходимости принятия христианства через озарение, чудо, т. е. чисто религиозным путём. В пьесе дело обстоит иначе. Сопоставление «Владимира» со «Словом о законе и благодати» показывает, что здесь Феофан Прокопович в большей мере испытал влияние данного памятника. И. Н. Жданов пишет, что Владимир крестился, по «Слову о законе и благодати», не в силу каких-либо чудес, а по своему разумению[282]. Автор древнейшего памятника обращает внимание на «благой смысл», «остроумие» Владимира, сам князь понял и принял христианское учение. Сам «он слыша вожделе сердцем, возгоре духом», сам «отрясе прах неверия и влезе в святую купель»[283].
В пьесе многократно подчёркивается этот же мотив: в беседе с Философом, в разговорах с детьми говорится о необходимости «помыслить», «уразуметь» и т. п. Владимир долго и мучительно приходит к пониманию пользы реформы, драматург психологически точно сумел передать чувства, обуревавшие гордого князя (второе явление четвёртого действия). В третьем явлении пятого действия, из послания самого Владимира становится известно, что он «внийдох в святую купель» (202).
Вместе с тем образ Владимира типологически соответствует тому идеалу, который выдвинула драматургия начала XVIII в., но в разработке главного героя есть отзвуки и ранней русской драматургии. Так, в пьесе подчёркивается высокомерие, гордость и величие князя (см. монолог Ярополка – первое, второе явления первого действия). Драматург продолжает традицию изображения монарха, которая наблюдалась в таких пьесах, как «Артаксерксово действо», «Иудифь». Сближает названные пьесы с трагедокомедией и сам способ «подачи» главного героя. Феофан даёт первичную характеристику Владимиру через монолог Ярополка, то же и в «Артаксерксовом действе»: Мемухан, канцлер Артаксеркса, также первично характеризует своего монарха[284]. В обеих характеристиках много говорится о блистании очей, величии государей, об их огромной власти и т. п.
Столкновение Владимира с лагерем жрецов придаёт пьесе остроконфликтный характер. Тема обличения невежественного духовенства являлась традиционной в древнерусской литературе. С. Полоцкий резко бичевал корыстолюбие и безнравственность церковников в цикле «Монах» из «Вертограда многоцветного»[285].
В отличие от Симеона Полоцкого, критика Феофана Прокоповича носила не морализующий, а остросатирический характер. Это была социальная сатира, аллюзионно метившая в стан противников Петра – бояр и духовенства. Комическое в пьесе формируется под непосредственным влиянием народной драмы, интермедии. Ранний русский театр не был жанрово аморфным. Комический элемент был принадлежностью не только интермедии, но вносился и в пьесы. Возможность смешения серьёзного и смешного, высокого и низкого прокладывала путь новому жанрообразованию – трагедокомедии.
Основа русского средневекового искусства – контраст – играет чрезвычайно важную роль в пьесе Феофана Прокоповича. Христианство – язычество; Философ (и принимающие его веру Владимир, Борис и Глеб, Мечислав, Храбрий) – жрецы (и помогающие им бесы); свет – тьма – вот основополагающие на идейном и художественном уровнях противопоставления «Владимира». Пляски, заклинания, песни жрецов, хор Прелести являются проявлением бесовского начала; его антиподом в пьесе выступают обряд венчания, о котором рассказывает воин Храбрий, речь Философа о сущности христианства, хор апостола Андрея. Феофан Прокопович продолжил традицию изображения соперничества церковного и скоморошьего, обряда и антиобряда в духе средневекового культурного дуализма, используя традиционную национальную топику. Так, пронизывающая пьесу антитеза «свет – тьма» является ключевым образом произведения[286]. Велика идейная значимость этого образа в контексте эпохи конца XVII – начала XVIII в., что даёт почву для аллюзионного прочтения «Владимира». Столь важный образ имеет многовековую традицию, начиная с первых памятников поэтического наследия древности. Уже в «Слове о законе и благодати» данная антитеза играет огромную роль. На протяжении веков у образа «свет – тьма» религиозный смысл оставался единственным. Однако постепенно трактовка антитезы изменяется, она насыщается новым смыслом, звучит полифонично. В конце XVII в. образ активно используется во внутриполитической борьбе[287], происходит политизация образа. Феофан Прокопович употребляет его и в религиозном, но прежде всего в просветительском и политическом смысле.
Завершается пьеса хором апостола Андрея. Введение этого образа – дань автора традиции конфессиональной литературы. Известно, что на Руси, особенно в Киеве, культ этого апостола был чрезвычайно популярен и представлял предмет гордости древнерусского человека, особенно тогда, «когда требовалось защитить достоинство и независимость Русской страны, как страны православно-христианской»[288].
Легендарный летописный фрагмент используется в идейной борьбе русскими людьми (например, Иваном Грозным), украинцами (в противовес латино-униатской пропаганде), обыгрывался он и в 1654 г. «Предание о св. Андрее, как апостоле Руси, перешло и в XVIII в., усвоено людьми века реформы Петра I, который под влиянием этого предания установил первый в России орден св. Андрея Первозванного»[289]. Кстати, последним фактом удачно воспользовался Феофан Прокопович. Воздавая похвалы гетману Мазепе, тогда ещё поддерживавшему политику Петра I, драматург упоминает о награждении Мазепы орденом Андрея Первозванного (205). Весь же хор дан в пьесе как некий экскурс в историю Киева, монолог Андрея построен в виде проповеди, восхваляющей сей град, его достойных мужей, славную и многотрудную историю Киева, наконец, Мазепу и Петра.
Феофан Прокопович предстал в трагедокомедии как художник нового времени, сумевший выразить своё отношение к происходящему и вместе с тем показавший, какими плодотворными и во многом определяющими были связи литературы начала XVIII в. с древнерусским искусством слова.
Несомненное родство с древнерусской литературной традицией просматривается у Феофана Прокоповича и в жанре «разговора».
М. П. Алексеев, исследуя судьбу «Прения земли и моря» в древнерусской письменности, находит родство этого жанра с античной драмой, в которой сцены-состязания занимали большое место. Обилие диалогов характерно и для средневековой литературы: споры, прения, состязания и многие другие типы диалога «были, – считает учёный, – чрезвычайно распространены на всём романо-германском Западе и греко-славянском Востоке»[290]. В жанре оставалось много типического, – но, конечно, появлялись и специфические отличия. Прослеживая генезис жанра, М. П. Алексеев пишет, что русская письменность усвоила его через Византию: «Спор души с телом», «Прение живота со смертью» и многие другие модификации жанра активно переводились, трансформировались, входили в состав древнерусской письменности. При этом возникают не только композиционные, чисто внешние, но и содержательные видоизменения: христианско-теологическая, этическая тематика превалировала над другими темами. Таким образом, на примере даже одного памятника переводной древнерусской литературы показана чрезвычайно сложная жизнь жанра, окрашенная христианской символикой, приближенная к ортодоксальной церковной православной догматике, сквозь которую пробивались реалистические и поэтические представления о стихиях природы. Истоки – византийские с отзвуками античной мифологии – были осложнены библейско-евангельской символикой и народно-поэтическими представлениями[291].
Замечательным памятником переводного «разговора» является «Прение Григория Паламы “с хионы и турки”». Г. М. Прохоров отмечает доступность памятника самой широкой публике и по языку, и по способу изложения мыслей, что привлекло к нему славянского переводчика[292]. Античная традиция философского диалога, трансформированная византийской богословской полемичес кой культурой, внедрялась в средневековое мировоззрение русского человека, тем более что нашим богословам требовались авторитетные образцы литературы словесных состязаний с инакомыслящими. Так, позднее именно на этот памятник будет опираться известный полемист XVI в. Иосиф Волоцкий. Так же как будет усвоен русской полемической литературой и основной метод Паламы – аналогия: «То, что требовалось показать, он сопоставлял с самоочевидно-ясными соотношениями и явлениями – то более широкими, общими, то того же плана, но более узкими»[293].
Иного плана русский перевод XVI в. польского сочинения XV в. «Разговор магистра Поликарпа со смертью». Научный теологический диспут уступает место стихотворному диалогу, в котором религиозно-нравоучительная тема разработана в сатирическом направлении, не без юмористических деталей. Интересно, что русский перевод утратил как раз лучшее, что имелось в оригинале: юмор, сарказм. Русский переводчик придал «Разговору» наставительно-назидательный тон, снял стихотворную форму, резко сократил текст, сблизив его с жанром притчи, поучительной повести, т. е. памятник стал жанром учительной литературы Древней Руси[294]. Вместе с тем определённые каноны жанра всё глубже входят в литературу, о чём свидетельствуют появившиеся собственно русские «прения», «беседы», «споры»…
Древнерусская письменность, новая литература жанрово обогащались не только через переводную литературу. Все, кто знал латынь, древнегреческий, другие иностранные языки, могли творчески заимствовать напрямую, о чём мы находим (уже применительно к XVII–XVIII вв.) признания самих авторов.
Однако наряду с переводной или обработанной традицией восприятия жанра параллельно и соприкасаясь шёл собственно русский процесс жанрообразования. В связи с развитием и расцветом публицистики в XV–XVI вв. (а «писатели XV–XVI вв. – полемисты по преимуществу»[295]) жанр «диалога», «беседы», «прения», «разговора», «спора» получает особое звучание. Причём оживляется не только переводной вид жанра, но и переживает расцвет собственно русская его модификация. Жанр богословской полемики – «спор», «беседа», «прение» – явился веянием времени. Теологический аспект в жанре приобретает ярко выраженную социально-политическую остроту, эмоциональность, «гневливость». Это со всей очевидностью обнаруживается в «Прении с Иосифом Волоцким» Вассиана Патрикеева (1515) – «своеобразном диалоге, – как считает Я. С. Лурье, – между обоими оппонентами: обвинениями Иосифа и опровержениями их Вассианом»[296].
Идейно близкий к традициям заволжских старцев-нестяжателей, ученик Нила Сорского, Вассиан Патрикеев по линии творческих, художественных связей является последователем Максима Грека и, как это ни странно, иосифлян, что убедительно доказала Н. А. Казакова. Писатель-публицист построил «прение» на использовании противопоставления взглядов оппонентов: тезис – контртезис – как раз тот литературный приём, который позволял «сразу довести до читателя существо разногласий и показать неправоту противника». «Прение с Иосифом Волоцким отличается гневными обличениями в адрес оппонента, резкими выпадами, оскорблениями: Вассиан Патрикеев называет Иосифа “клеветником”, “развратником истины”. Излюбленным приёмом полемики является ирония. Жанр “прения” способствовал лучшей передаче взглядов обоих противников, чему также в не малой степени помогало внедрение в книжную церковно-славянскую речь элементов обыденной речи, без “парадной риторики”»[297].
Кстати, это явление станет характерной чертой поэтики жанра: сниженная лексика, близость к разговорному языку как бы передавали естественность течения диалога, разговора.
Эволюция жанра, как переводного, так и собственно русского, повлияла и на столь успешное «вхождение» драматургии в культурную жизнь русского общества[298]. Антиклерикальное диалогическое «Сказание о куре и лисице», а также написанные в форме диалога «Повесть о бражнике», «Прение с Афанасием, митрополитом иконийским» Фёдора Иванова способствовали закреплению жанра в русской демократической литературе XVII в. По утверждению А. С. Дёмина, «элементы драматургической формы в демократической литературе… постоянно использовались в целях разоблачения и обличения». Важно, что этим целям столь полезно служит именно жанр диалога, разговора. «Писатели-раскольники, выражавшие народный протест против феодалов, сразу же использовали драматургические элементы в своих сочинениях. Появляются старообрядческие “прения”, написанные преимущественно в диалогической форме и рассчитанные на убеждение читателей в правоте веры». Элементы драматургической формы активно заявляют о себе в русской литературе и письменности XVII в., в том числе в светской сатире и в религиозной полемике. Появляются подобие ремарок, интермедиальные черты, т. е. такие формальные признаки, которые позволяют говорить о сближении диалога с драматургическим жанром[299]. И по этому пути пойдёт собственно русский диалог, разговор. Консервативнее поведёт себя переводная разновидность жанра.
Словесное состязание, спор, прение – свидетельства укоренения на Руси культуры общения учёных людей, а фиксация подобных состязаний доказывает не только живучесть жанра, но и его эволюцию. Беседа Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого, Паисия Лигарида с Николаем Спафарием в Москве в 1671 г. «представляет непринуждённый разговор, сопровождаемый живыми замечаниями, выражающими как мнения, так и эмоции его участников»[300].
В ходе активной богословской полемики во второй половине XVII в. привлекался жанр «разговора», «диспута», «прения», о чём свидетельствуют и памятники русской публицистики.
Так, видный публицист раскола, уже упоминавшийся дьякон Фёдор Иванов, в «Прении с Афанасием, митрополитом иконийским» (1668) поставил важную проблему для второй половины XVII – первой половины XVIII вв. об отношении к культуре античного мира, а шире – к культуре неправославной. Дьякон Фёдор, как в целом все старообрядцы, негативно относился к культурному наследию язычников. Здесь сыграл роль, как убедительно доказала А. С. Елеонская, не только религиозный аспект: «Критика светской науки, в том числе античного наследия, являлась частью идеологической борьбы, была обусловлена демократической ориентацией публицистов раскола»[301].
Обширны и крепки связи Феофана Прокоповича-драматурга с античностью, устным народным творчеством, древней русской литературой, что, в свою очередь, определило, на наш взгляд, жизненность литературных традиций Феофана Прокоповича для многих поколений русских писателей.
Контрольные вопросы
1. Как античные традиции проявились в творчестве Феофана-драматурга?
2. Какова в творчестве Феофана-драматурга роль фольклорных традиций?
3. В чём сходство и отличие образа Владимира в одноименной трагедокомедии Феофана Прокоповича от фольклорного образа Владимира?
4. Что заимствовал Феофан Прокопович из летописи, создавая пьесу о Владимире-первокрестителе?
5. Каким образом использовал Феофан Прокопович житийную литературу о князе Владимире?
6. Как раскрывается в трагедокомедии Феофана Прокоповича антитеза «свет – тьма»?
7. Какие древнерусские литературные традиции проявились в драматургическом творчестве Феофана Прокоповича?
8. Каков художественный метод Прокоповича-драматурга? Как его черты проявляются в содержании и форме его драматургических произведений?
Ораторская проза Феодана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века
1. Ораторская проза киевского периода
«Культура – единый процесс, все отрезки которого равноправны»[302]. Если первая часть мысли учёного аксиоматична, то вторая нуждается в уточнении: а как же быть с утверждением самого A. М. Панченко об упадке русской культуры эпохи Петра I? Равноправны во временном контексте, так сказать, в «вечном граде» культуры: пусть культура Петровской эпохи и является некоей остановкой в развитии русской культуры по уровню качества, образцов (но по отношению к чему – а, как известно, всякое сравнение «хромает»…), но первая треть этого столетия стала таким мощнейшим культурным «перегноем», который питал отечественную культуру добрых сто-сто пятьдесят лет, а мифологемы той эпохи живы и работают до сих пор.
На примере русской культуры XVIII века A. M. Панченко блестяще доказал, что «культура располагает запасом устойчивых форм, которые актуальны на всём её протяжении»[303]. В зависимости от ряда политических, культурных, этнографических и прочих обстоятельств (даже личностных) актуализируются та или иная тема, идея, жанр… Казалось бы, давно забытое, канувшее в Лету вдруг всплывает и делается модным. Или на фоне культурного переворота, революции традиционный жанр продолжает успешно работать, культурологически обслуживать эпоху, удовлетворяя не только запросам масс, но и выполняя социально-политический заказ сильных мира сего.
Политические, экономические, культурные преобразования в России конца XVII – начала XVIII в. решительным образом повлияли на русского человека. У него меняется отношение к прошлому, настоящему и будущему, ко всем институтам бытия и, главное, к самому себе. За кратчайший срок – жизнь одного поколения – русский человек, точнее человек Петровской эпохи, переживает удивительную метаморфозу: из пигмея он вырастает в колосса (при этом, конечно, необходимо уточнение вот какого рода: негативное отношение к прошлому – факт культуры Петровской эпохи). Ему не страшны ни рок, ни ад, ни сама смерть; он энергичен, горяч, уверен в себе; он преобразует Россию и… – себя. Живость, динамизм, переменчивость становятся символами эпохи (примечательно, что это зародилось ещё во второй половине XVII в., задолго до рождения Петра[304]). Грандиозность свершаемого укрепляла россиянина в его мировосприятии. Наряду с этими символами работают и такие, как игра фортуны, «противная перемена», непостоянство. «Переменчивость жизни толкуется более широко и становится совсем безграничной»[305].
Чтобы уравновесить переменчивость как жизненный принцип и непостоянство как угрозу жизни, укрепить веру человека в себя, Петр политизирует искусство: дидактизм и панегиризм, выполнение социального заказа становятся его неотъемлемыми чертами (это, прежде всего, характерно для литературы). «Искусство, – замечает Л. С. Выготский, – есть социальное в нас… Социальное и там, где есть только один человек и его личные переживания»[306].
В поисках наиболее адекватного воплощения и пропаганды своих замыслов и идей Петр I обращается к разным родам искусства: театру, литературе, живописи, искусству фейерверка и т. д. И далеко не все они оправдали расчёты венценосного заказчика, о чём существует специальная литература, которую мы не будем здесь рассматривать. Петру нужен был такой род искусства, который бы наиболее быстро реагировал на всё происходящее в державе, доходчиво разъяснял полезность его деяний, влиял на широкие массы подданных.
Надежды Петра на театр не оправдались: публичный театр Кунста-Фюрста просуществовал недолго, придворный и школьный театр были социально ограничены: зрителями являлись двор и школяры.
Пётр с надеждой обратил свои взоры на литературу. Но светская поэзия переживала процесс становления, а силлабо-церковная, наоборот, – процесс кризиса; оригинальная проза («гистории») отвечала запросам времени, но она была рукописной и не имела сколько-нибудь значительной читательской аудитории. Петру не оставалось ничего другого, как сделать ставку на традиционный, идущий из глубины веков жанр – «слово», «речь», проповедь, которые в первой трети XVIII в. стали публицистическими[307]. Для Петра I важнейшим из всех искусств явилось «слово» – речь, проповедь.
Иосиф Туробойский, Стефан Яворский, Гавриил Бужинский, Феофилакт Лопатинский, Феофан Прокопович, Иоанн Максимович, юный Антиох Кантемир и многие другие ораторы первой трети XVIII в. воспели петровские преобразования, победы русского оружия на поле брани, Петра как вершителя и вдохновителя.
Но человека эпохи замечательно запечатлел лишь Феофан Прокопович. Ближайший сподвижник Петра, он сумел не только увидеть и понять существо происходящего в России, но и принять реформы. Отходя от традиций барокко, художник в доступной для большинства слушающих форме (с опорой на примеры, конкретику) рисует образ нового человека. Не приемля обилия изобразительных средств, аллегорий и других поэтических излишеств, Феофан Прокопович в духе предклассицизма живописует не только Петра, но и Меншикова, Екатерину I; даже царевич-младенец Петр Петрович олицетворяет у него человека нового времени. «Начинает складываться новый, рационалистический подход к явлениям действительности с его просветительским пафосом, стремлением к ясности изложения и нормативностью поэтики»[308].
Ораторская проза запечатлела сильного, целеустремлённого человека на троне и подданных ему подстать, преданных государю и отечеству. Этим людям не свойственны сомнения, рефлексия, изнеженность чувств: определённость в душевном состоянии и поступках – основное их качество, цементируют которое гражданский долг и патриотизм. Отсюда, человек Петровской эпохи – это человек поступка, действия, активной формы жизни, сильной воли, ясного разума. Он сугубо рационалистичен, безгранично верит в возможности «острого» разума и свои силы. Он может всё. Деятельность Петра на протяжении трёх десятилетий блестяще подтверждала это.
Человек Петровской эпохи – открытый человек: он – в миру и на миру. Религиозен ли он? – не праздный вопрос. Конечно, да, – но религиозность его особого рода: он страшится не очень понятного ему потустороннего мира, он не может многого объяснить в сем подлунном мире, однако готов на борьбу с суевериями, мистикой, судьбой, бросая вызов року и, кажется, самой смерти.
Антитеза «свет – тьма» – самый модный образ эпохи: человек побеждает тьму старины, символизирующей неверие, обскурантизм, невежество, ради света знаний, нового, того, что, по мнению Феофана Прокоповича, несёт счастье и славу России.
Даже смерть Петра не способна поколебать устои нового человека. «Скорбим и сетуем, но не яко окамененнии; плачим и рыдаим, но не яко отчаяннии; тужим от горести сердца, но не яко немии и чувств лишившиися» (129). Дела Петровы – ярчайшее свидетельство его жизни в веках; каменной твёрдостью отличается все то, что он совершил в России. Родился ещё один миф: Петр «самих нас лучших нам сотворив» (II, 168). Всем россияне обязаны ему, все мы – «птенцы гнезда Петрова».
Миф жив до сих пор – так силён и обаятелен образ человека Петровской эпохи.
* * *
Ораторская проза Петровской эпохи самоценна, при этом несомненно её влияние на другие виды русского искусства первой трети XVIII в.
Несомненно влияние ораторской прозы на русскую драматургию и русский театр: их взаимодействие, поэтика ораторского искусства, такие элементы её структуры, как риторические вопросы, восклицания, композиция «речей»-монологов героев, прологи и эпилоги и т. д., давно стали принадлежностью поэтики русского школьного театра, всей ранней русской драматургии[309].
«Слова» и «речи» ораторов Петровской эпохи оказывали влияние и на устройство триумфальных врат, на композицию театра-фейерверка, на гравюру.
Ораторская проза как ведущий вид искусства Петровской эпохи повлияла и на русских классицистов: А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков сами были авторами «слов» и «речей», нашедших отзвук в их поэтических системах.
Нам импонирует точка зрения В. П. Гребенюка, который считает, что «наряду с художественными приёмами искусства барокко в начале XVIII в. начинает складываться новый рационалистический подход к явлениям действительности с его просветительским пафосом, стремлением к ясности изложения и нормативностью поэтики.
Главным представителем этого, только что начинающего формироваться направления был Феофан Прокопович.
Рационализм его панегирических слов, их ёмкая содержательность и публицистичность пришлись по душе политику-рационалисту Петру I, который искал и ждал от искусства, прежде всего, реальной пользы. Рационалистическая направленность искусства отвечала насущным требованиям жизни более, нежели схоластическая символика барокко»[310]. Феофан Прокопович-теоретик не только в своей «Поэтике», но и в «Риторике» отстаивает как раз эти принципы: ясность, чёткость, логичность изложения.
Барочные элементы (аллегории, символы, эмблемы, чрезмерная изощренность стиля, антитеза не только как основной художественный приём, но и как мировоззренческая ипостась) становятся частью поэтики русского предклассицизма, главной фигурой которого явился идеолог эпохи, ближайший сподвижник Петра Великого, публицист, драматург, поэт Феофан Прокопович. Его ораторское искусство ещё в большей степени, нежели драматургия и поэзия, встало на защиту идей абсолютной монархии и реформ Петра.
В ораторском искусстве Петровской эпохи, во всём литературном творчестве этого периода активно идёт диалог между культурой духовной и светской, спор о ценностях и приоритетах.
У данного диалога есть своя предыстория, уходящая в глубь веков; мы остановимся на второй половине XVII в., так как идейную подоплеку петровских преобразований нужно искать там.
Борьба «грекофилов» и «латинствующих», раскол как наиболее трагическая часть наследия, доставшаяся Петру, духовный кризис, надрыв стали знаками кануна преобразований. «Надлежало искать выход, – замечает А. М. Панченко, – и прежде всего в сфере идей»[311]. На смену Слову пришла Вещь[312]; практицизм стал мировоззрением Петра и его эпохи. Параллельно с этим шёл процесс борьбы за веротерпимость (не случайно Пётр не придавал серьёзного значения ни спорам «папежников», ни старообрядчеству).
После путешествия в Голландию и знакомства с работами Пьера Бейля и Джона Локка Пётр и его окружение выдвинули на авансцену проблемы толерантности; определился примат светской власти над церковной, светские догматы стали ведущими.
Конечно, «никто не отважится, – констатирует А. М. Панченко, – назвать её (Петровскую эпоху. – О.Б.) эпохой терпимости»[313], но была сделана очень серьёзная заявка на это.
Ярчайшими участниками диалога культур в Петровскую эпоху являлись Пётр I и Феофан Прокопович[314].
Выполняя социально-политический заказ Петра I, оратор трансформирует жанры «слова» и «речи». «Произнесённые с амвона… “слова” Феофана были по существу полны чисто гражданским содержанием»[315].
Являясь по своим теоретическим взглядам предклассицистом, Феофан Прокопович как художник эволюционировал от барокко к классицизму, что наглядно демонстрирует его ораторская проза.
Наряду с сугубо церковными проповедями (на протяжении всей своей жизни он являлся служителем церкви) в его наследии большое место занимает политическое красноречие.
* * *
Киевский период в творчестве Феофана Прокоповича охватывает 1704–1716 годы.
Теория ораторского искусства разработана Феофаном Прокоповичем в его известных трактатах «De arte poetica» (1705) и «De arte rhetorica» (1706), каждый из которых по тому времени был глубоким новаторским курсом и имел большое влияние на теорию и практику словесного творчества XVIII в. Феофан Прокопович решительно порывает с традициями церковного красноречия как России, так и Запада.
Исследователи противоречиво оценивают ораторскую прозу Феофана Прокоповича киевского периода.
И. Чистович, П. Морозов, Ю. Самарин, П. Пекарский, Н. Гудзий считали, что новое вино налито в старые меха, т. е. Феофан Прокопович, приверженец петровских реформ, говорит о новом в духе традиционных церковных проповедей.
Н. Д. Кочеткова осторожно замечает, что «в киевский период Феофан как проповедник придерживался ещё в основном правил, предписывавшихся схоластической наукой»[316].
Т. А. Автухович намечает эволюцию жанра проповеди, пишет о «тенденции к преодолению этого стиля» (барокко. – О.Б.) в киевских проповедях Феофана Прокоповича, хотя большинство из них, по мнению исследовательницы, «учительные», «в них проводятся традиционные религиозные идеи…», «однако способ их изложения далеко не традиционен»[317].
А. С. Елеонская, исследуя ораторскую прозу XVII в., считает, что наряду с глубоко новаторскими чертами Феофан «не выпадает из традиций русской ораторской прозы»[318].
К. В. Пигарев, В. И. Фёдоров пишут о решительной трансформации проповеди Феофаном Прокоповичем в новый, полный «чисто гражданским содержанием» жанр – «слово»[319]. Большая часть дошедших до нас проповедей Феофана Прокоповича киевского периода посвящена сугубо богословским и церковным проблемам. Теологические проблемы доминируют в богословских проповедях киевского периода, хотя и среди них есть мастерски созданные произведения ораторского искусства. В них затронуты традиционные для служителя церкви темы об аде и рае, о страшном суде («Слово в неделю богатого»[320] – III, 254–263; «Слово о множестве осужденных» – III, 287–302); о грешнике, греховных болезнях и исцелении от них («Слово в неделю 23» – III, 264–277); о загробной жизни и необходимости готовиться к ней на земле («Слово о памяти смертней» – III, 278–286); о любви к Богу («Слово о любви к Богу» – III, 288–301); о разных видах греха («Слово о ненавидении греха в неделю 29» – III, 306–320[321]); о православной церкви («Слово в неделю православия» – III, 303–317); о деве Марии («Слово в день благовещания пресвятыя богородицы» – III, 319–333).
«В них (этих проповедях. – О.Б.), – указывает Т. Е. Автухович, – проводятся традиционные религиозные идеи: жизнь – подготовка к смерти, смерть – расплата»[322]. На наш взгляд, этих идей, пусть и сугубо религиозных, значительно больше, а многие из них перерастают чисто религиозные рамки и приобретают общечеловеческий смысл. Проповедник рассуждает о времени и пространстве: так, говоря о вечности мук адских, он рефреном повторяет фразу «потекут веки аки часы» (III, 261). Часто Феофан Прокопович отходит от церковных догматов и рассуждает по-житейски, на обыденном уровне в связи с той или иной фразой из Библии. Как исцелиться грешнику? – обращается оратор к «слышателям» и на равных с ними, как бы советуясь, отвечает: главное лекарство – милосердие, правосудие, послушание (III, 266–267). Богословские проповеди изобилуют цитатами из Священного Писания, из поучений отцов церкви, но и примерами из всемирной истории, ссылками на Платона, Пифагора, Цицерона (см.: III, 285–286 и мн. др.), что так характерно будет для всего творчества Феофана Прокоповича, в том числе и художественного творчества.
Весьма изящно, эстетически и этически красиво «Слово о любви к Богу». Для Феофана Прокоповича всегда был чрезвычайно важен эстетический момент в вере, обрядах. Бог для него не только «самая бесконечная доброта», но и «самая красота неизреченная», «сотворенное изящество от сея неизглаголанныя красоты» (III, 290). Здесь же даются ссылки на Анаскогора, Цицерона, Демосфена, но даже эти мыслители, по Феофану Прокоповичу, не смогли бы найти слов, чтобы выразить любовь к Богу, сказать о красоте этой любви (III, 293). Феофан Прокопович, оттолкнувшись от богословского постулата и религиозной темы, обращается к этическим, моральным категориям: рассуждает о пьянстве, сквернословии, воровстве, любодеянии, но и о доброте, красоте, милости, щедрости.
Используя антитезу, оратор говорит о грешниках, что они «аки свинии в таковом блате любят валятся» (III, 308), наоборот, добродетель – синоним красоты: «красна бо есть на теле, красна в речах, красна во внутренних, красна и во внешных действиах, красна во всех поступках, красна в небесных умозрениях, красна в любви к Богу и в любви к ближнему: наконец красна в состоянии щастливом, красна и в случаях неблагополучных» (III, 312).
То есть Автухович отмечает, что в киевских «словах» и «речах» Феофана Прокоповича весьма ощутимо влияние стиля барокко: «Автор драматизирует проповеди, повышая эмоциональность “слов” и психологическим началом, и развёрнутыми примерами, и живописными описаниями страданий грешников. Возвышенный пафос у него сочетается с натуралистическим освещением отвлеченных нравственных понятий»[323]. Антитетичность, разведение понятий, цвета, природных явлений и т. д. по полюсам является доминантой в поэтике ораторской прозы Феофана Прокоповича киевского периода.
Вместе с тем нельзя согласиться с исследовательницей, что «взгляд проповедника на человека пессимистичен, ибо Прокопович остро ощущает всю несоразмерность проповедуемого им аскетического идеала и бренности земной жизни», что «смирение перед лицом “гневающегося” божества – вот единственный удел человека»[324]. Даже богословские проповеди не позволяют сделать такого вывода. Ни сам автор, ни его герои (даже праведники) не являются аскетами: Феофан Прокопович призывает, конечно, следовать догматам церкви, Писанию, но вовсе не отторгает людей от земного бытия и его радостей. Оппозиции «аскет – жизнелюб» нет в его проповедях, и не смирение – удел человека. Смысл человеческой жизни, по Феофану Прокоповичу, в гармоническом сочетании догматов Писания и нравственных норм человеческого бытия. Может быть, как никогда потом, т. е. в петербургский период жизни и творчества, Феофан Прокопович един, спокоен, в ладу с собою и верой: его слова одухотворены, значительны, красивы, и в них звучат вечные темы, хотя, повторяем, и в связи с богословскими темами, но в данном случае дисгармонии не наблюдается. То обстоятельство, что он был вне больших исторических событий, вне большой политики, вне придворных и церковных интриг, способствовало самораскрытию Феофана Прокоповича – духовного пастыря, наставника, философа. Более у него такой возможности не будет: на первый план выдвинется политическая конъюнктура, а близость ко двору окончательно убьёт в нём искренность, открытость и желание писать и говорить на общечеловеческие, нравственно-этические темы. Это уже скажется в его светских проповедях киевского периода, хотя пока и не столь значительно, как позднее.
* * *
Известность Феофану Прокоповичу принесло «Слово приветствительное на пришествие в Киев его царскаго пресветлаго величества», произнесённое им 5 июля 1706 г. в Софийском соборе в присутствии Петра I. В своей магистерской диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» Ю. Ф. Самарин назвал эту «речь» одной из лучших в ораторском наследии Феофана, снискавших оратору благосклонность монарха[325]. Так, замечает П. П. Пекарский, «Прокопович сделался в первый раз известен царю»[326].
Эпиграфом к «слову» стала строчка из 149 псалма: «Сынове Сионе возрадуются о Царе своем»[327]. Оратор обыгрывает древность и святость Киева как обители православия, называет его «вторым Иерусалимом» (I, 2). П. П. Пекарский, не анализируя проповедь, даёт ей оценку: «Это слово получает особенное значение, когда вспомнить, как писались в те времена сочинения подобного рода: исполненные риторическими словоизвитиями, с длинными сравнениями и уподоблениями, они обыкновенно не имели ни малейшего отношения к действительности и были только крайним выражением того схоластического метода, который так процветал в тогдашних наших школах»[328]. Высоко оценил «Приветствительное слово» И. А. Чистович: «Это была речь, давно неслыханная на церковной кафедре. В одушевлённом слове проповедник выразил свои чувства по случаю радости о прибытии юного, а между тем уже славного, государя. Тут нет ни отвлечённых и сухих рассуждений, ни школьных приступов и аргументаций, ни утомительной длинноты периодов: это – стройная, одушевлённая и блестящая речь проповедника, оставившего позади себя схоластическую риторику»[329]. Высокая оценка художественных достоинств проповеди вполне справедлива.
В приступе оратор достаточно нетрадиционно обращается к граду Киеву: «Благодарствуй велегласной и радостной вести богоспасаемый граде Киеве, яко возвеселивши тебе возвещением пришествия Пресветлаго Монарха нашего» (I, 1). Далее автор обыгрывает эпиграф, но если в нём сионские сыновья радуются своему царю, то здесь, по мысли Феофана Прокоповича, особая радость, т. к. царь пришёл в особый город, который «светом Православия сияет» (I, 1), в «град, егоже святых ради и чудодейственных мест обычно есть вторым Иерусалимом нарицати» (I, 2). Мотив пространства, в данном случае города, действительно важен для художника: горы, церкви, дома, стены, стогны – всё ликует, но «наипаче же да воспевает сия престольная церковь Премудрости Божия» (I, 2). Художник, любящий проводить параллели между духовным, идеологическим и естественным, природным, и здесь не удержался, чтобы не прибегнуть к метафоре: город он уподобляет человеку, с радостью приветствующего «желаемого гостя»: очи, уста, руки, ноги «являют на себе некое веселие, обаче наибольшее движение радости в сердце обитает» (I, 2). Этот пассаж о радости психологически точен: «Сердце бо человеческое, егда некоей вещи желает и ищет, той час аки бы в пути шествует, или в море плавает: егда же обретает искомое, тогда аки во пристанище или намеренное место достигши, веселится» (I, 2). Феофан выражает радость не только от себя лично, но от всего Киева. «Речь» содержит огромное количество восклицаний, риторических вопросов. Волнение, любовь, радость, умиление – вот те чувства, которые обуревают оратора и должны, по его настоянию, обуревать всех слушателей при виде Петра.
Отголоском барочной поэтики в этой пространной метафоре появляется сопоставление сердца с морем: человеческое сердце путешествует в море жизни и радуется, когда достигает пристанища, обретает искомое; так и «град и церковь киевская» «вельми» радуются «зрети нынешнего гостя» – Петра (I, 3). Оратор, продолжая традиции поэтики конца XVII в., сравнивает царя с солнцем, но есть в этой пышности, гиперболизме, метафоричности, типичных для барочной системы, некий новый мотив. Естественно радоваться солнцу – естественна радость Киева, встречающего Петра. Уподобление Петра солнцу – не только дань барочной традиции, но и стремление художника к естественнонаучной, рационалистической основе в своих доказательствах, логика которых выстраивается по принципам уже предклассицистической поэтики.
Феофан уподобляет монарха не только солнцу, но и Богу: он вездесущ, что подчёркивается словосочетаниями с глаголом «обитаеши» – «в судех», «в церквах», «в монастырех», «в мыслях», «в сердцах» (I, 4).
Заканчивается приступ психологически точным выводом о том, что радость от встречи после долгого ожидания может сравниться только со сладостью утоления жажды: «Того уже над все достоинство наше радостно обретаем, видим, приветствуем» (I, 4). Феофан Прокопович, усвоив схоластическую риторику, всё же более близок к античным риторам, например, в том же нагнетании от одного словесного периода к другому эмоционального пафоса речи он вместе со «слышателями» переживает состояние, в данном случае близкое к экстазу.
Применительно к образу Владимира в одноименной трагедокомедии мы говорили о традиции всей древнерусской литературы: в правящем государе видеть его предков, проводить параллели с предшествующими правителями. И эта речь не стала в данном случае исключением: «В тебе отцы и праотцы твоя» (I, 4).
Знаменитое выражение «любовь к отеческим гробам» восходит к Феофану Прокоповичу, который призывает помнить предков своих – «где бо зде иступиши можеши, идеже бы не узрел еси родства твоего следов?» (I, 4).
Оратор демонстрирует замечательное владение риторическими приёмами.
Топос играет значительную роль в этой «речи»: Киев, Печерская церковь («Лавра Печерская»), монастыри, «горы сия», Софийский собор («храм сей от Ярослава созданный есть») и т. д. (I, 4–5). Уже в этой, одной из первых проповедей, Феофан обращается к историческому прошлому Древней Руси. Как известно, князья Киевской Руси не являлись прямыми родственниками П. А. Романова, о чём, безусловно, Феофан-историк знал, но данная контаминация несла чисто идеологический смысл и была во второй половине XVII – первой половине XVIII вв. общеупотребительной применительно к царствующей фамилии. Параллели Пётр – Владимир с вариациями Пётр – Ярослав, Пётр – Александр Невский и т. п. характерны не только для «слов» и «речей» Феофана Прокоповича, но и для Стефана Яворского, Феофилакта Лопатинского, Гавриила Бужинского, да и для всей публицистики этого периода[330]. Упомянул оратор и первых русских святых Бориса и Глеба (I, 5). Даже сами имена великих предков должны были воскресить в памяти «слышателей» и читателей деяния этих исторических личностей, саму эпоху. Всё дышит не только историей отечества, но и великими предками Петра. Так формируется пространственно-временная организация «слова». Однако Феофан-оратор был ещё и тонким психологом: он подключает к вышеуказанным параллелям мотив памяти. «Единая сосудов хранительница» (I, 5) – вот что такое память, по Феофану Прокоповичу. «Но не память только и самую кровь видит в тебе Киев, помянутых отец твоих; видит и познавает в тебе добродетели их, и нравы, и обычаи» (I, 5). Данное «слово» перекликается с другими историческими, художественными произведениями оратора. Пётр продолжает победы и просветительскую деятельность Владимира, «любомудрие» Ярослава, продолжает борьбу Димитрия Донского «от ига Оттоманского», продолжает «благочестие Святославово» (I, 5). Обыграл Феофан даже то обстоятельство, что Пётр правил некоторое время вместе со своим братом Иоанном, – поэтому Пётр продолжил «братолюбие святых страстотерпцев Романа и Давида» (I, 6).
Длинный риторический период, «нанизывание» одного доказательства на другое, подобное же, рождает психологически устойчивую доминанту, которую в итоге как некую формулу выводит оратор: «Прият от корени своего свет великаго имени и другий от дел своих испускает» (I, 6), т. е. Пётр не только воспринял славное прошлое, но и укрепляет его делами своими. Феофан-художник не забыл идеологической важности барочной эмблематики. Такой своей деятельностью Пётр «знаменует царский его сугубоглавный орёл» (I, 7), т. е. обыгран герб России, а с ним идея державности, государственности.
Феофан Прокопович воспевает гармонию в Петре: он – правитель и человек, воин и созидатель. Апофеозом верноподданничества явилась фраза Феофана о том, что «на престоле российском не человек, но самая правда сидети мнится» (I, 7).
Следуя традициям древнерусской воинской повести, Феофан Прокопович вспоминает об Александре Македонском и обращается к историкам Курцию и Плинию, цитируя их (см.: I, 8–9). Кульминацией слова является признание в любви к монарху всех сограждан, от имени которых выступает оратор: «Мы же на твое пришествие отверзаем тебе любовию сердца наша» (I, 10). И, наверное, впервые Феофан-художник использует параллель «царь Пётр – апостол Пётр» (I, 10). Видеть Петра – значит, истину познать: «Се есть покой и конец желания, се есть верх благополучия нашего!» (I, 10). Завершается «речь» призывом к Петру, чтобы он последовал самому Господу: ответил любовью на любовь и не презрел Киева, «яко новаго сего Сиона», сыновья которого, в том числе и сам Феофан Прокопович, так возрадовались и воспели славу и любовь свою к монарху (I, 11).
* * *
На грани богословских и светских проповедей стоит одно из интереснейших «слов» Феофана Прокоповича киевского периода – «Слово о равноапостольном князе Владимире». Этому слову предпослан тот же эпиграф, что и «Слову приветствительному», – «Сынове Сионе возрадуются о Царе своем» (III, 335–349).
Автухович считает, таким образом, что «традиционная обязанность проповедника толковать догматическую и нравственную сущность Писания приводила не только к канонизации проблематики, но и делала сам жанр проповеди “непроницаемым” для нового содержания. <…> Если автор пьесы (Феофан Прокопович. – О.Б.) – это человек, усомнившийся в привычном миропонимании, то автор проповеди – это человек, мыслящий согласно традиционной богословской схеме»[331]. На наш взгляд, неверное обобщение привело к неверному выводу: не только Феофан Прокопович, но даже такие старшие и младшие его современники, как Стефан Яворский, Феофилакт Лопатинский и другие ораторы конца XVII – начала XVIII в. часто выходили далеко за рамки традиционного, тем более догматического толкования библейских тем и образов, нарушая каноны жанра или трансформируя его. Обновление содержания при этом достигалось многими путями, в том числе через хорошо освоенный художниками того времени приём политической аллюзии.
Известный исследователь этого жанра А. С. Елеонская убедительно доказала, что именно ораторские слова и поучения были той формой, которая давала возможность их авторам путём прямого обращения к читателям трактовать наиболее актуальные вопросы своего времени.
Средневековая символика, к которой они преимущественно обращались в силу этикетного способа изображения действительности, была лишь привычной «оболочкой», скрывавшей конкретно-историческое содержание[332].
Тем более неправомерно и неточно распространять посылку о «непроницаемости» жанра «слова» на Феофана Прокоповича: уже в киевский период своего творчества он не был человеком, «мыслящим согласно традиционной богословской схеме», наоборот, он разрушал эту схему и в теории, и на практике.
Мысль о том, что трагедокомедия «Владимир» Феофана Прокоповича и его «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» тесно взаимосвязаны, высказывалась многими учёными, обращавшимися к творчеству Феофана Прокоповича: Н. С. Тихонравовым, Я. Гординским, Н. К. Гудзием, Р. Штупперихом, И. П. Ерёминым (477), В. А. Бочкарёвым, Т. Е. Автухович, также и нами. Первым же, кто сделал попытку поставить рядом пьесу и «слово», следует признать неизвестного переписчика XVIII в., который при списывании «слова» обратил внимание на явное несовпадение фактов в проповеди и пьесе. Переписчик знал трагедокомедию настолько, что, дойдя до места в «слове», где перечисляются жёны и наложницы Владимира, делает сноску и на полях под знаком сноски пишет: «В трагедокомедии триста жен воспомянуты»[333]. Он имел в виду реплику в пьесе на этот счёт беса тела.
О том, что трагедокомедия пользовалась успехом у читателей XVIII в., свидетельствуют шесть её сохранившихся списков. Это дало возможность И. П. Ерёмину, собравшему и тщательно изучившему все эти списки, говорить о «широком распространении вплоть до конца XVIII в. в рукописных списках» пьесы (6).
Подробное сопоставление пьесы и проповеди сделали в своё время Н. С. Тихонравов и В. А. Бочкарёв. Учёные указали на безусловное сходство этих разных по жанру, но написанных на одну тему произведений. Причём сходство обнаруживается подчас текстуальное[334].
То есть Автухович также останавливается на сопоставлении этих произведений, пытаясь определить, «как специфика жанра влияет на трактовку одной темы»[335]. Нас интересует вопрос о том, было и могло ли быть «слово» авторским источником при написании пьесы. В. А. Бочкарёв, разделяя точку зрения Д. Д. Благого, пишет, что пьеса «создавалась, видимо, почти одновременно со “Словом”»[336].
Известно, что Феофан, вернувшись из заграницы, в 1704 г. начал преподавать «пиитику» в Киево-Могилянской духовной академии[337], занятия в которой начинались после летних рекреаций. День святого Владимира отмечается русской православной церковью 15 июля[338], из чего следует, что в 1704 году Феофан Прокопович не мог написать и произнести «слово».
По обычаям академии преподаватель пиитики должен был к летним каникулам написать пьесу на какой-нибудь церковный или мифологический сюжет и подготовить её к постановке силами учащихся. Видимо, в течение первой половины 1705 г. Феофан Прокопович собирал материал и создавал пьесу, а весной начались репетиции. 3 июля 1705 г. «Владимир» был представлен на суд зрителей.
В 1706 г. Феофан Прокопович начинает преподавать риторику, что обязывало к написанию и произношению «речей» и проповедей, приветствий от имени академии разным высоким особам и покровителям[339]. Обращение вновь к образу первокрестителя Киева и Руси – святому князю Владимиру – вполне соответствовало идейным и политическим устремлениям Феофана Прокоповича. Материал был изучен, апробирован, правда, в ином, драматургическом жанре, но вполне поддавался трансформации. Поэтому, вероятнее всего, что «слово» было создано и произнесено никак не ранее лета 1706 г.
Вряд ли проповедь писалась в петербургский период жизни и творчества Феофана Прокоповича (с 1716 г.). В столице каждое выступление Феофана подобного рода так или иначе фиксировалось, ведь в Петербурге он был слишком заметной и значительной персоной.
На то, что «слово» произнесено в Киеве, указывается в нём самом, ибо в заключительной, хвалебной части проповедник восклицает: «Хощет ли кто совершенно вся его (Владимира. – О.Б.) благодеяния исчислити, да изочтет всех в России просиявших чудотворцев, преподобных, мучеников, архиереов, учителей, да исчислит в сем граде виден на я, и во всей державе Российской безчисленная чудеса…» (III, 347 повт.; курсив наш. – О.Б.).
В третьей части «Слов и речей…» Феофана Прокоповича рассматриваемое нами «слово» помещено в разделе, предваряемом ссылкой: «Сие и следующие слова проповеданы в Киеве, а которых годов неизвестно» (III, 255).
Наконец, ещё одним доводом в пользу того, что «слово» написано позже пьесы, может служить тот факт, что в проповеди нет и намёка на восхваление гетмана Мазепы. Если бы «слово» произносилось в период могущества гетмана, вряд ли бы молодой проповедник рискнул проигнорировать его. Вместе с тем в «слове» нет и негативных высказываний в адрес гетмана что, возможно, связано с неясностью ситуации для самого Феофана Прокоповича (измена гетмана России стала очевидной в октябре 1708 г.). Менее чем через год, в июне 1709 г., в киевской проповеди «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе» Феофан чётко обозначит свою позицию в отношении гетмана, назвав Мазепу «проклятым зменником», «коварным наущением и тайным руководительством» которого враг был «воведен есть внутр самую Малую Россию» (III, 26).
В дальнейшем, в петербургский период творчества, Прокопович охарактеризует гетмана значительно полнее.
Так, в «Истории императора Петра Великого» он напишет: «Однако так хитрый (Мазепа. – О.Б.) был, и пристрастия свои утаеваши искусен, что людем, которых опасался весма не таков, каков внутри был мнился быти. Великороссийскому наипаче народу, которого весма ненавидел, так любовным, доброжелательным и приветливым себя ставил, что таковой его злобы, какую после изблевал, отнюдь начаятися было можно»[340].
Учитывая всё вышесказанное, можно предположить, что «слово» было написано и произнесено не ранее лета 1706 г. и не позднее лета 1708 г., когда проницательный и достаточно осторожный иеромонах Феофан не рискнул в проповеди высказать своего отношения к внутренней политике гетмана, но и не перенёс из пьесы восхвалений в адрес последнего.
Приём исторических параллелей, осуществление актуализации даже древнейшего исторического или легендарного, библейского материала весьма характерен для Феофана-проповедника. Так, в «Слове в день святаго благовернаго князя Александра Невскаго» (1718) Прокопович обстоятельно говорит о заслугах и достоинствах князя, но «похвалы Александру, – пишет Н. Д. Кочеткова, – однако, лишь подготавливают переход к прославлению царствующего государя – Петра I»[341].
Исследовательница тщательно прослеживает связь между творчеством Прокоповича-проповедника и поэзией русского классицизма (прежде всего, с А. П. Сумароковым и М. В. Ломоносовым). Похвальное «слово», ода «были связаны с ораторской прозой Прокоповича и идейно, и стилистически»[342]. И, наоборот, витиеватое нагромождение словесных украшений и риторических фигур, соответствовавшее литературе барокко, вызывало неприятие у Феофана, который, указывает Н. Д. Кочеткова, «по существу выступил против этого направления»[343].
В старом литературоведении анализ структуры проповеди как жанра, разбор ораторского искусства в Киевской академии на примере творчества С. Яворского, Ф. Прокоповича и других дал Н. Петров.
Учёный высоко оценил теорию ораторского искусства, выработанную Феофаном. Он пишет, что проповеди Прокоповича отличались серьёзностью, солидностью, были проникнуты энергией и глубокой мыслью. Проповедник не любил польского красноречия и проповеди иезуита Ф. Млодзяновского считал вредными[344]. Политические аллюзии – непременный компонент художественной структуры ораторской прозы Феофана Прокоповича.
Все эти наблюдения позволяют определённо говорить о том, что «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» написано позже трагедокомедии. Работа над пьесой, а также непосредственно сама она стали отправным пунктом при создании проповеди.
Однако «слово» – оригинальное произведение ораторского жанра, в котором Феофан Прокопович обозревает деятельность князя Владимира значительно масштабнее. Уже здесь заметен характерный для Феофана акцент: в большей степени речь идёт о князе-преобразователе и просветителе, чем о религиозном лице, святом русской церкви. Проповедник отмечает прежде всего заслуги Владимира-воина и патриота земли Русской. Но в центре внимания Прокоповича всё-таки «брань духовная» (III, 339).
В этой ранней проповеди Феофана присутствует публицистический элемент. Оратор пытается связать далёкие исторические события с современностью и публицистически заострить их. Обращаясь к слушателям, проповедник риторически спрашивает: «Не сбываются ли дни Андрея первозванного предрекшаго о имущем просияти в земли нашей благочестии, и многия церквам божиим воздвигнутися?» (III, 347).
Проповедь построена в соответствии с правилами, которые разрабатывал Феофан в своей «Риторике»: ей присущи ясность, композиционная стройность, логичность, умеренное пользование словесными украшениями. Недаром Ю. Ф. Самарин, изучавший Прокоповича как богослова, церковного деятеля и проповедника в сопоставлении с такой яркой личностью, как Стефан Яворский, пишет, что «внимание Феофана Прокоповича к живой действительности, способность понимать современную жизнь и действовать на неё, открывают в нём дарование оратора, призванного на общественное служение»[345].
А. С. Дёмин при характеристике пьес 1720-х годов отмечает появление новой разновидности школьных драм – политикопанегирических, напоминающих своим подходом к теме многочисленные «слова» и «речи» проповедников тех лет.
Часто авторы стихотворных пьес писали на те же темы прозаические проповеди. Налицо сходство проповедей и школьных драм. Учёный объясняет это изменением литературных жанров в виду изменившихся, новых требований со стороны государства к литературе[346]. Предтечей в этом процессе, на наш взгляд, был Феофан Прокопович, создавший новаторское и по духу, и по форме драматургическое произведение – трагедокомедию «Владимир», а на её основе – проповедь о святом князе-первокрестителе Руси. Именно он наметил сходство пьесы и проповеди, опередив почти на двадцать лет развитие новой русской официальной литературы и открыто встав на защиту петровских преобразований. Более того, Феофан Прокопович создал произведения (как пьесу, так и «Слово»), намного превосходящие по своим идейно-художественным достоинствам те, которые появятся позже, в 1720-е гг., например, «Слава печалная», «Слава Российская». И даже в отношении политической заостренности пьеса Прокоповича выигрывает, т. к. в высокохудожественной (для того времени) форме говорит с достаточной ясностью об актуальном, сведя до минимума аллегории и символы, столь присущие московской драматургии первой четверти XVIII века.
В «Слово» о Владимире перекочевал драматургический заряд пьесы, её идейный и художественный накал. «Слова» и «речи», написанные проповедником на богословские темы в киевский период его творчества (их названия упомянуты выше), и даже светские («Слово похвальное в честь славных дел светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова» и «Слово приветствительное на пришествие в Киев его царскаго пресветлаго величества») не отличаются особой драматичностью, поэтическим пафосом, лиризмом. Они созданы в соответствии со строгими законами риторики, в основном на богословские темы, на, так сказать, «дежурные» даты русской православной церкви и официальной жизни русского государства. Это сугубо проповеди.
Диссонируют, резко отличаются от них два «слова», ставшие событием в русской публицистике начала XVIII столетия: «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» и знаменитое «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе».
Оба ораторских произведения созданы одновременно с написанием собственно художественных, поэтических, текстов (или чуть позже них), т. е. трагедокомедии «Владимир» и героической поэмы «Епиникион».
Сам творческий процесс создания разных по жанрам, но единых по тематике произведений повлиял на ораторскую прозу Феофана Прокоповича таким образом, что «слова» «выломились» из традиционного русла, жанр традиционной проповеди дал «сбой», – и родились необычные «слова» и по темам, и по их художественному воплощению.
Работа Феофана Прокоповича в драматургическом жанре повлияла на проповедь: «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» отличается импульсивностью, особым ритмом, в нём имеются драматические зарисовки.
Так, на наш взгляд, второе явление четвертого действия трагедокомедии определило идейный пафос и, во многом, поэтику центрального эпизода «Слова». В пьесе Владимира искушают «бес мира», «бес плоти» и «бес противства божия», призванные Жериволом в помощь (165); в «Слове» проповедник утверждает, что на князя восстали «три неукротимии и зело лютии супостати мир, плоть и диавол» (III, 339 повт.).
Сравним соответствующие отрывки из трагедокомедии и ораторского произведения.
«Владимир» Коль многы совести суть, их же лице красно мнится быти, но, егда разсмотриш опасно, Инако являются. Первое се яве: породится от сего укоризна славе Нашей. Не повергну ли греческим под нозе царем венца моего? И их же на мнозе Усмирих победами, тем сам подчиненний буду? Не оружием, едним побежденний Словом философовим! Инако же носит обичай: да закона побежденний просит От победника, сей же тому да владеет. К тому мир знает, яко сили ми довлеет, Да с римским царем сяду купно же и равно, не тако, аще его ученик есм. Явно Се всем укорение. Но уже и время мину ученичества; егда мал бех, бремя Сие на меня не бяше, – ныне, на престоле княжем сидяй, поддам мя учителской воле? Доселе бех невежа, и навеки бяху князы праотцы мои; вси бо почитаху Сих богов несуменно. «Убо от них безумних порожден есть Владимир?» – Кто от многоумних Боляр не повест тако? И не токмо сие рекут, но (что им сердце уязвит лютее) Рекут, яко не ради вери приях веру, но страха ради, хотяй завещанну миру Крепост дати, аки би страшна мне со греки бран была… (189)«Слово»
«Не наносил ли сердцу его бес горделивый высокого помышления: от кого веры учитися имаше Владимира? от христиан ли, иже имени твоего ужасаются, и множицею тобою были побеждены? Победители дают закон побежденным, ты хочеши прияти от побежденных? Толикий владыка рода твоего от инородных учения просиши? Господь отечества твоего от странных, наследник князей российских от пришелец, еще же и в возрасте совершенном? Посмеются тебе велможи твои, и кто не речет, яко аще ныне учишися, убо от млада до селе безумен был еси? К тому же и от безумных отец и праотец рожден наречешися: яве бо сотвориши, яко весь род твой, чтуще боги своя, не ведяши истины слепе и невежда бяше. Не буди тако. Не наводил ли, сказую, такого высокоумия дух гордыни? обаче не преклонися на совет его Владимир святый. Посла по странам веры испытоваши, пуская слух по себе, яко невежда есть, яко не имать истины, яко от иных помощи требует. Кто сему смирению удивится? Никодим святый князь сый жидовский к самому владыце своему Христу не смеяше во дни приите, но нощию прииде ко Иисусу; Владимир же святый ясно и явно во всем мире Христова учения не устыдился. Кто и когда и в каком народе слыша подобное дело? Который царь, который князь сам посылаше для испытания Христова? Великая добродетель бяше, аще кто готовый проповеди послуша; а Владимир святый сам посылает по апостолов. И что о Христе слыша, еже бы к толикому уверению божества его сердце княжеское подвигнуло? яко сын тектонов бе, нищий, странный, неимеющий где главы приклонити, таже яко злодей со злодеями повешен на древе. Сему подобаше кланятися, сего бога нарицати, сего рабом нарицашися. О тяжестное слышание княжескому сердцу!» (III, 340–341).
Очень энергичный, экспрессивный монолог-размышление, монолог-спор князя со своим «чёрным человеком» определил, как видим, кульминацию «Слова». Таким образом, кульминационный момент трагедокомедии, даже композиционно, совпал с самым пафосным моментом проповеди (31). И. П. Ерёмин, комментируя в трагедокомедии заключительный хор апостола Андрея «со ангелы», указывает, что в научной литературе эти стихи сопоставлялись со «Словом в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» немецким славистом Р. Штупперихом, и даёт соответствующую ссылку (см.: 477). При проведённом сопоставлении обнаружился ещё ряд текстуальных совпадений разных по жанру, но столь близких по идее, по замыслу и воплощению произведений одного автора на одну и ту же тему.
Светский, языческий, яркий и сильный Владимир нарочито был отвергнут драматургом и проповедником в качестве объекта изображения. Тому в «Слове» мы находим обоснование: Владимир, князь и военачальник, победил «легко и скоро» «врагов державы своея», «всюду знатныя следы храбрости своея водрузи», «силный и страшный был в мирских бранех!» (III, 338). Но главная его заслуга, по Феофану Прокоповичу, «есть брань духовная, противу которыя все мирские войны, единым отрочищным игралищем златоустый святый называет» (III, 339).
Показать внутренний мир человека, принимающего столь судьбоносное для своего народа решение, – вот главная задача и драматурга, и оратора. Однако, при всей идейно-художественной близости произведений, эта задача решалась поэтически разными средствами. Эстетически принципиально важно, что новаторски созданная пьеса (первая трагедокомедия на Руси!) породила новый жанр ораторского искусства – художественно-публицистическую проповедь (в отличие от богословских, философских и т. п.).
* * *
Лучшей ораторской речью Феофана Прокоповича в киевский период, без сомнения, является «Слово похвальное о преславной над войскаями свейскими победе, пресветлейшему государю царю и великому князю Петру Алексиевичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, в лето господне 1709 месяца июня дня 27 Богом дарованной». Оно создано по горячим следам Полтавской битвы и произнесено в Софийском соборе в Киеве, в присутствии Петра I 10 июля того же года; отпечатано в составе брошюры под заглавием «Панегирикос, или Слово похвальное», там же было напечатано ещё и стихотворение «Епиникион». В издании С. Ф. Наковальнина под заглавием «Панегирикос, или Слово похвальное» помещено предисловие с семью эпиграфами[347] и само «слово» (I, 13–50).
И. П. Ерёмин полный текст предисловия опубликовал в своих примечаниях (459–460), где изложил историю публикации «Панегирикоса» со ссылкой на исследования Т. А. Быковой и М. М. Гуревича и статью В. Н. Перетца «Панегирик Феофана Прокоповича на победу при Полтаве»[348] (460). И. П. Ерёминым установлено, что брошюра (славянский текст, без «Епиникиона»), была издана вторично в Москве накануне торжественного въезда Петра в Москву 21 декабря 1709 года (461). Киевское и московское издания отличаются не только тем, что в киевском издании помещены славянский и латинский тексты, а в московском только славянский, но и ещё и тем, что в московском издании была произведена языковая правка: устранены некоторые украинизмы (461).
Имеющиеся на сегодня экземпляры «Панегирикоса» написаны на разных языках и отличаются друг от друга по составу. Есть экземпляры, где «Панегирикос» дан с латинским переводом, а Епиникион» напечатан на латинском и польском языках. Есть экземпляры, где «Панегирикос» сопровождается «Епиникионом» только на русском языке. Весьма обстоятельно историю публикации «Панегирикоса» дал В. П. Гребенюк в «Обзоре произведений панегирического содержания первой четверти XVIII века»[349], опубликовав «Панегирикос» вместе с «Епиникионом»[350].
Предисловия как композиционная часть «слов» и «речей» не были повсеместными, далеко не все «слова» и «речи» Феофана и его коллег-ораторов имели предисловия. Чаще всего они предпосылали предисловие к тем «словам» и «речам», которые предназначались для издания. Обязательными были предисловия к учебникам, специальным, научным или переводным книгам, например: предисловие Феофана Прокоповича к «Уставу морскому» или предисловие Гавриила Бужинского к переводу книги В. Стратемана «Феатрон, или Позор исторический», в которых переводчики, в отличие от церковных авторов, призывали русских читателей к «здравому рассуждению», убеждали не бояться нового, что они прочтут в данной книге. О полезности чтения книги, о необходимости помыслить вместе с автором книги и, наоборот, увидеть не нужное и не полезное призывал Фёдор Поликарпов в предисловии к своему «Лексикону треязычному» (1704). Иосиф Туробойский в предисловии к «Преславному торжеству свободителя Ливонии» призывал читателей не просто удивляться новому, но и принять его. «Отстаивая новое, – пишет Л. А. Чёрная, – авторы предисловий доказывают прежде всего, что новое содержит пользу. Полезность книги – едва ли не основной пункт рассуждений в книжных предисловиях, начиная с XI – XII вв.»[351]. Так, Стефан Яворский в предисловии книги «Знамение пришествия Антихристова» (1703) призывал помыслить человека о кончине своей, в чём следовал традициям тематики и стилистики предисловий, идущим из древнерусской литературы.
Феофан Прокопович в многочисленных предисловиях, сделанных к переводам книг, к собственным книгам, как деист призывал, с одной стороны, уповать на Божью помощь в познании истины, а с другой, обличал суеверие и невежество раскольников, русского духовенства[352]. В предисловиях к «Духовному регламенту», «Правде воли монаршей», к «Слову о власти и чести царской» он занимался просветительской деятельностью, призывал читателей или, как чаще он говорил, «слышателей», к принятию петровских реформ. Авторы предисловий – Феофан Прокопович и его окружение – в «словах» и «речах», точнее, к их отдельным тиснениям, не могли за неимением времени и места столь обширно толковать свои идеи, отношение ко времени, теме и проблеме «слова» или «речи». Для них принципиально важно было указать, где и когда было произнесено данное ораторское произведение, кто был в числе присутствующих (это становилось политически важно, если «слышателями» были царь и его ближайшее окружение).
«Панегирикос», начиная с предисловия, отличается не только панегирическим, чисто хвалебным, пафосом, но, главное, искренностью и эмоциональностью. Последние, на наш взгляд, обусловлены тем обстоятельством, что в психологии искусства называется «эффектом присутствия», в данном случае, присутствия Петра во время произнесения «речи».
«Слуга» и «богомолец», Феофан Прокопович приносит дар монарху, «аще и не драгий», не претендующий на долголетие («вем яко слову моему не жити, но токмо на время явитися, не многократне, но единою токмо слышатися подобаше» – I, 16). Здесь появляется формула самоуничижения, заимствованная из поэтики древнерусской литературы и обыгранная оратором, причём формула пространная, перерастающая в метафору: оратор соотносит своё похвальное слово с простотой и естественностью нравов народа, поэтому столь же естественна и проста его похвала, его «Панегирикос» Петру, не претендующий на риторический перл.
Само деяние значимо («сия вещь всемирного прославления достойная» – I, 16), поэтому оратор произносит слово на русском языке, но обещает перевести его и на латинский язык. Более того, он «присовокупишася к сему и торжественныя рифмы во славу тоеяжде неслыханныя твоея виктории тройственным диалектом, латинским, славенским и польским, сложенныя от мене, помере малаго искуства моего» (I, 17).
Феофан сам обозначил характерную особенность своего творчества: одно событие, факт, образ, явление трансформировались в разные жанры под его пером, причём чаще всего один жанр являлся главным и давал художественную пищу или эмоциональный импульс для рождения другого жанра. Так было с образом Владимира, которому Феофан посвятил пьесу и «слово», так было и с Полтавской битвой, которой Прокопович посвятил «слово» и, по существу, три поэтических творения – «Епиникион» на трёх языках. В конце предисловия Феофан определяет судьбу Полтавской баталии и её героя Петра в искусстве. Он пишет: «Будут сию преславную викторию прославляти будут воспевати рифмотворцы; будут любопытные историографы последним гласити веком образы, знамения и памяти не токмо на великих столпах, стенах, пирамидах и иных зданиях искусным изваянием изображати, но и на малых оружиях и орудиях начертати» (I, 17–18). «Великих риторов громы», «рифмотворския трубы», даже «малыя пищали» принесут радость общей победы всем (I, 19).
Предисловие написано эмоционально, страстно и вместе с тем идеологически выверенно, точно. В нём, безусловно, Феофан следовал тематике и стилистике предисловий второй половины XVII в., но одновременно это предисловие отличается тем, что оно написано к художественно-публицистическому произведению («Слову») и к чисто художественному («Епиникиону»).
Таким образом, Феофан закладывал новую традицию: художественного предисловия к художественному произведению. Поэтому не совсем права Л. А. Чёрная, которая при характеристике предисловий Феофана Прокоповича относит их к произведениям законодательного характера («Духовный регламент», «Правда воли монаршей»), к политико-философским трактатам («Слово о власти и чести царской») через запятую, не проводя разграничений, говорит и о предисловиях к проповедям и панегирикам[353].
У Феофана Прокоповича предисловия к художественным произведениям, как мы видим, иные.
* * *
«Слово о преславной над войсками свейскими победе» (27 июня 1709 г.) открывается риторическим вопросом: «Кое иное дати тебе приветствие и что больше в дар гостинный имамы принести тебе?» (23). Сам проповедник считает, что такая победа требует «неслыханной похвалы», которая породит «от нея общей всероссийской радости извещение» (23).
Суперлативные характеристики переходят в пышную метафору: «Сия неизглаголанная… радость не терпит в нас молчания, ею же возбуждаемый, аще бы имел бых тисящу устен и гортаней, ни единой бы воистинну не было возможно праздновати» (23).
Приступ слова строится традиционно для Феофана: эмоциональный всплеск, риторические вопросы, суперлативные выражения, обращения к античным и библейским образам и соответствующие параллели. Следом идёт развитие темы. Феофан прежде всего даёт довольно подробную характеристику «супостату», т. е. шведам, довольно подробно вторгаясь в историко-политический экскурс о взаимоотношениях Московского государства и Швеции.
Таким образом, Автухович считает, что в этом «слове» стиль Прокоповича отличается от барокко его современников, а «стиль основной части (о причинах и условиях Северной войны) приближается к стилю исторических сочинений. Однако вторую часть – описание битвы – Феофан создаёт согласно поэтике барочного театрализованного “действа”»[354].
Если с утверждением о близости к историческим сочинениям можно и нужно согласиться, то со вторым – нет. Справедливо замечание В. П. Гребенюка о том, что «имеющиеся в “Панегирикосе” исторические параллели не абстрагируют повествование, а конкретизируют и раскрывают мысль автора»[355].
Нарисовав географические российские «пределы», Феофан даёт краткую характеристику десятилетней многотрудной войне со шведами (25). Проповедник пытается объяснить «слышателям», как «супостат» «силу свою над силу российскую возношаше» (26), т. е. проанализировать истоки поражений России в Северной войне. Логика его рассуждений такова: гордость породила слепоту и дерзость. (Кстати, подобный мотив есть в эсхиловских «Персах»: гордыня и стремление возвыситься над миром привели Ксеркса к поражению в войне с Грецией. Для поэтики Феофана Прокоповича характерно обращение к античным мотивам.) Сказав о «супостате» как о сильнейшем воине, о том, что он привык безмерно кичиться, гордиться и народы презирать, оратор сопоставляет шведское государство с российским (подобная антитеза имела место у Эсхила: Персия – Греция).
Интересно решена пространственная организация «речи». Описание географического пространства, огромности государства Российского играет идеологическую роль в «слове»: если Швеция стала обширной от бессилия западных государств, то Россия – благодаря своей храбрости и мужеству (24–25). Эти храбрость и мужественность доказаны в ходе десятилетней брани многими победами: оратор называет Калиш и его героя – А. Д. Меншикова. Победы под городком Добрый, при реке Чёрной, под селом Пропойском. Обличая «свейскую гордость», Феофан приводит исторический случай, будто бы описанный Сигизмундрм Герберштейном в известных «Записках о московитских делах». «Однако, – констатирует И. П. Ерёмин, – в «Записках» этих нет эпизода, о котором… сообщает Феофан» (461). Феофан контаминировал великого князя Василия Ивановича и Иоанна Грозного.
Однако можно допустить, что в данном случае анахронизм и явная историческая неточность были нарочитыми: в данном случае в «слове» проявляется публицистический момент. Для Феофана Прокоповича было принципиально важным связать две параллели: Карл XII – Пётр I и Иоанн Грозный – король польский. Султан назвал короля «зело дерзок», а Ивана Васильевича «великим» (26) – «и не без ума изрече сие султан», – ехидно замечает Феофан Прокопович. Впоследствии турки на себе испытали силу русского оружия, о чём свидетельствуют разорённый Кизекермен и отнятый Азов, – напоминает Феофан Прокопович (26). Историческая параллель подана в явно публицистическом и ироническом виде, что будет столь свойственно и в дальнейшем для всей ораторской прозы Феофана, да и в целом для его поэтики.
Весь данный историко-публицистический пассаж предназначен был для обличения гордости «супостата», побеждённого ныне и на себе познавшего силу российскую. Гордыня не только породила слепоту, «но слепота сия вельми его («супостата». – О.Б.) умножаше дерзость… самой убо ради таковой дерзости великий и лютый супостат наш бяше. Но и, кроме того, силен воистинну и храбр; ниже бо нам прилично есть не исповедати, еже есть истинно: наипаче егда тим самым является великая победы нынешней слава, яко сильный и страшный побежден есть» (26).
Сказав об причинно-логических истоках Северной войны, исследовав нравственную сторону конфликта, Феофан пишет и об экономической стороне дела: Карл XII ограбил и поработил Литву, Польшу, Саксонию, Курляндию, российские территории. «От толикакого же стяжания колико умножися крепость его!» (26). Феофан вполне признаёт политические и воинские заслуги Карла XII, Швеция действительно стала накануне Северной войны могущественнейшим государством[356].
О влиянии ораторской прозы петровского времени на русских классицистов писали многие исследователи: Ю. Ф. Самарин, А. С. Елеонская, В. П. Гребенкж, Н. Д. Кочеткова. Непосредственно и в большей степени этому влиянию последующие ораторы обязаны именно Феофану Прокоповичу, о чём также писали В. М. Перевощиков, И. А. Чистович, П. О. Морозов, Н. Д. Кочеткова, Т. Е. Автухович, О. М. Буранок.
Со ссылкой на Е. Н. Купреянову и Г. П. Макогоненко В. П. Гребенюк развивает мысль о том, что образ величия русского государства, славы русского оружия и даже поэтика географических названий, т. е. пространственная организация «слов» и «речей» Феофана Прокоповича, повлияла на поэтику од Ломоносова[357].
Отметив в «Слове похвальном над войсками свейскими победе» многие обстоятельства, в силу которых «супостат», т. е. Карл XII, напал на Россию и имел первоначальный успех, Феофан особым образом выделяет «коварные наущения и тайные руководительства от проклятаго зменника», т. е. Мазепы (26). «Лютая и трудная брань» завершилась победой или, как пишет оратор, «веселым концем увенчанное лето» (27).
Феофан задолго до Ломоносова и в этом «слове», используя синонимический ряд, вводит образ мира и тишины. Оппозиция «брань, война – мир, тишина» Феофаном обстоятельно комментируется: «Первее бо, всем вестно есть, како тягчайшая брань есть во пределех своего отечества, нежели во чуждих: внутрнний страх и боязнь, разбегаются и криются жители, престают купли, оскудевают мытнищи, отечества имением питается и богатеет супостат и ничего же не щадит, яко чуждаго, но и, кроме потребы и нужды своей, разграбляет и разоряет» (27). Феофан исследует причины, усугубившие тяжесть Северной войны для России, – «брань внутр земли»: война, ведущаяся на своей территории, война оборонительная, которая приносит несравнимо большие беды для отечества, нежели война на чужой территории. Более того, «внутрнняя брань не простая и не обычная»: «не сам бо токмо собою яряшеся супростат, но прицепишася к нему и полчища зменническия, и зло ко злу приложися» (27). Формула удвоенного зла определила пафос негодования оратора, с одной стороны, и подчеркнула значимость победы над врагом, с другой. Поступок Мазепы Феофан Прокопович сравнивает с ночным разбоем («брань нощная»): против России объединились «двоих противных стран оружия» (27).
Далее оратор обращается к Петру и его силе духа, крепости сердца, которое «не боится военных громов, не поколебается страхом, не унывает во злоключении» – «Крепко убо и недвижимо есть сердце твое!» (28).
«Свейскую брань» Феофан сопоставляет со второй «Пунской», когда римляне сражались с «Аннибалом». Сопоставив эти две войны (вновь использует историческую параллель), Феофан переходит к анализу собственно Полтавской битвы.
Панегирик полтавскому полю – не столько восхваление в духе жанра, сколько проявление искренних чувств, обусловленное поэтикой и риторикой того времени. Но пространство постепенно локализуется и сужается от грандиозного описания России до действительно поля битвы русских и «свейских» войск, а затем идёт реальное, действительное описание боя с историческими, правдивыми до мелочей подробностями. Феофан уже как историк «цепляется» за каждую известную ему реалию битвы.
Это в русской художественной литературе одна из первых батальных картин, описывающих битву и главного её героя – Петра I. Пётр находился в гуще сражения, проявляя личную храбрость в бою, что также нашло отражение во всех исторических, мемуарных и художественных произведениях, стало общим местом при описании Полтавского сражения. Но именно Феофан Прокопович впервые в ораторской прозе живописует батальные сцены, в центре которых изображён Петр и как полководец, и как воин: «…страшный и славный позор!..посреде острия мечов, посреде огненных градов, посреде многотысящных всюду летающих и свирепеющих смертей, ни смерть, ни язва не приближися к тебе…» (I, 37). Далее следует знаменитый пассаж о «железном желюде» (т. е пуле), пробившем «шлем» Петра, но не повредившем венценосной головы. Действительно, не только шляпа, но и седло, на котором восседал царь, были прострелены. Феофан Прокопович и этот факт обыгрывает в «слове», противопоставляя мужество Петра бегству из-под Полтавы Карла XII. На риторический вопрос: «Ныне же что сотворися?» – Феофан отвечает восторженно: «Да слышат грады, и страны, и царствия, да слышит и удивляется весь мир!» (32). А на вопросы: «Кое се наше блаженство? Кое благополучие?» – оратор в духе поэтики древнерусской литературы отвечает формулой: «Напоиша землю нашу врази кровию своею, иже пришли бяху пити кровь ея; отяготеша трупием своим, иже мышляху отяготити ю игом своим; повергоша себе под ноги нам, иже на выя наша наступати готовляхуся» (33). Здесь несомненно влияние на Феофана «Слова о полку Игореве» через жанр-посредник – воинскую повесть (хотя, безусловно, самого «Слова» Феофан знать не мог).
Далее он описывает логическое продолжение Полтавской битвы, т. е. бой у села «Переволочны», произошедший 30 июня 1709 г.: огромное количество шведов после поражения устремились на юг Украины, где их настиг А. Д. Меншиков и в результате боя заставил сдаться. Феофан не только здесь точен как историк, но и при упоминании о дальнейшем преследовании шведов русским отрядом под командованием генерала Волконского. На реке Бук была одержана ещё одна победа над шведами, но Карл и Мазепа всё-таки смогли сбежать в Турцию. Отступление шведов и две новые победы русских даны Феофаном ещё и в свойственном для него сатирико-панегирическом стиле (соединение двух стилей): он открыто издевается над шведами, хромотой Карла, изменником Мазепой – и, наоборот, воспевает силу и храбрость русских, описывая «верх победительной славы» (33). Феофан в этой части слова прибегает к Вергилию (анекдоту из его биографии), говорившему: легче отнять дубинку у Геркулеса, чем хотя бы один стих у Гомера[358]. Следом за обращением к Вергилию упоминается Марс: «Твой же Марс, о монархо всероссийский, мужественне того из рук ему исторже» (34), а затем параллелизм Пётр – Карл XII обыгрывается на библейских образах: Давид – Голиаф. Воспевая торжество России, Феофан иронизирует над «свейскими» войсками и с сарказмом вопрошает: «Где гордость, где кичение о своей храбрости, где презорство первое, им же вся народы яко безсильныя презираху» (34). Сославшись на изречение Соломона (гл. XVI): «Неблагодарное упование, яко зимний иней, растанет и излиется, яко вода неключима», – Феофан осудил неблагодарность «зменника» Мазепы: не хотел жить «в чести» (35).
Для Феофана-политика важно то, как эта великая победа отзовётся в других странах, в книгах исторических, в народной памяти. Оратор подчёркивает самостоятельность этой победы: без всякой иноземной помощи были повержены непобедимый доселе Карл и «зменник Мазепа»: двоих «змиев, две лютыя ехидны сильне растрезал и умертвил еси» (36). Значимость произошедшего подчёркивается метафорическим изложением библейской легенды: Пётр, «яко Самсон», «растерзал льва свейского» (36).
Заключение «слова» выдержано в сугубо панегирических тонах, Феофан поёт славу русскому воинству, звучит отголосок упоминавшегося выше метафорического образа битвы-пира из древнерусской литературы, но в трансформированном, эмоционально ином виде: появляется образ вина радости и наступившего услаждения, всенародного веселья, ликования, единения царя и воинства: «Достоин царь таковаго воинства и воинство таковаго царя» (36). Перед тем, как обратиться к Богу, чтобы он укрепил эту победу, Феофан (уже как церковный деятель) надеется, что «проклятая уния, имевшая в отечество наше вторгнутися, и от своих гнездилищ изверженна будет, святая же православно-кафолическая вера благополучне прострется» (37).
Светское по содержанию, «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе» ещё очень близко к традиционному жанру проповеди. Прославляя апофеоз Северной войны – Полтавскую баталию, Феофан Прокопович воспевает подвиг русского народа и Петра Великого, но не выходит в целом за традиционные рамки в освещении темы «войны и мира»: Стефан Яворский, Гавриил Бужинский, Феофилакт Лопатинский в своих словах и речах так же обыгрывали эту оппозицию, так же прославляли Петра (другое дело, что под их пером всё это приобрело божественную окраску).
Через 8 лет Феофан вернётся к теме Полтавской победы и произнесёт 27 июня 1717 г. в Троицком соборе «Слово похвальное о баталии Полтавской» (48–59), о чём будет подробнее говориться ниже, в разделе о Петербургском периоде творчества Феофана-оратора.
* * *
В словах и речах Феофана Прокоповича, как было отмечено выше, присутствует драматургический элемент. Это не было его изобретением. Так, у Стефана Яворского, кроме эпического элемента, был и драматический, что в своё время заметил ещё Ю. Ф. Самарин. Однако то, как Стефан-проповедник вводил в свою ораторскую прозу драматургический элемент, не устраивало Самарина: «Драматическая форма нисколько не условливается у него самим содержанием; это одна только форма, фигура вопрошения, которую можно приложить ко всему»[359]. Недостатком проповедей Стефана Яворского, по Самарину (сославшемуся на мемуарные источники), является манера их произнесения – чрезмерная мимика и жестикуляция, которые учёный считает излишними, даже неприличными: «Слишком выдающееся лицо проповедника производит самое невыгодное впечатление и делает его похожим на актёра»[360]. Феофан же был куда более строг, академичен, хотя эмоций, пафоса и в его «словах» и «речах», безусловно, хватало, но актёрствовать при произнесении проповеди Феофан Прокопович не призывал и себе не позволял.
Взаимовлияние драматургических и ораторских жанров – это отдельная тема при изучении литературы Петровской эпохи, предмет специального исследования. Однако наши наблюдения свидетельствуют, что как таковых «разговоров», диалогов в «словах» и «речах» Феофана Прокоповича практически нет, в отличие от проповедей Стефана Яворского, который и в этом шёл за западными католическими авторами[361]. Если Стефан Яворский пытался смешить своих слушателей, то Феофан Прокопович использовал сарказм, иронию, сатиру, но на поводу у слушателя не шёл. Даже в торжественных, благодарственных проповедях, что называется, сделанных «на случай», «мы не узнаём в Стефане Яворском, – пишет Ю. Ф. Самарин, – современника, принимающего живое участие в том, что вокруг него совершается»[362].
Действительно, сопоставление «слов» Феофана Прокоповича и Стефана Яворского по случаю победы русских войск под Полтавою свидетельствует, что Феофан Прокопович создаёт, по существу, новый жанр в ораторской прозе – батальную живопись, а Стефан Яворский высокопарно, скучно и длинно витийствует: Карл XII сравнивается у Яворского с Навуходоносором, с лютым зверем львом, рыкающим на Россию; зачем-то проповедник пытается обыграть месяц, в котором произошла битва, описывает некие знамения и т. д., и уже только в финале «речи» он славословит Петра[363]. Даже сами названия «слов» Яворского несут в себе старые традиции. Так, по случаю победы русских над шведами при взятии Шлиссельбурга в 1703 г. Стефан Яворский сочинил «слово», название которого состоит почти из ста слов: «Колесница торжественная, четырьмя животными движима, от Иезекииля пророка виденная на новый год от Р.Х. 1703, художествам проповедническим уготованная»[364]. Ю. Ф. Самарин подробно пересказывает с обильным цитированием эту «речь» Стефана Яворского, так же как и следующую «речь», созданную в 1704 г. и посвящённую взятию Дерпта и Нарзвы. И опять в названии и этой «речи» есть аллегоричная «колесница четырёхколёсная»[365].
Собственно о победах в этих «речах» или о силе духа, патриотизме русских солдат или о Петре сказано немного, и эти «речи» отличаются витиеватостью, напыщенностью. Нельзя не согласиться с Ю. Ф. Самариным, который ничего значительного в них не нашёл[366]. Он не отводит Стефану Яворскому места в одном ряду с Дмитрием Ростовским и Феофаном Прокоповичем[367], причём исследователь считает, что пороки проповедей Стефана Яворского относятся не только исключительно к нему, но к целой школе, из которой он вышел и которую потом возглавил[368]. Вывод Ю. Ф. Самарина является строгим, но, думается, справедливым. Учёная и искусственная проповедь XVII столетия, чуждая современной жизни, вместе со Стефаном Яворским и его учениками, последователями в первой трети XVIII в. прекратила своё существования, чему способствовала, прежде всего, деятельность Феофана-оратора.
* * *
Об одном из самых ярких «птенцов гнезда Петрова», А. Д. Меншикове, Феофан Прокопович не раз писал в разных «словах» и «речах».
«Слово похвальное в честь славных дел Александра Даниловича Меншикова» было произнесено в присутствии князя в Киеве 5 декабря 1709 г. и напечатано было в типографии Киево-Печерской лавры. В эпиграфе выражена главная идея «слова» – «восхвалим мужи славны» (I, 52). «Слову» предпослано предисловие, в котором проповедник нарочито опровергает идею, заложенную в эпиграфе: «Всякая добродетель чуждого похваления не требует, сама себе слава и похвала сущи: кольми паче преславные дела твоя, княже» (I, 53). Антитеза «слово – дело» и в предисловии, и в данной «речи» обыгрывается как одна из характерных черт поэтики Прокоповича-оратора. В духе Петра и его реформ молодой проповедник раз и навсегда уяснил примат дела над словом в политике Петра. Есть в предисловии и отзвук древнерусской традиции нарочитого принижения автора по отношению к объекту его изображения – формула самоуничижения: «Не требоваху украшатися словом моим», «что убо худое слово мое к толикой славе? капли поистинну к морю пространному» (I, 53).
«Речь» открывается риторическим вопросом и даже сомнением, можно ли по внешности человека, по его «образу» судить о его делах и характере? Феофан утверждает, что «сие недоумение ты нам ныне разрешаеши, превеликий и превожделенный гостю, княже» (I, 57). В личности Меншикова его прежде всего интересуют «многие великие дела»: «на поли ратном», «в советех царских», «в правлении воинском», «в случаях и нуждах отечества», «в помощи царю». Далее панегирический стиль «слова» подкреплён пышной, витиеватой метафорой: смотрящему на струи воды необходимо поискать источник, из которого изливаются потоки, «поищем источника всех толь славных его превосходительства добродетелей» (I, 60). Однако политически эта метафора была коварной: общеизвестно было, что родители Меншикова происходили из «подлого» сословия. Хитрый Феофан изворачивается, прибегая к новой метафоре: «Но что глаголю искати источника? о Ниле славной реце Египетстей глаголют, яко начало его неизвестно есть» (I, 60). В итоге, по Феофану, источником всех и вся в России является Пётр I и верность ему. «Сия есть семя, корень, источник, сия начало и глава есть всех его трудов и подвигов» (I, 60). Усматривается влияние античной риторики и традиции древнерусского стиля «плетение словес». Тема верности монарху и любви к нему, а значит, к отечеству – одна из основных в «слове». Отсюда проистекают верность царю и отечеству, а затем трудолюбие, храбрость, а от неверности – разорение, слабость, коварство. В «слове» хорошо видно, как вырабатываются основные черты поэтики ораторской прозы Феофана: метафоричность, умеренная, строго взвешенная витиеватость, исторические параллели, чувство политической сиюминутности, актуализация речи, неоднократное обращение к «слышателям».
Рассуждение о верности и любви светлейшего к монарху сменяется рассуждением о любви монарха к подданным. «Аще бо кого монархи любят, не в суе любят» (I, 62). Феофан вдаётся вновь в далёкие исторические параллели, характеризуя любовь монарха и советника: Иосиф у Фараона, Давид у Иоанна, Ванеас у Давида, Ефестион у Александра – «то ныне есть сей Александр у Петра» (I, 63). Феофан закладывает в «слове» основы института фаворитизма в России и, как всегда, это делает основательно: исторические параллели, примеры из античной и библейской истории (высокие образцы должны были у слушателей вызвать уважение и положительные эмоции).
Отметая упрёки в лести, подобострастии, Прокопович стремится идеологически обосновать этот институт, но при этом не забывает о психологической проработанности проблемы. Верность царю и отечеству доказывается далее конкретными со стороны Меншикова делами, подвигами, поступками; и вместе с тем Феофан вводит понятие искренности: не просто любовь, а искренняя любовь Меншикова ко всему российскому народу – вот высшая степень патриотизма. «Аще бо любить главу, любить всё тело: любить корень, любить ветви: любить основание, любить всё здание» (I, 63).
Из многочисленных «преславных дел» А. Д. Меншикова Феофан выделяет три его победы на поле брани и делает «слышателей» участниками этих битв, говоря:
– «Воззрим на поле Калишское» (I, 64). Рисуется батальная сцена, которая вслед за «Панегирикосом» открывает батальную словесную живопись в отечественной литературе. С полным знанием дела (вплоть до расстановки полков), с характеристикой географии битвы, Феофан описывает это сражение.
– «Пусти очи на Батурине» (I, 65). Здесь в меньшей степени характеризуется сама битва, а в большей степени из уст Феофана сыплются проклятия на голову изменника – Мазепу. Вновь обыгрывается оппозиция «верность – измена», усугубляемая коварством, отступничеством «изменника-супостата». Только верность и храбрость князя разрушили «гнездилище и прибежище всех сил противных» (I, 66).
– «Прейдем отсюду под Переволочну» (I, 66). Радость от «преславной победы Полтавской» трансформируется в радость от того, что сотворил светлейший князь под Переволочным: бежавших с полтавского поля битвы врагов Меншиков преследовал, избивал, уничтожал.
Верность Меншикова характеризуется у Феофана эпитетом «многоплодна» (I, 67).
Для Феофана-философа характерен мотив общественной пользы. «Тщание» должно быть полезным не только для себя, но и для общества: «глаголах о делех добру общему полезных» (I, 67) – помощь нуждающимся, заступничество и особенно помощь церкви («волнуемой святой церкви подает руку помощи» (I, 69). Обращаясь к Меншикову, оратор восклицает: «Вся твоя дела и деяния пекущагося о добре отечества нашего велика воистинну и славна суть, но единаго того меншая» (I, 68).
В 1709 г. Феофан Прокопович был уже префектом училищ киевских, поэтому в «слове» находим прошение оратора от имени всего «училищного собрания» о заступничестве, чтобы светлейший князь принял их под своё «защищение» (I, 70).
За много лет до написания М. В. Ломоносовым «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 года» Феофан поднимает тему российского юношества, тему просвещения. «Дом сей училищный в крепкое твое приимеши призрение, возрастут и умножатся учения и училища; велико бо здание великаго основания требует» (I, 70). «Просветитель в рясе» (Н. К. Гудзий) призывает умножить «доброхотство» к учению российских юношей, от чего «всей России немалая пребудет слава» (I, 71).
Не преминул обыграть имя светлейшего князя. В конце речи он сравнивает Александра Меншикова с Александром Великим, а любовь и верность Ефестиона к Александру сравнивает с любовью Александра к Петру I (I, 71).
Сам Александр Невский является ангелом-хранителем князя Меншикова. «Чудное воистинну смотрение! аки бы отродился нам Невский оный Александр: тожде имя, таяжде храбрость, тоежде благочестие, единый и тоейжде земли обладатель, единаго и тогожде народа супостатскаго победитель» (I, 73). Феофан имеет в виду генерал-губернаторство новой столицы А. Д. Меншикова и присвоение ему титула князя Ижерского. В этом проповедник усматривает божий промысел и божеское покровительство своему герою. Всё «божиим призрением исполнится: будет, будет», – утверждает Феофан Прокопович (I, 73).
«Речь поздравителная светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову» не датирована, помещена последней в конце третьей части «Слов и речей» Феофана Прокоповича, однако издатель С. В. Наковальнин даёт примечание: «Сие и следующие слова проповеданы в Киеве, а которых годов неизвестно» (III, 254).
«Речь» небольшая, буквально на одну страницу; по своей краткости, она не могла быть произнесена ни в Софийском соборе, ни при большом скоплении народа; скорее всего, это «речь-тост». Главная мысль «речи» соответствует одной из идей предшествующего «слова»: в лице Меншикова присутствующие лицезреют «лице монаршеское, аки в живом зерцале» (III, 351). Вновь использует художественную деталь «двойного медальона»: Иоанн – Давид, Ефестион – Александр и Александр – Пётр («Петру во Александре поклоняемся» – III, 352). «Речь» носит чисто комплиментарный характер и не отличается каким-либо риторическим изыском.
«Проповеди Феофана Прокоповича значительно разнятся от произведений прежней школы и во многих отношениях гораздо их выше. Даже на первых его проповедях, читанным им в Киеве, лежит отпечаток совершенно нового стиля»[369]. Нет неуместных повествований и обильных цитат, трудных словесных пассажей, излишних и замысловатых символических образов, меньше риторических фигур, неуместного комизма, ненужной драматизации.
Учащийся Славяно-греко-латинской академии Иван Кременецкий, живший в доме А. Д. Меншикова, написал к именинам князя «Ляврею или венец безсмертныя славы Александру Даниловичу Меншикову во знамение победителныя почести соплетеся» (СПб., 1714)[370]. Автор в стихах и в прозе неумеренно восхвалял Меншикова, сравнивал его с солнцем, с блеском драгоценных камений и т. п.
И. Кременецкий пытается доказать благородное происхождение А. Д. Меншикова, будто бы происходившего от дворян княжества Литовского, обстоятельно говорит о воинских заслугах князя, особенно во время осады Азова. Осада и взятие Азова предстают как «страшное позорище»: «Вопляше до небес и страшными на ответ противным полкам, гремяше арматы, стеняше земля и бурным возмущением трясашеся море»[371]. Трафаретным, в духе Феофана Прокоповича, является в этом слове обыгрывание имени: сравнение Меншикова с Александром Македонским и Александром Невским, а также и то, как обыгрывается дружба и верность Меншикова Петру I. Указание на близость А. Д. Меншикова к царю, на его верность являлось общим местом в ораторской прозе этого периода, есть оно и у Кременецкого: «Зрит царь, и се он (А. Д. Меншиков. – О.Б.) за него на мечи, на копия, на стрелы, на огни, на тысящу смертии готов есть простертися»[372]. Оратор перечисляет славные победы, в которых участвовал А. Д. Меншиков, в том числе Полтаву и бой у Переволочной. Копирование ораторских приёмов Феофана Прокоповича не сделало эту «речь» И. Кременецкого сколько-нибудь значительной в литературном наследии Петровской эпохи.
Таким образом, киевский период весьма важен в судьбе Феофана-оратора.
Здесь он определился идеологически как приверженец идей и деяний Петра, здесь произошёл его, на наш взгляд, достаточно решительный отход от западноевропейского барокко, в том числе в его восточнославянском варианте. Широта политических взглядов Феофана Прокоповича как российского общественного и культурного деятеля сказалась и в том, что уже в этой части своего ораторского наследия он сознательно и принципиально перестаёт быть представителем только Малой России, что демонстрирует даже такой пример, как всё меньшее употребление украинизмов.
Прочитав курсы поэтики и риторики, Феофан жанрово оформил проповедь – «слово» – «речь». По сути дела, у него это был один ораторский жанр, который варьировался в зависимости от темы, приближаясь то к собственно проповеди, то к «речи», то к «слову». Уже в этом периоде его не стесняло то обстоятельство, что с церковной кафедры церковный деятель произносил не только сугубо церковные, но и чисто светские, политизированные, заострённые публицистически «речи».
Вызванный Петром I в Петербург, Феофан Прокопович приедет в северную столицу отнюдь не новичком и не учеником, а уже известным общественным, политическим и культурным деятелем России, в том числе и сформировавшимся, блестящим оратором. В Феофане Пётр нашёл того человека, который не только был ему предан, но и интеллектуально был ему подстать. «Он посвятил своё слово Петру Великому и стал посредником между ним и народом»[373]. «Оправдание преобразования – вот тема торжественных и похвальных слов Феофана Прокоповича, его задача как оратора»[374].
Контрольные вопросы
1. Какое место занимала ораторская проза в культуре Петровской эпохи?
2. Назовите виды красноречия Петровской эпохи. В чём сущность каждого из них?
3. Назовите виднейших ораторов Петровской эпохи. В чём своеобразие их ораторских выступлений?
4. Какие периоды выделяют исследователи в ораторском творчестве Феофана Прокоповича? В чём своеобразие каждого из них?
5. Как учёные (и какие именно) оценивают ораторскую прозу Феофана Прокоповича киевского периода?
6. Какие темы и проблемы поднимает Феофан Прокопович в ораторской прозе киевского периода?
7. Каково идейное и художественное своеобразие «Слова приветствительного на пришествие в Киев его царскаго пресветлаго величества» (1706)?
8. Когда создано «Слово о равноапостольном князе Владимире…»? Каково его идейно-художественное своеобразие?
9. В чём специфика образа Владимира в одноименной трагедокомедии Прокоповича и в его же «Слове о… Владимире…»?
10. Как трагедокомедия Феофана Прокоповича повлияла содержание и поэтику «Слова о… Владимире…»?
11. Какова структура и художественное своеобразие «Панегирикоса» Феофана Прокоповича?
12. Каково назначение предисловий в ораторских произведениях Петровской эпохи?
13. Какие произведения Петровской эпохи (автор, название) сопровождаются предисловиями? В чём своеобразие этих предисловий?
14. Какие исторические параллели проводит Феофан Прокопович в своих речах киевского периода?
15. Какие художественные средства и как использует Феофан Прокопович при создании батальной картины в «Слове о преславной над войсками свейскими победе»?
16. В чём своеобразие речей о Полтавской битве у Феофана Прокоповича и Стефана Яворского? Как в них раскрывается образ Петра I?
17. Какие речи (автор, название) посвящены А. Д. Меншикову? В чём их идейно-художественное своеобразие?
2. Ораторская проза петербургского периода
Петербургский период (1716–1736) в жизни и творчестве Феофана Прокоповича является судьбоносным. Дело не только в том, что Прокопович стал иерархом русской православной церкви, правой рукой Петра во всех делах духовных (до самой смерти царя), но именно в эти последние двадцать лет художник сформировался как активный сторонник русского классицизма, его непосредственный участник. Это, на наш взгляд, можно убедительно продемонстрировать на примере ораторской прозы Феофана Прокоповича.
14 октября 1716 г. Феофан Прокопович прибыл в Петербург по личному указанию царя, а уже 28 октября говорил «речь».
Первой петербургской «речью» Феофана стало «Слово похвальное в день рождества[375] благороднейшего государя царевича и великого князя Петра Петровича» (октябрь 1716 г.), произнесённое в Троицком соборе. Царевич родился 29 октября 1715 г. (463). Как известно, с его рождением и в царской семье, и в государстве связывались далеко идущие планы[376], поэтому Феофан Прокопович посвятил царевичу несколько своих «речей» (463)[377].
Царя в столице не было в момент произнесения Феофаном первой петербургской «речи» (находился за границей); тем не менее, судя по титульному листу, «слово» было отпечатано в виде брошюры 14 февраля 1717 г.
«Слово» открывается метафорой, обращённой к «слышателям»: оратор уподобил день рождения наследника престола «чистому и тихому утру», первой ласточке, цветению дерева. «Еще плодов на древе не видим, а рясным цветом утешаемся; еще жатва к делу не позывает, а, на зеленые нивы смотряще, радуемся» (38) и объясняет причину радости и веселья: «Нашему богоданному царю дарова бог наследие» (38). Для Феофана, историка и политического деятеля, рождение царского сына – событие политическое, общественное, это «есть великая всенародных благ надежда, общаго благополучия ожидание, блаженства всероссийскаго семя, корень, основание» (38). Он обращается к юному наследнику: «День убо рождества твоего не точию яко царскаго дому радость, но и паче яко наш всемирный праздник блажим и прославляем» (38).
Далее оратор уточняет жанр данного ораторского произведения, называя это «слово» «беседой», отсюда и доверительность, «домашность» интонаций, и при этом – серьёзное рассуждение о важных политических вопросах.
«Сия беседа» композиционно имеет две части. В первой части «беседы» оратор рассуждает о сущности монаршей власти, при этом вдаётся в историю монархии, осуждает непрочность королевской власти в Польше, республику дожей в Венеции, швейцарскую систему и т. п., противопоставляя им самодержавную, монаршую власть в России. Он рассуждает о крепости государства, монархии, где «по наследию проходит скипетр, а не по избранию предается»; и как историк Феофан перечисляет огромное количество разных государств – и древних, и новых: «вси вид монаршеский, вси скипетра наследуемое имущыя» (39). И, наоборот, в Польше, Венеции, Генуе, Швейцарии, в которых нет самодержавного правительства, наследуемого, «коликим бедствием отверста стоит демокрация и аристократия» (41). Эта часть во многом перекликается со «Словом о власти и чести царской», созданным двумя годами позже. Таким образом, можно совершенно определённо сказать, что Феофан Прокопович ещё задолго до получения от Петра заказа на написание «Правды воли монаршей» уже думал над этой проблемой и практически сформулировал основные её идеи (предположим даже, что, ознакомившись с этой «речью», Пётр и дал такие поручения Феофану). Проблема власти и народа, проблема престолонаследия, патриотическая тема, проблема войны и мира, тема Петербурга как новой столицы, тема просвещённого монарха в связи с Петром I – вот далеко не полный перечень глобальных проблем и тем, поднятых оратором в этой части «слова» на день рождения царевича Петра Петровича.
Кульминацией «слова» является прославление России: «Поднесла главу Россия, светлая, красная, сильная, другом любимая, врагом страшная» (46). Эта фраза стала ораторской формулой, употребляемой Феофаном во многих следующих «словах» и «речах» (особенно сильно она прозвучит в словах 1725 г. – на погребение Петра I и в память о нём). Во второй части «беседы» Феофан, обращаясь к «слышателям», призывает помнить о том, «что царские сыны не так родителем своим, яко своему всему отечеству раждаются» (47), т. к. спокойствие державы, «щастия народного долгоденствие» напрямую зависят от наследника, от продолжения царского рода.
Феофан Прокопович обращается к Петру I как к отцу, понимая радость отцовства, желает здравия и отцу, и сыну. Не мог только что появившийся в столице молодой политический деятель не раздать комплименты в адрес царицы, царевича Алексея, всему царскому дому. Заканчивается «слово» призывом к России «ликовать и благодушествовать» (48).
Так в устах проповедника традиционное поздравление с днём рождения прозвучало как яркая политическая «речь», это было одно из первых рассуждений Феофана Прокоповича исключительно на общественно-политические темы. Здесь он предваряет свои будущие политические трактаты «Слово о власти и чести царской» и «Правда воли монаршей»[378].
* * *
В первом томе «Слов и речей» Феофана Прокоповича ошибочно опубликована как принадлежащая ему «речь»
Ивана Кременецкого – «Речь которою его царское величество Петр Первый по возвращении своем из чужих краев в Санктпетербург именем всего Российскаго народа поздравлен» (21 октября 1717 г.). Её принадлежность И. Кременецкому установил И. П. Ерёмин (5). Однако показательно, что С. Ф. Наковальнин включил данную речь в состав «слов» и «речей» Прокоповича, настолько они похожи, и эту «речь» многое объединяет с «речами» Феофана Прокоповича петербургского периода.
Ещё одним доказательством, подтверждающим правоту И. П. Ерёмина в отношении авторства И. Кременецкого («речь» в честь возвращения Петра I из чужих краёв от имени всего российского народа), является то обстоятельство, что Феофан Прокопович двумя днями позже, т. е. 23 октября 1717 г., на эту же тему произнёс «Слово во время присутствия его царского величества, по долгом странствии возвратившагося»[379] (60–67; см. примечания, 466). Феофан же написал «речи» от имени Петра Петровича и цесаревен. Приветствие Ивана Кременецкого близко феофановским приветствиям и по духу, и по стилю.
А. М. Панченко отметил, что «писатель, сочиняющий по обету или внутреннему убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по заказу или прямо “по указу”. Пётр делал такие заказы или лицам, или учреждениям, Славяно-греко-латинской академии, например (дана ссылка на П. П. Пекарского – О.Б.). Это самый распространённый писательский тип петровского времени. Илья Копиевский и Иван Кременецкий, вообще типографские справщики во главе с самим Фёдором Поликарповым – это в сущности литературные подёнщики, такие же, как барон Гюйссен, много прославлявший Петра перед Европой»[380].
Сочинять всякого рода приветствия, слова и речи, поздравления и т. п. «от имени», для кого-то, чаще всего для вышестоящих особ, – традиция, идущая с античных времён. В России такая традиция сложилась в Петровскую эпоху и стала модной в 10—20-е гг. XVIII столетия. В литературной, точнее, ораторской культуре первой трети XVIII века такие «слова» и «речи» (от имени собирательного лица) стали модификацией жанра «слова», хотя бы из-за установки на «автора». Вполне возможно, что это связано с политическим заказом. О том, что это было модным и наверняка приветствовалось властью, говорит тот факт, что служители Петербургской типографии в октябре 1717 г., так же как и Феофан Прокопович, И. Кременецкий и другие, обратились с приветствием к Петру I «По долгом его в Европейских странах путешествии»[381].
«Речь» И. Кременецкого – от имени «всего российскаго народа». Всё вступление (приступ) организовано на повторе глагола «тщится» (значит: желает, стремится, имеет усердие): «тщится» Россия, народ ради бессмертной славы монархии, ради «великих, новых и славных дел», ради «правды и мира», храбрости, трудов и подвигов – «сего предъусрести тщится, его же имя краткое Петр, но в долготу дний вечно пребывающее, прелюбезное и сладкое от тщания России всерадостнаго! тщаяния всеохотнаго!» (I, 176). Сближает эти «речи» и постоянное обращение «к слышателям». Основная часть логически вытекает из приступа. В чём сказалось «тщание» России и «тщание» самодержца? – «Тщанием России, от тщания быти государя ея» (I, 178).
Далее описываются дела гражданские и воинские, что уже сделано в России, упоминается баталия на море и пленение «свейской» эскадры с Шаутбеймахтом в 1714 г. и на двух страницах идёт почти сплошным текстом ответ на то, кто содеял все многочисленные деяния эпохи – Пётр I (I, 180–182). Такого откровенного, льстивого восхваления, неумеренного повтора, что называется, «вперехлёст», у Феофана Прокоповича всё-таки не было, он, безусловно, обладал чувством меры в употреблении повторов, в нагнетании образов. Более 15 раз прозвучало сочетание «Пётр Первый» в «речи» И. Кременецкого, и затем опять почти через каждое предложение повторяются слова «тщится» и «тщание». Словесная формула «тщится Россия, тщится Пётр» доминирует в тексте, риторическая фигура перерастает в словесное злоупотребление. В отличие от «слов» Феофана, у И. Кременецкого нет исторических параллелей, наблюдается слабое использование библейских и античных реминисценций (упомянуты только Гораций, император Август, Ираклий, Ахиллес, Ромул и др.)
Далее от имени российского народа И. Кременецкий описывает печаль, «уныние градов» (I, 191) от того, что так долго не было государя в России. «Возвратился еси, радуемся убо, веселимся, играем и торжествуем» (I, 191). И вновь почти на страницу эксплуатация повтора «возвратился еси». Автор гордится тем, с какой честью и славой принимали нашего монарха и в Англии, и в Голландии, и в Дании, и во Франции. От этого в душе автора наступает «блаженство» (I, 193).
В духе всех ораторов того времени И. Кременецкий обыгрывает значение имени: Пётр – «камень», но есть у оратора интересная трансформация: кто попытается «угрысть» – «сотрёт зубы своя» (I, 194). К этимологии имени Петра неоднократно обращались и Феофан Прокопович, и Стефан Яворский, старший современник Феофана и во многом его антипод. В «Слове в неделю Фомину» Яворский описывает эпизод о ловцах, гонящихся за бедным зайцем, нашедшего своё убежище и спасение под камнем. «О щастливый, который таким образом от смерти избавляется! Камень прибежище заяцем Камень же бе Христос, который ныне язвы свои дражайшыя, аки разселены каменныя показует, да быхом в них имели прибежище и сокровение», а затем идёт переход к Петербургу и императору: «О непобедимые грады прибежища, дражайшыя язвы Христовы! Сохраните императора нашего и весь дом его от враг видимых и невидимых»[382]. Здесь сравнение переходит в чрезмерно замысловатую метафору, барочная поэтика проявилась в её утрированном, худшем варианте: витиеватость стиля мешает внятному выражению мысли. А именно ясности, чёткости мысли требовал Феофан Прокопович и как теоретик, и как художник.
Заканчивается «речь» И. Кременецкого описанием того, как Россия и россияне обращают к царю-самодержцу свои сердца, горящие пламенем любви (I, 195).
И. Кременецкий, судя по этим ораторским произведениям, хорошо был знаком с теорией и практикой ораторского искусства Петровской эпохи. Он усвоил не только классические образцы, но вполне овладел современными для того времени приёмами, языком, поэтикой, риторикой «слов» и «речей». Не случайно то обстоятельство, что даже ближайшее к Феофану Прокоповичу поколение культурных деятелей, людей весьма искушённых в своём деле, приписали эту «речь» Феофану и поместили её в собрание его «слов» и «речей». Она вполне укладывается в общий свод словесной культуры Петровской эпохи. Вместе с тем при ближайшем, текстуальном рассмотрении и сопоставлении «речи» И. Кременецкого с феофановской всё-таки усматривается её вторичность и подражание Прокоповичу, поскольку утрируется его манера.
В рамках той же традиции «речей» «от имени» сочинялись и произносились «речи» от имени детей. Ещё в марте 1714 г. в Петербурге от имени семилетнего Сербана Кантемира, сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира, было произнесено приветственное «слово» к Петру I, а брошюра с тремя переводами этого «слова» (на греческом, латинском и русском) была отпечатана в этом же, 1714-м, году[383]. «Слово» представляет собой сугубо панегирик. Автором мог быть Дмитрий Кантемир или учитель его детей Афанасий Кондоиди. Автор надеется, что порабощённые христианские народы обретут с помощью Петра свободу[384].
Феофан Прокопович также сочинил несколько «речей» от имени детей – царевича Петра Петровича и царевен Анны и Елизаветы[385]. Стало быть, перед ним стояла задача перевоплощения, чтобы хоть как-то в этих «речах» приблизиться и по стилю, и по содержанию и, главное, психологически к юным царевнам и царевичу, которому вообще от роду было два года. Кроме того, необходимо было воспроизвести семейно-интимную обстановку царского дома. Обе «речи» посвящались возвращению Петра I из заграничного путешествия и были произнесены[386] 21 октября 1717 г. (напечатаны же «первым тиснением» заранее, ещё 30 сентября того же года – I, 167–173).
Если царевны счастливы видеть своего отца и благодетеля, если они «телом в дому, духом же в странствии с тобою (отцом. – О.Б.) пребывали» (I, 172), если они о всех перипетиях отцовского путешествия узнавали из писем и газеты (по их признанию, «сказывала нам Ведомость» – I, 172), то младенец Пётр практически не видел ещё своего отца. Мотив грусти и печали доминирует в «речи» Петра Петровича и осложняется метафорой: младенец скорбит о том, что растёт без отца, словно цветок без солнца. «Сиесть проникшу цвету, удалися солнце, и по краткой весне найде зима долгая» (I, 168). Печаль младенца усугубляется ещё и тем обстоятельством, что «не глаголют уста», но «играет сыновняя любовь на приход отеческий». «О скудости твоея возрасте мой!» – восклицает «Пётр Петрович» (I, 168). Оратор добился, используя психологический оксюморон, не только психологической «достоверности», но и комфортности восприятия речи: речь умиляет, вызывает у слушающих добродушную усмешку. Младенец как сын и как наследник и верноподданный понимает необходимость разлуки: «Но таковыя нужды нашея вина есть, общего всего государства добро» (I, 168). Младенец, заканчивая «речь» призывом к отцу крепко держать монарший скипетр, обещает подрасти и тогда «из малого Петра твоего покажет Бог достойно вторым по тебе нарещися Петром» (I, 170). Этому, как известно, не суждено было сбыться: Пётр Петрович умер 25 апреля 1719 г., в возрасте четырёх лет[387].
Тематически к этой речи примыкает речь, созданная Феофаном Прокоповичем через полгода (3 февраля 1718 г.) и посвящённая объявлению Петра Петровича наследником Всероссийского государства (I, 229–232). Анафора («предваряет») в этой «речи» несёт в себе не только эмоциональную, но и идеологическую нагрузку: восход солнца предваряет утро, весна – лето, радость предваряет движение в сердце, желание – удовлетворение (I, 229). Логическая цепь данных образов-«предварений» завершается объявлением наследника: избрание наследником «пресветлейшаго сына царёва предваряет благополучие имущаго царствовати восход его века» (I, 231). «День – век» – кульминация речи, т. к. данный день начинает отсчёт новому веку нового царствования. Желая благополучия, здоровья наследнику, называя его Петром Вторым, Феофан сравнивает младенца с вечнозелёными кедром и кипарисом (отметим несколько мистический характер данного сравнения: известно, что кипарис – символ смерти, что идёт ещё от античной мифологии). Безусловно, что «речь» носила политический характер и своим пафосом полностью подтверждает основные идеи Феофана, изложенные в его политических трактатах.
Самодержавие как единая, сильная государственная власть, по Прокоповичу, – необходимое условие для процветания всех сословий, государства в целом, а потому особо важный смысл приобретает проблема наследования престола.
* * *
Безусловно, и в петербургский период Феофан, согласно своему статусу епископа, архиепископа, первенствующего члена Синода, не мог игнорировать богословскую тематику в своём ораторском творчестве. Так, 25 декабря 1716 г. он произносит «Слово в день рождества господа нашего Иисуса Христа» (I, 121–141)[388], которое изобилует цитатами и ссылками на Евангелие, Библию.
Строгая логика, стройность суждений, доказательность всех выдвинутых им положений характеризуют Феофана, мыслителя и оратора, не только в светских, но и сугубо церковных «словах» и «речах», причём систему доказательств он ищет и в богословских, и в светских книгах (и в этом он сказывается как деист). Достаточно противоречиво утверждение Т. Е. Автухович о том, что «Феофан наиболее сильным регулятором нравственности считает не разум, а веру в бога»[389]. Это противоречие исследовательницы отразилось и на характеристике ею образа Петра I у Прокоповича: с одной стороны, она считает, что «образ Петра I является у Прокоповича выражением общенационального нравственного идеала человека и соответствует прогрессивным устремлениям эпохи»[390] (и это не вызывает возражения), а с другой стороны, заявляет, что «исключительная сложность личности самого Петра не отразилась в проповедях Феофана. Прокоповича интересует лишь официальный облик его героя как государя», «Пётр – исполнитель божественной воли»[391].
Взаимоотношения Петра I и церкви на протяжении многих лет были сложными, противоречивыми, но Пётр неуклонно шёл к цели – ограничить сферу деятельности церкви, исключить её из большой политики, приспособить к своим реформам. Усилия Петра частично увенчались победой: в 1721 г. был открыт Синод как один из государственных институтов, ещё одна коллегия (министерство по управлению церковными делами). Феофан Прокопович как один из членов Синода обратился к собранию с «речью» 14 февраля 1721 г. Характерен эпиграф к «слову», его можно перефразировать применительно к присутствующим: государь избрал членов Синода, а они должны своей деятельностью принести плоды. Собственно об этом во вступлении к «слову» и заявляет Феофан Прокопович: «Нашего монарха промыслом, уставлением и повелением, посылает нас на дело» (II, 63). Оратор призывает силою Бога, невидимо присутствующего здесь, в Синоде, не воздух сотрясать, но «умным вещанием своим мысли и сердца наши проницая» (II, 64), делать важное государственное дело. Идеологически и политически это «слово» перекликается с «Духовным регламентом» и трактатом «Правда воли монаршей».
Почти открыто оратор заявляет о том, что в Синоде собрались не только сторонники петровских реформ, но Феофан считает, что «ко всякому делу приводити делателей» необходимо двумя «сильными способами»: «охотных» – поощрять, а «неохотных» – понуждать (II, 65). Мотив пользы звучит в связи с рождением «сего духовнаго правительства» (II, 65). Он призывает духовных пастырей к просвещению, чтобы не впасть в невежество, в бесовство, чтобы не получилось так, «когда слепии слепых водят» (II, 67). У духовенства, по мысли оратора, огромное поле деятельности, он это поле сравнивает с морем, с нивой, вертоградом. Духовная коллегия, считает он, является тем учреждением, которому «весь сей в России дом Божий вверен» (II, 67–68). Верховным управителем отечества и церкви является монарх как помазанник Божий, прежде всего (II, 68). Строителем и Архитектором этого всего назван царь (II, 70).
Тема «царь и архипастырь» – сверхсложная. Видимо, для Петра навсегда остались в памяти как негатив отношения его отца и Никона, породившие раскол. Не отменяя института патриаршества, Пётр естественным путём тихо «прикрыл» его: местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский был не той фигурой, чтобы всерьёз претендовать на роль Никона. По убеждению Петра, не духовное, а учёное сословие должно обслуживать абсолютную монархию.
Таким образом, ко времени знакомства Петра I и Феофана Прокоповича взаимоотношения царя и архипастыря как светского и духовного институтов резко изменились: впервые в истории России эти институты не могли занимать равное или даже конкурентное положение; начался очень сложный, очень противоречивый диалог культур, светской и духовной. Деист по своим философским взглядам, приверженец абсолютной монархии, человек, получивший весьма обширное образование, Феофан Прокопович задолго до личного знакомства с Петром I уже был его единомышленником и сторонником. Феофан Прокопович хорошо знал теорию абсолютизма.
В. М. Ничик, исследовавшая истоки отечественного, восточнославянского Просвещения, пишет о солиднейшей теоретической базе Феофана Прокоповича, которую составили изученные им труды Гроция, Гоббса, Пуфендорфа, Буддея, работы по русской истории[392]. Сам Феофан Прокопович являлся автором «Росписи князей и царей российских до императора Петра Великого», «Истории императора Петра Великого», «Правды воли монаршей», «Духовного регламента», «Слова о власти и чести царской» и многих других историко-общественных, публицистических, художественных произведений, в которых нашли выражение передовые для его времени идеи.
Таким образом, не только объективные условия (формирование абсолютизма) способствовали оформлению диалога, но сыграл чрезвычайно важную роль субъективный фактор: Феофан Прокопович не конъюнктурно принял идеи реформ – преобразования и Пётр стали для него символами света, прогресса, символами новой России. «Учение о просвещённом абсолютизме, развиваемое Феофаном Прокоповичем, есть результат применения теорий естественного права и общественного договора к пониманию истории русской государственности и насущных потребностей русской державы петровского времени»[393]. При этом он ссылается и на Библию, и на естественный разум человеческий. Рационализм его доказательств, скажем, в «Правде воли монаршей» должен был вызвать чувство доверия у широкого российского читателя.
«Связь с действительностью особенно характерна для Феофана Прокоповича, сумевшего в значительной степени отойти от литературных канонов барокко»[394]. Ю. Ф. Самарин как погрешности стиля отмечает у Феофана простонародные выражения[395], но признаёт, что именно благодаря этим недостаткам у Феофана «чувствуется присутствие жизни; виден живой человек, способный забыться, придти в гнев или рассмеяться и сказать лишнее слово»[396]. В который раз восхваляя проповеди Феофана за их современность, за их живое отношение к действительности, Самарин считает, что это благодаря тому, что «Феофан Прокопович хорошо знал состояние умов, предрассудки и убеждения русского народа»[397].
В отличие от Стефана Яворского, считает Ю. Ф. Самарин, «Феофан Прокопович первый стал изображать живую современность, не переводя её в символы и аллегории»[398]. Проповеди же Стефана Яворского «лишены достоинства существенного» – «общедоступности»[399]. Ю. Ф. Самарин ещё раз подчёркивает: «Существенное свойство и вместе существенный недостаток проповедей Стефановых есть отвлечённость»[400]. Они не связаны с действительностью, с современностью, «речи» Стефана Яворского не были направлены к «живым лицам», «если исключить два или три воззвания из любой проповеди Стефановой, характер проповеди вполне исчезнет и мы получим учёное рассуждение или риторическое упражнение на заданную тему»[401]. Восклицания, аллегории, случайное сцепление мыслей, часто он одну и ту же мысль, фразу, слово десятки раз обыгрывает.
Исследователь считает, что, поскольку Стефановы проповеди «образуются накоплением», следует обращать внимание лишь на вступление и первую страницу[402].
Конечно, Стефан Яворский был весьма образованным для своего времени человеком, о чём свидетельствуют и цитаты из древних, и из новейших авторов, блестящее знание Евангелия, посланий апостолов, он прекрасно знал мифологию, историю. Но вновь прав Самарин, что очень часто всё это в его проповеди было не к месту, например, цитировать он мог целыми страницами. Однако отметим, что последнее обстоятельство характеризует и саму диссертацию Ю. Ф. Самарина: его анализ «слов» и «речей» и Стефана Яворского, и Феофана Прокоповича далёк от аналитического и зачастую сводится к обильному цитированию произведений этих авторов, которое завершается очень коротким резюме оценочного характера.
Его оценки и суждения сводятся к следующему: Стефан Яворский, продолжая католические и южнорусские традиции ораторского искусства, не ответил ни запросам эпохи, ни тем более надеждам царя-реформатора, а Феофан Прокопович, преодолев протестантские традиции, своими оригинальными «словами» и «речами» стал оратором, ответившим на духовные и политические потребности своего времени.
Правда, Ю. Ф. Самарин видит существенный недостаток ораторского наследия Феофана Прокоповича в том, что тот теме церкви (или, по выражению, Ю. Ф. Самарина, «факту церкви») отводил самое второстепенное место, в отличие от Стефана Яворского[403].
* * *
Одной из первых проповедей, произнесённых уже в Санкт-Петербурге, является «Слово о почитании святых икон в неделю первую святыя четыредесятницы» (10 марта 1717 г.).
Обращение к этой теме для Феофана Прокоповича не было случайным: вся вторая половина XVII в. и начало XVIII века прошли в борениях в области церковного искусства между сторонниками Предания, требующими «писать по древним переводам», и иконописцами, подражающими западным образцам[404]. Как считает большинство исследователей, существо данной проблемы заключается не только в борьбе с «плохими иконами» (дело не только в низком ремесленном уровне), но и в тех «идеологических предпосылках, которыми питалось новое направление в живописи»[405]. Православные иерархи испытывали влияние римского католичества, с одной стороны, и протестантства, с другой.
Петровские реформы затронули все сферы жизни русского человека. Всеми духовными и церковными делами по указу царя стал ведать Синод во главе со светским лицом – обер-прокурором. И хотя это произошло в 1721 г., за четыре года до написания анализируемой проповеди, но политика секуляризации церкви уже активно проводилась в жизнь.
«Светскость идеологической платформы, определявшей решение всех важнейших вопросов строительства новой культуры, – такова была первая отличительная особенность духовной атмосферы, установившейся в результате реформ Петра I, – пишет Ю. В. Стенник. – На смену представлениям о греховной природе человека, свойственным официальной культуре допетровской Руси, на смену искусству, направлявшему интересы человека к соблюдению чистоты христианской веры, приходило искусство, основанное на представлениях о человеке как частице иерархически упорядоченного монархического государства»[406].
Эстетические представления нового времени были подготовлены художественными исканиями предшествующей эпохи. Однако, по справедливому утверждению Е. К. Ромадановской, «древнерусские литературные традиции постепенно уступают место художественной системе нового времени»[407], что, на наш взгляд, справедливо в целом для художественного процесса и всей культуры рубежа веков.
В таком историко-культурном, идеологическом контексте создавалось «Слово о почитании святых икон…» Феофана Прокоповича.
Проповедник риторически вопрошает: «Известно всем, что в день сей празднует Православная Восточная Церковь?» (I, 75). И отвечает: «Празднует обновление благолепия своего, возвращение отъятой славы своей, возстановление опроверженных победоносных знамений своих» (I, 75). Православный церковный календарь указывает, что с 6 (19) по 12 (25) марта наступает первая неделя Великого поста, знаменующая торжество Православия, в эту неделю чествуют иконы Божьей Матери[408]. Феофан Прокопович ставит ряд проблем (от чисто богословских, церковных, до эстетических) в связи с почитанием святых икон. Ещё Святой седьмой собор, константинопольские патриархи, московские патриархи Иоаким и Адриан утверждали, как пишет Феофан Прокопович, «правильное поклонение иконам» (I, 92). Однако для Феофана Прокоповича чрезвычайно важно, что царь Пётр, заботясь о церкви, издал указ о том, «дабы тщалися пастыри учити народ правильному святых икон почитанию, и отводити его всячески от боготворения»; проповедник даёт сноску, указывая дату напечатания указа – 22 января 1715 г. (I, 93). Для него принципиально значимо данное обстоятельство: диалог светской и духовной властей[409].
Феофан Прокопович в иконах видит прежде всего «великих дел Бога нашего знамения и трофеи» (I, 75), поясняя свою мысль примером икон Божьей Матери (Богородицы) в момент рождения ею Христа, иконописных изображений распятого Иисуса Христа и святых угодников, пророков, апостолов, мучеников, святителей, постников. Он растолковывает не только сакральный смысл изображённого на этих иконах, но и их нравственно-эстетическое значение. Рождение святого младенца – это акт величайшего милосердия к нам Божия дела; распятие Христа – великое искупление за нас нашего дела; изображения праведных мужей и жён – «образы добродетельного жития» верных служителей дела Божия» (I, 76). «Тако иконы честныя суть победительная дел Божиих знамения» (I, 76), – восклицает проповедник.
Следуя законам риторической культуры конца XVII – начала XVIII вв., Феофан Прокопович ставит под сомнение истинность и святость изображённого на иконах, для чего вводит, как он уже это делал не раз, образ супостата и клеветника, вечного антагониста – дьявола. Антитетичные образы, антитеза – один из любимых художественных приёмов, посредством которых проповедник действует на реципиента: возбуждает любопытство, оживляет восприятие, интерес. Клевета, хитрая ярость, яростная хитрость дьявола, утверждает Феофан Прокопович, состоят в том, что сеется среди людей ядро сомнения в святости икон. Поэтому проповедник вновь задаёт уже не риторические, но требующие серьёзных размышлений и доказательств вопросы: «Аще лепотствуете, и Христианскому благочестию не противно есть?» – «Како и в коем почитании Иконы Святыя имети подобает?» (I, 77). Первый вопрос ставит для русского менталитета первой трети XVIII века сложную проблему соотношения светского и конфессионального начал в жизни человека.
Феофан Прокопович спорит с теми древними и, как он пишет, «нынешними иконоборцами», которые «укоренение икон святых отметали» (I, 77), называя их идолами. Одним из доводов иконоборцев являются слова из закона Божия: «Не сотвори себе кумира, и всякого подобия», но проповедник призывает вдуматься в закон, который сам по себе не запрещает «просто творити и имети образ» (I, 77). Замечательно здесь употребление наречия «просто»: в данном случае Феофан выступает как художник, т. е. речь идёт о художественном образе – иконописцы «лепотствуют». Смысл старославянского слова «лепота»[410] передан, обозначен буквально – красота, слово лишено конфессионального значения. Феофан Прокопович как бы вступает в заочную полемику с церковниками-обскурантами, всё ещё косо смотрящими на политику Петра в области искусства: просто творить, создавать, «лепотствовать» не грешно, каждый имеет на это право. Проповедник действует в унисон реформам царя-преобразователя.
Другое дело – идол. Феофан Прокопович с большим сарказмом описывает этот образ: «Есть то имя греческое умалительное, нашим бы наречием сказать образок», имя это «боготворяемым кумирам присвояется… во смех и поругание» (I, 78). Несмотря на размеры, ценность материала, мифологическую или историческую значимость, идол или образок – «вещь непотребная, безсильная, бездельная» (I, 78). Проповедник использует риторический пассаж: в данном случае синонимический ряд, с помощью которого вновь уничижает это, как он говорит, «умалительное» имя.
Композиция «слова» имеет такой структурный элемент, как тезис – антитезис. Т. Е. Автухович справедливо считает, что «Прокопович в проповедях (петербургского периода. – О.Б.) обнаруживает искусство быть безыскусным: его интересует мысль, а не формальная изысканность. Мысль он может уточнять, развивать, это движение идеи, а не самоцельное усложние риторического приёма. Традиционная аллегорика и толкование эмблем становятся вспомогательным элементом; более характерной для проповеди оказывается убеждающая антитеза»[411]. Так, сделав экскурс в историю иконоборчества, своеобразно проанализировав этимологию слова «идол»[412], Феофан Прокопович обращается к иконам, их истории, их значению.
Как оратор, философ, он всегда был силён, прибегая к историческим аналогиям и здравому смыслу. Вот и здесь проповедник справедливо вопрошает: «…даже и не боготворимую, но истинную и добрую вещь кто запрещает иметь, зачем ее называть идолом?» Ссылаясь на авторитет Священного Писания, труды отцов церкви, Феофан Прокопович подробно излагает историю появления икон, вскрывает своеобразный её генезис: подобие (или знамение), херувим (образ служебного духа), образ змия, образы в храме Соломона, образы голубя и языков огненных – многие из этих образов были видениями, которые посещали Моисея, Исаю, Иезекиля, Даниила (см.: I, 79–80). Феофан Прокопович не склонен причислять к идолам «образы лиц» царей древних, ревнителей христианства. Иконы были принадлежностью церкви с древнейших времён[413].
В «слове» Феофан ссылается на указание древнего историка Евсевия, видевшего медный образ Христа, который поставила в храме некая жена, исцелённая Иисусом от кровотечения (I, 81). Он исходит из того, что только именно эти знамения, символы, образы – чудодейственные, что «се дело Божие» (I, 83). Поэтому со всех точек зрения – исторической, божественной, чудодейственной – честные иконы являются неотъемлемым атрибутом религии и церкви, их нельзя считать идолами.
Вторая часть «слова» посвящена тому, как почитать иконы, т. е. собственно этической стороне жизни христианина. Прежде всего, Феофан Прокопович призывает к прямому, открытому, искреннему, сердечному почитанию икон. Только внешнее почитание (через поклоны, целование и другие жесты) не являет собою прямого чувства, это «душевной любви не знаменует, то ни поклоненье есть» (I, 83).
Честь и знамение, чествование и поклонение – важные религиозно-этические понятия для оратора. Развернув сравнение чести и поклонения к Богу и монарху, Феофан Прокопович призывает в обоих случаях к сердечности, т. к. «известно, что и поклонение таковое есть, яковая и честь поклонением знаменуемая» (I, 84).
Для будущего ближайшего сподвижника Петра I это не барочная игра словами, но имеющая глубокое идеологическое содержание метафора. Подтекст метафоры – никто не может сравниться с почестями и славою Бога: «Не хочет Бог, дабы кто-либо был славимый славою ему приличною, и равный не хощет» (I, 84), а честь и слава монархам – монаршья.
Дабы активизировать восприятие «слова», оратор как опытный психолог неоднократно обращается к «слышателям» не только с риторическими вопросами, но и просьбами, чего мы не наблюдаем у других проповедников той эпохи.
Так, приблизительно в середине данного «слова» Феофан Прокопович вводит развёрнутое обращение к читателю-«слышателю»: «Молю же слышателей не стужите: без сего бо не возможно уразумети надлежащаго учения» (I, 85).
По его собственной оценке, «слово» – не просто проповедь к случаю, но целое учение о почитании святых икон как неких символов веры христовой. Честь Богу – боголепная, верховная, а честь святым – святолепная, приличная.
Проведя такие демаркации, Феофан Прокопович доказывает, что святые иконы достойны почитания «телесными знамениями, целованием, объятием, тела поклонением, честным именем, честным местом и хранением» (I, 86), однако не сами по себе иконы достойны этого высокого почитания, а ради изображённого лица. Бог никому своей славы не передаёт, ещё раз утверждает в «слове» Феофан Прокопович, т. е. проповедник выстраивает чёткую иерархию святынь: по наущению Бога создана Церковь Господня в Иерусалиме, а в ней – святой кивот. И если Церковь – тело Христа, то икона – изображение лиц Христа, или Богоматери, или прочих угодников Божиих (I, 91).
Проповедник не устаёт подчёркивать, что «честны и почитания достойны иконы святыя, не ради своего вещества, не ради мастерскаго искуства» (I, 91–92).
Иосиф Волоцкий писал, что «от вещнаго сего зрака възлетает оумь и мысль к Божественному желанию и любви», верующие «возносят ум от образов к первообразам», о чём говорили на Седьмом Вселенском Соборе, о котором упоминает и Феофан Прокопович[414].
Заканчивается «слово» обращением к православным, чтобы почитали иконы правильно, честно, ибо они – «великих дел Божиих торжественныя памяти», «знаменующие любление наше и чествование образа, ради лица образованного» (I, 94).
В условиях ожесточённой идеологической борьбы начала XVIII века «Слово о почитании святых икон…» явилось ярким примером политики Петра в области культуры, когда «искусство имело ценность прежде всего как одно из наиболее действенных средств пропаганды его политики»[415].
* * *
Лейтмотивом многих «слов» и «речей» первой трети XVIII века являлось рассуждение о власти и чести, применительно к сильным мира сего. Сама государственная власть необходима, по Феофану Прокоповичу, чтобы не нарушался естественный закон, чтобы держать в узде злые страсти людей, охранять человеческое сожительство.
6 апреля 1718 г., в Вербное воскресенье, в Троицком соборе было произнесено Феофаном Прокоповичем «Слово о власти и чести царской»[416], а в августе напечатано отдельной брошюрой. Данное «слово» явилось апологетом манифеста Петра I от 3 февраля сего же года, по которому царевич Алексей лишался права наследовать престол, а вместо него назначался царевич Пётр Петрович (467). Как известно, отношения Петра с сыном Алексеем были чрезвычайно сложными и в конце концов закончились трагедией. «Горечь вызывало не только тяготение Алексея к монахам и кликушам, но главным образом безразличие к тому, чем жила страна»[417]. В это время шёл следственный процесс по делу царевича. Если духовные власти, сделав выписки из Священного писания, положились на волю Божью, то светские чины сочли, что «царевич достоин смерти и как сын, и как подданный»[418].
Власть, честь, правда явились ключевыми словами в идейном обосновании просвещённого абсолютизма, на защиту которого встал Феофан Прокопович, создав художественно-публицистические, исторические и общественно-политические произведения на эту тему: «Слово о власти и чести царской» (1718), «Правда воли монаршей» (1722), «Духовный регламент» (1721), «Розыск исторический» (1721). Прокопович хорошо знал сочинения западноевропейских мыслителей по проблемам государства и права, внимательно изучил сочинения и о древнерусской государственности, он знал труды Максима Грека, Ивана Пересветова, Юрия Крижанича, Фёдора Грибоедова и др.[419] Одновременно с Прокоповичем или чуть позже на эти же темы рассуждают Николай Спафарий, Гавриил Бужинский, Василий Татищев. В системе своих доказательств Феофан опирается не только на Библию, но и на естественный закон, естественное право, общественный договор. Доказательства основаны на постулате естественного разума, который Феофан понимает рационалистически. Естественный человек, по Феофану Прокоповичу, по своей природе склонен к добру, хотя, обладая свободой воли, может творить и добро, и зло[420]. В «Слове о власти и чести царской» он пишет: «Велит нам естество любити себе и другому не творити, что нам не любо», а «злоба рода растленнаго разоряти закон сей не сумнится, всегда и везде желателен был страж, и защитник, и сильный поборник закона, и то есть державная власть» (81–82). Мыслитель высоко ценил естественные, природные законы и очень часто в системе доказательств опирался именно на них: всё живое заботится о своём потомстве, поэтому из семейного права он выводит право гражданское и политическое, чему, собственно, и посвящена «Правда воли монаршей».
Адепт просвещенного абсолютизма, Прокопович считал монархию единственно возможным государственным институтом, обеспечивающим целостность государства, его мощь и процветание. Условие благоденствия внутри государства – просвещённый монарх и послушание верноподданных.
В «Слове о власти и чести царской» первенствующий член Синода заявляет жёстко: духовенство, как и чиновники, пребывает на службе у царя. Феофан Прокопович утверждает, что «и пастырие, и учитилие, и просто вси духовнии имеют собственное свое дело, еже быти служители Божиими, и строители тайн его, обаче и повелению властей державных покорены суть» (88). Светская власть в лице Петра I и духовная власть в лице Феофана Прокоповича объединяются для непосредственного оформления своих идей в качестве законодательного акта при создании «Духовного регламента» (1722). Идея подчинения церкви и духовенства светскому государству «способствовала высвобождению не только государства, но и всей общественной и умственной жизни России, прежде всего науки, литературы, искусства, из-под опеки духовенства»[421]. В сочинении «Розыск исторический…» (1721) Феофан Прокопович и юридически, и исторически обосновывает верховенство светской власти, царя. Духовенство – такие же подданные государя, как и все. «Государь, власть высочайшая, – заявляет он, – есть надсмотритель совершенный, крайний, верховный и вседействительный, то есть имущий силу и повеления, и крайнего суда, и наказания над всеми себе подданными чинами и властьми, как мирскими, так и духовными»[422].
Уже в заглавии «Слова о власти и чести царской» сказано, что эти власть и честь учинены в мире от самого Бога (76), «власть мирская» «от бога устроена и мечем вооружена есть и яко противитися оной есть грех на самого Бога…» (77). Феофан отказывается от намерения «земного царя сравнити небесному» (76). Споря с иудеями, Феофан говорит, что нужно рассуждать не о равенстве этих властей, но как о примере, поэтому нельзя воздавать честь царю, как Богу, надо знать христианское учение о властях мирских. Выстраивая логику доказательности «слова», оратор, прежде всего, рассуждает о свободе. Критики монархии и вообще власти, ссылаясь на учение Христа, говорят о свободе: «Свободил есть нас Христос крестом своим от греха, смерти и диавола Не быти нам под законом, но под благодатию Свободил же нас Христос и от обрядовых законоположений. А от послушания заповедей Божиих и от покорения властем предержащим должнаго не подал нам Христос свободы» (79). Некие мудрецы – и древние «продерзатели», и «нынешние» «мисанфропи, си есть человеконенавидцы» – «всяку власть мирскую не точию не за дело Божие имеют, но и в мерзость вменяют» (79–80). «О изрядныи богословцы, – едко иронизирует оратор, – видите, в каковую мерзость погрязнем, аще вам последуем! Стойте же и силу господню зрите!» (80). Свободу вне христова учения Феофан порицает, ссылаясь на слова самого Христа: «Яко еже есть высоко в человецех, мерзость пред Богом» (не единожды повторяется в слове эта мысль). Каждый желающий счастья себе и отечеству, по Феофану Прокоповичу, обязан «власть мирскую» уважать со «смирением истинным» (80).
Далее оратор доказывает природное, естественное происхождение самодержавия. «Власть верховная от самаго естества начало и вину приемлет» (82), – утверждает Феофан Прокопович; становление её связано с договором, посредством которого народ передаёт свою волю, как бы отрекаясь от неё, одному лицу – монарху. Как церковный иерарх, он тут же добавляет о «смотрении божием»: «Власть высокая от Бога есть» (90). Эта мысль постоянно повторяется в речах Феофана Прокоповича.
Цепь доказательств начинается с обращения к естественному закону: «Таковые законы суть в сердцы всякаго человека: любити и боятися Бога, храните свое житие, желати неоскудевающаго наследия роду человеческому, не творити другому, еще себе не хощещи, почитати отца и матерь. Таковых же законов и учитель и свидетель есть совесть наша» (81). Написанное на сердце, согласованное с совестью и будет являться законным, поэтому, заключает Феофан Прокопович, в число естественных законов попадает власть предержащая в народах – «и се всех законов главизна» (82). Державная же власть – «страж, и защитник, и сильный поборник закона» (82). Народ без власти «описуем… сею притчею: ни царя, ни закона» (82). Люди, «безопасно под таковыми стражами пребывающе», должны знать, «как не добро без власти» (82).
Монарх обязан заботиться об общей пользе, а народ, по Феофану Прокоповичу, должен подчиняться власти. В качестве примера о том, «как не добро без власти», Феофан приводит повесть о Вейдевуте из «Хроники» М. Стрыйковского: в прусском народе не было власти, шла междоусобица, народ терпел бедствия, на совете избрали Вейдевута государем. Первая власть, утверждает Феофан Прокопович, ведёт своё начало «от человеческого сословия и согласия» плюс естественный закон и совесть этого же «искати понуждает», «от сего же купно яве есть, яко естество учит нас и о повиновении властем должном» – «власть державная естественному закону есть нуждна» (82). Затем Феофан Прокопович ссылается на исторические, библейские книги, которые подтверждают, что Бог защищает власть. Оратор ссылается на изречения Даниила Приточника, апостолов Петра и Павла, подтверждая мысль о том, что государям власть дана от самого Бога (84–85). Оратор объясняет, что значит слово «помазанный»: «сие есть: поставлен и оправдан от Бога царствовати», а этимология идёт от древней церемонии, «когда елеом помазаны были избранныи на царство в знамение милости Божией, благоволящей о том» (85). Феофан делает вывод или, как он пишет, «совершенный извет»: «Власть державная суть дело самого Бога» (85).
Мотив власти сменяется в «слове» мотивом чести. Под словом «честь» оратор понимает любовь, верность и даже страх и повиновение. Если же кто сомневается или вопрошает, что такое честь, тот сомневается и в почитании самого Бога. И вновь проповедник в качестве доказательства приводит слова Петра, Иуды, Моисея, Павла, апостольское учение – это учение не только о «всяком господстве», но и учение о «всяком рабстве» (86).
Даже неверным властям Писание велит повиноваться, утверждает Феофан со ссылкой на святое слово Петра: «Бога бойтеся, царя чтите. Раби, повинуйтеся во всяком страсе владыкам, не точию благим и кротким, но и строптивым» (86).
Данное «слово», как никакое другое, насыщено ссылками на Священное Писание, учение апостолов, отцов церкви, библейскими и историческими примерами и аналогиями (упоминаются Давид, Саул, Кир, Навуходоносор, Нерон, Константин Великий, Киприан Тертуллиан). Убедительным примером является для Феофана терпение и повиновение первых христиан их гонителям римлянам, поскольку последние были наделены властью (87).
Власть и честь оратор связывает с совестью и душой; заповедь «чти отца твоего» толкует, ссылаясь на Моисея, как необходимость почитать всем «от души и за совесть» своё государство: «Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество, на них бо висит не одного некоего человека, не дому одного, но всего великаго народа житие, целость, беспечалие» (87).
Далее Феофан рассуждает о «священстве и монашестве» (88) как о некоем институте общества. Может быть, впервые в истории русской церкви Феофан Прокопович в этом «слове» уравнивает их со всеми другими гражданами: «священство бо иное дело, иный чин есть в народе, а не иное государство» (88). Более того, проповедник вновь с опорой на Давида, Соломона, Марка, Луку, Петра и Павла говорит о необходимости для священства покоряться царям, государям (89). Феофан осуждает «междоусобии священства», его попытку «власти судити».
П. О. Морозов, а вслед за ним И. П. Ерёмин (467) усматривают в этой части «слова» выпады Феофана против реакционного духовенства и даже прямые намёки на Стефана Яворского и ростовского епископа Досифея, которые противостояли реформам Петра, отстаивали независимость церкви от светской власти. Безусловно, «Слово о власти и чести царской» – своего рода конспект, квинтэссенция, выраженная в художественно-публицистической форме известного трактата Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей» (1722)[423].
Феофан с помощью обилия риторических вопросов и восклицаний обрушивается на хулителей учения о власти и чести державной.
Полны сарказма две пословицы, которыми он заканчивает риторический пассаж обличения хулителей: «Не довлели мски и львы; туды и прузи, туды и гадкая гусеница» (90).
Приведя обильные цитаты из библейских книг, сделав ссылки на всемирную историю, Феофан Прокопович восклицает: «Но коих мы требуем историй – не сама ли Россия довольная себе свидетельница?» (92). Многочисленные примеры из отечественной истории свидетельствуют, что «безначалие», безвластие пагубно и для России, и для русского народа.
Заканчивается «слово» обращением к россиянам. Оратор просит «слышателей» не его, «недостойного», слушать, а слушать Евангелие, призывает смотреть не на лицо говорящего, а на слово Божие зрить, побуждает каждого, кто слышит проповедь, к диалогу, разговору со своим разумом (91). Своё же скромное «слово» оратор обращает к «слышателям и гражданам» России только с тем, чтобы они не были «властем строптивым» (91), не дерзали бы против монарха пойти. Пётр, по Феофану, тот государь, за которого и умереть – великую себе славу приобрести. Феофан грозит великим «нестроением» и междоусобицей России, если народ такового государя не будет достоин и напоминает из недавней истории эпоху смуты, злодейства Годунова (92). Тех же, кто всё-таки дерзнёт, презрев гнев царский и свою совесть, покуситься на власть и честь царскую, ожидает суд Божий. Но Феофан надеется, что Господь услышит молитвы россиян и спасёт. По Феофану, чернь, недовольная властью и выступающая против неё, является источником анархии, беспорядков, поэтому подчинение власти – всегда благо для государства. Прокопович отводит народу роль подчинённых, которые обязаны неукоснительно выполнять свой долг, однако верховная власть обязана в своей деятельности исходить из принципа общенародной пользы. «Идея “всенародной” пользы красной нитью проходит через все общественно-политические сочинения Прокоповича. Именно в её реализации видит он смысл установления государственной власти»[424].
* * *
«Речи» произносились в связи с государственными событиями, церковными праздниками, знаменательными датами, так сказать «на случай», но всегда Феофан Прокопович умел актуализировать содержание «слова», заострить внимание «слышателей» на важных философских, политических, нравственных проблемах.
«Слово в день святаго благовернаго князя Александра Невскаго» было произнесено в Александро-Невском монастыре 23 ноября 1718, в день памяти святого, издано в 1720 г. отдельной брошюрой (467–468)[425]. Александр Невский – фигура знаковая и в древнерусской культуре, и в культуре нового времени. Пётр I заботился о воскрешении памяти этого политического деятеля Древней Руси, потому что политические аллюзии напрашивались сами собою: победа над шведами, получение прозвища Невский. Весной 1704 г. Пётр лично выбрал место для будущей лавры, курировал строительство монастыря; в 1724 г. по его же указу были перенесены мощи святого из Владимира в Петербург; Александр Невский считался одним из небесных покровителей новой столицы – это всё широко известные факты Петровской эпохи.
Публицист не мог пройти мимо этого знакового для Петровской эпохи образа. В «слове» заметно влияние древнерусских традиций жития и воинской повести, тем более что житие об Александре Невском (что в медиевистику давно и прочно вошло) создано в жанре воинской повести[426]. Культ этого героя утверждался во многих произведениях Петровской эпохи. Тот же Феофан Прокопович ещё в своих киевских «словах» и «речах» с Александром Невским сравнивал Петра I и Меншикова (о чём мы уже выше писали).
«Как мне спастися?», «Како живот вечный наследити?» (94) – так же как и в «Слове по долгом странствии возвратившагося», эпиграф взят из Евангелия от Луки и носит философский характер. Прокопович не берёт на себя всю полноту ответа, «ибо ответ господень сугубое дело содержит, яко же от евангельской повести слышахом: “Возлюби же господа твоего и ближняго твоего”» (94). Любовь к ближнему – это прежде всего исполнение своего долга не только перед Богом, но и перед людьми, перед Отечеством; и следует это делать так, как делал благоверный князь Александр Невский.
«Суетное» и «непотребное» следует отринуть, необходимо «творити имать по званию своему, сиесть: что царь, что подчиненные ему судия и правитель, что воин, что купец, что брачный и что безженный творити и чего не творити долженствует» (96). Совершенно в духе Петра I оратор размышляет об обязанностях гражданина, при этом он ссылается на «естественный разум» (97), что, впрочем, не противоречит, по Феофану, и учению о Боге – каждому своё. Сарказмом наполнены и прямые, и косвенные намёки проповедника в адрес монахов: «Судия, на пример, когда суда его ждут обидимии, он в церкви на пении. Да, доброе дело. Но аще само собою и доброе, обаче понеже не во время и с презрением воли божия, како доброе, како богоугодное быти может? Ищут суда обедимии братия и не обретают А для чего? Судия богомольствует. О, аще кая ина есть, яко сия молитва в грех!» (97–98). Вывод прост: вроде бы утрируя ситуацию, Феофан поднимает важную государственную проблему – прежде всего дело как служение Отечеству и государю. Вновь оратор напоминает о необходимости проверять свои деяния «разумом естественным» (98). «И просто рещи, всяк разсуждай, чесого звания твое требует от тебе, и делом исполняй требование его. И то дело спасенное, то дело богоугодное и всякое по чину звания своего первейшее, главнейшее и нужднейшее» (98–99). Выдвинув политически значимый синонимический ряд «мир – блаженство – тишина» и образ-метафору «корабль всемирного жительства», Феофан Прокопович во многих «словах» и «речах» сделает эти понятия ключевыми. В «Слове в день Александра Невского» художник несколько трансформирует образ корабля; у корабля появляется кормчий, – государь, сохраняющий «в волнении корабль цел» (100). Происходит актуализация извечных, освящённых Писанием истин, а в качестве иллюстраций дано жизнеописание Александра Невского, причём на первом месте его воинские, государственные заслуги (то же самое мы наблюдали в «Слове о равноапостольном князе Владимире» и особенно в трагедокомедии «Владимир»). Долг перед Отечеством и государем, а уж потом перед Богом – лейтмотив всего творчества Феофана Прокоповича, особенно при жизни Петра I.
«Как спастися?» – вновь задаёт оратор вопрос уже в конце слова и даёт ответ: следуй за «разумом естественным», «священным писанием», подражай делам «ныне празднуемого угодника божия», т. е. Александра Невского, – «дело, яко дело» (101).
* * *
Проводя многочисленные аналогии из отечественной и зарубежной истории, Феофан Прокопович неутомимо отстаивал идеи мира, тишины внутри государства. Теории естественного права и общественного договора он приноравливал к русскому абсолютизму, открыто поставив их на службу петровским преобразованиям.
Обеспечивая «целостность отечества», согласие внутри государства, процветание и благосостояние его, монарх, по Феофану Прокоповичу, печётся о международном авторитете своего государства, борется за его безопасность. Мыслитель ставит проблемы войны и мира, рассуждает об истоках «злых» и «добрых» войн в контексте европейского общественно-философского процесса.
Проблемы мира, внутреннего порядка, просвещения граждан, их благосостояния, правосудия, государственной безопасности и т. д. – вот обширнейший круг обязанностей монарха, нарисованный Феофаном Прокоповичем. Этому он посвятил специальную «Христову о блаженствах проповедь толкованиях» (1722). В предисловии к «Книге уставу морскому» (1720), написанному совместно с Петром I, Феофан Прокопович пропагандирует необходимость укрепления российской армии и флота.
Внимание идеолога петровского времени к проблеме «война и мир» вполне естественно: жизнь россиян на протяжении всех 35 лет царствования Петра I проходила под знаком войн, состояние полного мира сохранялось всего лишь год. Феофан Прокопович и к этой проблеме подходил с позиций Просвещения. В основе его учения о человеке лежит идея микрокосмоса. Деист, он в духе эпохи Возрождения гармонически уравнивает человека и природу, гиперболизируя разум и его способность превосходить природу. Отсюда пороки и не контролируемые разумом страсти порождают в обществе зло, войну.
«Слово похвальное о баталии Полтавской» Феофана Прокоповича было произнесено 27 июня 1717 г., а через месяц напечатано отдельной брошюрой[427].
Феофан Прокопович говорит о всемирной славе и общеевропейском значении Полтавской победы (49–50), о «лютости и силе супостатской» (50). В первой части «слова» доминирует мотив зависти и гордыни (а это – один из смертных грехов): гордыня свейская, презрение, с каким относились иноземные державы к новой России и её молодому правителю (51).
Феофан как историк рассуждает об истоках этой зависти и неприязни, анализирует причины негативного отношения к России со стороны европейских держав. «Что ж тут скажем? – риторически вопрошает оратор и тут же даёт ответ. – От рода завистником было видети еще в России многия недостатки к силе совершенной. То не крайняя ли возъярися в них зависть, егда увидели все то, чего не желали, исполненно! Возрасте в совершенный возраст сила и слава российская дивным ко всем и еще первым таковым своим монархом, богомвенчанным Петром» (52). Восхвалив «вельможи, военачальницы и воини росийстии», оратор перечисляет победы, которые предшествовали Полтавской баталии.
Вновь воскрешается в «слове» мотив «гордой зависти и завистной гордости» (54) – происки европейских стран, а также измена Мазепы, о котором Феофан говорит весьма экспрессивно: «О врага нечаяннаго! О изверга матери своея! О Иуды новаго!» (54). Внешние и внутренние происки создали тьму, смуту, «бедство» – и всё это продолжалось восемь месяцев, но пришёл день победы. Оратор чрезвычайно эмоционален в этой части «слова»: четыре восклицательных предложения, и в центре одно слово – «Виктория!» (56).
Описание самой битвы перекликается с тем, что оратор уже писал в 1709 г. И вновь в центре описания боя Пётр I и знаменитый эпизод с пробитой шведской пулею шляпой монарха: «О шляпа драгоценна! Не дорогая веществом, но вредом сим своим всех венцев, всех утварей царских дражайшая!» (57). Оратор переполнен патриотическим чувством: «Виктория твоя, о Россие! Виктория!» (57). Он обличает «зависть и гордость» – именно они «воевали с нами», считает Феофан Прокопович. Затем он высочайшим образом оценивает «плоды поля Полтавского» (58), которые имели огромное военное, политическое, нравственное значение. «Под Полтавою, о россиане, под Полтавою сеяно было все сие, что после благоволили нам Господь пожати» (58). С неё пошла слава и благополучие России. Заключает речь Феофан благодарностью к Богу за помощь в этой битве (59).
При жизни Петра тема Полтавы была не просто актуальной, но и политически ангажированной. Вслед, а затем и параллельно с Феофаном Прокоповичем многие ораторы откликались на неё, приурочив свои «речи» особенно к юбилеям битвы. Так, к десятой годовщине (которая очень пышно отмечалась[428] во всей России и особенно в Петербурге) 27 июня 1719 г. произнёс своё «слово» Гавриил Бужинский[429].
«Слово» Бужинского построено в соответствии с правилами риторики того времени. По композиции оно традиционно: вступление, основная часть, заключение; обязательное и обильное цитирование библейских текстов, трудов отцов церкви.
Собственно самой Полтавской битве отведено в «слове» небольшое место, при этом Бужинский во многом опирается на ставшие в литературе Петровской эпохи классикой «Панегирикос» (1709) и «Слово похвальное о баталии Полтавской» (1717) Феофана Прокоповича. Эти переклички отметил В. П. Гребенюк[430].
Видимо, тема измены Мазепы и в 1719 г. оставалась политически весьма актуальной, поэтому и Феофан Прокопович, и Гавриил Бужинский спустя десятилетие вновь заостряют внимание слушателей на ней. Вслед же за автором «Панегирикоса» Гавриил Бужинский пышно и витиевато восхваляет Петра, его личное участие в битве, повторяет ставший традиционным эпизод с простреленной шляпой. Однако, в отличие от Феофана Прокоповича, литературным шедевром эта «речь» Гавриила Бужинского не стала, т. к. и на уровне идей, и художественно Бужинский идёт лишь вслед за своим знаменитым предшественником.
Н. Д. Кочеткова, сравнившая проповеди Стефана Яворского, Гавриила Бужинского и Феофана Прокоповича, сделала справедливый вывод о том, что у Феофана, в отличие от других, «религиозный аспект, как правило, заметно приглушен, а в некоторых проповедях и совершенно отсутствует», тема Полтавской битвы приобретает у него «патриотический смысл», а сама «проповедь перестаёт быть проповедью в собственном смысле этого слова и становится произведением светским, жанром публицистическим по преимуществу»[431].
К 17-й и 18-й годовщинам взятия Нотебурга (Шлиссельбурга) были произнесены Гавриилом Бужинским два «слова» – «Ключ дому Давидова» (1719) и «Слово о взятии Нотенбурха» (1720)[432].
В первой «речи» взятие крепости, по Бужинскому, явилось ключом для основания новой столицы, а ключарь – Пётр I. Дом Давидов – это Россия. Оратор вдаётся в историю 90-летней давности, когда шведы отобрали русские земли, а сейчас историческая справедливость восторжествовала – и всё это благодаря Петру I.
Во второй «речи» Бужинский-оратор, как и Феофан Прокопович, обращается к древней и новой истории России, вспоминает о княжеских междоусобицах, осуждает эпоху смуты, Петра сравнивает с Давидом, поражающим Голиафа (под Голиафом, естественно, понимается Карл XII), обыгрывается этимология имени Петра I – «каменный», а взятие Нотебурга – каменное основание для создания российской твердыни.
* * *
Тема флота, морских сражений, связанных с ними побед для Петра была чрезвычайно важна, поэтому многие ораторы Петровской эпохи уделяли ей большое внимание.
«Слово похвальное о флоте Российском»[433] (1720) Феофана Прокоповича является в его ораторской прозе одним из лучших. Созданное в связи с конкретным событием – победой русских моряков над шведскими (27 июля 1720 г. недалеко от острова Гренгаме), это «слово» вместе с «Предисловием к доброхотному читателю» к «Уставу морскому» – блестящее выполнение Феофаном политического заказа Петра I своему сподвижнику. Только Прокопович как историк и политик смог в полной мере оценить историческое значение создания флота и воспеть как оратор.
Метафора «плоды пожал меч российский» (103) – лейтмотив приступа «слова». «Слово» обращено к России, поэтому соответствующее обращение («О Россие», «Россия») звучит в каждом риторическом периоде произведения. Феофан отмечает личный вклад Петра «к устроению флота великаго» и объясняет это не только историческими, политическими, военными соображениями, но и эмоционально: «Воспламенися царево сердце к водным судам» (104). Истоки этой любви – всем известный ботик Петра.
Не преминул Феофан сообщить и о том, что вся эта история изложена в предисловии «Морскаго регуламента»[434], который им был написан в соавторстве с Петром.
И. З. Серманом, А. М. Панченко, другими авторами, в том числе и нами, был поставлен как литературная проблема вопрос об изучении соавторства Петра I и Феофана Прокоповича. Однако и на сегодняшний день всё это является лишь подходами к теме, а нужны специальные разыскания: скорее всего, ещё не все труды Петровской эпохи открыты, и научная разработка этой проблемы ещё предстоит.
Сказав об историческом, политическом и военном значении создания флота, Феофан Прокопович вновь прибегает к одному из своих излюбленных доказательств в логике рассуждений – апелляции к естественному, природному. Не только скипетр и меч, но и флот – «древодельная орудия» – делают Петра I гармоничной личностью: «Не урод телом, но дивен делом, многоручный нарещися достоин» (106). Намёк на общеизвестную в петровское время фразу: когда Пётр был без флота – был только с одной рукой, обрёл флот – стал с двумя руками. О полезности и нужности морского флота рассуждает оратор много и обстоятельно в середине слова и сравнивает Московское государство, т. е. Россию до Петра, – с Танталом: «Стоим над водою и смотрим, как гости к нам приходят и отходят, а сами того не умеем и по тому и наше море не наше» (107). Вину за это Феофан возлагал на «заморских соседей» (107) и на российское нерадение. Кроме военной пользы, от флота есть польза экономическая – сильный стимул для развития торговли.
Оратор подчеркнул необычность именно этой «морской виктории» (при острове Гренгаме), т. к. русский военный флот одержал победу над шведской эскадрой при неблагоприятном ветре (110–111, 468). Отдельный риторический период посвящён тому, как ветер «противился победе нашей, того ради явственно показал славу нашу, так что викториа нынешняя может таковым надписанием украшенна быти: неприятель и ветр побежден есть» (111).
Не раз выражение о сыновьях Сиона, возрадовавшихся о царе своём, являлось эпиграфом к «словам» и «речам» Феофана. В этом же «слове» Феофан Прокопович начинает с этой почти библейской цитаты заключение «слова», обыгрывая и цитату, и называя «сыновей российстиих» «народом славенским», ведя этимологию от слова «слава», что, как указывает И. П. Ерёмин, во времена Феофана было научным убеждением, разделял это мнение даже М. В. Ломоносов (469).
Как мы уже отмечали, теме российского флота и его победам было посвящено в ораторской прозе того времени много произведений. Идеологически и художественно наиболее близко к Феофану Прокоповичу эту тему разрабатывал Гавриил Бужинский. Он духовно «окармливал» (курировал) русский флот, будучи его обер-иеромонахом. 27 июля 1719 г. на корабле «Ингермоландия» в Ботническом заливе он произнёс «Слово о победе, полученной у Ангута»[435]. Сама победа состоялась 27 июля 1714 г., поэтому слово приурочено к пятилетней годовщине победы у мыса Гангут.
Как и Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский обосновывает и оправдывает идею справедливых войн. Северная война, по его глубокому убеждению, «брань праведная». Со ссылками на ветхозаветных святых – Авраама, Моисея, Давида, а также на блаженного Августина, также на новейших авторов, среди которых, хотя и без упоминания, но есть и Феофан Прокопович, даётся философия войны и мира[436]. Затем идёт очень краткое описание битвы, а точнее, оценка Гангутского морского сражения[437]. В заключение, описывая символы римских и христианских императоров, он делает вывод, что самый лучший символ – это символ Петра («С нами Бог»)[438]. «Слово» пришлось по душе Петру I, поэтому его повелением оно было напечатано 2 мая 1720 г., на что указал оратор в последнем абзаце слова при его публикации[439].
* * *
Любимой мыслью Петра I, его постоянной заботой было установление «генеральной тишины» в Европе, при этом война понималась им как единственная возможность обеспечения целостности и благополучия России. Это требовало политических интриг, бесконечных коалиций, сепаратных переговоров… – и в итоге мира с одними ради войны с другими (и наоборот!). Феофан Прокопович последовательно проводил в жизнь идеи Петра (а в сущности, идеи века). Могущество России «купил нам… самодержец наш не сребром купеческим, но Марсовым железом» (I, 112).
«Слово о состоявшемся между империей Российскою и короною Шведскою мире» Феофана Прокоповича произнесено 28 января 1722 г. в Успенском соборе в Москве и посвящено подписанию 30 августа 1721 в г. Ништадте, в Финляндии, мирного договора между Россией и Швецией, напечатано слово было в августе 1723 г.[440] Северная война для России закончилась успешно, международный авторитет Петра I и России был чрезвычайно высок, поэтому Сенат и Синод обратились к Петру с просьбой принять титул императора и почётные звания «Отец Отечества» и «Великий».
«Слово» Феофана Прокоповича перекликается с «речью» Петра I, которую тот произнёс в Троицком соборе 22 октября 1721 г. после прочтения трактата о заключении мира (470). Пётр в своей краткой «речи» сказал: «наш весь народ» должен «прямо узнать», «что господь Бог прошедшею войною и заключением сего мира нам сделал», но, «надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так сталось, как с монархиею греческою. Надлежит трудитца о пользе и прибытке общем»[441]. Феофан Прокопович, выполняя царский наказ, в своём «слове» действительно объясняет народу российскому историческое и политическое значение Северной войны, столь благополучно для России закончившейся. «Долг великий лежит на всех, как духовных пастырях, так и мирских начальниках Долг на всех таковых лежит беседами, разговорами, проповедями, пениями и всяким сказания образом толковать и изъяснять в слух народа, что мы прежде войны сея были что уже ныне, какова была Россия и какова есть уже, коликую сотвори с нами измену десница вышняго», – говорит Феофан Прокопович (113).
Феофан выступил в «слове» не только проповедником, но и пропагандистом, популяризатором одной из важнейших сторон реформы Петра во внешней политике.
В «словах» и «речах» петербургского периода мы практически не встречаем у Феофана Прокоповича формулы самоуничижения или её отголосков, а здесь она есть: оратор осознаёт «тяжесть, трудность» этого «долга», более того, просит у «слышателей» «благоразсудного снисхождения», ссылаясь на свою «худость». Его как гражданина и проповедника одолевают противоречивые чувства, т. к. он понимает всю ответственность поручения, «со дерзновением и радостию» предлагает он своё «разсуждение» (113). Неоднородные существительные дерзновение и радость в данном контексте звучат как оксюмороны.
Композиционно после нетрадиционного приступа «слово» достаточно чётко делится на две части, обусловленные логикой войны: «Сильный и яростный, и добре вооруженный напал на нелюбимого себе человека, нечающаго, и неоружнаго, и спящаго» – так «России пришлось вступить в войну с силою шведскою» (114). Вновь необходимо отметить психологически точную, выверенную метафору оратора: без барочного витийства, без обилия олицетворений, сравнений, аллегорий и символов, Феофан прибегает к очень понятному образу для слушателей, пример, что называется, взят почти из жизни, бытовой. Но этот как будто бы нехитрый логический ход оратора позволяет сразу эмоционально-оценочно определить нравственную сущность военного столкновения Швеции и России (напасть на спящего, безоружного – подлость).
Оратор предлагает посмотреть на обе стороны военного конфликта, отметив политические и экономические его причины и последствия. Чрезвычайно важна философия войны и мира, которая выстраивается в рассуждениях Феофана Прокоповича. Поэтому данное «слово» чрезвычайно важно в общественно-политических взглядах не только Феофана, но и, естественно, Петра, всех его реформ.
Изучение истории Швеции, хода войны, – убеждает нас оратор, – свидетельствует о том, что по всем позициям Швеция и её народ куда лучше были подготовлены к войне, нежели Россия (114–115). Феофан заключает: «вси свои были: и единоземнии, и единовернии, и единодушнии, и, что всему есть большее, вси равно и по государе и по отечестве своем ревнующыи» (115).
Обращаясь к России, Феофан спрашивает: «Какова ты была прежде войны сея и како устроена к войне?» (115). Оправдываясь перед слушателями и монархом, Феофан говорит, что должен со стыдом констатировать «скудость» на тот период времени отечества нашего во всех обстоятельствах: «Нага воистинну и безоружна была Россия!» (115). Художник рисует некую «емблему», которая, по его замыслу, выразит существо обстановки в России кануна Северной войны – «образ человека, в корабль седшаго, нагаго и по управлению корабля неискуснаго» (115).
Конечно, можно усмотреть в этой метафоре-«емблеме» барочные элементы, однако ещё в античной поэтике появился образ корабля, олицетворяющего государство (у Алкея, Горация и т. д.). Поэтика классицизма вовсе не чуждалась образов, символов, идущих от античности.
В комментариях к этой строке И. П. Ерёмин обращается к фронтиспису «Книги устав морской» (СПб., 1720), на котором помещена гравюра П. Пикарта по рисунку К. Растрелли, на которой изображено на море парусное судно, управляемое нагим юношей. К нему подлетает «Время», слева – Нептун, справа – Марс. Здесь, безусловно, налицо барочная стилистика рисунка. Предклассицизм, ставший основным направлением в эстетике литературы Петровской эпохи, не отказывался от барокко[442]. Однако, вбирая в себя черты барочной поэтики, предклассицизм медленно, но верно эволюционировал к классицизму. Кстати, взаимовлияние литературы и живописи этого времени не только безусловно, но и высоко продуктивно: литература стремится живописать, а на рисунках, гравюрах всегда присутствуют надписи и разъяснения[443]. При этом главным в культуре Петровской эпохи оставалось «слово – публицистическое и художественное»[444]. «Вопросы эстетики рассматривались деятелями русской культуры первой половины XVIII в. чаще всего в контексте решения насущных задач культурного строительства», значимы были общественная и воспитательная функции искусства, его полезность, прикладной характер, «для Петра I искусство имело ценность прежде всего как одно из наиболее действенных средств пропаганды его политики»[445].
Далее в «слове» оратор поднимает важную проблему идеологического оснащения армии вообще и в частности русских войск в начале Северной войны: даже необходимых уставов и «регул воинских» не было, не было надлежащей подготовки к войне – «российский народ не имел того ни в умах, ни в делах, ни в книгах» (116).
Как уже не раз мы отмечали, антитеза «прежде – ныне» – лейтмотив ораторской прозы Феофана Прокоповича, обыгрывается она и в данном «слове». Оратор предлагает нам в качестве аналогии Северной войны вспомнить войну с татарами. «Старики» (или, как ещё ехидно называет их оратор, «батюшки») славили свои походы на Крым, Азов во главе стрелецких войск и ополчений, Феофан же всё это относит к ушедшей эпохе, «прежнему времени», когда была иной даже сама философия, идеология войны; «ныне» всё изменилось и прежде всего потому, что противник совершенно иной.
Надо сказать, что в данной речи Прокопович весьма уважительно говорит о шведах как об очень сильном враге. Татары, турки – «хотя и великая противных сила, да была нам ведома!», – восклицает оратор (116). Шведы же были для российских военачальников противником иным во всех отношениях. Поэтому для Феофана важен не единожды звучащий в слове мотив дерзости, которым оратор сопровождает образ Петра, подчёркивая тем наиболее характерную его черту как политика, военачальника, человека. Пётр и Россия дерзнули «от потешных ексерциций, от притворных баталий в самый жесточайший марсовый огонь» войти; «о дело ужасное!» (117), – восклицает оратор.
Далее идёт риторический повтор той же метафоры о нагом юноше на корабле, дерзающем плыть по морским волнам; Россия уподоблена спящему человеку, на которого внезапно напал враг (117).
Риторических вопросов и восклицаний в этой речи очень много, они становятся неким шаблоном и подчас почти избыточны. Вопросы и восклицания носят не только риторический характер, они перестают быть локализованы контекстом «слова», т. к. являются средством навязывания диалога, его активизации с реципиентом, в данном случае «слышателями», – то, о чём М. М. Бахтин писал как об преобладании авторской активности, который выступает уже не столько от своего лица, сколько от лица всех «слышателей» и даже, мы подчеркнём, всех россиян, т. е. от лица нации, что будет так характерно для поэтики классицизма в целом и, в частности, для классицистической оды[446].
Оратор не скрывает в «слове» горечь поражений в начале Северной войны, трудности и тяготы военных походов. Феофан подчёркивает реакцию европейских стран: «Мир весь со удивлением смотрел на дерзнутое от нас дело, и иннии сболезновали, иннии и ругалися нам» (118). С гордостью оратор говорит о последовавших затем «марсовых акциях» – Калиш, Лесная, Полтава, Нарва, Дерпт, Рига, Ноттенбурх – «в одном времени и вооружала и украшала себя Россиа!» (119). И во главе всех дел – Пётр I, «толикий и толь дивными талантами обогащенный муж» (119).
Достаточно откровенно, не скрывая распрей даже в царской семье, Феофан Прокопович описывает взросление и мужание Петра, его становление как государя (120–122). В его судьбе были происки родной сестры (царевны Софьи), восстание стрельцов и даже трагедия Петра-отца: «Сыновнее (како сказати сие, да как же и умолчать!) сыновнее на отца востание» (121). Оратор усматривает даже некоторую пользу в том, что случилась Северная война, позволившая России и её государю, несмотря ни на какие препятствия внешние и внутренние, окрепнуть и закалиться (123). Уважение к врагам перекликается с известной мыслью самого Петра о шведах как «учителях».
Впервые в русской общественной мысли именно в данном «слове» прозвучали новые титулы Петра – император и Великий (124).
Заканчивается «речь» Феофана рассуждением о мире и его плодах. Замечательно, что главным плодом он считает «умаление народных тяжестей», «плод мира есть общее и собственное всех изобилие», «плод мира есть всяких честных учений стяжание» (125).
Очевидно созвучие идей Феофана о мире с образом тишины в ломоносовских одах. Хотя и имеется большая и значительная литература о влиянии Феофана-оратора на М. В. Ломоносова-одописца, но всё же, на наш взгляд, детально тема «Феофан Прокопович и Ломоносов» ещё не разработана[447].
Проблемы войн справедливых и несправедливых, войны и мира, воинского долга поднимаются в «речах» многих ораторов переходного времени, например, у Симеона Полоцкого («Беседа о брани»), Кариона Истомина (орация «Егда же услышите брани и нестроения, – не убойтеся»), Гавриила Бужинского, Стефана Яворского, Феофилакта Лопатинского, Феофана Прокоповича[448].
«Слово о благодарованном мире» Феофилакта Лопатинского было произнесено 1 января 1722 г. в Успенской церкви Кремля, напечатано 1 марта того же года в Москве, описано и издано впервые после первопечатных текстов В. П. Гребенюком[449].
Темой мира и правды открывает оратор свою проповедь[450]. Истоки мира он видит в Полтавской битве, в Северной войне. Так же как и Феофан Прокопович, оратор указывает на трудности, внешние и внутренние неурядицы в ходе Северной войны, происки турок, англичан, мазепинскую измену[451].
Так же как и Феофан Прокопович, указывает на отсутствие в России регулярного войска, флота. Лопатинский так же, как это не раз делали Стефан Яворский, Гавриил Бужинский и Феофан Прокопович, обыгрывает этимологию имени Петра и тему «Пётр – архитектор, строитель». «Слово» Лопатинского наполнено многочисленными обращениями: «слушателии», «любопытнии», «злобобонные суеверцы», «суесловнии астрологи», «буесловнии язычистии волсви и жрецы»[452], у Феофана Прокоповича чаще всего встречается обращение к «слышателям»; причём и у того и у другого обращения были не только к сочувствующим, но и к враждебным слушателям. Лопатинский, как и Феофан Прокопович, восхваляет Петра, называя его императором и Великим[453]. Есть в слове Лопатинского и благодарение Богу, что «таковую победоносную войну, еюже оружие российское во всей вселенней прославилося, даровал таковым миром скончати», что «таковаго государя даровал нам»[454]. Здравицей «государству Российскому и Петру Великому» заканчивается «Слово о благодарованном мире» Феофилакта Лопатинского[455].
* * *
Особенность ораторской прозы Феофана Прокоповича заключается в том, что отправной точкой каждого «слова» или «речи» всегда являются (даже в произведениях религиозного свойства) политические события, к которым в то время относились не только жизнь общества, но и жизнь двора. Можно ввести понятие событийный раздражитель[456], действующий в равной степени не только на автора литературного произведения, но и на реципиента. Таким событийным раздражителем в «Речи к его величеству государю императору Петру Великому, говоренной именем святейщаго правителствующаго Синода у синодальных ворот, что в Китаи, при торжественном входе с победою от Дербента, декабря 18 дня 1722 года» явился восточный поход Петра (II, 99—101).
«18 июля 1722 года русские войска во главе с Петром отплыли из Астрахани к югу вдоль западного побережья Каспия. Их было 22 тысячи человек. По суше двинулись 9 тысяч кавалерии и вспомогательные казацкие и татарские отряды численностью в 50 тысяч человек. Высадившись в районе устья реки Терек, русские наголову разбили войска выступившего против них султана Махмуда, а затем без боя заняли город Дербент. Однако из-за того, что от бури пострадали суда с провиантом, пришлось поход приостановить. Пётр, основав крепость Святой крест, вернулся в Астрахань. Поход продолжался под командованием генерала А. Матюшкина. В декабре был занят город Решт. В июле 1723 года после четырёхдневного обстрела сдался Баку»[457].
Н. И. Павленко более обстоятельно и подробно описывает поход, указывает на его трудности. Однако историки склонны считать этот поход триумфальным окончанием многолетних воинских деяний Петра. «13 декабря 1722 года состоялся торжественный въезд Петра в Москву. Триумфальную арку украшала панорама с изображением Дербента и панегирическая надпись на латинском языке: “Сию крепость соорудил сильный или храбрый, но владеет ею сильнейший и храбрейший”. Основателем Дербента был Александр Македонский»[458].
«Путь», «путник», «поход», «спутешествовать» – ключевые слова-образы в «речи» Феофана Прокоповича о Дербенте.
Мотив пути здесь имеет явно выраженный аллюзионный характер: художник психологически тонко обращает нас к библейскому пути праведников, сопоставляя Иакова и его знаменитое путешествие с восточным походом Петра. Феофан Прокопович даже в этой весьма лаконичной «речи», рассчитанной в произнесении всего лишь на 5–7 минут, в который раз обыгрывает этимологию имени Петра (что стало в его поэтике штампом): «каменный» царь покоряет «челюсти Кавказские» и овладевает «вратами железными» (автор делает сноску к своей речи: «Город Дербент турки прозывают Темир Капи, т. е. врата железная» – II, 100).
Психологически точен и ещё один аллюзионный момент в «речи». Именно под этими арками в Москве уже не раз за 20-летнюю Северную войну шли пленные шведы, поэтому, встречая победителя «полуденной страны», Феофан вспоминает «страну полунощную» – Швецию и взятие «Ноттенбурга» – «Ключ-града». Образ разворачивается шире, становясь метафорой, в которой третьим уровнем сопоставления является образ апостола Петра с ключами от рая: «и тогда и ныне сокрушити вереи, отверсти двери крепкия, и тезоименному Петру приятием ключей уподобися благоволил тебе» (II, 100). Все врата и двери отверзаются перед Петром, сам Бог ему помогает: «И не без Божия смотрения на вход твой отверзлися: тамо и зде Петр» (II, 100).
Схема диспозиции в системе образов не только этой «речи», но и всех ораторских произведений Феофана достаточно традиционна: обязательные исторические аллюзии, библейские параллели и излюбленная антитеза «ныне – прежде», «тамо – зде». Не случайно в этой антитезе возникает образ «Сампсона»: «тамо льва путь заступившаго растерзал, зде (Пётр. – О.Б.) двери лучшия на рамена своя подъял», «еже тамо действием, зде страхом токмо силы твоея совершилося» (II, 100). Расширяя психологический натиск на реципиента, художник находит сделанному Петром ещё одну историческую параллель: если Киру Бог обещал: «отверзу пред ним врата, и грады не затворятся» (II, 100), то и Петру Бог помог исполнить задуманное: правому – «пути гладки». Пётр становится в речи Богом водимым путником. Вновь возникает возврат к мотиву дороги, но уже дороги, освящённой Божественным провидением. Мир удивляется победам и трофеям Петра. Феофан призывает Петра высоко нести «толикое бремя славы» (II, 100).
В, казалось бы, чисто панегирической «речи», восхваляющей многократно воинский подвиг Петра, художник и тонкий психолог достоверно воспроизводит такую историческую деталь. Император писал сенату: «Наиб сего города встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди нелицемерною любовью приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили». Н. И. Павленко приводит ещё одно мемуарное свидетельство о том, как жители Дербента восторженно встречали русское войско во главе с Петром[459]. Этот факт – ещё один внешний, событийный раздражитель – послужил заключением к «речи» Феофана. Отверзаются не только врата городов, но и сердца жителей, становящихся верными подданными Петра. «Гряди же и тецы радуяся, яко исполин, аможе тя и еще от силы в силу, он от славы в славу влекут судьбы Вышняго, донележе введет тя десница Господня» (II, 101).
Таким образом, внешний, или, как мы его назвали, событийный, раздражитель дал импульс для полёта творческой фантазии автора. Вместе с тем в «речи», повторим, искусно панегирической, сугубо суперлативной, рассчитанной на огромное скопление народа (и, конечно, на присутствие императора) имеется и движение живого чувства, мы бы сказали, наивно реального. Это и создаёт внутреннее напряжение данного ораторского периода, срабатывает закон «психологической загрузки». Психологическая напряжённость не только не падает, а возрастает в этой «мини-речи». Данная «речь», на наш взгляд, была некоей литературной заготовкой для знаменитого «Слова на погребение Петра Великого». Многословный почти во всех своих «словах» и «речах» художник умел останавливать себя, исходя из политических реалий и художнического чутья. Тогда его «слово» становилось сверхкратким, ёмким, энергичным, насыщенным эмоциями, пафосом. Феофан-психолог тонко просчитывал ситуацию. Всплеск политической жизни рождал в нём некий сгусток концентрированной художественной идеи. Каждое слово, каждый образ, каждый словесный период настолько психологически сцеплены, образуют эстетически целое, единое художественное пространство, что организация «речи» оратора поражает своим мастерством. Словесный строй, ритм, мелодика «речи» подчинены авторской сверхзадаче.
Безусловно, Феофан как искусный оратор (напомним: автор известной в то время «Риторики») продумывал и организационно свои выступления. Все они были рассчитаны на произнесение или, как он сам говорил, на «слышателей». Каждая его ораторская «речь» особым образом организована: изначально оратор ориентирует и себя, и реципиента на говорение, а не на чтение, поэтому важнейшей составной частью «слова» или «речи» у Феофана является её произнесение, а значит, и звуковая организация текста, и дыхание при чтении[460]. Эмоциональный рисунок ораторской прозы, её психологизм способствовали более глубокому восприятию реципиентом идейного содержания «речи».
Жанр «слова» – «речи» – проповеди (как один из самых актуализированных и массовых) позволил оратору со всем присущим ему блеском воспеть славу Петру Великому и сражающейся России[461]. Мир и война, по Феофану Прокоповичу, требуют от государя и его подданных тяжких трудов, дел – это ключевые образы многих «слов» и «речей» проповедника, ставшие символом Петровской эпохи.
Таким образом, мировоззрение этого, по меткому выражению Н. К. Гудзия, «просветителя в рясе», его социально-политические взгляды развивались в русле идей Петра. Ещё задолго до их личного знакомства Феофан Прокопович и Пётр стали союзниками в борьбе за вывод России из тьмы невежества на «феатр» мировой истории.
* * *
Апофеозом светского государства в литературе Петровской эпохи явился образ Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – «город, воплотивший личность, деяния, судьбу его первостроителя, ставший ему живым памятником, вечной славой и вечным укором, – подчёркивают М. Г. Качурин, Д. Н. Мурин, Г. А. Кудырская, – такой город в России один-единственный. Поэтому образ Петербурга в русской литературе с первых десятилетий XVIII в. и по сей день так или иначе соотносится с образом Петра I. «Пётр – Петербург – Россия» – эта связь была уловлена русской литературой ещё в ту пору, когда город едва поднялся над болотами, когда царю пришлось издать специальный указ, чтобы при встрече с ним подданные не падали на колени, как полагалось по древнему обычаю, и не марались в грязи»[462].
Писатели XVIII в. не уставали воздавать юной столице высокую и громкую хвалу. Начало положил Феофан Прокопович[463]: «…кто бы, глаголю, узрев таковое града величество и велелепие, не помыслил, яко сие от двух или трех сот лет уже зиждется?» (45) – восклицал он, произнося в 1716 г. «Слово в день рождения царевича Петра» (сына Петра и Екатерины, прожившего менее пяти лет).
Десятилетием позднее в «Слове» памяти самого Петра Великого (1725) Прокопович красноречиво и проницательно раскрыл двуединую сущность Санкт-Петербурга: «Се и врата ко всякому приобретению, се и замок, всякие вреды отражающий: врата на мори, когда оно везет к нам полезная и потребная; замок томужде морю, когда бы оно привозило на нас страхи и бедствиям» (137).
Отношение древнерусского человека (и соответственно древнерусской литературы) к столице было сложным, противоречивым, но всегда сакрально окрашенным. «Древнерусский человек, – замечает М. П. Одесский, – различал столицу и нестолицу»[464]. Однако в сознании древнерусского человека не было при этом раздвоенности в отношении самой столицы или нестолицы: столица была одна – Москва. С появлением новой столицы – Санкт-Петербурга – в сознании русского человека, точнее, российского, не только меняется отношение к оппозиции столичное – провинциальное, но происходит дифференциация столиц. «В XVII веке оппозиция столичное/провинциальное обретает на Руси новый вид, что сигнализирует о глобальном культурном процессе вытеснения религиозных ценностей государственными»[465]. Необходимо, на наш взгляд, некоторое уточнение: на государственном уровне решались и духовные вопросы, т. е. всё, что касалось регламентации духовной жизни россиянина, начиная с Петровской эпохи, относилось к юрисдикции Петербурга (уже – к деятельности Синода). Церковный официоз на два века был связан именно с Петербургом. Другое дело, как всё это интерпретировалось в сознании россиян, особенно в жизни, скажем, старообрядцев: для них Санкт-Петербург был и остался местом бесовским, без святыни и без святости. Здесь наблюдения М. П. Одесского точны[466].
Конечно, трудно говорить о прогнозировании ещё в XVII в. русской культурой появления столичного мифа имперского периода[467] (во всяком случае, такой блестящий знаток русской культуры кануна Петровской реформы, как А. М. Панченко, не выявил этого мифа[468]).
С 1703 года отношения столиц стали воистину оппозиционными, что культивировал сам Пётр и «птенцы гнезда» его, сама данная оппозиция за последние 300 лет стала мифом, некой культурологической мифологемой, которую запечатлели многие мемуаристы, писатели, поэты, исследователи Петербургская городская культура складывалась крайне сложно, но быстро: тяжелая длань Петрова и здесь сказалась. Насилие стало неким поведенческим стереотипом в этой культуре, о чём справедливо пишет итальянский исследователь с опорой на мемуарные тексты русского вельможи[469].
Е. Н. Себина, говоря о пейзаже как одном из компонентов мира литературного произведения, изображающем незамкнутое пространство, считает, что рассматривать описание природы в фольклоре и литературной архаике следует в аспекте исторической поэтики[470]. Переход от древнерусской литературы к новой ознаменовался новым пониманием эстетической функции пейзажа, допущением художественного, так сказать, пейзажного, вымысла; пейзаж становится не только фоном, но и героем художественного произведения.
Более того, литературный герой и природа стали находиться в сложных взаимоотношениях: человек укрощает природу, преобразует её, подчиняет своей воле[471].
В ораторской прозе Феофана Прокоповича запечатлён, может быть, самый знаменитый для литературы нового времени мотив «Пётр I – Санкт-Петербург», родивший огромное количество подражателей, восприемников, творчески и даже гениально развивших этот мотив до темы, проблемы целого направления не только в русской, но и в мировой художественной литературе.
16 мая 1703 г. новая крепость получила имя Санкт-Петербург: в честь небесного покровителя молодого императора, хранителя ключей от рая – апостола Петра.
Позднее, после постройки Петропавловского собора на этом месте, крепость стала именоваться Петропавловской, а восприемником названия «Санкт-Петербург» стал город, строившийся под неусыпным оком Петра на Берёзовом острове.
Уже с 1712 г. Санкт-Петербург – столица новой России[472].
«Слова» и «речи» киевского периода не запечатлели сколько-нибудь сложившегося системного отношения Феофана-оратора к северной столице[473], что вполне объяснимо не только с чисто житейской точки зрения, но и тем обстоятельством, что «Санкт-Питербурх» ещё только набирал политический вес. Став жителем Северной Пальмиры, устроителем общественной и культурной жизни её, Феофан Прокопович явился активнейшим агитатором и пропагандистом столицы.
Уже в первой своей петербургской «речи», произнесённой в Троицком соборе – «Слове похвальном в день рождества благороднейшего государя царевича и великого князя Петра Петровича» (октябрь 1716 г.), – Феофан Прокопович, обыгрывая ставшую в ораторской прозе первой трети XVIII в. трафаретной оппозицию «прежде – ныне», обращается к образу Санкт-Петербурга (463). «Что бо была Россия прежде так не долгого времени? И что есть ныне? Посмотрим ли на здания! На место грубых хижин наступили палаты светлые, на место худаго хврастия, дивныя вертограды. Посмотрим ли на градцкия крепости! Имеем таковым вещию, каковых и фигур на хартиях прежде не видели и не видали. Воззрим на седалища правительская! Новый сенаторов и губернаторов сан, в советах высокий, в правосудии неумытный, желательный добродетелем, страшный злодеяниям! Отверзем статии и книги судейския. Колико лишных отставлено, колике здравых и нужнейших прибыло вновь! Уже и свободная учения полагают себе основания, идеже и надежды не имеяху, уже арифметическия, геометрическия и протчия философския искусства, уже книги политическия, уже обоей архитектуры хитрости умножаются. Что же речем о флоте воинском?» (44).
Данный риторический период дышит эффектом присутствия автора: всего лишь месяц он находится в «Санкт-Питербурхе», всё ему ново, всё в диковинку. Экспрессия становится формообразующим элементом структуры «слова». Ораторский пассаж зиждется не только на антитезе «ныне – прежде», но, может быть и неосознанно, ритор заложил знаковую для всей последующей жизни России оппозицию «старая Москва – новый Санкт-Петербург». И развитие градостроительства, и новая политическая власть, и науки, и искусство, и культура, и, конечно, флот – всё связано с образом Петербурга и его творца. Поэтому в «слове» присутствует новый обширный пассаж, доказывающий неразрывную связь основателя – «фундатора» – с его детищем.
«А ты, новый и новоцарствующий граде Петров, не высокая ли слава еси фундатора твоего? Идеже ни помысл кому был жительства человеческого, достойное вскоре устройся место престолу царскому. Кто бы от странных зде пришед и о самой истине не уведав, кто бы, глаголю, узрев таковое града величество и велелепие, не помыслил, яко сие от двух или трех сот лет уже зиждется? Сиесть тщательством монарха нашего испразднися оная древняя пословица сарматская: «не разом Краков будовано». Или великое бо время к таковому строению пятьнадесятолетнее? И что много глаголати о сих? Август он римский император, яко превеликую о себе похвалу, умирая, проглагола: «Кирпичный (рече) Рим обретох, а мраморный оставляю». Нашему пресветлейшему монарсе тщета была бы, а не похвала сие пригласити. Исповести бо воистинну подобает: древяную он обрете Россию, а сотвори златую: тако оную и внешним и внутрним видом украси, здании, крепостьми, правильми, и правительми, и различных учений полезных добротою» (45).
Кульминацией «слова», согласно правилам риторики, должен быть третий, заключительный, пассаж, который венчает триаду «Санкт-Петербург, Пётр, Россия». «Поднесла главу Россия, светлая, красная, сильная, другом любимая, врагом страшная» (46).
В «Слове во время присутствия его царского величества, по долгом странствии возвратившегося» (1717) Феофан говорит о судьбоносном значении для России Петра и его детища, пророчески звучат его слова: «в благословенной тебе Российской монархии, паче же в сем Петровом граде, аки в корабли Петровом, пребываяй благодатным твоим присущием и, пребывая, проповедуй нам временных и вечных благ благовестие. Проповедуй царю нашему, якоже Давиду иногда, о его наследии: «От плода чрева твоего посажду на престоле твоем»» (67).
В «Слове похвальном на тезоименитство благоверныя государыни Екатерины» (1717) Феофан утверждает, что Екатерина вслед за Петром продолжит «дело Архитектуры», – строительства столицы.
В «Слове при начатии святейшего правительствующего Синода» (1721) образ столицы расширен до некоего здания не только вещественного, но и духовного, которое и в этой речи называется Архитектурой и связывается с образом вечной славы Петра. «Ты Петре Богом прославленный и славою вещественных зданий помянутым Монархом не уступив, а зданием сим духовным толико оных превзошел сей наш земноводный круг. Толикое убо твое, благочестивейший Государь, здание и укрепляй, яко Архитектуру твою, и защищай, яко сокровище дражайшаго твоего имения вечной славы» (II, 69–70).
С похвалой новой столице и её основателю в октябре 1717 г. выступил и Гавриил Бужинский («Слово в похвалу Санктпетербурга и его основателя Петра Великого», 1717)[474]. Параллельно с Феофаном Прокоповичем (и в отличие от других иерархов церкви) Бужинский прославляет «град» и его основателя, называя Петра «премудрейшим и первейшим его архитектором».
* * *
В «Слове похвальном на тезоименитство благоверныя государыни Екатерины» (68–76), произнесённом в Троицком соборе в день именин Екатерины 24 ноября 1717 г. (с. 466)[475], Феофан Прокопович наметил крепкую, неразрывную связь Петра I и Екатерины I: «Крепка яко смерть любы» – этот эпиграф, взятый им из «Песни песней», явился квинтэссенцией «Слова». Размышляя о действии непритворной, но самой истинной и искренней любви к Богу, к ближнему, Феофан в качестве абсолютного примера приводит любовь Петра и Екатерины. Оратор доказывает, что их единение не только телесное, но и духовное, не только в помыслах, но и в делах:
«Видехом тогда, о Россие, любовь монархини твоей крепку, яко смерть быти: своя ей яве искала смерть, а именно и пулею пушечною, пред ногами ей падшею, приближившаяся, но паче сердце ея умираше боязнию смерти супружеской. Борьба бо воистину была любве и смерти, егда и сия, и оная на едину особу равне нападение сотворили. Что же! Которая от них преуспе и превозможе! Тело в руках смерти было, но дух, любовию пленен, аки бы инамо от состава своего преселився, не знаяше, что с собою деется, не вядяше смерти своей, пред очима ходящей, но весь последова мужеви и его смертными бедствии уязвлящеся» (74).
Права Н. Д. Кочеткова, отмечая заметную приглушенность религиозного аспекта у Феофана-оратора: «Прокопович выступает не столько как православный христианин, борющийся за чистоту веры, сколько как политический деятель, оценивающий события с точки зрения государственных интересов только у Прокоповича проповедь перестаёт быть проповедью в собственном смысле этого слова и становится произведением светским, жанром публицистическим по существу»[476]. В анализируемом «слове» оратор начинает проповедь по законам жанра, традиционно: эпиграф из «Псалтыри», приступ обыгрывает достаточно пространно эпиграф, образ великомученицы Екатерины композиционно составляет центр «слова». Однако идейным центром оказывается образ Екатерины Алексеевны, по словам Феофана, – «приклад» (пример) великой, истинной и действенной любви Екатерины не только к Петру, но и к России. Во всех «Словах», посвящённых Екатерине I, этот чисто светский, политический смысл будет и далее укрепляться, детализироваться, обрастать новыми примерами и подробностями.
7 мая 1724 г. в Успенском соборе Московского Кремля Феофан Прокопович произнёс «Слово в день коронации Екатерины Алексеевны» (II, 103–111). Прославляя это событие как день «преблаженнаго приятия» и «предивнаго благополучия», т. к. «преславный народ российский увидел на главе монархини венец царский» (II, 104). Феофан отмечает, что в истории России это первый случай, когда женщина становится монархиней, да ещё венчанной на царство. Екатерину он называет «героиней» не только потому, что право на корону засвидетельствовано «благословенным чадородием» (II, 105) её, но и «непрестанными действиями в разных и многих трудных случаях» (II, 106).
Феофан приводит в «слове» исторические примеры: Артаксеркс хотел Астинию венчать «за едину красоту», но «не сподобил того за гордыню ея», он же венчал Есфирь «за едину красоту»; дочери императоров константинопольских короновались по крови; в европейских странах коронуются по крови и по наследию, а вот Екатерина, в отличие от них, заслужила перед отечеством и государем корону.
Мотив службы, служения – один из доминирующих не только в этой «речи», но и во многих «словах» и «речах» Прокоповича. Прокопович как историк перечисляет имена многих «славных жен», получивших венец царский и до Екатерины (II, 106–107), но у всех находит какие-то недостатки, и только Екатерина безупречна: все её достоинства «в сей великой душе во всесладкую армонию согласуются» (II, 107). Особо подчёркивает оратор: «сия великая Героиня мужем соравнение с собою оставила, в походах безгодия, вар, зной, стужи, бури, малоудобныя переправы, квартиры неспокойныя» (II, 108) – это об участии Екатерины в Прутском и Каспийском походах совместно с Петром.
Прокоповичу важно было указать и на то, что всё это случилось благодаря Петру, а коли «сердце Царево в руце Божии» (II, 110), то содеянная Петром коронация Екатерины освящена Божьим промыслом. Поэтому оратор прославляет не только императора, но и императрицу, не только «отца отечества», но и «матери Российскую» (II, 110). Феофан тем самым распространил титулы, присвоенные Сенатом и Синодом Петру I, и на Екатерину. Рисуя образ просвещённого, идеального монарха и действительно видя Петра таковым, Феофан Прокопович вынужден был в таких же суперлативных тонах характеризовать Екатерину и её деятельность – не только при жизни Петра, но и после его смерти.
Таким образом, оратор стоял у истоков панегирической традиции как стиля общения с вышестоящими чинами в общественно-политической жизни России и параллельно с этим у истоков жанрового мотива, который найдёт своё полное выражение в программной классицистической оде М. В. Ломоносова.
Права Н. Д. Кочеткова, полемизируя с И. З. Серманом, что «политические обстоятельства вынуждали преподносить урок царям в завуалированной форме», что «этот вынужденный приём, однако, далеко не нов. Непосредственным предшественником Ломоносова и здесь оказался именно Феофан Прокопович. В “Слове на погребение Екатерины Алексеевны” (1727) Прокопович характеризовал деятельность Екатерины, постоянно сопоставляя её с Петром»[477]. Однако, должно заметить, Феофан Прокопович и раньше, ещё в «Слове на коронацию» (1724) и в «Слове в день воспоминания коронации» (1726), использовал приём преподнесения урока царям. Так, в последнем упомянутом «слове» (II, 171–192), вспомнив с печалью великого монарха, Феофан пишет о Екатерине как о его достойной наследнице (II, 173).
После рассуждений о диадеме, короне, венце – слава царской короны не в «драгости» её, но «властей славу и честь означает» (II, 175) – уже идёт урок, поучение: Феофан напоминает Екатерине об огромной государственной ответственности её перед народом и империей. Он напоминает Екатерине, что властью своей она обязана не вельможам, не служителям и министрам, а Богу (II, 187).
Это было сказано нарочито, как мы полагаем, даже в противовес Меншикову, которого, как известно, в это время недолюбливал Феофан, полемизируя с ним, и благодаря которому тем не менее Екатерина стала императрицей, взошла на трон после смерти Петра I. Феофан же как политик на протяжении всей этой пространной «речи» (это одна из самых длинных его «речей») с многочисленными апелляциями к историческим, библейским и литературным примерам утверждает снова и снова, что власть Екатерине даётся от Бога. Он хотел самой Екатерине внушить мысль о её богоданности, а в связи с этим, о её самостоятельности – и, наоборот, Меншикову да и всем вельможам напомнить о том, что они всего лишь подданные. Феофан подчеркнул, что короновал её Петр Великий.
Таким образом, Богу и Петру она обязана короной – и никому более. И в этой «речи» прозвучала формула: «Сердце царево в руце Божией» (II, 185). Важно, что Пётр короновал Екатерину не на смертном одре, а в полном здравии (II, 186), следовательно, должно со всем уважением относиться к его выбору. Феофан утверждает, что не было никаких внешних или внутренних обстоятельств завещать свой трон кому-либо, кроме Екатерины: в день её коронации законная наследница трона определена Петром и Богом – и более никем (II, 186).
Как видим, Прокопович стремился в этой своей «речи» положить конец вспыхнувшим после смерти Петра дворцовым интригам и борьбе за корону.
Вновь, как и в предыдущей «речи» – на коронацию 1724 года, – Феофан рассматривает историю царствующих жён и женщин-цариц во всём мире (II, 189–191), упоминает он «премудрую самодержицу Ольгу» (II, 191). И здесь ему нужно было положить конец слухам и недовольству старой партии бояр и церковников по поводу того, что впервые в России во главе государства встала женщина. По Прокоповичу, это далеко не впервые даже в России.
Здравицей государыне заканчивается речь. В июне этого же года «речь» была напечатана.
«Слово на новое 1725 лето 1 января 1725 года» (II, 113–125) начинается с необычного обращения: «Здравствуйте в новый год, христолюбивое собрание!» (II, 113).
Так Феофан обратился к прихожанам в «церкви живоначальныя Троицы», где произносил эту «речь». Он всех поздравляет с новым годом, защищает введённое Петром новое начало года, желает всем года душевного, благоприятного, беспечального, всерадостного (II, 114), объясняет со ссылками на хронологию, историю, почему поменялась дата начала нового года (II, 115–116).
Заканчивая «речь», он размышляет и о таких философских понятиях, как «жизнь – смерть», потому что, поздравляя друг друга с новым годом, мы должны понимать и такое толкование: «Здравствуй, что приближается к смерти» (II, 123). И тем не менее даже понимая это, оратор призывает «не суетно друг друга поздравляти: здравствуй в новый год» (II, 124).
Традиционно молитвой и здравицей в честь Петра Великого заканчивается «слово».
* * *
Культура и литература Петровской эпохи риторичны по самой своей сути.
Понятие риторической культуры наиболее полно разработано белорусской исследовательницей Т. Е. Автухович[478] (хотя задолго до неё идею тесной взаимосвязи риторики и культуры Петровской эпохи высказывали В. В. Виноградов[479], В. П. Вомперский[480], Р. Лахманн[481], а также немецкие слависты Э. Винтер и И. Тетцнер[482]). В результате выстроилась логическая цепочка: риторизация жизни конца XVII – начала XVIII в. обусловила появление риторического мышления, которое, в свою очередь, определило риторическое образование и поведение людей Петровской эпохи[483]. Новейший исследователь литературной культуры Петровской эпохи С. И. Николаев, анализируя культурную политику Петра I через образы «тьма неведения», «вдруг», «ныне – прежде», «невежество – просвещение», «слепота – прозрение», определяет её как «риторику обновления»[484]. Термины «риторическая модель» (Л. И. Сазонова), «риторическая парадигма» (Т. Е. Автухович) весьма успешно работают в современном литературоведении при анализе культурной ситуации Петровской эпохи.
Риторическая культура определяет и поэтику ораторской прозы Петровской эпохи. В частности, пространственно-временная организация ораторской прозы Петровской также находилась в правовом поле риторической культуры[485]. В качестве примера рассмотрим одну из самых известных проповедей Феофана Прокоповича, посвящённых Петру Великому.
«Слово на погребение Петра Великого» (1725) композиционно разбивается очень чётко на пять периодов. Замечательно, что хронос во всех пяти периодах дан как некая константа, причём в каждом периоде время организовано по-своему.
Первый период характеризуется обилием глаголов и глагольных форм: «дожили, видим, делаем, погребаем, воскресивший, воздвигший, роздший, воспитавший, желали, жить надеялися, скончал, жить начинал, прогневали, раздражили, не видяй, не исповедуяй, умножать, утолять, уязвимся и возрыдаем, забыть возможно» (126). Оратор не анализирует боль утраты, у него на это нет реально бытового времени (времени произнесения проповеди), оно должно быть настолько сжато, сконцентрировано художественно, чтобы убедить слушателей – не только пресеклась жизнь Петра, но остановилась вся жизнь России. В основном «работает» настоящее время, сквозь глаголы и глагольные формы настоящего времени как бы прорываются некие стоны в прошлое. Пётр – «виновник благополучия и радостей жизнь скончал» (126). Две художественных детали обыграны ритором: «воскресивший аки от мертвых Россию» и «окаменен есть». Обе являются совершенно расхожими, трафаретными образами в словесной культуре эпохи. Первая обыгрывает мысль о заслугах Петра, о его исторической роли, а вторая – этимологию имени Петра.
Если первый период является приступом, согласно риторике, то второй период содержит развитие темы: задаётся как будто бы сугубо риторический вопрос: «Кого лишилися?», и ровно половину «Слова» составляет ответ в излюбленной для Феофана Прокоповича манере – с обилием исторических и библейских имён: Пётр – Самсон, Иафет, Моисей, Соломон, Давид и Константин. Раскрытие каждой из метафор основано на антитезе в каждом из этих имён. Работает антитеза «ныне – прежде», «было – стало», прошлое и настоящее времена выставлены именно в риторическую позицию, причём сделано это действительно с риторическим блеском (кстати, именно это словосочетание применительно к проповедям Феофана Прокоповича употребил Э. Винтер[486]). Здесь сказались именно универсальность и законченность риторики, т. к. система словесных построений определяет само движение и само событие во времени[487]. Произошла некая сшибка фабульного и сюжетного времён, т. е. времени, не контролируемого автором, и времени, затраченного на чтение или, в данном случае, на произнесение «Слова». Таким образом, можно сделать вывод о том, что художественное время в ораторской прозе (в данном случае в «Слове» Феофана Прокоповича) контролируется весьма строго. В связи с библейскими и историческими именами в «Слово» вторгается историческое время. Сознание реципиента при упоминании каждого из этих имён должно было, по замыслу оратора, неким образом переключаться на Петра, на его деяния, олицетворяя: Самсон – силу «каменную адамантову», Иафет – флот, победы морские, Моисей – «законы и уставы», Соломон – смысл и мудрость, Давид и Константин – церковь и Синод. И вновь необходимо отметить, что время историческое, прошлое, и время настоящее даны вне эволюции, в жёстко зафиксированном состоянии.
Третий период построен на обращении к «слышателям» – к россиянам. Оратор фиксирует психологическое состояние своё и «слышателей»: «печаль, жалость, стенание» побуждают его к краткому слову. Замечательно сошлись два времени: глаголы прошедшего времени («оставил, сделал») являются некими единоначатиями в этом периоде, однако, фиксирующими состояние России на момент смерти Петра, т. е. указывается реально настоящее время, являющееся залогом будущего: «Какову он Россию свою зделал, такова и будет: зделал добрым любимою, любимой и будет; зделал врагом страшною, страшная и будет; зделал на весь мир славною, славная и быть не перестанет» (128). Вновь создаётся риторическая парадигма, характеризующая соотношение реальности и её изображение в риторическом произведении. Грамматически оформлены время прошедшее и время будущее, хотя фиксируют они весь ужас и трагизм времени настоящего – смерть Петра.
Анализируя временную организацию данного «слова», мы пытаемся реконструировать риторический эстетический код в жанре ораторской прозы. Т. Е. Автухович не совсем права, считая, что наиболее адекватно риторическая модель выражена в жанре стихотворной сатиры и в жанре русской оды[488]. Полагаем, что риторический код наиболее полно реализовался как раз в ораторской прозе, где воистину максимально приближены к ситуации непосредственного общения автор и реципиент (слушатель, читатель).
Четвёртый период – некая константа настоящего, что отражено глаголами «видим, надеемся» и т. п. – в связи с образом «милостивейшей и самодержавнейшей государыни нашей, великой героини, и монархини, и матери всероссийской» (128). За много лет до программной оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» (1747) Феофан Прокопович даёт психологическую установку Екатерине I на продолжение дел Петра Великого: «мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быть подобной Петру Великому» (128). И если у Ломоносова дела Петровы должна продолжить его «дщерь», то у Феофана Прокоповича – его «помощница», «ложа его сообщница» и «короны, и державы, и престола наследница». Жёсткость организации настоящего времени диктовалась, как известно, суровой реальностью: шла жесточайшая закулисная борьба между сторонниками Петра и его противниками за власть, Феофан Прокопович – сам «птенец гнезда Петрова» – отчётливо понимал, что поражение Екатерины I поставит в крайне затруднительное положение всё бывшее окружение Петра и его реформы.
Заключение проповеди составляет пятый период в организации хроноса «слова». Искусный оратор убеждает в том, что «не весь Пётр отошёл от нас» (129). Сугубо риторическим приёмом является в концовке «слова» обращение к Богу и к России: «Но, о Россие, видя кто и каковы тебе оставил, виждь и какову оставил тебе» (129). Хитрый Феофан этой мудрёной фразой уравнивает Россию и Екатерину, утверждая вновь законность прав последней на Россию. Для риторической культуры Петровской эпохи «слово на погребение Петра Великого», на наш взгляд, является верхом мастерства и изощрённости: всё продумано и скомпоновано предельно удачно, умно. Недаром современники утверждали, что краткое «слово» Феофана не единожды прерывалось обильными стенаниями и воплями, длящимися иногда до получасу: «Вопль и рыдание сие перешло к вне церкви стоящим, и казалось, что самые стены церкви и валы крепости возревели»[489]. Определяющую роль в данной словесной конструкции сыграло, на наш взгляд, время, организованное по законам риторик и.
Анализируя «слова» и «речи» Прокоповича, Т. Е. Автухович справедливо считает, что «эволюция жанра проповеди продолжается в Петербурге, где в выступлениях Феофана, посвящённых общественно-политическим проблемам, разрабатывается новая эстетическая теория»[490] (курсив наш – О.Б.). Исследовательница на примере ораторской прозы отстаивает свой тезис о всё ещё значительном влиянии на Феофана-художника эстетики барокко. Фактически же новая эстетическая теория Феофана Прокоповича была связана с новым литературным направлением и художественным методом – классицизмом[491], причём это нашло отражение не только в его, так сказать, светских проповедях, но и в сугубо церковных. Точнее сказать, эти определения всё меньше «работают» в петербургский период: и по содержанию, и по форме «слова» и «речи» Феофана Прокоповича всё более напоминают высокую оду классицизма, но в прозе, а некоторые из них (например, «Слово на погребение Петра Великого») становятся почти стихами в прозе. Ю. Ф. Самарин же утверждал, что «художественный элемент в проповедях Феофана Прокоповича мало развит»[492]. Суждение более чем спорное.
* * *
16 мая 1727 г. в Петропавловском соборе Петербурга Феофан Прокопович произнёс «Слово на погребение Екатерины Алексеевны» (II, 193–201[493]). «Слово» исполнено скорби: «Не отерли слез» ещё от смерти Петра, «одна рана не исцелена, а другая явилася» – «лишилися и Екатерины» (II, 193), «Остави нас отечества отец, остави и общая матери наша» (II, 194). Вновь, как и в предшествующих «словах», он подчёркивает соответствие Екатерины Петру как продолжательнице его дел: «Делал архитектурных и манифактурных, и прочих искусств заводы Петр, делала и Екатерина; вводил в подданных своих благонравие и честное обхождение Петр, вводила и Екатерина; шествовал в военныя походы Петр, шествовала и Екатерина» (II, 197).
Оратору трудно было говорить о каких-либо самостоятельных делах Екатерины как самодержицы (повторимся, что в её царствование всем управлял светлейший – Меншиков), поэтому он говорит о её милосердии, милости к вдовам и сиротам, нищим и больным, монастырям, поэтому звучит, безусловно, как «вынужденный приём» (термин Н. Д. Кочетковой) похвала: «тако соцарствовала Петру великому» (II, 198).
Интересно подан мотив скорби, «туги», печали по любимому супругу Екатерины как женщины (II, 195). Высоко поэтично и лирично звучит этот мотив стенающей и скорбящей «вдовицы». На наш взгляд, его истоки следует искать в древнерусской литературе и фольклоре, где жанр плача получил блестящее художественное воплощение. Однако, по Феофану Прокоповичу, Екатерина нашла в себе силы не только не забыть о своём высоком «долженстве», «но и чудное во всем показала тщание» (II, 196). Феофан Прокопович, как позднее и все одописцы, выдаёт, безусловно, желаемое за действительное.
В финале своего «слова» Феофан с надеждой взирает на нового императора – Петра II, сравнивая его с «прекрасным и всех очи веселящим цветом», который и в «лютую зиму» позволяет ожидать «изрядную весну благополучия нашего» (II, 200). Правда, вслед за этой пышной метафорой оратор выражает надежду на то, что «приставники» Петра II наставят его «на путь истины и правды», чтобы он стал достойным преемником Петра I (II, 201).
Как известно, эти наставления Феофана остались втуне, Долгорукие, Голицыны, Остерман, победив партию Меншикова, привели к гибели малолетнего императора.
И в первой «речи», посвящённой коронации юного императора, и в двух последующих – в «Слове в день рождения Петра Втораго» (1727) и «Речь к Петру Второму говоренной от малых отроков» (1728) – оратор нарисовал обширную программу действий для императора с акцентом на то, что он – внук Петра I.
«При Петре II Феофан стремился взять на себя роль мудрого наставника, почтительного к царской особе, но позволяющего себе дать некоторые полезные советы юному государю»[494].
«Слово в день рождения Петра Втораго» (1727) начинается традиционно для Феофана: радость и веселье наполняют сердца «слышателей». Своё «слово» он расценивает как предназначенное для «насыщения духа» (II, 204). Интересно, что впервые в публикации «слова» оно разбито на части, первая (прямо на полях написано) – «предисловие (II, 203–204), вторая часть опять на полях помечена: «О чём будет слово» (II, 204–206), третья – «Толкуется, что есть царство Божие» (II, 206–208). Далее опять почему-то под цифрой 1 – «Сказание, что есть царство Божие» (II, 208–210), далее под цифрой 4 – «Чего ради искати надлежит царствие Божие прежде всех, и яко то есть конечная вина жизни нашея» (II, 210–212). Затем опять под арабскими цифрами 1, 2, 3, 4, 5 (видимо нумерация к четвёртой части) идут заголовки на полях: «Поощрение от попечений житейских», «От образа христиан первых» и т. д. (II, 212–218) и заключение под римской цифрой «пять».
«Речь» носит просветительский (мы бы сказали, сначала церковно-просветительский, а затем житейско-просветительский) характер. Понимая, что перед ним отрок, Феофан рассказывает ему, что есть царствие Божие, правда Божия, что есть цель жизни, размышляет о временном и вечном, о спасении души. Пожалуй, наиболее занимательным в «слове» является огромное количество вопросов с нагнетанием одного на другой: вопросы «куды же?», «что же делать для спасения души?», «для чего ты родился?» (II, 215, 216). Феофан стремится не только нарисовать перспективу жизни, но и нацелить отрока и «слышателей» на её осмысление. Традиция перебивки риторических периодов вопросами идёт от античности. Проповедник рисует жизнь некоего человека от рождения до смерти, перебивая каждый этап в его жизни вопросом «а после?», причём эти вопросы задаёт некий наставник (как в диатрибе античной), идёт диалог, например: «Награждением обогащен куплю вотчины, домы построю, пойму в жену честную и богатую девицу: всё хорошо, а после? даст Бог нам дети, которыя нам будут и великая утеха, и немалая защита: может и то ститися, а после?…» (II, 216–217). Наставник этими вопросами, а потом комментариями своими подводит отрока к необходимости думать о вечном уже сейчас, резюме этой диалогической вставки, неких прений между наставником и отроком: «Сим словом оный юноша поражен тако исправился» (II, 217). Мы уже отмечали драматургический характер некоторых «слов» и «речей» Феофана, но в этом «слове» налицо его драматизация: конструкция диалога, разговора (да ещё так приземлённого!), конечно, должна была, по замыслу оратора, оживить «слово». Учительская функция проповедника налицо.
В заключение он просит Бога даровать мудрость монарху, победительную силу, изобильное «миротишие» (II, 219) – так, как это всё было у Соломона, Константина, у великих князей киевских, а также у Романовых – Михаила, Алексея, Петра.
«Речь Петру второму говоренная от малых отроков на приход в Новгород» (II, 221–222) произнесена 11 января 1728 г. в Новгороде. «Речь» говорится от имени детей, которые счастливы видеть юного императора в Великом Новграде. Здесь Феофан вновь прибегает к литературному приёму – «речи от имени кого-либо», как это было в 1717 г., то же самое и в «речах», посвящённых Петру II на пришествие его в Москву от 4 февраля 1728 г. – от духовного чина поздравление (речь тоже на одной странице). «Речь» содержит выражение счастья от лицезрения Петра Второго, автор видит в нём Петра Великого и т. п. (II, 223–224).
В «речи», которой Феофан в Успенском соборе Кремля от имени всех чинов поздравил Петра II с коронаций (II, 225–227) вновь повторяется цитата: «Сынове Сиони радуются о царе своем» (II, 226). Феофан говорит о больших трудах и большом попечении, которые налагаются на юного императора Богом. Среди прочих многих пожеланий – «мир» и «тишина» (II, 227).
Задолго до М. В. Ломоносова Феофан Прокопович актуализировал в русской словесности эти понятия, наполнив их и философским, и политическим смыслом.
«Слово в день святых апостол Петра и Павла» (1728) посвящено сугубо богословским темам (II, 229–256). Феофан говорит о христианском подвиге Петра и Павла как апостолов, ближайших сподвижников Христа. И только в заключение Феофан Прокопович обращается к Петру II, т. к. именно в этот день у него было тезоименитство, и опять в комплиментарном тоне расхваливает его «мужеский» разум, незлобие, кротость и природную ко всем милость (II, 255). Среди предков его видит великого Владимира I (II, 256).
* * *
После смерти Петра I и Екатерины, когда положение Феофана Прокоповича пошатнулось, а его недоброжелатели подняли голову и стали активно интриговать против него, он как оратор вынужден был резко сбавить политический и просветительский тон своих «слов» и «речей». В связи с этим менялся стиль повествования, видоизменялся жанр «слова». Если во время расцвета своего ораторского творчества Феофан Прокопович использовал в одном и том же «слове» все три вида красноречия – совещательное, изъяснительное и обличительное[495], то в последнее десятилетие своей жизни и деятельности (с 1726 по 1736 гг.) он прибегает, в основном, к изъяснительному красноречию в панегириках и торжественных речах и к совещательному – в проповедях христианской морали[496]; обличительного же красноречия у него в этот период практически нет. Весьма активно Феофан Прокопович разрабатывает в последние годы своей ораторской деятельности мотивы скорби, смерти.
К торжественным «словам», сугубо панегирикам, посвящённым печальным датам, относятся его «речи» «Слово на погребение Наталии Алексеевны» (1729), «Слово на погребение генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина» (1729), «Слово на погребение Параскевы Иоанновны» (1731).
В первом «слове» Феофан скорбит по поводу смерти Натальи Алексеевны, которая была любимой сестрой Петра II и внучкой Петра I; оратор называет её «порфирородным Петровым потомством» (III, 2). Смерть юной царевны – не только печаль «дому монаршему», но и всему «российскому отечеству» (III, 3), однако проповедник призывает не скорбеть, потому что она теперь – Христова невеста (III, 5). «Слово» заканчивается обращением к Богу «призрить самодержца нашего», сохранить его здоровье (III, 7–8).
Ф. М. Апраксин (1661–1728) был одним из «птенцов гнезда Петрова», родственником Романовых, командовал русским флотом в Северной войне и Персидском походе, с 1726 г. был членом Верховного тайного совета[497]. Этим объясняется надгробное слово Феофана Прокоповича – «Слово на погребение генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина».
Здесь много рассуждений о смерти (III, 25–30), потом следует резкий переход к личности умершего: оратор говорит о его заслугах перед отечеством, отмечает его верность государю и отечеству (III, 31).
«Слово» достаточно «казённое», нет в нём ранее свойственного Феофану пафоса, полёта мысли, исторических параллелей, ярких примеров из жизни незаурядного человека в российской истории.
Параскева Иоанновна – родная сестра императрицы Анны Иоанновны. «Слово на погребение Параскевы Иоанновны» насыщено рассуждениями о смерти – «последней, главной, крайней всех скорбей и печалей человеческих причине» (III, 830). Опять, как и в «слове» на погребение Натальи Алексеевны, повторяется мысль о том, что смерть Параскевы Иоанновны – это не только «домашняя» утрата, но «знатный убыток владетельной крови» (III, 85). Далее следуют сугубо богословские рассуждения, основанные на христианском учении о смерти, о воскрешении мёртвых.
Правда, есть в этой «речи» один довольно язвительный выпад оратора против тех древних стихотворцев и историков, которые в угоду сильным мира сего писали, что души императоров, их потомков, в отличие от душ простых смертных, в виде орла или каком-то другом виде «возлетают на небо» (III, 89). Всё это, по Феофану, – «скаски и басни, сны и мечтания» (III, 98), также «смеха достойно: перевоз чрез реку души». Здесь Прокопович обличает и римлян-язычников, и все их «видения», утверждая таинство смерти в соответствии с христианскими канонами (III, 92–95): «не можно сказать, чего не постизаем» (III, 96), «не будем равны Богу» (III, 96). Заканчивается слово увещеванием о том, что усопшая ушла в мир иной – мир покоя, мир без печали, «осталась нам вина скорби по ней» (III, 104).
* * *
Абсолютной монархии Феофан Прокопович, как известно, остался верен и после смерти Петра I: затея «верховников» при вступлении на престол Анны Иоанновны провалилась благодаря только усилиям «птенцов гнезда Петрова» – «учёной дружины» (Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева, А. Д. Кантемира).
Активнейшим образом Феофан Прокопович выступал и против восстановления патриаршества. Он пишет, изобличая реакцию, что церковники и бояре делают «вид, будто они народной пользе служат, а сами делом, желая получить себе хоть части царской власти, когда целой оной достать не могли», стремятся «власть государеву сократить и некими установлениями малосильною учинить», и в этом оратор усматривает «болезнь» государства; это приводит к «немощи» России, к «междоусобию», «варварскому нахождению», «…паки мятеж, паки кровопролития, паки разорения…», – восклицает проповедник (I, 108).
Учение Прокоповича о просвещённо-абсолютистском государстве направлено в равной степени против и аристократической олигархии, и бесконтрольной власти церкви. Иерархи русской церкви – Стефан Яворский, Феофилакт Лопатинский, Георгий Дашков – уже при жизни Петра I начали борьбу с Феофаном Прокоповичем, но Пётр не отдал им своего любимца. После смерти Петра Феофану Прокоповичу пришлось вступить в схватку. Было заведено знаменитое «Дело о Феофане Прокоповиче»: отрицание церковных обрядов, нарушение догматов, еретизм и многое другое вменяли ему в вину ортодоксы церкви. Известный собиратель, издатель трудов Феофана Прокоповича и исследователь его жизни и творчества И. А. Чистович проследил полную драматизма борьбу Феофана с реакцией[498].
Диалогу властей, диалогу культур грозил трагический исход: ни «полудержавный властелин» А. Д. Меншиков, ни тем более боярская партия времён правления Петра II не могли и не хотели отстаивать идеи Петра Великого.
Сложным было положение Феофана Прокоповича и в царствование Анны Иоанновны. Оставаясь сыном своего времени, он в борьбе с противниками не брезговал ничем: доносил, клеветал; есть глухое свидетельство, что он участвовал даже в пытках своих врагов. Но делу Петра не изменил. Идей, высказанных в «словах», «речах», трактатах, документах, не предал.
Просвещённого монарха, достойного Петру I, Феофан Прокопович уже не видел в тех, кто всходил на престол после смерти первого императора России. Однако в своих «речах» оратор должен был прославлять монархов – того требовали и его положение, и уже сложившиеся традиции жанра панегирической «речи».
Уж если И. З. Серман назвал Елизавету Петровну «ленивой и невежественной дочерью Петра»[499], то Анна Иоанновна заслуживает куда более негативной характеристики и как частное лицо, и как государыня, поэтому задача Феофана-оратора в «речах» об Анне Иоанновне осложнялась в значительно большей степени, нежели Ломоносова-одописца, восхваляющего «Елисавет». «Анна вовсе не стремилась продолжать начинания Петра I, искренним сторонником которых оставался Прокопович, но теперь-то и проявилось умение Феофана хвалить государя за заслуги не действительные, а воображаемые, и тем самым давать ему уроки, замаскированные комплиментами»[500].
Попытаемся рассмотреть причины «падения» ораторского мастерства «первенствующего члена Святейшего Синода». Как показывает всё предыдущее творчество, Феофан-художник был, прежде всего, искренен. Теперь же, в последние годы своей жизни, он оказался в весьма сложной ситуации (и политической, и психологической, и творческой), но не изменил своей просветительской миссии.
Ораторское творчество Феофана Прокоповича 1730-х гг. состоит из девяти «речей», посвящённых непосредственно Анне Иоанновне, и ещё нескольких, написанных в годы её правления. Они и составляют, практически, третий том «Слов и речей» Феофана Прокоповича.
Несколько «речей», написанных и произнесённых в разные годы, посвящены восшествию на престол Анны Иоанновны.
Открывается цикл этих «речей» «Речью, которою Анна Иоанновна по коронации от всех чинов поздравлена» (III, 47–51). Феофан Прокопович произнёс её в Кремлёвском Успенском соборе 28 апреля 1730 г. К ней же примыкает краткая «речь» от имени духовенства, произнесённая на следующий день, – «Речь от духовнаго чина поздравлена», в которой он, присоединяясь к «вчерашним» поздравлениям, обещает молиться за государыню (III, 52).
Известна та роль, которую сыграла «учёная дружина» во главе с Феофаном Прокоповичем при восшествии на престол Анны Иоанновны (выступление против «затейки верховников»[501]. Феофан сам описал все перипетии этого периода в знаменитой «Истории о избрании и восшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны»[502]. В «Речи по коронации» Феофан сочувствует государыне, вопрошая: «Кому не известны бывшия твоя до селе скорби?» – сиротство, вдовство, смерть державного дяди, бесчестие и гонение (III, 48). Участь её он сравнивает с горлицей, сидящей на сухом древе. Всё это действительно отвечало тому положению, в котором находилась герцогиня Курляндская на протяжении многих лет. Восшествие её на престол Феофан изображает опять-таки метафорически: «По долгом из утра туманном помрачении, как стала пора к славному сему шествию всечистым сиянием просветилось» (III, 49). Бог смилостивился и помог, замечает Прокопович. Конечно, всем присутствующим был понятен намёк преосвященного о тех «острых терниях», через которые прошла Анна Иоанновна «к высочайшей власти сей» (III, 50), – это, безусловно, намёк на происки «верховников». Далее следует прославление Бога и «боговенчанной» императрицы.
Первой годовщине царствования Анны Иоанновны посвящено «Слово в день коронации Анны Иоанновны» (1731). В основу его приступа положена антитеза: Анне Иоанновне трон – «беспокойство, тягота, труды», а её подданным – «сладкия плоды, покой, облегчение, беспечалие» (III, 73). Корона «уязвляет» главу монархини, т. к. требует «бесчисленных попечений», «чтобы главы подданных в тишине и веселии пребывали» (III, 73).
Мотив дела для дела, мотив пользы применительно к Анне Иоанновне звучит в «словах» Феофана, ей посвящённых, не только как комплимент, но и как поучение. Феофан, спустя год после восшествия на престол Анны Иоанновны, ещё мог быть искренним, считая, что этот день – праздник для России, «общее и всенародное торжество» (III, 74), потому что для «учёной дружины» это была победа над «верховниками». Он и в этом «слове» напоминает о грозившей России беде и о том, что не демократия и аристократия, а монархия необходима России (III, 74). Он осуждает междоусобицу, «злострастия политических философов», их «гордость, сластолюбие, любоимение» (III, 75). Всем этим порождаются, считает оратор, «ярость, зависть, месть, коварство, оклеветание, татьба, хищение, обманство» (III, 76). Так же как в «Слове о власти и чести царской», «Духовном регламенте», «Правде воли монаршей», он осуждает и призывает «слышателей» осудить «сожитие человеческое безсоюзное и власти неподлежащее» (III, 76).
Особенностью ораторской прозы Феофана Прокоповича всегда являлась особая рационалистичность, наглядность, естественность его доказательств. В отличие от Стефана Яворского, тяготевшего к абстрактным аллегориям, Феофан Прокопович стремится в своей поэтике к конкретности и ясности образов, ибо ему нужно убедить «слышателей», а для этого его мысль должна быть понятной им, а потому он старается излагать просто и доходчиво. Как и почти во всех своих «речах», Феофан в «Слове в день коронации Анны Иоанновны» приводит пример из обычной жизни любой семьи, любого дома: в доме, где нет власти, всё сокрушается и рушится. Вслед за примером из обыденной жизни он воспроизводит мифологический пример о Кадме, напоминая, как друг друга истребляли воины, выросшие из «змеиных» (драконовых) зубов. «Единый человек» не сможет жить; звери в лесу и то в каком-то «сожитии» находятся, и они, даже лютые звери, не приносят столько бед человеку, как «окаянный человек» сам себе (III, 78). Феофан видит настоящую опасность не столько в «губительном море, мучительном гладе», сколько в недостойных поступках людей – «клеветников, ябедников, безбожных грабителей и хищников», а у истоков недостойного поведения – «человеческая злоба» (III, 79). Напомним, что в течение первого года царствования Анны Иоанновны шли бесконечные суды над «верховниками», их допросы, ссылки. Противостоять «внешним супостатам» и «внутренним злодеям» может только «верховная в человецех власть», она «злострастиям человеческим узда, и человеческаго сожительства ограда и обережение, и заветреннее пристанище» (III, 80). Феофан заканчивает «слово» благодарностью монархине, что она «украсила главу свою императорскою короною», в результате чего «вознесли главы своя смиреннии, а роги уронили гордии», или, как он последних называет, «домашние злодеи» (III, 81).
Второй годовщине царствования посвящено «Слово в день воспоминания коронации Анны Иоанновны» (1732). Слову предпослан эпиграф: «Воздадите кесарево кесареви: и божие богови» (III, 145). Эпиграфы часто появляются в ораторской прозе Феофана Прокоповича: многократно обыгрываются, подчёркивают основную мысль «речи», становятся её идейным ядром. Так и в этой «речи». Празднование годовщины царствования – это не просто праздник в ряду других праздников («День радости и веселия» и «в духе», и в сердце, всё «играет радостью» – III, 145); праздник имеет высокий государственный смысл.
Оратор утверждает, что сам господь возвёл на престол Анну Иоанновну (III, 146) и убеждает каждого подданного «к государю своему искреннею любовию гореть» (III, 156). После пространных рассуждений на заданную эпиграфом тему со ссылками на Библию, Евангелие и т. д., оратор уже призывает любить не просто монарха, а конкретную монархиню – Анну Иоанновну (III, 162), взывая молиться за неё.
Мысль о государственной значимости праздника дня коронации продолжается и в «Слове в день восшествия на престол Анны Иоанновны» (1733). Празднику соответствует светлый день, «а естьли настанет стужа, туман, ненастье, то и праздник не праздником» (III, 176) – такой антитезой открывается данное «слово». Обращаясь к «слышателям», оратор восклицает, что восшествие на всероссийский престол Анны Иоанновны – «великая воистинну, великой радости вина! возвращённое отечеству по болезни здравие, по бедствии безпечалие, о трате бывших благ, вящших и лучших приобретение» (III, 176). Безусловно, это прозрачный намёк на те политические обстоятельства, при которых всходила на престол Анна Иоанновна, о чём далее и рассказывает оратор.
И в этом «слове», как и во многих других, он использует антитезу «свет – тьма» (III, 177), но в данном контексте эти «тма», «туман», «мрак» приобретают политическую окраску. Он приводит исторические примеры на эту же тему: «Навходоносор» (III, 178), из пророка Даниила, про персидского царя Кира, упоминает фараонов (III, 180–181). Монархия, по мнению Феофана, гарантирует благополучие общества: «чистым светом сияет торжество» (III, 181), «тму» же наводят «человеки», о собственной власти помышляющие. Прокопович много и с осуждением говорит о властолюбии, о «хитрых» помыслах и промыслах. В качестве примера он приводит повести об Авесаломе и Адонии, сыновьях Давидовых; от библейских и древнеримских примеров приходит к «нестроению» у нас: размышляет о псевдо-Димитрии и псевдо-Алексии, о Годунове, Отрепьеве (III, 183) – всех их он осуждает. Закономерно следует вывод, обращённый к «слышателям»: «Державныя власти не силою, и хитростию человеческою производятся, но Божием смотрением и промыслом» (III, 187). Вопреки и исторической истине, и тому, о чём все присутствующие знали, Феофан утверждает, что сам Бог «подал ей (Анне Иоанновне. – О.Б.) то, чего она не искала, не желала и не думала» (III, 189).
В заключение звучит мотив дела, что надо своё высокое предназначение делом доказать, и следует пожелание: «Не стужай в злоключениях, не унывай в наветах и напастех, не бойся от слуха зла», т. к. Бог подал венец, он и сохранит императрицу (III, 189–190).
«Слово в день воспоминания коронации Анны Иоанновны» (1734) открывается однотипно: какой торжественный, радостный день. Опять со ссылкой на «еллинских философов» Феофан прославляет монархическую форму власти, но не аристократию и «димократию» (III, 193), опять доказывает верховенство монархии от учения и заповедей Христовых. Со ссылкой на Петра Великого говорит, что Пётр не признал ни аристократию, ни «димократию», которые несут беды народные и «смертные отечества болезни» (III, 198). Вновь следуют исторические ссылки на римлян, афинян, Спарту, коринфян Феофан Прокопович анализирует в этом аспекте и русские летописи, говорит, что вплоть до правления святого Владимира была монархия, а потом начались княжеские междоусобицы (III, 200–205). Феофан как историк справедливо считает, что татарское иго господствовало только из-за междоусобицы, потому что татарские ханы натравляли русских князей друг на друга (III, 203), по этой же причине, утверждает оратор, пала и Византийская империя. Приводя исторические примеры, Феофан Прокопович осуждает тех русских князей, которые участвовали в этих интригах и особенно служили иностранным государствам (III, 106). Достаточно подробно описывает эпоху смуты (III, 207–208). Воскресла же монархия в России, напоминает Феофан, только благодаря роду Романовых – Михаилу Фёдоровичу и его наследникам (III, 209). Опять в связи с упоминанием о Петре I и его реформах появляется антитеза «прежде – ныне» (III, 209–210).
Феофан подводит своему обширному историческому экскурсу резюме о «вредительном многоначалии» и о «мо-наршеском правительстве», «коль здравое нам правительство монаршеское» (III, 210). Правление Анны Иоанновны он считает достойным продолжением деяний Петра, её – его наследницей (III, 212). Прибегая к приёму повтора (повторяется глагол «посмотрим»), оратор призывает с птичьего полёта посмотреть на все «грады» (города), на все «страны» (стороны) России. Нельзя не заметить, что здесь Феофан опять выдаёт желаемое за действительное: Россия, по его мнению, находится «в лучшем и безопаснейшем от прежняго состоянии, когда варварство исчезает, хищения и разбои на суде праведно обличаются, и воровство во всяком месте искореняется, а наука воинская поощряется, и заводятся изрядныя художества» (III, 212).
Обращаясь к «слышателям», он молит Бога отвратить перемены. Желает долголетия и собственного благополучия самодержице Российской. Феофан нарочито не замечает всех последствий уже наступившей «бироновщины», торжества «слова и дела» (тайной канцелярии), засилья немцев и т. д.[503] Являясь сыном своего века, Феофан желал всеми силами удержаться на плаву, угодить и Анне Иоанновне, и Бирону, но «дорого обходилась его душе и телу избранная им когда-то суетная жизнь»[504].
«Слова» и «речи» тускнели, уже не было того полёта мысли, тех фейерверков острот, полемики с врагами или оппонентами, которыми ранее так славились его ораторские выступления. Он боялся актуализировать «слова» и «речи» 1730-х гг., потому что, судя по воспоминаниям современников, после смерти своего благодетеля и защитника Петра Великого постоянно находился в тайной канцелярии то обвинителем, то обвиняемым.
Непосредственно Анне Иоанновне посвящены ещё две «речи» Феофана Прокоповича – «Слово в день тезоименитства Анны Иоанновны» (1731) и «Речь на пришествие в Новгород Анны Иоанновны» (1732).
Первая из них имеет богословский характер, лишь в финале Феофан использует художественный приём, проводя параллель между святой Анной и Анной Иоанновной (III, 71).
Вторая «речь» начинается с обращения архиепископа Новгородского Феофана Прокоповича к императрице, оратор утверждает: «Скудоумен и не чувствен» тот, кто не радуется приходу в «сей град» государыни (III, 141).
Феофан говорит далее о непростой и славной истории Великого Новгорода, вспоминает и татарское иго, и невзгоды, полученные Новгородом от «Московския империя». И в самом Новгороде были «многия смуты, мятежи, нестроения и кровопролития» (III, 143). И не столько государыню поздравляет с тем, что она прибыла в город, сколько самих себя, удостоенных такой чести; от имени всех новгородцев клянётся в любви сыновней к Анне Иоанновне и просит, чтобы она благосклонной была к своим подданным (III, 143–144).
Остальные «речи» Феофана Прокоповича последних лет жизни в основном имеют либо богословский характер, либо написаны по поводу различных событий 1730-х годов. Мощь ораторского слова Феофана Прокоповича явно угасает. Рассмотрим некоторые из этих «речей».
«Слову в день страстей Христовых» (1730) предпослан большой эпиграф из Евангелия от Иоанна – о мире и о жизни в миру: «Тако возлюби Бог мир» (III, 33). Далее тема эпиграфа разворачивается в тексте проповеди: Феофан Прокопович трактует понятия «мир» и «любовь», много говорит о прощении и любви к ближнему, особенно, когда это прощение исходит от монарха (III, 40–41).
«Слово на новый 1733 год» открывается нетрадиционно, оратор вспомнил смешной пример о том, «что некогда в некоем димократическом государстве сделалось» (III, 163): убогий шляхтич на заседании сейма уснул, вдруг громкий «отрицательный» голос его разбудил, шляхтич стал сам шуметь, не понимая сути происходившего.
Это открытый сатирический выпад Феофана в адрес дворянской демократии, царившей в Польше, намёк на государственные и придворные интриги в преддверии смерти Августа[505] (и Польшу, и её демократию Феофан не любил; и у России были весьма сложные отношения с этой страной).
Аналогию Феофан Прокопович проводит с теми, кто празднует новый год, но не понимает существа этого праздника. Обращаясь к «слышателям», Феофан объясняет, чем обусловлена радость: да, год прошёл, Бог уберёг «от многих бед, и сохранил целых и здравых» (III, 164). Феофан рассуждает как философ о быстротечности жизни: «Текут, и истекут скоро лета наши» (III, 164), «грядет же глубокая, непременная, и конца неимущая вечность; но какова кому будет? О помысла страшнаго!» (III, 165).
Подобные эсхатологические рассуждения были и в «речи» на встречу нового 1725 г. – тоже о начале и конце, о вечности. Эта вечная тема. И в XVIII в., в эпоху Просвещения, она по-прежнему была актуальна, примечательно, что на философский уровень её поднял в России именно Феофан Прокопович.
В. М. Ничик считает, что истолкование проблем пространства, времени, истины и других философских категорий у Феофана Прокоповича было деистическим[506]. Он вполне сознавал бесконечность времени и пространства, уподоблял время течению реки, в связи с этим у него рождаются лирические настроения грусти (III, 166). Затем он говорит об истории летоисчисления: как оно велось у римлян, у византийцев. Прокопович отстаивает идею нового летоисчисления, призывает «с радостию праздновать» новый год 1-го января (III, 170–171).
«Слово» обрывается рассуждением о вечности: «О вечность, краткое словце, но дело ужасное! о вечность» (III, 173).
Тема смерти развивается и в «Слове на погребение Екатерины Иоанновны» (1734). В связи с тем, что усопшая была родной сестрой императрицы, Феофан, видимо, вынужден был говорить надгробное «слово». Начинает он его с развития темы суеты и смертности (III, 217–218). В связи с этим он анализирует учения стоиков, эпикурейцев и неких «баснотворцев» (III, 218). К «баснотворцам» относит «еллинские», магометанские и «прочие скаски» (III, 219). Истинным он считает в отношении смерти только учение Христа. Затем он рассказывает об усопшей, называет её «ироиней» (III, 221). Оратор сочувствует её нелёгкой жизни, это сочувствие было понятно всем присутствующим, все знали о злоключениях несчастной герцогини Мекленбургской[507]. «Слово» насыщено многочисленными цитатами из Евангелия и Библии и их объяснениями. В публикации С. Ф. Наковальнина «слово» не окончено, обрывается многоточием (III, 232).
Резко выделяется среди «речей» 1730-х гг. «Слово торжественное о взятии города Гданска» (1734), которое было произнесено 8 июля 1734 г. в Петропавловском соборе в присутствии Анны Иоанновны.
Феофан поёт славу России и государыне за то, что Бог вновь послал победу (III, 233). Взятие российским оружием Гданска он уподобляет тому, как израильские силы овладели городом Гайским, обыгрывает и в эпиграфе, и в приступе слова библейский эпизод (III, 234). Феофан развивает в «слове» мотивы чести и корысти, пользы и славы, затем рассуждает о честном и полезном мире, последовавшем за долголетней «свейской войной»: «Пришла веселая тишина, которая нас около двенадесяти лет тешила, и никаких от оной стороны ветров и громов не бывало» (III, 235).
Затем оратор говорит, не называя его, о Станиславе Лещинском и о том вреде, который он принёс с собой, поскольку Лещинский попытался за польский престол «дратися» (III, 236). Феофан ехидно замечает, что «праведно низверженный, и аки бы убиенный» силою Петра, претендент вновь стал искать власти (III, 236). Политику Лещинского и его окружения Феофан называет «неистовством», «вероломством и безстудством» (III, 237), тем более что Польша и Россия при Августе находились в союзном договоре: Феофан даже перечисляет то, что клятвенно обещали друг другу стороны (III, 237).
В «слове» чувствуется прежний Феофан-оратор, яркий, темпераментный. Он буквально накинулся с политическими остротами и сатирой на поляков. Сатирический смысл имеют риторические вопросы – один острее другого: «Из чего вам сие беснование о друзи? Куды ушла память ваша? Откуду припало вам забвение предивнаго милосердия Петра Великаго?.. Где совесть? Где стыд?» (III, 237). Разгоревшуюся войну оратор объясняет «безмерной злобой», которая ослепила поляков (III, 238).
Феофан-политик очень чётко расставил в «речи» политические акценты, определив польских союзников, расстановку сил в Европе, все дипломатические ухищрения того времени (III, 238–239). Даже психологию противника он разгадал: «Будто бы сила российская с Петром великим умерла, все уже упущено, нет ни храбрости, ни учения, русский солдат и артикулы воинския позабыл» (III, 240). Оратор замечает, что такое мнение имеет под собой основание, но говорит об этом вскользь, тему не развивает, т. к. пришлось бы задеть не только времена правления Екатерины I и Петра II, но и Анны Иоанновны, при которых русские армия и флот находились в запустении, в загоне. Как бы спохватившись, он тут же делает реверанс в сторону «помазанницы Анны», с восшествием на престол которой все домыслы врагов оказались «лживыми» (III, 240). В соответствии с панегирической традицией, Феофан, восхваляя мудрость самодержицы, одной ей в основном приписывает победу под Гданьском.
Используя приём кольцевой композиции, Прокопович заканчивает «речь» возвращением к эпиграфу и параллели «Гайский град – град Гданский» (III, 241). Оратор торжествует: «Познают отселе ругатели наши, что меч руский не притупился, научатся, как небезбедное дело льва спящаго будити» (III, 241).
В заключение он вновь обращается с поздравлением с победой к самодержавнейшей императрице (III, 242–243).
«Слово на освящении новосозданной церкви в зимнем доме» (1735), видимо, последняя или одна из последних речей Феофана, проповеданная им 19 октября 1735 г. в Санкт-Петербурге. В «великолепном доме» «прекрасный дом Божий, дом молитвы построити изволила», – обращаясь к самодержице, говорит Феофан (III, 244).
Мотив дела и здесь важен для оратора – «дело не менее полезное, как миловидное и красное» (III, 244). Он называет это здание чудным «феатром благочестия» (III, 244). Это не только украшение столицы, царского дворца, но и «всего отечества нашего» (III, 245). Ссылаясь на библейские образы, Феофан пишет, что это дело «богоугодное». Во времена гонения на христиан их молитвенные дома находились даже в погребах, вертепах, темницах, но даже там слово учителя доходило до христиан. И далее он развивает исторические параллели (III, 245–247).
Храмовое зодчество, по Феофану, имеет долгую, многотрудную историю (III, 248–249), поэтому естественно, что «огнь желания жизни вечной и прямого к Богу любления в сердцах» верующих нужно разжигать, а делать это необходимо в Божьем доме, т. е. в церкви (III, 249).
Феофан ставит ещё одну проблему в конце этого «слова»: не только об эстетике, но и об этике христианской – не только, где читать, но и как читать деяния апостольские, Евангелие и другие церковные книги. Кстати, он не раз говорил об этом, в том числе и в «Духовном регламенте». Он требует простоты при совершении обрядов – священнику «вопить» «вопли» не следует, а прихожане слушают проповедь «кротко, тихо, смиренно» (III, 251). Заканчивается «слово» вновь обращением к всероссийской монархине с благодарностью за сооружение храма Божьего и других строений (III, 252).
Можно согласиться с Ю. Ф. Самариным, что «царствование Петрово было лучшим временем в его (Феофана Прокоповича. – О.Б.) поприще как оратора; в присутствии Петра раскрывалось его дарование во всей полноте. Позднейшие произведения Феофана очень важны как исторические памятники; но они не прибавляют ни одной черты к его характеристике как оратора, до конца своей жизни он был верен самому себе, повторял те же самые начала, применяя их к обстоятельствам, служа постоянно делу преобразования»[508].
Диалог Феофана Прокоповича и Петра I, развивавшийся на протяжении двадцатилетия, отличался искренностью с обеих сторон, что будет утрачено во времена правления Анны Иоанновны, когда проявится «умение Феофана хвалить государя за его заслуги не действительные, а воображаемые»[509]. Диалог двух выдающихся государственных деятелей первой трети XVIII в., так много способствовавший укреплению культуры, прогресса в России, со смертью Петра I закончится: он перестанет вестись «на равных» (не в политическом, конечно, смысле). Светская власть, победив окончательно и бесповоротно, перестанет нуждаться в диалоге как форме взаимоотношения двух политических институтов, двух культур – светской и церковной.
Контрольные вопросы
1. Чему была посвящена первая петербургская «речь» Феофана Прокоповича. Каково её жанровое своеобразие?
2. Какие «речи» (авторы, название) созданы в Петровскую эпоху и произнесены «от имени» кого-либо? В чём их своеобразие?
3. Как в «речах» Феофана Прокоповича петербургского периода проявляется связь их содержания с действительностью?
4. Какие проблемы поднимает Феофан Прокопович в «Слове о власти и чести царской»? В чём её художественное своеобразие?
5. В каких «речах» и как Феофан Прокопович рассматривает проблему войны и мира?
6. Какая «речь» петербургского периода посвящена Феофаном Прокоповичем Потавской победе? В чём идейно-художественное своеобразие этой «речи»?
7. Дайте характеристику ораторской прозы Гавриила Бужинского.
8. Какие ораторские произведения Феофана Прокоповича посвящены Северной войне (войне со шведами)? Каково идейно-художественное своеобразие этих произведений?
9. Как в ораторской прозе Феофана Прокоповича создаётся образ Санкт-Петербурга? Каков идейный смысл этого образа?
10. Как в ораторской прозе Феофана Прокоповича создаётся образ Петра I?
11. В чём своеобразие «слов» и «речей» Феофана Прокоповича 1730-х годов?
Заключение
Творчество Феофана Прокоповича – теолога, крупнейшего государственного и церковного деятеля, философа-просветителя, художника – выразило все сложнейшие перипетии бурного времени, названного Петровской эпохой, более того, и сам Феофан Прокопович, и всё содеянное им не только связаны неразрывными узами с эпохой, но и явились её порождением.
Идеология абсолютизма, сформировавшегося в правление Петра I, диктовала и обусловливала определённые эстетические воззрения художников эпохи. Прокопович же – тенденциозно настроенный, совершенно убеждённый сторонник абсолютистской монархии, более того – идеолог петровского времени. Он поддерживал и развивал то направление, идейные и эстетические основы которого строго соответствовали духу эпохи преобразований. Другое дело, что Феофан Прокопович, наверное, знал искусство барокко (так же как и античность, эпоху Возрождения), которое, в свою очередь, так или иначе воздействовало на него, оставив определённый след в его поэтике.
Основополагающие эстетические признаки предклассицизма в «неотшлифованном», «сыром» виде сформированы именно Феофаном Прокоповичем. Взаимоотношения искусства и действительности строятся на базе рационализма. Весьма осознанно, в духе передовых идей времени ставится и разрешается вопрос о специфике художественного творчества: проблема правдоподобия, вопросы типизации, значение вымысла, понятие подражания и т. п. Строгая градация жанров, требование единства времени и действия, попытка разработки учения о трёх стилях – вот опорные моменты теоретических работ Феофана Прокоповича, создавшие базу зарождающемуся новому литературному направлению – классицизму. Немаловажным является требование Феофана Прокоповича обращаться в поисках поэтических образцов к античности и эпохе Возрождения. Поэт, художник, по Феофану Прокоповичу, – человек, стоящий на службе у государства. Наконец, сформированный Феофаном политический идеал – культ государства, основанного на началах разума, и прославление просвещённой монархии – идейная квинтэссенция кодекса классицистов, из чего следовало правило: восхваляя героя, ставить его в пример прочим. Дидактичность искусства – характерная черта эстетики Феофана Прокоповича.
Обращение к отечественной истории, к сюжетам летописей, древнейших историко-литературных памятников стало, начиная с Феофана Прокоповича, постоянным в русской драматургии, что явилось результатом подъёма национального русского самосознания. Феофан Прокопович и все его в этом начинании последователи гордились трудным, но славным прошлым нашего отечества, стремились утвердить его в исторической памяти народа, столь мощно о себе заявлявшего в «осьмнадцатом» столетии. Трагедокомедия «Владимир» стоит у истоков жанра русской исторической драматургии, в первую очередь классицистической, что тщательно изложено в монографии В. А. Бочкарёва[510]. Таким образом, предтечей светской исторической драмы на национальном материале была пьеса Феофана Прокоповича «Владимир».
Пьеса, «Разговоры…» Феофана Прокоповича полностью отвечали запросам эпохи: через актуализацию тем, идей, образов, систему политических аллюзий драматург добивался созвучия своих произведений со временем, жил и творил в нём и ради него, что явится непременным условием и драматургии классицизма, поэтому, может быть, не случайно то обстоятельство, что именно трагедия станет ведущим жанром русской литературы второй половины XVIII в.
Резкое обмирщение жанра, стремление и умение изобразить смех во всех его модификациях, столь присущие драматургическому наследию Феофана Прокоповича, несомненно повлияли на рождение русской комедии: генетически, типологически комедии А. П. Сумарокова связаны с комической стороной «Владимира» и «Разговоров…».
Тема просвещённого монарха – ведущая тема русского классицизма, всей русской драматургии XVIII в. – была впервые столь мощно заявлена «Владимиром»: действительно, «трагедокомедия начинает собой ряд “идеологических” пьес»[511].
Основным конфликтом «Владимира» стало столкновение между долгом и чувством, разумом и страстью (недаром «брань духовная» – ведущее начало пьесы), что определило насыщение политическим содержанием трагедии русского классицизма[512]. Разум будущего князя-просветителя побеждает телесные чувства князя-язычника.
Школьная драматургия, представительницей которой является пьеса Феофана Прокоповича, явилась предтечей драматургии классицизма; школьный театр – поистине отец русского национального театра.
Тема борьбы нового со старым, света с тьмою, тема пользы, тема брани и тишины, тема науки и, шире, образования – все они рождены задолго до драматургии классицизма, все они так или иначе находят отзвук, а иногда и решение в драматургическом наследии Феофана Прокоповича. Просветительские устремления автора «Владимира», «разговоров…» явственны и однозначно прозвучали на заре русского Просвещения. Не вызывает сомнений искренний и горячий патриотизм этого, по выражению Н. К. Гудзия, «просветителя в рясе»[513].
Чрезвычайно важно, что оба новые для русской литературы жанра – трагедокомедия и разговор – не только прижились в ней, но и способствовали значительному обогащению литературных жанров. На наш взгляд, именно синтетический жанр трагедокомедии, пусть и с некоторым перерывом во времени, способствовал лёгкому усвоению русским читателем и зрителем жанров «слёзной комедии», отчасти комической оперы, наконец, собственно драмы. Ведь жанр не умирает, он, по мысли М. М. Бахтина, памятлив. Жанр же разговора получил в России огромную популярность, о чём свидетельствуют богатейшие рукописная и печатная традиции.
Обширны и крепки связи Феофана Прокоповича-драматурга с античностью, устным народным творчеством, древней русской литературой, что в свою очередь определило, как нам кажется, жизненность традиций Феофана Прокоповича-художника для многих поколений русских писателей. В XIX в. многие деятели русской культуры с уважением относились к его имени, среди них – А. С. Пушкин, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский…
С 1706 г. – с первой встречи в Киеве с Петром I – Феофан Прокопович до конца своих дней оставался убежденным приверженцем государя-реформатора. Образованнейший человек своей эпохи, Феофан Прокопович очень рано понял и принял реформу Петра I, недаром В. Г. Белинский назвал Феофана «одним из птенцов его орлиного гнезда»[514]. И «птенец гнезда Петрова» словом и делом (собственно, «слово» у него всегда было «делом») последовательно отстаивал всю свою жизнь деяния Петра. Известно, как царь относился ко всему, что в той или иной мере могло способствовать упрочению его реформ. Будучи весьма яркой индивидуальностью, Феофан не мог не привлечь внимания Петра I. A. C. Пушкин, имея в виду эту особенность великого преобразователя, писал, что «он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана… Семена были посеяны… Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться»[515]. Что касается «новой словесности», то достижения литературоведческой науки последних десятилетий позволяют вполне определённо говорить о литературе переходного времени (конец XVII – начало XVIII столетия) как об очередном этапе непрекращающегося литературного процесса. В отношении же Феофана Прокоповича поэт совершенно прав: Петр до самой своей кончины поддерживал и защищал худородного пришельца-малороссиянина, ставшего его правой рукой во всех вопросах идеологического порядка. Образ Петра I, преобразования в России, защита нового – большая и сложная тема в литературном наследии Феофана Прокоповича.
Уже первое его художественное произведение – трагедокомедия «Владимир» (1705) есть апологетика дел Петровых: реформатор Владимир I – реформатор Петр I; крещение Руси – деяния Петра; жрецы-оппозиционеры – бояре и церковь как оппозиция петровским преобразованиям. В образе Владимира дан мудрый, сильный, противоречивый характер исторического деятеля, с трудом, но все же принявшего свет перемен против тьмы невежества.
В рамках славянской идеи[516] образ Владимира I Святославича и всё, связанное с первокрестителем, имеют особое значение, хотя интерес к нему никогда не исчезал. Этот интерес был подогрет почти постоянно присутствовавшей в историко-художественной литературе Петровской эпохи аналогией: Владимир I – Пётр I. Феофан Прокопович, начиная с «Владимира», особенно культивировал это через систему политических аллюзий в многочисленных «словах» и «речах», исторических произведениях, политических трактатах. Петр являлся естественным продолжателем деяний своего далёкого предшественника.
Тем самым драматург закрепляет традицию древнерусской художественной и публицистической литературы[517].
Феофан Прокопович стоит у истоков восточнославянского Просвещения.
Деист, он в духе эпохи Возрождения стремится к гармонии между человеком и природой, но в духе рационализма отстаивает примат разума над чувством, поэтому добро и зло, война и мир лишены божественного ореола. Зло и война – дело рук человеческих, а добро и мир – победа разума над пороками и страстями.
Выдвинув политический значимый синонимический ряд «мир – блаженство – тишина» и образ-метафору «корабль всемирного жительства», Феофан Прокопович во многих словах и речах сделает эти понятия ключевыми. В «Слове в день Александра Невского» художник несколько трансформирует образ корабля; у корабля появится кормчий, т. е. государь, сохраняющий «в волнении корабль цел» (II, 12–13).
Политическую окраску под пером Феофана Прокоповича приобрела оппозиция «прежде – ныне»: «Слово о… мире» (1721) фиксирует стабильное политическое благосостояние России и ликование народа российского, но оратор всякий раз подчёркивает то, что было прежде. Политик и художник не уставал призывать государей и политиков к мирному решению внутренних и внешних проблем. Ближний сподвижник Петра выдвинул идею миротворения, тем самым Феофан Прокопович в постижении этой философской проблемы сумел встать вровень с выдающимися мыслителями Европы XVIII в.
Таким образом, к концу своего пути Феофан Прокопович сумел заложить основы политического красноречия в России.
Ораторское наследие Феофана Прокоповича не только содержательно и идеологически сумело выразить Петровскую эпоху со всеми её противоречиями и сложностями, но и художественно, на уровне поэтики явилось новым шагом в развитии ораторского искусства России. И в этом Феофан был новатор. Безусловно правы те многочисленные отечественные и зарубежные исследователи, которые считают важнейшей чертой искусства переходного периода его секуляризацию. Блестящим доказательством этого процесса является и ораторская проза Феофана Прокоповича.
В киевский период творчества Феофан Прокопович состоялся как оратор, пропагандирующий идеи царя-реформатора. Публицистический элемент чрезвычайно силён в его «речах» уже киевского периода. Как политический деятель и как оратор, Феофан Прокопович от «слова» к «слову» наращивает политический темп, насыщает произведения историческими параллелями, актуальными аллюзиями, понимая значимость своих выступлений, звучащих в унисон идеям Петра.
Расцвет политического красноречия в творчестве Феофана Прокоповича падает на петербургский период, когда всё сказанное и напечатанное им приобрело общероссийский государственный характер.
Безусловно, как иерарх русской церкви, он произносил «слова» и «речи», посвящённые и сугубо церковным темам (так, четвёртый том «Слов и речей» целиком посвящён этому, в связи с чем мы, не занимаясь теологией, не рассматривали сугубо богословские «речи» этого тома).
Однако более двух третей «слов» и «речей» знаменитого оратора посвящены политическим, общественно значимым темам.
Огромное количество тем, образов, идей, проблем, художественных находок мы находим в ораторском наследии одного из ближайших сподвижников Петра. Актуализация жанра – важнейшая составляющая его проповедей.
Мы солидарны с теми исследователями, которые напрямую связывают ораторскую прозу Феофана Прокоповича и идейно, и тематически, и стилистически с зарождением и эволюцией жанра оды[518].
Однако Феофан-оратор не только влиял на А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, но он активно участвовал в формировании своего литературного окружения, литературного контекста эпохи: А. Д. Кантемир, В. Н. Татищев, И. Кременецкий, Г. Бужинский, Ф. Кролик и многие др.
Великолепно усвоив традиции древнерусского ораторского искусства, наследие античных риторов, Феофан Прокопович, сформировав свою литературную школу ораторского искусства Петровской эпохи, не только продолжил традиции, но и новаторски их обновил и сумел передать литературным наследникам. Поэтому мы считаем, что и в этой части словесного искусства предклассицизм выполнил свою функцию по формированию классицизма. Публицисты более позднего периода обращались за опытом к ораторскому наследию Феофана – Н. И. Новиков, А. Н. Радищев А. С. Пушкин высоко оценил и личность, и творчество Феофана Прокоповича.
Неоспорим тот факт, что в историко-литературном процессе всего XVIII в. ораторская проза Феофана Прокоповича была востребована: к ней обращались, с ней полемизировали, её цитировали и изучали…
Список основных опубликованных работ проф. О. М. Буранка о литературе Петровской эпохи
Книги
1. Драматургия Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века: Учебное пособие. – Самара: Самарск. гос. пед. институт, 1992. 80 с.
2. Изучение русской литературы XVIII века в вузе: Учебно-методическое пособие. Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ. – М., 1997. 224 с.
3. Русская литература XVIII века: Учебно-методический комплекс для студентов филологических специальностей. Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ. – М.: Наука, Флинта, 1999. 392 с. (2-е изд. – М., 2002).
4. Ораторская проза Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века: Монография. – Самара, 2002. 192 с.
* * *
5. Пьеса Феофана Прокоповича «Владимир» и жанр трагедокомедии в русской драматургии первой половины XVIII века: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1984. 16 с.
Статьи
6. Исследование исторических источников в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Жанровое своеобразие русской поэзии и драматургии: Науч. тр. Т. 256. – Куйбышев, 1981. С. 3—11.
7. Критические статьи Н. И. Гнедича о трагедокомедии Ф. Прокоповича «Владимир» // Русская критика и историко-литературный процесс. – Куйбышев, 1983. С. 31–38.
8. Антитеза «свет – тьма» в трагедокомедии Ф. Прокоповича «Владимир» // Формирование семантики и структуры художественного текста. – Куйбышев, 1984. С. 3—13.
9. Жанровое своеобразие пьесы Феофана Прокоповича «Владимир» // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Метод и жанр. – Л., 1985. С. 3—11.
10. Система образов трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская драматургия XVIII–XIX веков: Жанровые особенности. Мотивы. Образы. Язык. – Куйбышев, 1986. С. 3—17.
11. Речевая характеристика персонажей пьесы Феофана Прокоповича Владимир» // Взаимодействие жанров, художественных направлений и традиций в русской драматургии XVIII–XIX вв. – Куйбышев, 1988. С. 13–18.
12. Особенности эволюции жанра трагедокомедии в русской драматургии первой трети XVIII века: Феофан Прокопович и Феофан Трофимович // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1990. С. 14–23.
13. Пространство и время в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская драматургия и литературный процесс: Сб. статей / АН СССР ИРЛИ; Самарск. пединститут. – СПб.; Самара, 1991. С. 10–26.
14. Фольклорные традиции в творчестве Феофана Прокоповича // Филологические науки. 1991. № 2. С. 20–28.
15. Изучение творчества Феофана Прокоповича в курсе «русская литература XVIII века»: Методические рекомендации для студентов-филологов. – Самара: СамГПУ, 1991. 36 с. То же см.: Буранок О. М. Методика изучения русской литературы XVIII века в вузе. – М., 1997. С. 136–164.
16. Н. М. Карамзин о литературе Петровской эпохи // Русская критика XIX века: Проблемы её теории и истории. – Самара, 1993. С. 14–25.
17. Проблемы войны и мира в русской литературе первой трети XVIII века: На материале ораторской прозы Феофана Прокоповича // Меняющийся мир и образование в духе мира и ненасилия: Материалы научной конференции. – Самара, 1993. С. 254–257.
18. Античность в творчестве Феофана Прокоповича // Взаимодействие литератур в мировом художественном процессе: Материалы научной конференции. – Гродно, 1993. С. 137–140.
19. Жанр трагедокомедии в русской драматургии первой половины XVIII в. // Старинные мастера русского слова. – М.; Самара, 1993. С. 55–79.
20. Человек Петровской эпохи и русское ораторское искусство // Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем: Материалы научной конференции по исторической психологии российского сознания. – Самара, 1994. С. 161–163.
21. Феофан Прокопович и М. В. Ломоносов // Узаемадзеянне лiтаратур у сусветным лiтаратурным працесе: Праблемы тэарэтычнай гiстарычнай паэтыку / Матэрыалы мiжнароднай навуковай канферэнцы. – Гродна, 1995. С. 124–127.
22. Петр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур: К постановке проблемы // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М.: Наука, 1995. С. 17–23.
23. Своеобразие ораторской прозы Феофана Прокоповича киевского периода // Проблемы современного изучения русского и зарубежного историко-литературного процесса: Материалы XXV Зональной конфер. литературоведов Поволжья и Бочкаревских чтений. – Самара, 1996. С. 10–15.
24. Литература Петровской эпохи в критике Н. М. Карамзина // Карамзинский сборник: Творчество Н. М. Карамзина и историко-литературный процесс. – Ульяновск, 1996. С. 3—14.
25. Жанровая интерпретация темы: трагедокомедия «Владимир» и «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» // Русская стихотворная драма XVIII – начала ХХ веков: Межвуз. сб. науч. тр. – Самара, 1996. С. 3–10.
26. Трагедокомедия // Русская литература XVIII века: Словарь-справочник. – М., 1997. С. 110–111.
27. Школьная драма // Русская литература XVIII века: Словарь-справочник. – М., 1997. С. 118–120.
28. Прокопович Феофан // Русская литература XVIII века: Словарь-справочник. – М., 1997. С. 191–193.
29. Своеобразие ораторской прозы Феофана Прокоповича киевского периода // Культура и текст. Вып. I. Литературоведение. Ч. I. – СПб.; Барнаул, 1997. С. 56–62.
30. Г. Р. Державин о Петре Великом // Юбилеи русских классиков: Г. Р. Державин, И. А. Крылов, А. Н. Островский: Изучение и преподавание. – Самара, 1997. С. 3—10.
31. Личность и творчество Феофана Прокоповича в восприятии русской критической мысли первой половины XIX века // Русская критика XIX века и проблемы национального самосознания: Межвуз. сб. научых тр. – Самара, 1997. С. 51–60.
32. Комическое в творчестве Феофана Прокоповича в контексте смеховой культуры Петровской эпохи // Культура и текст: Литературоведение. Ч. II. – СПб.; Барнаул, 1997. С. 166–177.
33. Русская художественная культура XVIII века как культурологический контекст эпохи // Наука и образовательные технологии: Межвуз. информац. – аналитическ. материалы по среднему и высшему образованию: Выпуск I. – Самара; Ульяновск, 1998. С. 6—11.
34. А. В. Дружинин о русской литературе и культуре XVIII века // А. В. Дружинин: Проблемы творчества: К 175-летию со дня рождения. – Самара, 1999. С. 123–130.
35. Образ князя Владимира в произведениях Феофана Прокоповича: «Владимир» и «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» // III Иоанновские чтения памяти Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. – Самара, 1999. С. 55–64.
36. «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в переводе Антиоха Кантемира и жанр «разговора» в русской литературе первой трети XVIII века // Антиох Кантемир и русская литература / Отв. ред. д.ф.н. А. С. Курилов: РАН, ИРЛИ им. А. М. Горького. – М., 1999. С. 140–153.
37. Ораторская проза Феофана Прокоповича петербургского периода / / Христианство и культура: Материалы конф., посв. 2000-летию Христианства. – Самара, 2000. С. 35–41.
38. Русская литература первой трети XVIII в. и проблема толерантности // Культурная целостность и толерантность Поволжской этничности в современном пространстве русского языкового союза. – Самара, 2000. С. 85–93.
39. Изучение в Германии жизни и творчества Феофана Прокоповича (вторая половина ХХ века) // Русский язык и литература: Вопросы истории, современного состояния и методики их преподавания в вузе и школе. Ч. 3. – Самара, 2001. С. 21–29.
40. Человек Петровской эпохи: гражданин и патриот // Культура ненасилия и мира в современном образовательном пространстве. – Самара, 2001. С. 19–26.
41. Риторическое время в ораторской прозе Феофана Прокоповича // Пространство и время в литературном произведении. Ч. 2. – Самара, 2001. С. 42–46.
42. Стиль и язык литературы Петровской эпохи (На материале произведений Феофана Прокоповича) // Самарские филологи: Е. М. Кубарев. – Самара, 2001. С. 316–327.
43. Рим в жизни и творчестве Феофана Прокоповича // Образ Рима в русской литературе: Междунар. сб. науч. тр. – Рим; Самара, 2001. С. 29–38.
44. Образ Санкт-Петербурга в ораторской прозе Феофана Прокоповича // Городская культура как социо-культурное пространство развития личности: Матер. и тезисы. Ч. 1. – Самара, 2001. С. 44–46.
45. Психологизм ораторской прозы Феофана Прокоповича // Психологизм литературного творчества и восприятия искусства: Межвуз. сб. науч. трудов. – Самара, 2001. С. 3–6.
46. Эпиграмматическое творчество Феофана Прокоповича в контексте русской литературы первой трети XVIII века // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Межвуз. сб., посв. памяти проф. В. А. Западова. – СПБ.; Самара, 2001. С. 19–32.
47. Жанр эпиграммы в творчестве Феофана Прокоповича // Культура и текст: Сб. 4. – СПб.; Самара; Барнаул, 2001. С. 116–123.
48. Образ А. Д. Меншикова в ораторской прозе Петровской эпохи: Речи Феофана Прокоповича и Ивана Кременецкого // Актуальные проблемы гуманитарных наук: Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Самара, 2002. С. 209–213.
49. Лаврентий Горка как драматург Петровской эпохи // Забытые и второстепенные писатели XVII–XIX веков как явление европейской культурной жизни: Матер. науч. конф.: В 2 т. Т. 2. – Псков, 2002. С. 5—10.
50. Мотив власти и чести в ораторской прозе Феофана Прокоповича // Российское образование на рубеже веков: Матер. IV Всеросс. конф. – Самара, 2002. С. 45–47.
Методическое приложение. Изучение творчества Феофана Прокоповича в курсе русской литературы XVIII в.
Все существующие вузовские программы по русской литературе XVIII в., сделанные на основе стандарта по специальности 032900 – русский язык и литература, первым разделом включают литературу первой трети XVIII в. (переходный период, Петровская эпоха). С опорой на программу А. В. Западова, В. И. Фёдорова[519] нами разработаны и апробированы программа по русской литературе XVIII века и написанные к ней учебные пособия «Методика изучения русской литературы XVIII века в вузе» (М., 1997) и «Русская литература XVIII века» (М., 1999; 2-е изд. – М., 2002), которые были рекомендованы Министерством общего и профессионального образования РФ для студентов педагогических вузов.
Творчество Феофана Прокоповича занимает центральное место в литературе Петровской эпохи и изучается как монографическая тема в курсе русской литературы XVIII в.
Прежде чем обратиться к изучению темы, нужно внимательно рассмотреть соответствующий раздел программы:
Литература Петровской эпохи (конец XVII – первая четверть XVIII века). Характеристика эпохи. Процесс «европеизации России». Процессы «обмирщения» в идеологии, культуре, быту. Переход от старой культуры к новой. Значение слова в политической борьбе; публицистика; пропаганда новых моральных и бытовых норм. Переводная проза, её роль в развитии русской литературы и формировании общественного мнения в Петровскую эпоху («Юности честное зерцало», «О разорении Трои», «О законах брани и мира» и др.). Рождение журналистики: газета «Ведомости».
Жанр путешествия в Петровскую эпоху. Расцвет ораторского искусства; жанры проповеди, «слова». Их идеологическое наполнение: восхваление деяний Петра I. Поэтика жанра. Ораторская деятельность Стефана Яворского, Феофана Прокоповича.
Рукописная литература – старая по форме, но новая по содержанию повесть, переводные романы, переделки произведений древнерусской литературы.
Оригинальные повести эпохи («Гистория о российском матросе Василии Кариотском», «История об Александре, российском дворянине», «Гистория о некоем шляхетском сыне…» и др.). Отличие их от повестей конца XVII века. Особенности поэтики: светскость содержания, вымышленный сюжет, развивающийся по линии раскрытия характера главного героя, чья судьба – результат его поступков, а не действия рока, как в древнерусских повестях. Значение любовной темы в повестях. Отражение в повестях просветительских и публицистических идей петровского времени. Особенности поэтики, барочные элементы в повестях, своеобразие композиции и стиля. Влияние переводных и оригинальных повестей петровского времени на творчество Ф. Эмина и М. Чулкова.
Развитие стихотворства. Новые жанры: любовная песня, кант. Панегирики, их публицистическое начало.
Театр и драматургия петровского времени. Школьный театр. Поэтика пьес школьного театра. Попытки организации светского театра. Интермедии как прообраз русских комедий.
Развитие фольклора в Петровскую эпоху. Двойственное отношение к Петру в фольклорных произведениях.
Барокко как литературное направление Петровской эпохи. Возникновение барокко под влиянием польско-украинско-белорусских воздействий и внутренних русских потребностей. Поэтика барокко. Новые жанры, новые идейные веяния, новый стиль. Просветительский характер русского барокко.
Русское искусство Петровской эпохи.
Предклассацизм как литературное направление Петровской эпохи.
Феофан Прокопович (1682–1736) – выразитель идей и духа Петровской эпохи, идеолог и сподвижник Петра Первого. Общественно-государственная и педагогическая деятельность Феофана. Его публицистика («Слова и речи», «Духовный регламент»).
Взгляды на литературу («О поэтическом искусстве»). Поэзия Феофана Прокоповича: панегирическая поэма «Епиникион», лирика и её жанровое своеобразие. Драматургия. Трагедокомедия «Владимир»: использование исторического материала, система образов, своеобразие жанра. Традиции и новаторство в творчестве Феофана Прокоповича. Проблема художественного метода (предклассицист). Творчество Феофана Прокоповича в контексте историко-литературного процесса Петровской эпохи[520].
Учебники и учебные пособия
Берков П. Н. История русской журналистики XVIII – XIX вв. – М., 1973.
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. – М., 1960.
Буранок О. М. Русская литература XVIII века. – М., 1999. (Изд. 2: М., 2002).
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1939. (Переизд. – М., 1999).
Западов А. В. Русская журналистика XVIII века. – М., 1964.
История русской журналистики XVIII – XIX вв. – М., 1973.
Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. – М., 2000.
Ольшевская Л. А., Травников С. Н. Литература Древней Руси и XVIII века: Практикум. – М., 1995.
Орлов П. А. История русской литературы XVIII века. – М., 1991.
Татаринова Л. Е. Русская литература и журналистика XVIII века. – М., 2001.
Фёдоров В. И. Русская литература XVIII века. – М., 1990.
Справочники
Русская литература XVIII века: Библиографический указатель. – Л., 1968.
Русская литература XVIII века: Словарь-справочник / Под ред. В. И. Фёдорова. – М., 1997.
Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1: А – И. – Л., 1988. (Издание продолжается).
Хрестоматии
Русская литература XVIII века: Хрестоматия / Сост. Г П. Макогоненко. – Л., 1970.
Русская литература XVIII века: 1700–1775: Хрестоматия / Сост. В. А. Западов. – М., 1979.
Русская литература последней четверти XVIII века: Хрестоматия / Сост. В. А. Западов. – М., 1985.
Хрестоматия по русской литературе XVIII века / Сост. А. В. Кокорев. – М., 1965.
Исследования
Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XIX в. – М., 1977.
Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. – М., 1988.
Буранок О. М. Драматургия Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс первой трети XVIII века. – Самара, 1992.
Буранок О. М. Ораторская проза Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века. – Самара, 2002.
Буранок О. М. Петр I и Феофан Прокопович: Диалог двух культур (К постановке проблемы) // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М. 1995. С. 17–23.
Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983.
XVIII век: Сборники 1—22. – М.; Л.; СПб., 1935–2001. (Издание продолжается).
Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. – М., 2001.
Дёмин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII веков: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. – М., 1977.
История всемирной литературы: В 9 т. Т. 5. – М., 1988.
История русской драматургии: XVII – первая половина XIX в. – Л., 1982.
История русской литературы: В 10 т. Т. 3–5. – М.; Л., 1941.
История русской литературы: В 3 т. Т.1. – М.; Л., 1958.
История русской литературы: В 4 т. Т.1. – Л., 1980.
Калашникова О. Л. Русская повесть первой половины XVIII века. – Днепропетровск, 1989.
Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. – М., 1981.
Либуркин Д. – Л. Русская новолатинская поэзия: Материалы к истории: XVII – первая половина XVIII века. – М., 2000.
Николаев СИ. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Одесский М. П. Очерки исторической поэтики русской драмы: Эпоха Петра I. – М., 1999.
Павленко Н. И. Пётр I. – М., 2000. (Серия «ЖЗЛ»).
Павленко Н. И. Пётр Великий. – М., 1994.
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1994.
Панченко А. М. О русской истории и культуре. – СПб., 2000.
Пётр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях / Сост. Б. Н. Путилов. – СПб., 2000.
Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып 1–8. – Л., 1974–1990.
Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 9. – СПб.; Самара, 2001. (Издание продолжается).
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII в. – М., 1989.
Рапацкая Л. А. Русское искусство XVIII века. – М., 1995.
Россия и Запад: Горизонты взаимопонимания: Литературные источники первой четверти XVIII века. – М., 2000. С. 394–406.
Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. – М., 1994.
Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. – М., 1981.
Травников С. Н Писатели петровского времени: Литературно-эстетические взгляды: Путевые записки. – М., 1989.
Методические рекомендации
В предлагаемых ниже разделах мы даём методологию методики изучения творчества Феофана Прокоповича в контексте литературы первой трети XVIII в., определяя круг основных вопросов и проблем, на которые должно обратить внимание и которые помогут преподавателю и студенту уточнить тему исследования и составить соответствующий ей план. Формулировка конкретных тем (для практических занятий, рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ и т. п.) – индивидуальное дело студента и его научного руководителя.
К каждому разделу предлагается список основной литературы (сначала указываются тексты, затем исследования). Кроме того, рекомендуем обращаться к литературе, указанной в нашей программе (см. выше, с. 309–311) и в списке наших работ (см. с. 302–306). Естественно, студент должен использовать и другую литературу, составив самостоятельно или под руководством преподавателя свою библиографию (объём её обусловливается жанром работы).
I. Петровская эпоха: основные процессы в русской культуре и литературе
Раскрыть эволюцию эстетических представлений от средневековья к новому времени; рассмотреть проблему барокко в системе стилей литературы Древней Руси, показать национальное своеобразие русского барокко и его особенности в драматургии, лирике и прозе начала XVIII в.
Переменчивость жизни и «энергичный человек» первой половины XVIII в. Запад и Восток: значение русско-европейских философских и культурных связей; Пётр I как насаждатель культуры. «Разумность», «общая польза» – основные критерии русской культуры Петровской эпохи.
Диалог культур (духовной и светской; старой и новой).
Русская литература переходного периода как самостоятельный этап в развитии искусства слова. Совершенно верно оценивает этот период А. С. Дёмин, считая, что «русская литература переходного периода не сводима ни к древнерусскому прошлому, ни к новому русскому будущему, ни к смеси элементов того и другого. У нее свое лицо»[521].
Барокко и предклассицизм как художественные методы литературы Петровской эпохи.
Исторические песни XVIII в. / Изд. подгот. О. Б. Алексеева и Л. И. Емельянова. – Л., 1971.
Пьесы школьных театров Москвы / Под ред. А. С. Демина. – М., 1974.
Русские повести первой трети XVIII в. / Исследование и подготовка текста Г. Н. Моисеевой. – М.; Л., 1968.
Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Вступ. ст. А. М. Панченко. – Л., 1970.
Русская драматургия последней четверти XVII – начала XVIII в. / Под ред. О. А. Державиной. – М., 1972.
Фольклорный театр / Сост. А. Ф. Некрылова и Н. И. Савушкина. – М., 1988.
Анисимов Е. В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. – М., 1999.
Бадалич И. М., Кузьмина В. Д. Памятники русской школьной драмы. – М., 1968.
Берков П. Н. О литературе так называемого переходного периода // Исследования и материалы по древнерусской литературе: Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII в.). – М., 1971.
Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур. – Л., 1981.
Буранок О. М. Петр I и Феофан Прокопович: Диалог двух культур (К постановке проблемы) // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М. 1995.
Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983.
Лихачев Д. С. Барокко и его русский вариант // Русская литература. 1969. № 2.
Морозов А. А. Проблема барокко в русской литературе XVII – начале XVIII века // Русская литература. 1962. № 3.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Павленко Н. И. Пётр I. – М., 2000. (Серия «ЖЗЛ»).
Павленко Н. И. Пётр Великий. – М., 1994.
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1994.
Панченко А. М. О русской истории и культуре. – СПб., 2000.
Пётр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях / Сост. Б. Н. Путилов. – СПб., 2000.
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII в. – М., 1989.
Рапацкая Л. А. Русское искусство XVIII века. – М., 1995.
Россия и Запад: Горизонты взаимопонимания: Литературные источники первой четверти XVIII века. – М., 2000. С. 394–406.
Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. – М., 1981.
Травников С. Н. Писатели петровского времени: Литературно-эстетические взгляды: Путевые записки. – М., 1989.
Федоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
II. Роль Феофана Прокоповича в культуре России первой трети XVIII века
Исключительное место в историко-литературном процессе петровских преобразований занимал Феофан Прокопович, в творчестве которого «Петровская эпоха нашла свое наиболее полное и всестороннее выражение»[522]. Феофан Прокопович: личность, взгляды, место в истории, культуре, философии, литературе. Всестороннюю и очень ёмкую оценку Феофана Прокоповича дал П. П. Пекарский, писавший, что «Феофан, бесспорно, принадлежит к замечательнейшим и наиболее выдающимся личностям русской истории первой половины XVIII столетия. В своей сфере это был такой же новатор, как Петр Великий в сфере государственной»[523].
Феофан Прокопович родился 9 (20) июня 1681 г. в Киеве, в небогатой купеческой семье, был назван Елеазаром (при пострижении в монахи принял имя своего дяди – ректора Киево-Могилянской академии, в семье которого воспитывался с детских лет, после смерти родителей). С юных лет Елеазар удивлял окружающих замечательной памятью, имел незаурядные способности: он прекрасно учился сначала в трехгодичной школе, затем в Киево-Могилянской академии, считавшейся в то время лучшим учебным заведением России. Однако закончить курс обучения не пришлось: после смерти дяди он вынужден был оставить академию. Семнадцатилетний Елеазар отправляется за границу для продолжения образования. Чтобы иметь возможность обучаться в католических учебных заведениях в Польше и странах Западной Европы, он вынужден был сменить вероисповедание. В Италии в течение трёх лет изучал философию, литературу, историю, языки, культуру разных эпох и стран. В 1702 г. он пешком достигает границ России, вновь принимает православие и постригается в монахи. С сентября 1704 г. преподает в Киево-Могилянской духовной академии – сначала поэтику, затем риторику (с 1706), позднее – философию (с 1708) и богословие. Широкая образованность давала ему возможность вести естественнонаучные курсы (новые в академии) – физику, математику. Каждый из читаемых им курсов был новаторским по тому времени.
Образованнейший человек своей эпохи, Феофан Прокопович очень рано понял и принял реформы Петра I, недаром Белинский назвал Феофана «одним из птенцов его орлиного гнезда»[524]. И «птенец гнезда Петрова» словом и делом (собственно, «слово» у него всегда было «делом») последовательно отстаивал до конца своих дней деяния Петра.
Расцвет Феофана Прокоповича как церковного и государственного деятеля связан с личным знакомством с Петром I. Пётр, будучи в Киеве в 1706 г., слышал ораторское выступление Феофана Прокоповича; заметив положительное отношение проповедника к нововведениям, приблизил его к себе; в 1711 г. Феофан Прокопович участвовал вместе с Петром в Прутском походе; в 1715 г. последовал вызов в столицу (из-за болезни Феофан Прокопович прибыл в Петербург в 1716 г.
В своих воззрениях на литературу Феофан Прокопович был предклассицистом: усвоив теорию и практику западноевропейского барокко, он вплотную подошел к классицизму. По его мнению, писатель – человек, стоящий на службе у государства. Феофан Прокопович, провозгласив политический идеал – культ государства, основанного на началах разума, просвещенную монархию, – предвосхитил идейную квитэссенцию кодекса классицистов, из чего следовало правило: восхваляя героя, ставить его в пример прочим. Дидактичность искусства – характерная черта эстетики Феофана Прокоповича.
Умер Феофан Прокопович 8 сентября 1736 г., похоронен в Новгороде в Софийском соборе.
Творчество Феофана Прокоповича, порожденное Петровской эпохой, ярко выразило её.
Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век: Сб. 14. – Л., 1983.
Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1880.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1994.
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII в. – М., 1989.
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996.
Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. – М., 1994.
Чистович И. А. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1868.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
III. Феофан Прокопович-публицист: ораторская проза
Анализируя «слова» и «речи» Феофана Прокоповича, показать его как пропагандиста и защитника петровских преобразований, как борца с противниками Петра I и выразителя государственной идеологии.
Просветительство Феофана Прокоповича следует понимать в неразрывной связи с «просвещённым абсолютизмом» Петра I. П. Н. Берков, характеризуя русское просветительство XVIII в., определил место и основные черты раннего просветительства Петровской эпохи. Литературные и публицистические произведения Феофана Прокоповича исследователь относит к наиболее крупным явлениям русского прогрессивного «просвещённого абсолютизма»[525]. Объективный идеалист, метафизик, деист, Феофан шёл от схоластики к философии Просвещения. Сложность и противоречивость его философских взглядов обусловлены переходным характером эпохи и уровнем развития отечественной философии. Передовые философские убеждения Прокоповича определили его общественные и политические взгляды.
«Большое значение для пропаганды и разъяснения мероприятий петровского правительства имели проповеди Феофана Прокоповича, которые произносились в церкви и, кроме того, печатались. Это политические агитационные речи и статьи, написанные очень живо, ярко, просто»[526].
Рассмотрите жанровое своеобразие и эволюцию ораторской прозы Феофана Прокоповича.
Прокопович Феофан. Слова и речи // Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Еремина. – М.; Л., 1961.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Буранок О. М. Ораторская проза Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века. – Самара, 2002.
Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век: Сб. 14. – Л., 1983.
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Ф. Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век. Вып. 9. – Л., 1974.
Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1880.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996.
Чистович И. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1868.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
IV. Феофан Прокопович – поэт-панегирист: «Епиникион»
Феофан Прокопович принадлежал к новой эпохе развития поэзии, «с классиками силлабики его, как и Антиоха Кантемира, сближает только общая для всех их метрическая система… Среди жанров, особенно обильно представленных в силлабическом стихотворстве, наряду с эпитафией было “приветство”, или панегирик. Панегирические ноты звучат уже в посланиях авторов “досиллабического” периода, но заслуга в оформлении этого жанра принадлежит также Симеону Полоцкому»[527].
«Епиникион» Феофана Прокоповича (жанр восходит к древнегреческим эпиникиям) – панегирик, ода, буквально «победная песнь», в которой прославляется Полтавская победа и деяния Петра I, изменник же Мазепа предается проклятию. Новаторство стихотворца выделяет «Епиникион» среди других многочисленных панегирических произведений петровского времени.
Связь «Епиникиона» и «Слова похвального о преславной над войсками свейскими победе»: трансформация одной темы в разных жанрах.
Среди исследователей творчества Феофана Прокоповича нет единого мнения по вопросу о жанре данного произведения (см. работы Г. А. Гуковского, Н. К. Гудзия, П. Н. Беркова, И. П. Ерёмина, Д. Д. Благого, В. И. Федорова и др.). Выявите позицию каждого из исследователей и сформулируйте своё понимание данного вопроса, ваши представления о жанре единственного при жизни напечатанного стихотворения Феофана Прокоповича.
Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. М. Панченко. Общ. ред. В. П. Адриановой-Перетц. – Л., 1970.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Авто-реф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Алексеев М. П. «Пророче рогатый» Феофана Прокоповича // Из истории русских литературных отношений XVIII – ХХ вв. – М.; Л., 1958. С. 17–43, или см.: Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. – Л., 1983. С. 96—118.
Берков П. Н. О литературе так называемого переходного периода // Исследования и материалы по древнерусской литературе: Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII в.). – М., 1971.
Берков П. Н. Основные вопросы изучения русского просветительства // Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. – М.; Л., 1961.
Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур. – Л., 1981.
Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими пареобразованиями // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979.
Ерёмин И. П. К вопросу о стихотворениях Феофана Прокоповича // ТОДРЛ. Т. 16. – Л., 1960.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Перетц В. Н. «Епиникион» 1709 г. Феофана Прокоповича // Известия Отделения русского языка и словесности. 1903. Ч. 1.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
V. Феофан Прокопович-лирик
Поэзия, как и всё творчество Феофана Прокоповича, – это явление переходного периода в развитии русской культуры и русской общественной мысли, что делает её своеобразным эстетическим знаком эпохи, вобравшим все сложности и противоречия первой трети XVIII в. Любовная тема, снятие запрета на смех, шутку стали составными частями культуры эпохи Петра I. В ранних стихотворениях Феофана Прокоповича, относящихся к киевскому периоду («Песня светская», «Шутка о Венере…», «Дистихи-советы…»), явственно звучат барочные нотки: оригинальный перифраз, мифологические образы, многократное варьирование одной мысли, игра ума, нарочитая декоративность стиха и т. п. Вместе с тем в «Песне светской» – предостережение автора: «убегай любви» и т. д., которое звучит во многих произведениях Феофана Прокоповича, поскольку было его любимой темой; истоки её – традиции древнерусской литературы, поэзия Симеона Полоцкого.
Стихотворение «Запорожец кающийся» (1734), по предположению П. Н. Беркова, «написано в защиту украинцев, ушедших с Мазепой и потом принесших повинную» (480).
Стихотворение «За Могилою Рябою» описывает кровопролитную битву 9—10 июля 1711 г. у реки Прут, в местечке Рябая Могила. Стихотворение написано «восьмисложными стихами, с тройными рифмами, образующими строфу» (480–481). Создано оно, очевидно, вскоре после подписания мирного договора, по которому Россия возвращала туркам крепость Азов, т. е. после 12 июля 1711 г.
Пессимистические настроения стихотворения «Плачет пастушок в долгом ненастии» (1730) созвучны трудному положению автора после смерти Петра I; в иносказательной форме он с глубоким лиризмом передаёт свои душевные переживания, свою усталость от долгого «ненастья».
Все эти стихотворения близки к складу народных песен, что свидетельствует о наличии в поэзии Прокоповича фольклорных мотивов и традиций. Лирика Феофана Прокоповича – это, как правило, именно песенная лирика. «Феофан был поэтом, стремившимся к усовершенствованию и обогащению русского “виршевого” (силлабического) стиха. Это в особенности видно в таких его стихотворениях (лучших из дошедших до нас), как, например, послание к Кантемиру… или “Плачет пастушок в долгом ненастии”»[528].
Анализируя эпиграммы Прокоповича, покажите, что генезис жанра связан с античными традициями, но при этом существен вклад Феофана в теоретическое обоснование жанра (глава об эпиграмме в его «Поэтике»). Эпиграммы Феофана являются блестящими образцами сатирической литературной культуры Петровской эпохи. Несомненно их влияние на сатирическое творчество А. Кантемира, В. Тредиаковского и других писателей XVIII в.
Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Авто-реф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Буранок О. М. Эпиграмматическое творчество Феофана Прокоповича в контексте русской литературы первой трети XVIII века // Проб-лемы изучения русской литературы XVIII века: Межвуз. сб., посв. памяти проф. В. А. Западова. – СПБ.; Самара, 2001. С. 19–32.
Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. М. Панченко. Общ. ред. В. П. Адриановой-Перетц. – Л., 1970.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Авто-реф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Автухович Т. Е. Стихотворения Феофана Прокоповича / Деп. ИНИОН АН СССР (№ 4398 от 29.10.79).
Алексеев М. П. «Пророче рогатый» Феофана Прокоповича // Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. – Л., 1983. С. 96—118.
Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур. – Л., 1981.
Ерёмин И. П. К вопросу о стихотворениях Феофана Прокоповича // ТОДРЛ. Т. 16. – Л., 1960.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
VI. Феофан Прокопович-драматург: «Владимир»
Выдающимся произведением литературы Петровской эпохи является трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» (1705). Характер использования исторического материала в трагедокомедии довольно многообразен. Во-первых, автор художественного произведения нашёл в летописи ту драматическую ситуацию, которая отвечала его идейному замыслу. Во-вторых, в каждом из пяти действий имеются явления, узловые моменты, организующим центром которых стала та или иная ситуация из летописи.
Система образов трагедокомедии в соответствии с замыслом драматурга и его теоретическими взглядами (сущность жанра трагедокомедии оговорена в его «Поэтике») построена таким образом, что все персонажи довольно строго относятся к двум противостоящим и противоборствующим лагерям. С одной стороны, это те, кто поддерживает преобразования Владимира, с другой – это противники реформы. К первым относятся сам Владимир, его сыновья Борис и Глеб, Философ, вождь Мечислав, воин Храбрий. Ко вторым – Ярополк, жрецы и аллегорические образы бесов. Из такой системы образов вовсе не следует, что Феофану свойственно прямолинейное распределение образов на «злых» и «добрых».
Усвоив и переработав в соответствии со своей творческой индивидуальностью и задачами искусства начала XVIII в. традиции античной и школьной драматургии, Феофан создал сложный образ Владимира – художественное завоевание и открытие драматурга. Победе разума и долга над чувствами и страстями предшествует долгая и мучительная борьба – «брань духовная». Был сделан решительный шаг к эмансипации личностного начала в литературе.
В сверхзадачу драматурга, защитника петровских преобразований, входило не только прославление Владимира, но и осмеяние его врагов. Феофан Прокопович блестяще справился и с этой проблемой, представив сатирические образы жрецов и бесов. Социальная сатира – один из структурных элементов пьесы.
Среди аморфных, с едва различимыми жанровыми признаками пьес конца XVII – начала XVIII вв. «Владимир» – уникальное явление, совершенно свежая струя и в школьной драме, и во всей русской драматургии того времени.
Жанр разговоров – новый для русской литературы первой трети XVIII в., он восходит к античному диалогу; в русской литературе у истоков жанра стоит Феофан Прокопович. Его «Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным»[529] ставит острую по тому времени проблему борьбы сторонников просвещения с людьми невежественными, противниками знаний, образования. Менее удачен «Разговор тектона, си есть древодела, с купцем»: в нём нет той социальной остроты, определённой живости героев, которые имели место в предыдущем разговоре, его тема – церковные догматы. Но и здесь есть интересный момент: Феофан Прокопович пропагандирует любимую идею о необходимости и возможности учиться везде, в том числе и у иноверцев. Враги Феофана долгое время преследовали его за это. В разговорах Прокоповича поднимаются актуальные политические, теологические, нравственные проблемы, при этом делается попытка «оживления» серьёзного разговора-диспута за счёт введения сниженной лексики, грубоватой шутки, комического эффекта (здесь усматривается влияние русской демократической сатирической литературы, интермедиального опыта русского театра). Наряду с вопросно-ответной структурой диалога в композиции разговоров Феофана Прокоповича имеется полилог, элементы драматизации, умело организованная автором дискуссия, попытка представить чувства героя в движении как отдаленное эхо будущего художественного психологизма. Позднее жанр разговора получил своё развитие в творчестве А. Кантемира, В. Татищева, В. Тредиаковского, М. Ломоносова, Г. Державина, а также в литературе XIX и ХХ вв.
Прокопович Феофан. Владимир // Прокопович Феофан. Сочинения. – М.; Л., 1961.
Автухович Т. Е. «Владимир» Феофана Прокоповича // Вестник БГУ. 1979. Сер. 4. № 1.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Авто-реф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XIX века. – М., 1977.
Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. – М., 1988.
Буранок О. М. «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в переводе Антиоха Кантемира и жанр «разговора» в русской литературе первой трети XVIII века // Антиох Кантемир и русская литература. – М., 1999. С. 140–153.
Буранок О. М. Драматургия Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века. – Самара, 1992.
Буранок О. М. Пространство и время в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская драматургия и литературный процесс. – СПб.; Самара, 1991.
Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русский театр от истоков до середины XVIII века. – М., 1957.
Дёмин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века: Новые художественные представления о мире, природе, чело-веке. – М., 1977.
Кузьмина В. Д. Русский демократический театр XVIII века. – М., 1958.
Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. – М., 1968.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.
Одесский М. П. Очерки исторической поэтики русской драмы: Эпоха Петра I. – М., 1999.
Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. – М., 1981.
Софронова Л. А. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская литература. 1989. № 3.
Стенник Ю. В. Драматургия петровской эпохи и первые трагедии Сумарокова: К постановке проблемы // Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века: XVIII век. – Л., 1974.
Фёдоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
VII. Феофан Прокопович как теоретик литературы: «Поэтика»
Видное место занимает Феофан Прокопович и в истории русской эстетической мысли. В отличие от учёных, не считавших «Поэтику» Феофана Прокоповича новаторским произведением (В. И. Резанов, Н. К. Гудзий, П. О. Морозов и некоторые другие), исследователи позднейшего времени высоко оценили теоретический труд молодого преподавателя Киево-Могилянской академии. Л. И. Кулакова пишет, что «основанные на изучении Аристотеля, Горация, теоретика Возрождения Жюля Скалигера и иных источников лекции содержат немало оригинальных мыслей и являются первым значительным памятником русской теории поэзии»[530].
Говоря о происхождении поэзии, Феофан Прокопович заявляет, что её колыбелью была сама природа. В ряде глав теоретик излагает свои взгляды на роды и виды литературного творчества. Объектом поэзии, по Феофану, должен быть человек. Оригинальным и достаточно глубоким явилось в трактате учение о поэтическом вымысле. Феофан Прокопович отчётливо осознавал специфику художественного освоения действительности – «подражание является душой поэзии», подражание как основу художественного вымысла он тесно связывал с правдоподобием (347).
Для лучшего разъяснения своих теоретических положений Феофан Прокопович часто прибегает к сопоставлению специфики творчества поэта с трудом историка, философа, художника. Весьма подробно и обстоятельно, с обилием примеров (своих и заимствованных) Феофан Прокопович пишет о художественных средствах, «без чего нельзя ни сочинять, ни воспевать» (348). Можно считать, что в «Поэтике» имеется фундамент для построения языковой классицистической теории, так как Феофан уже наметил учение о трёх стилях, он – прямой предшественник М. В. Ломоносова, о чём пишет В. П. Вомперский[531]. Значительными достоинствами поэзии Феофан Прокопович считал ясность, точность, а вычурность, смысловую изощрённость называл «изящными пустяками», «вздором». Особенно резкими его выпады против напыщенности стиля были в «Риторике». Феофан Прокопович во многом предвосхищает проблематику теории русского классицизма, хотя остаётся ещё вне пределов её системы.
Прокопович Феофан. О поэтическом искусстве // Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983.
Вомперский В. П. Стилистическая теория Феофана Прокоповича // Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. – М., 1970.
Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век: Сб. 14. – Л., 1983.
Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. – Л., 1968.
Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. – М., 1981.
Лужный Р. «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии: первая половина XVIII века // Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: XVIII век: Сб. 7. – М.; Л., 1966.
Маслюк В. П. Латиноязычные поэтики и риторики XVII – первой половины XVIII в. и их роль в формировании теории литературы на Украине: Автореф. дисс… докт. филол. наук. Киев, 1983.
Морозов А. А. Судьбы русского классицизма // Русская литература. 1974. № 1.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Смирнов А. А. К проблеме соотношения русского предклассицизма и гуманистической теории поэзии: Феофан Прокопович и Ю. Ц. Скалигер // Проблемы теории и истории литературы. – М., 1971.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
VIII. Художественный метод Феофана Прокоповича
Сложным в современном литературоведении является вопрос о том, к какому литературному направлению принадлежит Феофан Прокопович как художник и теоретик.
Л. И. Кулакова, А. Н. Соколов, В. А. Западов относят его творчество к классицизму[532].
В. И. Фёдоров, А. А. Смирнов, А. А. Аникст, Т. Е. Автухович, Г. Н. Моисеева считают теоретические взгляды Феофана Прокоповича и его художественное наследие переходными от барокко к классицизму[533].
И. П. Ерёмин, А. А. Морозов, А. М. Панченко пишут, что Феофан Прокопович руководствовался в своём творчестве эстетическими нормами и принципами барокко[534].
В отношении теоретического и художественного наследия Феофана мы разделяем точку зрения В. И. Фёдорова и А. Н. Робинсона, считая Феофана Прокоповича ярчайшим предклассицистом первой трети XVIII в. При этом необходимо учитывать, что Феофан не был ортодоксом ни в вопросах теории, ни в вопросах творчества: он всегда высказывался против рабского подражания и копирования даже самых высоких образцов, но в то же время с удивительным упорством и любознательностью добывал знания у других, учился. «Черпать из собственных запасов» (336) он начал тогда, когда овладел обширнейшими сведениями из разных наук и культур.
Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Берков П. Н. О литературе так называемого переходного периода // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII века). – М., 1971.
Буранок О. М. Драматургия Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века: Учебное пособие. – Самара, 1992.
Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983.
Морозов А. А. Проблема барокко в русской литературе XVII – начала XVIII века // Русская литература. 1962. № 3.
Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Прокофьев Н. И. О некоторых гносеологических особенностях литературы русского барокко // Проблемы жанра и стиля в русской литературе. – М., 1973.
Робинсон А. Н. Доминирующая роль русской литературы и театра как видов искусства в эпоху петровских реформ // Славянские культуры в эпоху формирования славянских наций XVIII–XIX вв.: Материалы междунар. конф. ЮНЕСКО. – М., 1978. С. 176–182.
Фёдоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
IX. Традиции и новаторство в творчестве Феофана Прокоповича
1. Античность в творчестве Прокоповича
Феофан Прокопович первым в истории отечественной эстетики поставил проблему литературных традиций, подняв её на высокий по тому времени теоретический уровень.
Его философские и эстетические взгляды во многом формировались под непосредственным влиянием античных мыслителей. «Поэтика» и «Риторика» Феофана Прокоповича в современной литературоведческой науке оцениваются как глубоко новаторские для своего времени трактаты. Они же дают исчерпывающее представление о том, насколько плодотворно, творчески теоретик усвоил и переработал труды античных учёных, поэтов, драматургов (прежде всего, Аристотеля, Горация, Вергилия). Блестящий знаток античности, Феофан Прокопович писал на латыни не только учёные труды, но и стихи. Лирика Феофана Прокоповича, особенно его эпиграммы, несут на себе черты влияния античной поэзии. Три солидных тома ораторской прозы свидетельствуют о чрезвычайной эрудиции автора в области античной мифологии, истории, поэзии. С античной традицией связаны трагедийное и комическое во «Владимире». Влияние античного театра (Сенеки, Плавта, Теренция) на Феофана было многоплановым, а восприятие его шло в духе новой культуры. Прокопович утверждал эти принципы не только теоретически, декларативно, но и своей художественной практикой.
2. Фольклорные традиции в творчестве Прокоповича
Проблема влияния фольклора на литературу предклассицизма сложна и во многом ещё не изучена. Творчество Феофана Прокоповича даёт благодатный материал для изучения этого вопроса.
При создании трагедокомедии «Владимир» Феофан Прокопович опирался и на фольклорные традиции. В своём противостоянии невежеству духовенства он продолжил традиции русской литературы и фольклора, тем самым встав у истоков русского сатирического направления вместе с Кантемиром. Решая проблему сатирического и комического изображения противников реформы, Феофан Прокопович обратился к дающему большие возможности источнику – нелитературному, т. е. к сниженной, часто просторечной, иногда с использованием жаргонизмов части русского народного языка. Истоки этого литературного приёма нужно искать в русской демократической сатире, в народном театре.
В разработке комического Феофан Прокопович близок к народному театру, усвоил традиции народной комики. Комическое начало, идущее от скоморохов, балагана, театра Петрушки, сказалось и в жанре трагедокомедии.
Хотя комическое во «Владимире» – в большей мере результат влияния комедий Плавта, однако нельзя забывать о русской народной драме и интермедии как о факторах, влиявших на Прокоповича-драматурга.
Нельзя снимать вопрос о возможном знакомстве Феофана с фольклорными жанрами, посвящёнными киевскому князю Владимиру, несомненна в трагедокомедии опора автора и на «фольклорного» Владимира.
Использовал Феофан Прокопович и поэтику фольклора, хотя достаточно скромно – на уровне пословиц, поговорок, фольклорных формул и ситуаций. Художественные пространство и время также разрабатывались с частичной опорой на фольклорные традиции.
В лирике Феофана Прокоповича фольклорные традиции сказались в меньшей степени, так как поэт ориентировался на украинско-польскую и античную поэзию. Вместе с тем наличие в его стихотворениях тонизации, свойственного народной песне хореического размера, некоторых постоянных фольклорных эпитетов свидетельствуют о генетической близости лирики Феофана Прокоповича к народной поэзии славян.
Конечно, народное словесное творчество питало, обогащало новую поэтическую эпоху, как, впрочем, и всю литературу и культуру XVIII в., но сама политика в области эстетики Петровской эпохи изменилась. Самый дух, пафос лирики Феофана Прокоповича были следствием новой поэтической эпохи, несмотря на все версификационные, стилистические и другие связи, столь понятные и закономерные для переходного времени.
3. Древнерусские литературные традиции у Феофана Прокоповича
Вопрос об отношении новой культуры к культуре Древней Руси поставил академик Д. С. Лихачёв, видя его решение прежде всего в том, «как памятники культуры Древней Руси конкретно отражались в новой русской культуре[535]».
Литература Древней Руси сыграла существенную роль в творчестве Феофана Прокоповича. Он прекрасно знал конфессиональную и светскую предшествующую литературу.
Один из источников образа Владимира у Прокоповича – древнерусская литературная традиция изображения князя-реформатора (в летописях, проповедях, поучениях, житийной литературе). Само сопоставление правящего государя с Владимиром восходит к древнерусскому «Слову о законе и благодати». Эту же традицию А. С. Елеонская отмечает в старопечатных предисловиях и послесловиях как характерный структурный элемент; авторы предисловий и послесловий «Апостола», «Евангелия», «Трефологиона», «Триоди цветной» и многих других старопечатных изданий XVI–XVII вв. часто обращались к образу Владимира при сопоставлении прошлого с настоящим[536].
Источник «Владимира» – «Повесть временных лет», при этом Феофан Прокопович не следовал лишь летописной традиции. Основа русского средневекового искусства – контраст – играет чрезвычайно важную роль в пьесе: христианство – язычество; Философ – жрецы; свет – тьма. Отмечая новаторство Феофана Прокоповича в создании жанра трагедокомедии, следует учесть, что и на заре своего рождения русский театр не был жанрово аморфным. Возможность смешения трагического и комического в первых пьесах русского театра прокладывала путь рождению нового жанра.
Наконец, поэтика «Владимира» во многом определена системой художественных средств литературы Древней Руси.
Феофан Прокопович предстал в трагедокомедии как художник нового времени, сумевший выразить своё отношение к происходящему и вместе с тем показать, какими плодотворными и во многом определяющими были связи литературы начала XVIII в. с древнерусским искусством слова.
4. Творчество Феофана Прокоповича в контексте историко-литературного процесса Петровской эпохи
При разработке этой темы следует использовать материал всех предыдущих разделов и всю указанную литературу к ним.
Анализируя произведения Феофана Прокоповича различных жанров, необходимо сопоставлять их с произведениями аналогичных жанров, созданными другими авторами в Петровскую эпоху. В результате такого сопоставительного анализа можно сделать выводы о традициях и новаторстве в литературном творчестве Феофана Прокоповича, о его месте и роли в историко-литературном процессе Петровской эпохи.
Русская народная драма XVII – ХХ веков. – М., 1953.
Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII вв. – М., 1989.
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981.
Одесский М. П. Очерки исторической поэтики русской драмы: Эпоха Петра I. – М., 1999.
Буранок О. М. Драматургия Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века. – Самара, 1992.
Буранок О. М. Ораторская проза Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века. – Самара, 2002.
Берков П. Н. Особенности русского литературного процесса XVIII века // Проблемы исторического развития литератур. – Л., 1981.
Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. – М., 1988.
Буранок О. М. Фольклорные традиции в творчестве Феофана Прокоповича // Филологические науки. 1991. № 2. С. 20–28.
Буранок О. М. Особенности эволюции жанра трагедокомедии в русской драматургии первой трети XVIII века: Феофан Прокопович и Феофан Трофимович // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1990. С. 14–23.
Буранок О. М. Жанр трагедокомедии в русской драматургии первой половины XVIII века // Старинные мастера русского слова: Межвуз. сб. науч. тр. – М.; Самара, 1993. С. 55–79.
Буранок О. М. Петр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур. К постановке проблемы // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М.: Наука, 1995. С. 17–23.
Николаев СИ. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996.
Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984.
Фёдоров В. И. Литературные направления русской литературы XVIII века. – М., 1979.
Соответствующие главы учебников и учебных пособий.
Тематика каждого из девяти разделов предложенных методических рекомендаций по изучению творчества Феофана Прокоповича в контексте литературы первой трети XVIII в. может быть использована студентами и для индивидуальной научной работы: как тема доклада, спецвопроса, контрольной работы (для студентов-заочников), курсовой или дипломной работы. В этом случае требуется уделить особое внимание самостоятельному идейно-художественному анализу произведений Феофана Прокоповича и других писателей Петровской эпохи.
Примечания
1
Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей: Кантемир // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. – М., 1981. С. 298.
(обратно)2
XVIII век: № 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 4. Ср.: Советское литературоведение за 50 лет. – Л., 1968. С. 70–73 и др.
(обратно)3
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 22.
(обратно)4
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 25.
(обратно)5
Записки бригадира Моро-де-Бразе // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 19 т. Т. 10. – М., 1995. С. 262.
(обратно)6
См.: Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 19 т. Т. 16. – М., 1997. С. 65.
(обратно)7
См.: Буранок О. М. Пётр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур: К постановке проблемы // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М., 1995. С. 17–23.
(обратно)8
Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 378. И. А. Чистович приводит в своей монографии иной вариант:
Дивный первосвященник, которому сила Высшей мудрости тайны все открыла Феофан, которому всё то далось знати, Здрава человека ум что может поняти.(Чистович И. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 609).
(обратно)9
Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 89, 100.
(обратно)10
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. – М.; Л., 1952. С. 174.
(обратно)11
Блок Г. П., Макеева В. Н. Примечания // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. – М.; Л., 1952. С. 821.
(обратно)12
См. 10. С. 821. Ср: Сумароков А. П. Эпистола II // Сумароков А. П. Избранные произведения. – Л., 1957. С. 116.
(обратно)13
Сумароков А. П. Избранные произведения. – Л., 1957. С. 116.
(обратно)14
Б./н. – страница без номера. Некоторые страницы в издании не пронумерованы.
(обратно)15
Письма русских писателей XVIII века. – Л., 1980. С. 251, 257.
(обратно)16
Майков В. И. Избранные произведения. – М.; Л., 1966. С. 284–285.
(обратно)17
Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – Л., 1984. С. 104.
(обратно)18
Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – Л., 1984. С. 103.
(обратно)19
Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – Л., 1984. С. 103.
(обратно)20
Подробнее см.: Буранок О. М. Н. М. Карамзин о литературе Петровской эпохи // Русская критика XIX века: Проблемы её теории и истории. – Самара, 1993. С. 14–20; или: Буранок О. М. Литература Петровской эпохи в критике Н. М. Карамзина // Карамзинский сборник: Творчество Н. М. Карамзина и историко-литературный процесс. – Ульяновск, 1996. С. 3—14.
(обратно)21
Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – Л., 1984. С. 104.
(обратно)22
Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. – М., 1995. С. 485.
(обратно)23
Пушкин А. С. История Петра: Подготовительные тексты // Там же. Т. 10. – М., 1995. С. 121.
(обратно)24
Пушкин А. С. История Петра: Подготовительные тексты // Там же. Т. 10. – М., 1995. С. 139.
(обратно)25
Там же. Т. 11. – М., 1996. С. 498, 501.
(обратно)26
Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей: I. Кантемир // Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 7. – М., 1981. С. 298.
(обратно)27
Письмо Н. И. Гнедича к графу Н. П. Румянцеву о неизданной трагикомедии Феофана Прокоповича // Библиографические записки. Т. 2. 1859. Стлб. 623–627.
(обратно)28
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 5. – М., 1880. 464 с. Ср.: Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 15—408. Далее страницы указываются в тексте по изданию 1996 г.
(обратно)29
Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом:. Т. I: Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. – СП6., 1862; Петров Н. О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии от начала ея до преобразования в 1819 году // Труды Киевской духовной академии. 1866. Т.2. С. З24—326; Т. З. С.З68—372; Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868.
(обратно)30
Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 603–606.
(обратно)31
Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 603.
(обратно)32
Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 605.
(обратно)33
Текст «Владимира» помещён во II томе, С. 260–344.
К сожалению, не был опубликован третий том, в котором содержались комментарии-статьи к публикуемым пьесам и словарь устаревших слов. Примечания к «Владимиру» явились бы уже тогда, в 1874 г., первым значительным исследованием о Феофане-драматурге. Сохранился авторский рукописный неполный текст примечаний ко второму тому «Русских драматических произведений 1672–1725 годов», а также корректура с авторской правкой и гранки с правкой учёного. При сопоставлении обнаруживается почти совершенное сходство между ними и его статьей о «Владимире», опубликованной в «Журнале министерства народного просвещения». См.: Отдел рукописей ГБЛ, ф.298/I: Н. С. Тихонравов, картон 7, е.х.3. 94 л.; картон 8, е.х.2. 7 л.; ф.299/I: Н. С. Тихонравов, картон 7, е.х.2. 102 л.
(обратно)34
Журнал министерства народного просвещения. 1879. № 5. Ч. 203. С. 52—9б, позднее эта статья была перепечатана в «Сочинениях Н. С. Тихонравова» (т.2. – М., 1898. С. 120–155; примечания – С. 18–30).
(обратно)35
Журнал министерства народного просвещения. 1879. № 5. Ч. 203. С. 150.
(обратно)36
Морозов П. Феофан Прокопович как писатель: Очерк из истории русской литературы в эпоху преобразования. – СПб., 1880. С. 2.
(обратно)37
Мотивировал это исследователь тем, что пьеса уже рассмотрена Пекарским и Тихонравовым (Там же. С. 100–101). Несколько полнее он анализирует пьесу в одной из первых крупных работ по истории раннего русского театра: Морозов П. О. Очерки из истории русской драмы XVII–XVIII столетий. – СПб., 1888. С. 368. Ср.: 2-е изд., переработанное: Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. – СПб., 1889. С. 360–371.
(обратно)38
Петров Н. Очерки из истории украинской литературы XVIII века: Киевская искусственная литература, преимущественно драматическая. – Киев, 1880. Данное издание было значительно переработано, но анализ «Владимира» по существу остался тем же. Мы цитируем более позднее издание, переработанное: Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература XVII–XVIII вв., преимущественно драматическая. – Киев, 1911. С. 3.
(обратно)39
Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература XVII–XVIII вв., преимущественно драматическая. – Киев, 1911. С. 225–227.
(обратно)40
Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература XVII–XVIII вв., преимущественно драматическая. – Киев, 1911. С. 210–211.
(обратно)41
См.: Жданов И. Н. Петровская эпоха: История русской литературы. – СПб., 1886. С. 11З—119, 153–177.
(обратно)42
Гординьский Я. «Владимiр» Теофана Прокоповича // Записки Наукового товариства iм. Шевченка. Т. CXXXI. – Львiв, 1921. С. 82.
(обратно)43
Там же. С. 71–76 и другие.
(обратно)44
Белецкий А. Старинный театр в России. – М., 1923. С.71.
(обратно)45
Варнеке Б. История русского театра XVII – XIX веков / Изд. 3-е. – М.; Л., 1939. С.40–41.
(обратно)46
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 24.
(обратно)47
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 25–27.
(обратно)48
Гудзий Н. К. Феофан Прокопович // История русской литературы: В 10 т. Т. 3. Ч. 1. – М.; Л., 1941. С. 164–170.
(обратно)49
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. – М., 1955. С. 68.
(обратно)50
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. – М., 1955. С. 71.
(обратно)51
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. – М., 1955. С. 72.
(обратно)52
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. – М., 1955. С. 72–74.
(обратно)53
См.: Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. – М.; Л., 1948. С. 56–57; Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русский театр от истоков до середины XVIII века. – М., 1957. С. 137–141; Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века / Изд. 2-е. – М., 1977. С. 133–134.
(обратно)54
Кокорев А. В. Литература и театр // Очерки истории СССР: Период феодализма: Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. – М., 1954. С. 720 и др.
(обратно)55
Берков П. Н. На путях к новой русской литературе // История русской литературы: В 3 т. Т. 1. – М.; Л., 1958. С. 389.
(обратно)56
Берков П. Н. На путях к новой русской литературе // История русской литературы: В 3 т. Т. 1. – М.; Л., 1958. С. 390.
(обратно)57
Берков П. Н. На путях к новой русской литературе // История русской литературы: В 3 т. Т. 1. – М.; Л., 1958. С. 401–402.
(обратно)58
См.: Буранок О. М. Изучение в Германии жизни и творчества Феофана Прокоповича: Вторая половина ХХ века // Русский язык и литература: Вопросы истории, современного состояния и методики их преподавания в вузе и школе. Ч. 3. Самара, 2001. С. 21–29.
(обратно)59
Tetzner J. Theophan Prokopovic und die russische Fruhfufklarung // Zeitschrift fur slawistik. № 3. – Berlin, 1958. С. 351–357. Далее страницы указываются в тексте.
(обратно)60
Винтер Э. П. Н. Берков и «Материалы и исследования по истории Восточной Европы» // XVIII век: Сб. 10: Русская литература XVIII века и её международные связи. – Л., 1975. С. 49.
(обратно)61
Winter E. Fruhafufklarung: Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel – und Osteuropa und die deutsch-slawische Begegung: Zum 200. Todestag von G.W. Leibniz im Nowember 1966. – Berlin: Akademie-Verlag, 1966. – 424 s. Далее цитируется это издание, страницы указываются в тексте.
(обратно)62
Подготовка текста «Поэтики», перевод и примечания к ней, опубликованные в этом же издании, выполнены Г. А. Стратановским.
(обратно)63
От перечисления имён авторов и их трудов нас избавляют два обстоятельных обзора-исследования Ю. К. Бегунова, см.: Русская литература. 1980. № 4. С. 208–225; 1881. № 2. С. 195–210. См. также: История русской литературы XVIII века: Библиографический указатель / Сост. В. П. Степанов, Ю. В. Стенник / Под ред. П. Н. Беркова. – М.; Л., 1969. С. 340–344.
(обратно)64
Орлов О. В., Фёдоров В. И. Русская литература XVIII века. – М., 1973. С. 31.
(обратно)65
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 50–80.
(обратно)66
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 79.
(обратно)67
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 80.
(обратно)68
Прокопович Феофан. Фiлософьскi твори в трьох томах. Переклад з латинськоi мови. Том перший: Про риторичне мистецтво рiзнi сентенцii. – Киiв, 1979.
(обратно)69
Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Русская старопечатная литература: XVI – первая четверть XVIII в.: Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 22.
(обратно)70
Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Русская старопечатная литература: XVI – первая четверть XVIII в.: Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 26.
(обратно)71
См.: Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. – Л., 1980. С. 126–129.
(обратно)72
История русской литературы: В 4 т. Т. 1. – Л., 1980. С. 440.
(обратно)73
История русской литературы: В 4 т. Т. 1. – Л., 1980. С. 441–442.
(обратно)74
Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. – М., 1981. С. 77.
(обратно)75
См.: Там же. С. 56–87.
(обратно)76
Фёдоров В. И. Русская литература XVIII века. – М., 1990. С. 34–44.
(обратно)77
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 14.
(обратно)78
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 15.
(обратно)79
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 17.
(обратно)80
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 19.
(обратно)81
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 11.
(обратно)82
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 12.
(обратно)83
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 13.
(обратно)84
Берков П. Н. Задача изучения переходного периода русской литературы: от древней к новой // Пути изучения древнерусской литературы и письменности. – Л., 1970. С. 18.
(обратно)85
Орлов О. В., Фёдоров В. И. Русская литература XVIII века. – М., 1973. С. 43.
(обратно)86
См.: Западов В. А. Проблемы изучения и преподавания русской литературы XVIII века // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 2. – Л., 1976. С. 98.
(обратно)87
См.: Русская литература. 1980. № 4. С. 223.
(обратно)88
Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век: Сб. 14. – Л., 1983.
(обратно)89
Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век: Сб. 14. – Л., 1983. С. 202.
(обратно)90
См.: Там же. С. 204.
(обратно)91
Бочкарёв В. А. У истоков русской исторической драматургии: Последняя треть XVII – первая половина XVIII века. – Куйбышев, 1981. С. 15.
(обратно)92
Софронова Л. А. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская литература. 1989. № 3. С. 148–155.
(обратно)93
Софронова Л. А. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская литература. 1989. № 3. С. 148.
(обратно)94
Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. – М., 1990. С. 215.
(обратно)95
Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. – М., 1994.
(обратно)96
Николаев С. И. Литературная культура петровской эпохи. – СПб., 1996.
(обратно)97
Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. – М., 2000. С. 34.
(обратно)98
Татаринова Л. Е. Русская литература и журналистика XVIII века. – М., 2001. С. 23–26.
(обратно)99
История русской литературы XVIII века: Библиографический указатель / Под ред. П. Н. Беркова. – Л., 1968. С. 340–344.
(обратно)100
Лихачёв Д. С. Развитие русской литературы Х – XVII веков. – Л., 1973. С. 213.
(обратно)101
Черепнин Л. В. К вопросу о складывании абсолютной монархии в России: XVI–XVIII вв. // Абсолютизм в Западной Европе и России. – М., 1970. С. 39–40.
(обратно)102
См.: Очерки истории СССР: Период феодализма: Россия в первой четверти XVIII в.: Преобразования Петра I. – М., 1954. С. 19; Никифоров Л. А. Россия в сиистеме европейских держав первой четверти XVIII в. // Россия в период реформы Петра I. – М., 1973. С. 13; Моисеева Г. Н. На путях к новой русской литературе // История русской литературы: В 4 т. Т. 1. – Л., 1980. С. 433; Одесский М. П. Очерки исторической поэтики русской драмы: Эпоха Петра I. – М., 1999.
(обратно)103
Дёмин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. – М., 1977. С. 282.
(обратно)104
Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. – СПб., 1862. С. 481.
(обратно)105
Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 21. – М.; Л., 1925. С. 32.
(обратно)106
История русской литературы: В 10 т. Т. 3. Ч. 1. – М.; Л., 1941. С. 80.
(обратно)107
См.: Буранок О. М. Исследование исторических источников в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Жанровое своеобразие русской поэзии и драматургии: Межвуз. сб. науч. тр. Т. 256. – Куйбышев, 1981. С. 3–11.
(обратно)108
Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. – М., 1988. С. 42; Буранок О. М. Исследование исторических источников в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Жанровое своеобразие русской поэзии и драматургии: Межвуз. сб. науч. тр. Т. 256. – Куйбышев, 1981. С. 9.
(обратно)109
Об этом подробно будет идти речь ниже, в главе об ораторской прозе Феофана Прокоповича.
(обратно)110
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. – Л., 1979. С. 8.
(обратно)111
Пыпин A. Н. История русской литературы. Т. 1. – СПб., 1911. С. 167.
(обратно)112
Буранок О. М. Фольклорные традиции в творчестве Феофана Прокоповича // Филологические науки. 1991. № 2. С. 20–28.
(обратно)113
Гнедич Н. И. Письмо к графу Н. П. Румянцеву о неизданной трагедокомедии Феофана Прокоповича // Библиографические записки 1959. Т. 2. С. 625.
(обратно)114
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 24.
(обратно)115
Елеонская А. С. Творческие взаимосвязи школьного и придворного театров в России // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII – первая половина XVIII вв. – М., 1975. С. 22.
(обратно)116
См. подробнее: Резанов В. И. К истории русской драмы: Экскурс в область театра иезуитов. Нежин, 1910; Буранок О. М. Пространство и время в трагедокомедии Феофана Прокоповича “Владимир” // Русская драматургия и литературный процесс. – СПб.; Самара, 1991. С. 10–26.
(обратно)117
Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. – М., 1973. С. 210.
(обратно)118
Медриш Д. Н. Структура художественного времени в фольклоре и литературе // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л., 1974. С. 128.
(обратно)119
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 79–80.
(обратно)120
См.: Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 63–87.
(обратно)121
См.: Буранок О. М. Речевая характеристика персонажей пьесы Феофана Прокоповича «Владимир» // Взаимодействие жанров, художественных направлений и традиций в русской драматургии XVIII–XIX вв.: Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев. 1988.
(обратно)122
Ср.: Автухович Т. Е. «Владимир» Феофана Прокоповича // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. IV. 1979. № 1; Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Авто-реф. дисс… канд. филол. наук. – Л., 1981; Iваньо I.В. Естетичнi погляди Ф. Прокоповича: Фiлософскi твори в 3 т. Переклад з латинскоi мови. Т. 1. – Киiв, 1979; Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII в. – М., 1968; Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. – М., 1981; Софронова Л. А. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская литература. 1989. № 3; Одесский М. П. Очерки исторической поэтики русской драмы: Эпоха Петра I. – М., 1999.
(обратно)123
См.: Буранок О. М. Пётр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур: К постановке проблемы // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М., 1995. С. 17–23; Буранок О. М. Русская художественная культура XVIII века как культурологический контекст эпохи // Наука и образовательные технологии: Выпуск 1. – Самара; Ульяновск, 1998. С. 6—11.
(обратно)124
Сумароков А. П. Избранные произведения. – Л., 1957. С. 117. Талия – муза комедии, Мельпомена – муза трагедии.
(обратно)125
Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII в. – первая половина XVIII в. – М., 1975. С. 606.
(обратно)126
Елеонская А. С. Творческие взаимосвязи школьного и придворного театров в России // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII – первая половина XVIII вв. – М., 1975. С. 31.
(обратно)127
Елеонская А. С. Творческие взаимосвязи школьного и придворного театров в России // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII – первая половина XVIII вв. – М., 1975. С. 32.
(обратно)128
Морогин Е. Венец Димитрию // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII в. – первая половина XVIII в. – М., 1975. С. 90.
(обратно)129
Морогин Е. Венец Димитрию // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII в. – первая половина XVIII в. – М., 1975. С. 90–91.
(обратно)130
Морогин Е. Венец Димитрию // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII в. – первая половина XVIII в. – М., 1975. С. 66.
(обратно)131
Сн. 31. С. 67–69.
(обратно)132
См.: Буранок О. М. Лаврентий Горка как драматург Петровской эпохи // Забытые и второстепенные писатели XVII–XVIII веков как явление европейской культурной жизни: Материалы Междунар. науч. конф., посв. 80-летию Е. А. Маймина: В 2 т. Т. 2. – Псков, 2002. С. 5—10.
(обратно)133
Горка Л. Иосиф патриарха // Русские драматические произведения 1672–1725 годов: К 200-летнему юбилею русского театра / Собраны и объяснены Николаем Тихонравовым. Т. 2. – СПб., 1874. С. 362–363.
(обратно)134
Горка Л. Иосиф патриарха // Русские драматические произведения 1672–1725 годов: К 200-летнему юбилею русского театра / Собраны и объяснены Николаем Тихонравовым. Т. 2. – СПб., 1874. С. 366.
(обратно)135
Елеонская А. С. Творческие взаимосвязи школьного и придворного театров в России // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII – первая половина XVIII вв. – М., 1975. С. 351.
(обратно)136
Горка Л. Иосиф патриарха // Русские драматические произведения 1672–1725 годов: К 200-летнему юбилею русского театра / Собраны и объяснены Николаем Тихонравовым. Т. 2. – СПб., 1874. С. 368.
(обратно)137
Горка Л. Иосиф патриарха // Русские драматические произведения 1672–1725 годов: К 200-летнему юбилею русского театра / Собраны и объяснены Николаем Тихонравовым. Т. 2. – СПб., 1874. С. 369.
(обратно)138
Трофимович Феофан. Милость Божия, Украину от неудобь носимых обид лядских чрез Богдана Зиновия Хмельницкого свободившая // Максимович М. А. Собрание сочинений. Т. 1. Киев, 1876. С. 486.
(обратно)139
Трофимович Феофан. Милость Божия, Украину от неудобь носимых обид лядских чрез Богдана Зиновия Хмельницкого свободившая // Максимович М. А. Собрание сочинений. Т. 1. Киев, 1876. С. 487–488.
(обратно)140
Трофимович Феофан. Милость Божия, Украину от неудобь носимых обид лядских чрез Богдана Зиновия Хмельницкого свободившая // Максимович М. А. Собрание сочинений. Т. 1. Киев, 1876. С. 488.
(обратно)141
Сн. 39. С. 491–492.
(обратно)142
Сн. 39. С. 501.
(обратно)143
Сн. 39. С. 503.
(обратно)144
Сн. 39. С. 504.
(обратно)145
Сн. 39. С. 506.
(обратно)146
Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература XVII–XVIII вв., преимущественно драматическая. – Киев, 1911. С. 271.
(обратно)147
Ляскоронский С. Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 9. Отд. 3. – Киев, 1877. С. 614.
(обратно)148
Лащевский В. Трагедокомедия о мзде в будущей жизни // Летописи русской литературы и древности. Т. 1. Отд. 3. – М., 1859. С. 7.
(обратно)149
Лащевский В. Трагедокомедия о мзде в будущей жизни // Летописи русской литературы и древности. Т. 1. Отд. 3. – М., 1859. С. 7.
(обратно)150
Лащевский В. Трагедокомедия о мзде в будущей жизни // Летописи русской литературы и древности. Т. 1. Отд. 3. – М., 1859. С. 12.
(обратно)151
Конисский Г. Воскресение мертвых… // Летописи русской литературы и древности. Кн. 6. Отд. 3. – М., 1861. С. 43.
(обратно)152
Конисский Г. Воскресение мертвых… // Летописи русской литературы и древности. Кн. 6. Отд. 3. – М., 1861. С. 49–50.
(обратно)153
Конисский Г. Воскресение мертвых… // Летописи русской литературы и древности. Кн. 6. Отд. 3. – М., 1861. С. 50.
(обратно)154
Сн. 53. С. 51.
(обратно)155
Елеонская А. С. Творческие взаимосвязи школьного и придворного театров в России // Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.: Ранняя русская драматургия: XVII – первая половина XVIII вв. – М., 1975. С. 30.
(обратно)156
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. – Киев, 1877. С. 750.
(обратно)157
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. – Киев, 1877. С. 750.
(обратно)158
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. – Киев, 1877. С. 753.
(обратно)159
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. – Киев, 1877. С. 755.
(обратно)160
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. – Киев, 1877. С. 771.
(обратно)161
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. – Киев, 1877. С. 772–775.
(обратно)162
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. Киев, 1877. С. 778.
(обратно)163
Щербацкий Г. Фотий: Трагедокомедия // Труды Киевской духовной академии. Т. 12. Киев, 1877. С. 780.
(обратно)164
Орлов О. В., Фёдоров В. И. Русская литература XVIII века. – М., 1973. С. 34.
(обратно)165
Тронский И. М. История античной литературы. – М., 1983. С. 181.
(обратно)166
См. Миллер Т. А. Об изучении художественной формы платоновских диалогов // Новое в современной классической филологии. – М., 1979. С. 82—125; Державина О. А. Жанровая природа первых русских пьес // Исследования и материалы по древнерусской литературе: Новые черты в русской литературе и искусстве: XVII – начало XVIII в. – М., 1976. С. 82—125.
(обратно)167
Цит. по кн.: Резанов В. И. К истории русской драмы: Экскурс в область театра иезуитов. – Нежин, 1910. С. 115.
(обратно)168
См.: Буранок О. М. «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в переводе Антиоха Кантемира и жанр «разговора» в русской литературе первой трети XVIII века // Антиох Кантемир и русская литература / Отв. ред. д.ф.н. А.С. Курилов: РАН, ИРЛИ им. А. М. Горького. – М., 1999. С. 140–153.
(обратно)169
Горфункель А. Х. Андрей Белобоцкий – поэт и философ конца XVII – начала XVIII в. // ТОДРЛ. Т. 18. – М.; Л., 1962. С. 203.
(обратно)170
Лукиан. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 2. – М.; Л., 1935. С. 23–24.
(обратно)171
См.: Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель: Очерк из истории русской литературы в эпоху преобразований. – СПб., 1880. С. 152.
(обратно)172
См: Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература XVII–XVIII вв., преимущественно драматическая. Киев, 1911. С. 228; Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 588–589; Гудзий Н. К. Феофан Прокопович // История русской литературы: В 10 т. Т. 3. Ч. 1. – М.; Л., 1941. С. 170–171.
(обратно)173
См.: Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 26–78.
(обратно)174
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 239 и др.
(обратно)175
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 29.
(обратно)176
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 32.
(обратно)177
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 39.
(обратно)178
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 49.
(обратно)179
Кантемир А.Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 57–58.
(обратно)180
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1916. С. 57.
(обратно)181
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1916. С. 77.
(обратно)182
Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 58.
(обратно)183
Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П. В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 62.
(обратно)184
Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель: Очерк из истории русской литературы в эпоху преобразований. – СПб., 1880. С. 157.
(обратно)185
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 22.
(обратно)186
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 23.
(обратно)187
Прокопович Феофан. Разговор тектона, си есть древодела, с купцем // Отдел рукописей ЦНБ АН УССР. Шифр ДА / II. 300. – Л. 400.
(обратно)188
См.: Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1880. С. 157.
(обратно)189
См.: Стоюнин В. Я. Князь Антиох Кантемир // Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. З. А. Ефремова. Т. 1. – СПб., 1867. С. 65–67; Селиванов Ф. М. Русский эпос. – М., 1988; Пумпянский Л. В. Кантемир // История русской литературы: В 10 т. Т. 3. Ч. 1. – М.; Л., 1941. С. 211–212; Шафрановский К. И. «Разговор о множестве миров» Фонтенеля в России: Первое издание // Вестник АН СССР. 1945. № 5–6. С. 223–225; Прийма Ф. Я. Антиох Дмитриевич Кантемир // Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 16; Фёдоров В.И. История русской литературы XVIII века. – М., 1982. С. 68; Плеханов Г.В. История русской общественной мысли после Петровских реформ // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 21. – М.; Л., 1925. C. 87.
(обратно)190
См.: Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983. С. 40–63.
(обратно)191
См.: Фёдоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979. С. 7—20.
(обратно)192
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 393.
(обратно)193
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 394.
(обратно)194
См.: Шкляр И. В. Формирование мировоззрения Антиоха Кантемира // XVIII век. Сб. 5. – М.; Л., 1962. С. 150.
(обратно)195
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 394.
(обратно)196
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 394.
(обратно)197
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 396.
(обратно)198
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 400.
(обратно)199
Не случайно то обстоятельство, что К. Н. Батюшков создал в 1816 г. в жанре «разговора» свой знаменитый «Вечер у Кантемира», анализу которого М. П. Алексеев посвятил интересную статью, проследив генетические связи жанра. См.: Алексеев М. П. Монтескье и Кантемир // Вестник ЛГУ: Серия общественных наук. № 6. – Л., 1955. С. 55–78.
(обратно)200
Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. В. А. Ефремова. Т. 2. – СПб., 1867. С. 391.
(обратно)201
Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. – М., 1981. С. 90.
(обратно)202
См.: Прийма Ф. Я. Антиох Дмитриевич Кантемир // Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 20.
(обратно)203
О «диалоге в царстве мёртвых» как особой разновидности жанра см.: Стенник Ю. В., Николаев С. И. Жанр «диалога в царстве мёртвых» в русской литературе XVIII века // Русская литература. 1990. № 2. С. 240–244.
(обратно)204
Цит. по кн.: Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. Кн. 1. – М., 1887. С. 9
(обратно)205
Плеханов Г. В. История русской общественной мысли после Петровских реформ // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 21. – М.; Л., 1925. С. 64
(обратно)206
Татищев В. Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах // Татищев В. Н. Избранные произведения. – Л., 1979. С. 51—132.
(обратно)207
См.: Там же. С. 54, 91, 94, 102–103, 110–112 и др.
(обратно)208
См.: Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века. – М., 1963. С. 73.
(обратно)209
См.: ГПБ. Q. III. 65; Q. ХV. 23; Q. ХV. 9.
(обратно)210
См.: ГПБ. Q. XV. 71. 31 л.
(обратно)211
См.: ГПБ. Q. XV. 71. – Л. 16 об. – 26.
(обратно)212
См.: Софронова С. И. Жанр «разговоров» в русских журналах 1750—1760-х гг. // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1978. С. 101.
(обратно)213
См.: Софронова С. И. Жанр «разговоров» в русских журналах 1750—1760-х гг. // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1978. С. 101.
(обратно)214
См.: Фёдоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979. С. 7—20.
(обратно)215
Берков П. Н. Особенности русского литературного процесса XVIII в. // Проблемы исторического развития литератур. – Л., 1981. С. 164.
(обратно)216
Гнедич Н. И. Письмо к графу Н. П. Румянцеву о неизданной трагедокомедии Феофана Прокоповича // Библиографические записки 1959. Т. 2; Буранок О. М. Критические суждения Н. И. Гнедича о трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская критика и историко-литературный процесс. – Куйбышев, 1983. С. 31–38; Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 2. – М., 1898. С. 128–129; Гординьский Я. «Владимiр» Теофана Прокоповича // Записки наукового товариства iм. Шевченка. Т. 130–132. – Львiв, 1920–1922.
(обратно)217
Сенека Л. А. Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. – М.; 1983. С. 202.
(обратно)218
Сенека Л. А. Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. – М.; 1983. С. 265.
(обратно)219
Сенека Л. А. Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. – М.; 1983. С. 213.
(обратно)220
Сенека Л. А. Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. – М.; 1983. С. 213.
(обратно)221
См.: Буранок О. М. Система образов трагедокомедии Ф. Прокоповича «Владимир» // Русская драматургия XVIII–XIX веков: Жанровые особенности. Мотивы. Образы. Язык. Куйбышев, 1986. С. 6–7.
(обратно)222
Гнедич Н. И. Письмо к графу Н. П. Румянцеву о неизданной трагедокомедии Феофана Прокоповича // Библиографические записки 1959. Т. 2. Стлб. 626.
(обратно)223
Плавт Т. М. Избранные комедии. – М., 1967. С. 49–63.
(обратно)224
Астахова А. М., Митрофанова А. В. Былины и их пересказы в рукописях и изданиях XVII–XVIII веков. – М.; Л., 1960. С. 65–67.
(обратно)225
Веселовский А. Н. Старинный театр Европы: Исторические очерки. – М., 1870. С. 150–153.
(обратно)226
Адрианова-Перетц В. П. У истоков русской сатиры // Русская демократическая сатира XVII века / Изд. 2-е. доп. – М., 1977. С. 121–122.
(обратно)227
Берков П. Н. Русская народная драма // Русская народная драма XVII–XX веков. – М., 1953. С. 39.
(обратно)228
Асеев Б.Н. Русский демократический театр от его истоков до конца XIX века / Изд 2-е. – М., 1977. С. 134.
(обратно)229
Державина О. А. Жанровая природа первых русских пьес // Исследования и материалы по древнерусской литературе: Новые черты в русской литературе и искусстве: XVII – начало XVIII в. – М., 1976. С. 69.
(обратно)230
Русская народная драма XVII–XX веков. – М., 1953. С. 72.
(обратно)231
Русская народная драма XVII–XX веков. – М., 1953. С. 81.
(обратно)232
См.: Белкин А. А. Русские скоморохи. – М., 1975; Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 2. – М., 1898.
(обратно)233
Панченко А. М. Демократическая сатира: «Древнерусский смех» // История русской литературы в 4 т. T. I. – Л., 1980. С. 364.
(обратно)234
Панченко А. М. Демократическая сатира: «Древнерусский смех» // История русской литературы в 4 т. T. I. – Л., 1980. С. 361.
(обратно)235
Лихачёв Д. С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. – Л., 1976. С. 71, 74.
(обратно)236
Белкин А. А. Русские скоморохи. – М., 1975. С. 71.
(обратно)237
Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси. – СПб., 1889. С. 91–93, 137, 142.
(обратно)238
Кузьмина В. Д. Русский демократический театр XVIII века. – М., 1958. С. 155.
(обратно)239
Бадалич И. М., Кузьмина В. Д. Памятники русской исторической драмы XVIII века. – М., 1968. С. 3.
(обратно)240
Цит. по кн.: Белкин А. А. Русские скоморохи. – М., 1975. С. 176.
(обратно)241
Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984. С. 136–137.
(обратно)242
Пропп В. Я. Русский героический эпос. – М., 1958. С. 53, 63.
(обратно)243
Былины. – Л., 1986 («Библиотека поэта»). С. 50, 57, 62, 63, 70 и др.
(обратно)244
Путилов Б. Н. Былины – русский классический эпос // Былины. – Л., 1986. С. 23; ср.; Юдин Ю. И. Героические былины: Поэтическое искусство. – М., 1975. С. 31, 90, 95.
(обратно)245
Аксаков К.С. Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. – М., 1982. С. 90.
(обратно)246
Сн. 146. С. 90–93, 94.
(обратно)247
Сн. 146. С. 97.
(обратно)248
Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос. Воронеж, 1987. С. 101–102.
(обратно)249
Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос. Воронеж, 1987. С. 99, 100–101.
(обратно)250
Майков Л. Н. О былинах Владимирова цикла. – СПб., 1863. С. 95, 96.
(обратно)251
Майков Л. Н. О былинах Владимирова цикла. – СПб., 1863. С. 97..
(обратно)252
Аникин В. П. Русский богатырский эпос. – М., 1964. С. 67.
(обратно)253
Сн. 153. С. 69.
(обратно)254
Сн. 153. С. 79.
(обратно)255
Сн. 153. С. 100.
(обратно)256
Юдин Ю. И. Героические былины. – М., 1975. С. 90.
(обратно)257
Селиванов Ф.М. Русский эпос. – М., 1988. С. 63.
(обратно)258
Селиванов Ф.М. Русский эпос. – М., 1988. С. 64–65.
(обратно)259
См.: Буранок О.М. Фольклорные традиции в творчестве Феофана Прокоповича // Филологические науки. 1991. № 2. С. 20–28.
(обратно)260
См.: Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII веков. – М., 1988. С. 41–44; Буранок О. М. Исследование исторических источников в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Жанровое своеобразие русской поэзии и драматургии. – Куйбышев. 1981. С. 3—11.
(обратно)261
Майков Л.Н. О былинах Владимирова цикла. – СПб., 1863. С. 24.
(обратно)262
Майков Л.Н. О былинах Владимирова цикла. – СПб., 1863. С. 89.
(обратно)263
См.: Буранок О. М. Пространство и время в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская драматургия и литературный процесс: Сб. науч. тр. – СПб.; Самара, 1991. С. 10–26.
(обратно)264
Лихачёв Д. С. Русская культура нового времени и Древняя Русь // ТОДРЛ. Т. XXVI. – Л., 1971. С. 7.
(обратно)265
См.: Миллер Т.А. Об изучении художественной формы платоновских диалогов // Новое в современной классической филологии. – М., 1979. С. 16–17, 30–36, 126–129, 183–193.
(обратно)266
См.: Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа ХII–XVII вв. – М., 1973. С. 271.
(обратно)267
Жданов И.Н. Слово о законе и благодати и Похвала кагану Владимиру // Жданов И. Н. Сочинения. T.I. – СПБ., 1904. С. 47–48.
(обратно)268
См.: Никольская А. «Слово» митрополита Киевского Илариона в позднейшей литературной традиции // Slavia, roc VII, ses. 3. S. 549–563; ses. 4. S. 853–870. – Prana. 1928–1929.
(обратно)269
Елеонская А. С. Русские старопечатные предисловия и послесловия второй половины XVI – первой половины XVII в.: Патриотические и панегирические темы // Русская старопечатная литература XVI – первая четверть XVIII в.: Тематика и стилистика предисловий и послесловий. – М., 1981. С. 78.
(обратно)270
См.: Там же. С. 78–80; Еремин И. П. Лекции по древнерусской литературе. – Л., 1968. С. 148–149.
(обратно)271
См.: Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. – Л., 1980. С. 127; Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII веков. – М., 1988. С. 42.
(обратно)272
См.: Буранок О.М. Пространство и время в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская драматургия и литературный процесс: Сб. науч. тр. – СПб.; Самара, 1991. С. 10–26.
(обратно)273
См.: Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время: 1725–1740. – Л., 1976. С. 253–265 и др.
(обратно)274
Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. – М.; Л., 1957. С. 315.
(обратно)275
Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. – Л., 1961. С. 102.
(обратно)276
См.: Чистякова Е. В. Формирование новых принципов исторического повествования: Этюды по русской историографии конца XVII века // Исследования и материалы по древнерусской литературе: Русская литература на рубеже двух веков (XVII в – начало XVIII в.). – М., 1971. С. 171–184.
(обратно)277
Пыпин А. Н. История русской литературы. Т. 3. – СПб., 1907. С. 362.
(обратно)278
Сборник в память 900-летия крещения Руси / Под ред. А. И. Соболевского. – Киев, 1888. С. 32.
(обратно)279
Сборник в память 900-летия крещения Руси / Под ред. А. И. Соболевского. – Киев, 1888. С. 10.
(обратно)280
См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. – М., 1871. С. 431–432.
(обратно)281
См.: Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы: XI – начало ХII века. – М., 1978. С. 146–156.
(обратно)282
См.: Жданов И. Н. Слово о законе и благодати и Похвала кагану Владимиру // Жданов И. Н. Сочинения. T.I. – СПБ., 1904. С. 63–70.
(обратно)283
Розов И. Н. Синодальный список сочинений Илариона – русского писателя XI в. // Slavia, roc XXXII, ses 2. – Praha, 1963. С. 164.
(обратно)284
Ср.: «Владимир». С. 152–154 и «Артаксерксово действо» – Ранняя русская драматургия: XVII – первая половина XVIII в.: Первые пьесы русского театра / Под ред. А. Н. Робинсона. – М., 1972. С. 106.
(обратно)285
См.: Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. – Л., 1970. С. 134.
(обратно)286
Буранок О. М. Антитеза «свет – тьма» в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» // Формирование семантики и структуры художественного текста. – Куйбышев, 1984. С. 3—13.
(обратно)287
См.: Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л… 1984. С. 38.
(обратно)288
Сборник в память 900-летия крещения Руси / Под ред. А. И. Соболевского. – Киев, 1888. С. 41.
(обратно)289
Сборник в память 900-летия крещения Руси / Под ред. А. И. Соболевского. – Киев, 1888. С. 44–45.
(обратно)290
Алексеев М. П. «Прение земли и моря» в древнерусской письменности // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. – М., 1963. С. 34.
(обратно)291
Алексеев М. П. «Прение земли и моря» в древнерусской письменности // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. – М., 1963. С. 35–39, 41–42.
(обратно)292
См.: Прохоров Г. М. Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская мудрствующих» // ТОДРЛ. Т. 27. – Л., 1972. С. 347.
(обратно)293
Сн. 193. С. 348–353.
(обратно)294
См.: Дмитриева Р.П. Русский перевод XVI в. польского сочинения XVI в. «Разговор магистра Поликарпа со смертью» // ТОДРЛ. Т. 19. – М.; Л., 1963. С. 303–317.
(обратно)295
Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца ХV – начала XVI в. – М.; Л., 1960. С. 4.
(обратно)296
Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца ХV – начала XVI в. – М.; Л., 1960. 317.
(обратно)297
См.: Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. – М.; Л., 1960. С. 117–121.
(обратно)298
См.: Дёмин А. С. Причины появления театра и драматургии в России // Ранняя русская драматургия XVII – первой половины XVIII в.: Первые пьесы русского театра. – М., 1972. С. 21–22.
(обратно)299
См.: Дёмин А. С. Причины появления театра и драматургии в России // Ранняя русская драматургия XVII – первой половины XVIII в.: Первые пьесы русского театра. – М., 1972. С. 22–24.
(обратно)300
Голубев И. Ф. Встреча Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием и их беседа // ТОДРЛ. Т. 26. – Л., 1971. С. 297.
(обратно)301
Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII века. – М., 1978. С. 106.
(обратно)302
Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984. С. 193.
(обратно)303
Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984. С. 193.
(обратно)304
Дёмин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII вв.: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. – М., 1977.
(обратно)305
Дёмин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII вв.: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. – М., 1977. С. 195.
(обратно)306
Выготский Л.С. Психология искусства. – Л., 1987. С. 238.
(обратно)307
См.: Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. – М., 1990. С. 215.
(обратно)308
Гребенюк В.П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с Петровскими преобразованиями // Панегирическая литература Петровского времени. – М., 1979. С. 34.
(обратно)309
Так, «Слово в день святаго равноапостольнаго князя Владимира» Феофана Прокоповича не только на идейно-тематическом, но и на художественном уровне тесно связано с трагедокомедией «Владимир» того же автора. Конечно, при всей идейно-художественной близости данных текстов, жанрово это разные произведения, отсюда их индивидуальная эстетика и поэтика. Об этом речь пойдёт далее, в сопоставительном анализе «слова» и пьесы.
(обратно)310
Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 34.
(обратно)311
Пaнчeнкo A. M. Начало петровской реформы: идейная подоплека // XVIII век. – Л., 1989. Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII в. С. 11.
(обратно)312
Пaнчeнкo A. M. Начало петровской реформы: идейная подоплека // XVIII век. – Л., 1989. Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII в. С. 12.
(обратно)313
Пaнчeнкo A. M. Начало петровской реформы: идейная подоплека // XVIII век. – Л., 1989. Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII в. С. 16.
(обратно)314
См.: Буранок О. М. Пётр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур: К постановке проблемы // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М., 1995. С. 17–23.
(обратно)315
Пигарев К.В. Русская литература и изобразительное искусство: XVIII – первая четверть XIX века. – М., 1966. С. 50.
(обратно)316
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 56.
(обратно)317
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. Дисс… канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 13–15.
(обратно)318
Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVIII века. – М., 1990. С. 217.
(обратно)319
Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство: Очерки. – М., 1966. С. 50. Фёдоров В. И. Русская литература XVIII века. – М., 1990. С. 42.
(обратно)320
С. Ф. Наковальнин в III т. к последним публикуемым им десяти речам, начиная с указанной (III, 254–352), даёт ссылку: «Сие и следующие слова проповеданы в Киеве, а которых годов неизвестно» (III, 254).
(обратно)321
Здесь нарушена нумерация страниц: со стр. 249 по 352 идёт повторная нумерация; при цитировании таких страниц в тексте ставится знак “повт.”
(обратно)322
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 13.
(обратно)323
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 13.
(обратно)324
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 14.
(обратно)325
Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 238.
(обратно)326
Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. – СПб., 1862. С. 483.
(обратно)327
Псал. 149. Ст. 2. Кстати, этот же эпиграф был предпослан и «Слову о равноапостольном князе Владимире» (III, 335).
(обратно)328
Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. – СПб., 1862. С. 484.
(обратно)329
Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 14. Орфография приведена в соответствие с современными нормами языка.
(обратно)330
См. об этом: Елеонская А. С. Судьбы ораторской прозы в XVIII веке // Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. – М., 1990. С. 215–223.
(обратно)331
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 14.
(обратно)332
Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. – М., 1990. С. 215.
(обратно)333
Слово в день святаго равноапостольнаго великаго князя Владимира, проповеданное честнейшим iеромонахом Феофаном Прокоповичем // Отдел рукописей ЦНБ АН Украины. Шифр ДА/II. 298. – Л. 19.
(обратно)334
См.: Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 2. – М., 1898. С. 135–136; Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. – М., 1988. С. 43.
(обратно)335
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс…канд. филол. наук. – Л., 1981. С. 14.
(обратно)336
Бочкарёв В. А. У истоков русской исторической драматургии: Последняя треть XVII – первая половина XVIII века. Куйбышев, 1981. Ср.: Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. – М., 1945. С. 62.
(обратно)337
См.: Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель: Очерки по истории русской литературы в эпоху преобразований. – СПб., 1880. С. 97.
(обратно)338
Святцы, составленные из христианского памятника с показанием в оных двунадесятых праздников и явления чудотворных икон. – М., 1879. С. 52.
(обратно)339
Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель: Очерки по истории русской литературы в эпоху преобразований. – СПб., 1880. С. 105, 99.
(обратно)340
История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятии в плен осталных шведских войск при Переволочке, включительно, сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великого Новгорода и Великих Лук. – СПб., 1773. С. 156.
(обратно)341
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 62.
(обратно)342
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 80.
(обратно)343
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 60.
(обратно)344
Петров Н. И. Из истории гомилетики в старой Киевской академии // Труды Киевской духовной академии. Т. 1. 1866. С. 102–124.
(обратно)345
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 5. – М., 1880. С. 411.
(обратно)346
Дёмин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. – М., 1977. С. 238–239.
(обратно)347
Эпиграфы приведены из богословской литературы (I, 14). В публикации И. П. Ерёмина эпиграфы опущены.
(обратно)348
См.: Перетц В. Н. Панегирик Феофана Прокоповича на победу при Полтаве // Литературный вестник. Т. 3. Кн. 2. – СПб., 1902. С. 165–167; Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати: 1708 – январь 1725. – М.; Л., 1955. С. 483–484.
(обратно)349
Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII века // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 100–105. Ср.: Перетц В. Н. Панегирик Феофана Прокоповича на победу Петра Великого при Полтаве: Библиографическая заметка // Литературный вестник. Т. 3. Кн. 2. – СПб., 1902. С. 165–167. (Учёный описал четыре издания). Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати: 1708 – январь 1725. – М.; Л., 1955. С. 483–484. Ерёмин И. П. Примечания // Феофан Прокопович. Сочинения. – М.; Л., 1961. С. 459–461.
(обратно)350
См.: Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 181–203.
(обратно)351
Чёрная Л. А. Русские книжные предисловия конца XVII– начала XVIII в.: Защита «мирских» книг и «гражданских» наук // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. – М., 1981. С. 264.
(обратно)352
См. подробнее там же. С. 269–270.
(обратно)353
Чёрная Л. А. Русские книжные предисловия конца XVII – начала XVIII в. // Тематики и стилистика предисловий и послесловий. – М., 1981. С. 270.
(обратно)354
Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс… к.ф.н. – Л., 1981. С. 15.
(обратно)355
Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 24.
(обратно)356
См.: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т. 3. – М., 1998. С. 275–524; Соловьёв С. М. Об истории новой России. – М., 1993. С. 111–145; Ключевский В. О., Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени / Репринтное воспроизведение издания 1914 г. – М., 1990. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. – М., 1994. С. 3—112; Чистяков А. С. История Петра Великого / Репринтное издание. – М., 1992. Павленко Н. И. Пётр Великий. – М., 1994.
(обратно)357
Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 36.
(обратно)358
См.: И. П. Ерёмин (462), ср.: Гребенюк В. П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 104.
(обратно)359
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 329.
(обратно)360
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 329.
(обратно)361
См. об этом: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 330.
(обратно)362
Сн. 60. С. 337.
(обратно)363
См.: Яворский Стефан. Проповеди: В 3 т. Т. 3. – М., 1805. С. 240–260.
(обратно)364
См. там же. С. 140.
(обратно)365
Яворский Стефан. Проповеди: В 3 т. Т. 3. – М., 1805. С. 185.
(обратно)366
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 344.
(обратно)367
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 344–345.
(обратно)368
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 345.
(обратно)369
Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 353.
(обратно)370
См.: Гребенюк В.П. Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 72–74.
(обратно)371
Цит. по изд.: Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 74.
(обратно)372
Цит. по тому же изд. С. 74.
(обратно)373
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 365.
(обратно)374
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 365.
(обратно)375
И. П. Ерёмин при публикации ошибся: не в день рождества, а в день рождения. Так у С. Ф. Наковальнина (I, 99).
(обратно)376
Однако надежды не осуществились: 25 апреля 1719 г. царевич Пётр умер (463).
(обратно)377
См. также: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 370–373; Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 25; Гребенюк В. П. Обзор произведениий панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 74–77.
(обратно)378
Достаточно подробно этот вопрос освещён в монографиях историков, политологов и философов. См.: Гурвич Г. Д. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и её западноевропейские источники. – Юрьев, 1915; Петров Л. А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира // Труды Иркутского ун-та: Сер. философии. Т. ХХ. Вып. 3. Иркутск, 1959; Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.
(обратно)379
Описание «слова» см.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 80–82.
(обратно)380
Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // XVIII век: Сб. 9. – Л., 1974. С. 125.
(обратно)381
Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 79.
(обратно)382
Яворский Стефан. Проповеди: В 3 т. Т. 1. – М., 1804. С. 37.
(обратно)383
Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 71–72.
(обратно)384
Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 71–72. С. 71.
(обратно)385
Описание изданий этих речей см. там же. С. 77–79.
(обратно)386
Ю. Ф. Самарин указывает, что от лица малолетнего царевича речь произнёс князь А. Д. Меншиков, вторую речь говорила царевна Анна как старшая из дочерей, а третью речь – «от всего народа» – сам Феофан (Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 239). По И. П. Ерёмину, «речь от всего народа» принадлежит И. Кременецкому (5), а Самарин же рассматривает эту речь как принадлежащую Феофану Прокоповичу (с. 373–374).
(обратно)387
Павленко Н.И. Пётр Великий. – М., 1994. С. 350.
(обратно)388
Речь впервые напечатана в Санкт-Петербурге 15 июля 1717 г. (I, 141).
(обратно)389
Автухович Т.Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс…к.ф.н. – Л., 1981. С. 16.
(обратно)390
Автухович Т.Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс…к.ф.н. – Л., 1981. С. 16.
(обратно)391
Автухович Т.Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс…к.ф.н. – Л., 1981. С. 17.
(обратно)392
Huчuк В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 131–173.
(обратно)393
Huчuк В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 151.
(обратно)394
Елеонская А. С. Проблематика «слов» М. В. Ломоносова и русская ораторская проза переходного времени // Ломоносов и русская литература. – М., 1987. С. 127.
(обратно)395
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 359.
(обратно)396
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 359.
(обратно)397
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 359.
(обратно)398
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 370.
(обратно)399
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 326.
(обратно)400
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 315.
(обратно)401
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 315.
(обратно)402
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 321.
(обратно)403
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 408.
(обратно)404
См.: Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. Переяславль, 1997. С. 381–439 (глава «Искусство XVII века. Расслоение и отход от церковного образа»).
(обратно)405
Там же. С. 394. Ср.: Буслаев Ф.И. Общие понятия о русской иконописи. – М., 1866; Угринович Д. М. Искусство и религия: Теоретический очерк. – М., 1982; Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в её иконе. – М., 1991.
(обратно)406
Стенник Ю.В. Эстетическая мысль в России XVIII в. // XVIII век: Сб. 15: Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. – Л., 1986. С. 37–38.
(обратно)407
Ромадановская Е.К. От цитаты к сюжету: Роль повести-притчи в становлении новой русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII – ХХ веков: Цитаты, реминисценции, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. С. 66.
(обратно)408
См.: Православный церковный календарь. – М., 1999. С. 23–24.
(обратно)409
См.: Буранок О.М. Пётр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур: К постановке проблемы // Монархия и народовластие в культуре просвещения. – М., 1995. С. 17–23.
(обратно)410
Шанский Н. М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. – М., 1971. С. 289.
(обратно)411
Автухович Т. Е. Л Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс…к.ф.н. – Л., 1981. С. 19.
(обратно)412
Ср. со словарём: «Ст. – сл. идол является заимствованием из греч. яз. Греч. eidolon – «изобретение» представляет суффиксальное образование от eidos – «вид, наружность». Первоначальное значение – «изображение», затем – «такое изображение, которому поклоняются» – см.: Шанский Н. М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. – М., 1971. С. 168.
(обратно)413
См.: Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. – Переяславль, 1997.
(обратно)414
См.: Орехов Д. Святые иконы России. – СПб., 1999. С. 14.
(обратно)415
Стенник Ю.В. Эстетическая мысль в России XVIII в. // XVIII век: Сб. 15: Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. – Л., 1986. С. 41.
(обратно)416
Это слово очень важным и по содержанию, и по тогдашним обстоятельствам считал Ю. Ф. Самарин. Кроме того, оно казалось ему одним из лучших, поэтому он его обильно процитировал, правда, сколько-нибудь подробного анализа не сделал (Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 376–384).
(обратно)417
Павленко Н.И. Пётр Великий. – М., 1994. С. 385.
(обратно)418
Павленко Н.И. Пётр Великий. – М., 1994. С. 406.
(обратно)419
Huчuк В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 148, 159.
(обратно)420
Huчuк В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 154.
(обратно)421
Huчuк В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 165.
(обратно)422
Прокопович Феофан. Розыск исторический… – СПб., 1721. С. 23.
(обратно)423
См.: Морозов П.О. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1880. С. 196–198, 202.
(обратно)424
Huчuк В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 158.
(обратно)425
Описание «слова» см.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 86–88.
(обратно)426
Бегунов Ю. К. Древнерусские традиции в произведениях первой четверти XVIII в. об Александре Невском // ТОДРЛ. Т. 26. 1971. С. 74.
(обратно)427
Обстоятельное описание издания см.: Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 107–111.
(обратно)428
См.: Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. 7. – М., 1838. С. 274.
(обратно)429
Бужинский Г. Полное собрание поучительных слов. Юрьев, 1901. С. 332–336.
(обратно)430
См.: Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 112–113.
(обратно)431
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. № 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 57.
(обратно)432
Оба «слова» Г. Бужинского описаны в изд.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 88–90, 91–92.
(обратно)433
Самарин Ю. Ф. в свойственной ему манере обильно цитирует и это «слово», высоко его оценивая (Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 384–387). «Слово» описано И. П. Ерёминым (468–469) и В. П. Гребенюком (Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 115–120).
(обратно)434
Имеется в виду «Книга устав морской», СПБ., 1720. См. примечания И. П. Ерёмина (469), ср.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 117–118.
(обратно)435
«Слово» описано, прокомментировано и напечатано В. П. Гребенюком, см.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 113–115; 220–233.
(обратно)436
Бужинский Г. Слово о победе, полученной у Ангута // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 222–230.
(обратно)437
Бужинский Г. Слово о победе, полученной у Ангута // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 230.
(обратно)438
Бужинский Г. Слово о победе, полученной у Ангута // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 233.
(обратно)439
Бужинский Г. Слово о победе, полученной у Ангута // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 233.
(обратно)440
См. у И. П. Ерёмина (470), а также: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 122–126.
(обратно)441
Цит. по И. П. Ерёмину (472).
(обратно)442
См.: Морозов А. А., Софронова Л. А. Эмблематика и её место в искусстве барокко // Славянское барокко: историко-культурные проблемы эпохи. – М., 1979. С. 13–38.
(обратно)443
См.: Кукушкина Е.Д. Текст и изображение в конклюзии Петровского времени: На примере портрета царевны Натальи Алексеевны // XVIII век: Сб. 15: Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. – Л., 1986. С. 21.
(обратно)444
Панченко А. М. От редактора // XVIII век: Сб. 15: Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. – Л., 1986. С. 3.
(обратно)445
Стенник Ю. В. Эстетическая мысль в России XVIII в. // XVIII век: Сб. 15: Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. – Л., 1986. С. 40, 41.
(обратно)446
См.: Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка // Бахтин М. М. Тетралогия. – М., 1998. С. 432–433. (В. Н. Волошинов – один из псевдонимов М. М. Бахтина).
(обратно)447
См.: Перевощиков В. М. Феофан Прокопович: Материалы для истории российской словесности // Вестник Европы. 1822. № 9—10. С. 3—21; Покотилова О. Предшественники Ломоносова в русской поэзии XVII-го и начала XVIII-го столетия // М. В. Ломоносов: Сб. статей / Под ред В. В. Сиповского. – СПб., 1911. С. 66–92; Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 64–73; Гребенюк В. П. Пётр I в творчестве М. В. Ломоносова, его современников, предшественников и последователей // Ломоносов и русская литература. – М., 1987. С. 69–70, 73–75; Сазонова Л. И. От русского панегирика XVII в. к оде М. В. Ломоносова // Ломоносов и русская литература. – М., 1987. С. 106, 109, 114; Елеонская А. С. Проблематика «слов» М. В. Ломоносова и русская ораторская проза переходного времени // Ломоносов и русская литература. – М., 1987. С. 127, 130–132, 135; Буранок О. М. Феофан Прокопович и М. В. Ломоносов // Узаемадзеянне лiтаратур у сусветным лiтаратурным працесе: Праблемы тэарэтычнай гiстарычнай паэтыку: Матэрыалы мiжнароднай навуковай канферэнцы. – Гродна, 1995. С. 124–127.
(обратно)448
Елеонская А. С. Проблематика «слов» М. В. Ломоносова и русская ораторская проза переходного времени // Ломоносов и русская литература. – М., 1987. С. 143.
(обратно)449
Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 120–122 (описание «слова»). С. 255–264 (текст «слова»).
(обратно)450
Лопатинский Ф. Слово о благодарованном мире // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 256, 259.
(обратно)451
Лопатинский Ф. Слово о благодарованном мире // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 257, 259..
(обратно)452
Лопатинский Ф. Слово о благодарованном мире // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 256..
(обратно)453
Лопатинский Ф. Слово о благодарованном мире // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 261–262.
(обратно)454
Лопатинский Ф. Слово о благодарованном мире // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 263.
(обратно)455
Лопатинский Ф. Слово о благодарованном мире // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 264.
(обратно)456
Понятие «литературный раздражитель» ввёл Л. С. Выготский. См.: Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб., 2000. С. 206.
(обратно)457
Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / 2-е изд. – М., 1986. С. 414. Ср.: Чистяков А.С. История Петра Великого. – М., 1992. С. 440–444.
(обратно)458
Павленко Н.И. Пётр Великий. – М., 1994. С. 432.
(обратно)459
Цит. по: Павленко Н. И. Пётр Великий. – М., 1994. С. 431.
(обратно)460
См. о дыхании при декламировании прозаического произведения: Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб., 2000. С. 220.
(обратно)461
См.: Буранок ОМ. Проблема войны и мира в русской литературе первой трети XVIII века: На материале ораторской прозы Феофана Прокоповича // Меняющийся мир и образование в духе мира и ненасилия: Тез. докл. Междунар. науч. конф. – Самара, 1993. С. 254–257.
(обратно)462
Петербург в русской литературе. – М., 1994. С. 21.
(обратно)463
См.: Буранок О. М. Образ Санкт-Петербурга в ораторской прозе Феофана Прокоповича // Городская культура как социо-культурное пространство развития личности: ч. I. – Самара, 2001. С. 44–46; Петербург в русской литературе. – М., 1994. С. 34.
(обратно)464
Одесский М. П. Столичное / провинциальное в русской агиографии // Русская провинция: Миф – текст – реальность. – М.; СПб., 2000. С. 150.
(обратно)465
Одесский М. П. Столичное / провинциальное в русской агиографии // Русская провинция: Миф – текст – реальность. – М.; СПб., 2000. С. 160.
(обратно)466
Одесский М. П. Столичное / провинциальное в русской агиографии // Русская провинция: Миф – текст – реальность. – М.; СПб., 2000. С. 162.
(обратно)467
См.: Одесский М. П. Москва – град святого Петра: Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв. // Москва и московский текст русской литературы. – М., 1998. С. 9—25.
(обратно)468
См.: Панченко А. М. Русская культура кануна Петровских реформ. – Л., 1984.
(обратно)469
Перси Уго. Русские столицы и русская провинция в мемуарных текстах Ивана М. Долгорукова // Русская провинция: миф – текст – реальность. – М.; СПб., 2000. С. 59.
(обратно)470
Себина Е. Н. Пейзаж // Введение в литературоведение. – М., 2000. С. 236.
(обратно)471
См.: Там же. С. 238; Ужанков А.Н Эволюция пейзажа в русской литературе XI – первой трети XVIII вв. // Древнерусская литература: Изображение природы и человека. – М., 1995. С. 66.
(обратно)472
Петербург петровского времени. – Л., 1948; Мавродин В. В. Основание Петербурга. – Л., 1983; Кирцидели Ю. И., Левина Н. Р. Мой город – Санкт-Петербург. – М., 1994.
(обратно)473
См.: Буранок О. М. Своеобразие ораторской прозы Феофана Прокоповича киевского периода // Культура и текст: Вып. 1. Ч. 1. – СПб.; Барнаул, 1997. С. 56–62.
(обратно)474
Бужинский Г. Полное собрание поучительных слов – М., 1784. С. 1—36. Описание «слова» см.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 79–80.
(обратно)475
Описание «слова» см.: Гребенюк В. П. Обзор произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в. // Панегирическая литература петровского времени. – М., 1979. С. 83–84. В этот же день приветствие Екатерине преподнесли служители Петербургской типографии. Оно не выходит за рамки обычных комплиментов и полностью укладывается в жанр придворного панегирика (см. там же, с. 82–83).
(обратно)476
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 57.
(обратно)477
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 68.
(обратно)478
Автухович Т. Е. Риторика и русский роман XVIII века: Взаимодействие в начальный период формирования жанра. – Гродно, 1996.
(обратно)479
Виноградов В.В. Поэтика и риторика // Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. – М., 1980.
(обратно)480
Вомперский В.П. Риторики в России: XVIII–XVIII вв. – М., 1988.
(обратно)481
Лахманн Р. Два этапа риторики «приличия» (decorum) – риторика Макария и «Искусство риторики» Феофана Прокоповича // Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII. – М., 1989. С. 149–169.
(обратно)482
Winter E. Fruhaufklarung. В., 1966; Tetzner J. Pheophan Prokopovic und russische Fruhaufklarung // Zeitschrift fur slawistik. В., 1958. № 3. S. 351–368.
(обратно)483
См.: Буранок О.М. Человек Петровской эпохи и русское ораторское искусство // Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем. – Самара, 1994. С. 161–163.
(обратно)484
Николаев СИ. Литературная культура Петровской эпохи. – СПб., 1996. С. 12.
(обратно)485
См.: Буранок О. М. Риторическое время в ораторской прозе Феофана Прокоповича // Пространство и время в литературном произведении. Ч. 2. – Самара, 2001. С. 42–46.
(обратно)486
Winter E. Fruhaufklarung. – В., 1966. S. 333.
(обратно)487
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы / Пер. с англ. – М., 1978. С. 232.
(обратно)488
Автухович Т.Е. Риторика и русский роман XVIII века: Взаимодействие в начальный период формирования жанра. – Гродно, 1996. С. 43.
(обратно)489
Голиков И. Деяния Петра Великого. Ч. 9. – М., 1789. С. 238.
(обратно)490
АвтуховичТ.Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича: Автореф. дисс… к.ф.н. – Л., 1981. С. 15.
(обратно)491
См.: Фёдоров В.И. Литературные направления русской литературы XVIII века. – М.,1979; Западов В.А. Державин и поэтика русского классицизма: Статья 1. «Александровская» ода Державина // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Вопросы метода и стиля. – Л., 1984. С. 40.
(обратно)492
Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 356.
(обратно)493
Внутри Слова произошёл сбой нумерации, указываем напечатанные номера страниц.
(обратно)494
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 68.
(обратно)495
См.: Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трёх стилей. – М., 1970. С. 70–96; Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 62–63.
(обратно)496
См.: Прокопович Феофан. О трёх стилях речи / Перев. с лат. Е. П. Тверковкиной // Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трёх стилей. – М., 1970. С. 195–200.
(обратно)497
См.: Павленко Н. И. Пётр Великий. – М., 1994; Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1994.
(обратно)498
См.: Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868.
(обратно)499
Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова. – М.; Л., 1966. С. 18.
(обратно)500
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 69. В качестве примера Н. Д. Кочеткова приводит «Слово в день воспоминания коронации государыни императрицы Анны Иоанновны» (1734).
(обратно)501
См.: Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868; Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель. – СПб., 1880.
(обратно)502
Прокопович Феофан. История о избрании и восшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны. – М., 1867. Популярный пересказ «Истории» см.: Смирнов В. В. Феофан Прокопович. – М., 1994. С. 104–109. В сокращении публикуется «История» в этой же книге, с. 205–219.
(обратно)503
См.: Исторический лексикон: XVIII век. – М., 1996. С. 6—16.
(обратно)504
Анисимов Е. В. Феофан Прокопович // Исторический лексикон: XVIII век. – М., 1996. С. 697.
(обратно)505
Всемирная история: В 10 т. Т. 5. – М., 1958. С. 471.
(обратно)506
Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. С. 63–87.
(обратно)507
См.: Семевский М. И. Царица Прасковья. – М., 1989. С. 65– 105, 204–207.
(обратно)508
Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. – М., 1996. С. 395.
(обратно)509
Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 69.
(обратно)510
См.: Бочкарёв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII веков. – М., 1988. С. 5—76.
(обратно)511
Софронова Л.А. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Русская литература. 1989. № 3. С. 151.
(обратно)512
Об этом жанре см. подробнее: Москвичёва Г. В. Русский классицизм. – М., 1978.
(обратно)513
Гудзий Н. К. Феофан Прокопович // История русской литературы: В 10 т. Т. 3. Ч. 1. – М.; Л., 1941. С. 170.
(обратно)514
Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей: Кантемир // Собр. соч.: В 9 т. – М., 1981. Т. 7. С. 298.
(обратно)515
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. – Л., 1949. Т. 11. С. 269.
(обратно)516
Пaнчeнкo А. М. Петр I и славянская идея // Русская литература. 1988. № 3. С. 142–156.
(обратно)517
См.: Елеонская А. С. Киевская Русь в изображении восточнославянских писателей конца XVI–XVII вв.: К вопросу о функциях образа князя Владимира // Славянские литературы: IX международный съезд славистов. – М., 1983. С. 64–78.
(обратно)518
См.: Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича: Пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Сб. 9. – Л., 1974. С. 73–80.
(обратно)519
Программы педагогических институтов: Сборник № 3. – М., 1984. С. 26–46.
(обратно)520
Буранок О. М. Программа курса «Русская литература XVIII века» // Буранок О. М. Методика изучения русской литературы XVIII века в вузе. – М., 1997. С. 44–46. Ср.: Смирнов А.А. Русская литература XVIII в. // История русской литературы: Программа дисциплины. – М., 2001. С. 19–20.
(обратно)521
Демин А.С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. – М., 1977. С. 282.
(обратно)522
Моисеева Г. Н. На пути к новой русской литературе // История русской литературы в 4 т. Т. I. – Л., 1980. С. 439.
(обратно)523
Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. I. – СПб., 1862. С. 481.
(обратно)524
Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей. Кантемир // Белинский В. Г. Собр. соч. в 9 т. Т. 7. – М., 1981. С. 298.
(обратно)525
Берков П.Н. Основные вопросы изучения русского просветительства // Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. – М.; Л., 1961. С. 179–180.
(обратно)526
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII в. – М., 1939. С. 18–19.
(обратно)527
Панченко А. М. Истоки русской поэзии // Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. – Л., 1970. С. 31–32.
(обратно)528
Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века; М., 1939. С. 21.
(обратно)529
Научное издание этого произведения осуществлено П. В. Верхов-ским, см.: Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. – Ростов-на-Дону, 1916. С. 26–78. Второй «Разговор» не опубликован.
(обратно)530
Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. – Л., 1968. С. 7.
(обратно)531
Вомперский В.П. Стилистическая теория Феофана Прокоповича // Вомперский В.П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. – М., 1970. С. 70–98.
(обратно)532
См.: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. – Л., 1968; Соколов А. Н. О поэтике Ф. Прокоповича // Проблемы современной филологии. – М.; Л., 1965. С. 443–449; Западов В. А. Проблемы изучения и преподавания литературы XVIII века. Вып. 2. – Л., 1976. С. 98, 116.
(обратно)533
См.: Фёдоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979. С. 720; Смирнов А. А. Литературная теория русского классицизма. – М., 1981. С. 10–15; Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967. С. 378–379; Моисеева Г.Н. На пути к новой русской литературе // История русской литературы в 4 т. Т. 1. – Л., 1980. С. 440, 444.
(обратно)534
См.: Ерёмин И. П. Предисловие // Феофан Прокопович. Сочинения. – М.; Л., 1961. С. 4; Морозов А. А. Ломоносов и барокко // Русская литература. 1965. № 2. С. 87–91; Панченко А.М. Два этапа русского барокко // ТОДРЛ. Т. 32. – Л., 1977. С. 102–103.
(обратно)535
Лихачёв Д. С. Русская культура нового времени и Древняя Русь // ТОДРЛ. Т. 26. – Л., 1971. С. 7.
(обратно)536
См.: Елеонская А. С. Русские старопечатные предисловия и послесловия второй половины XVI – первой половины XVII в. // Русская старопечатная литература: XVI – первая четверть XVIII в. Тематика и стилистика предисловий и послесловий. – М., 1981. С. 78–80.
(обратно)
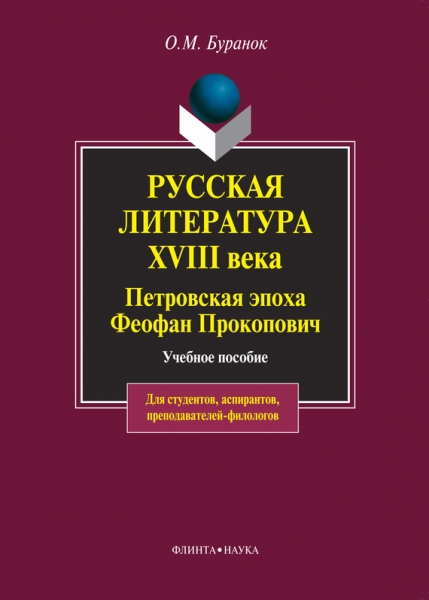


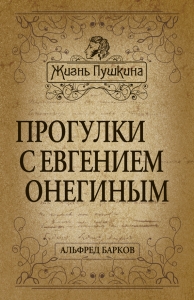
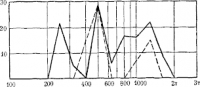


Комментарии к книге «Русская литература XVIII века. Петровская эпоха. Феофан Прокопович. Учебное пособие», Олег Михайлович Буранок
Всего 0 комментариев