Русская литература XIX века. 1850–1870: учебное пособие
Россия 50—70-х годов
Чем царь добрей, тем больше льется крови…
М. Волошин50—70-е годы в России XIX в. были одним из судьбоносных исторических периодов. Столетие в целом, связанное с понятием русской классической литературы, отнюдь не было гармонически уравновешенным. По своей интенсивности оно не уступает катастрофическому XX в., а скорее во многом готовит его. Долгое время общественная, философская, научная, литературная и культурная жизнь XIX в. рассматривалась в связи с периодизацией литературного процесса на основе общественно-политических явлений, обозначенных В. Лениным в статье «Памяти Герцена» (1912). Отчасти это оправданно, потому что русская литература действительно была теснейшим образом связана с актуальными социальными проблемами. Главной из них оставалась судьба крестьянства и шире – народа. Однако сам демократический процесс столетия не ограничивается узким социологическим, политическим видением, свойственным Ленину и его вольным и невольным последователям в литературоведении. Корни многих процессов «освободительного» движения следует искать в духовной жизни русских людей, в квазирелигиозном мировоззрении революционеров XIX в.
Итак, разделение столетия на 40–60 и 70—90-е годы, определявшее историю литературы столетия в советской науке, является условно-социологическим. Граница между периодами искажает цельность эпохи Великих реформ. Многие видные деятели русской культуры и словесности, относимые в такой системе к разным периодам, были современниками. Например, Булгарин и Чаадаев, с одной стороны, Герцен и Бакунин, с другой.
Единство 50—70-х годов истории русской литературы XIX в. определяется царствованием Александра II. При всех переменах политической жизни стиль, дух эпохи формировался личностью царя-освободителя. Он взошел на трон после смерти Николая I в 1855 г. и правил до 1881 г., когда был убит революционерами-террористами. Члены «Народной воли» «приговорили» царя к смерти за то дело, которое он справедливо считал своей исторической миссией. В день гибели он планировал рассмотреть проект принятия в России конституции, ради которой принесли себя в жертву декабристы. Царствование Александра III стало новым культурно-историческим этапом в жизни страны.
Конец 40-х – первую половину 50-х годов иногда называют «мрачным семилетием? – . События Французской революции 1848 г. заставили Николая I усилить полицейский контроль над обществом: от чтения частной переписки до строжайшей цензуры. Это коснулось даже религиозных текстов. Из акафиста Покрову Пресвятой Богородицы цензурный комитет предлагал, например, исключить как сомнительные и неуместные следующие стихи: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных…». Очевидно, власть отождествляла эти определения с собой. Борьба с революционными силами определила негативную оценку правления Николая I в советской истории. Однако можно попытаться представить, что было бы с русской классической культурой, если бы «бессмысленный и беспощадный» русский бунт выплеснулся уже в 1825 г., а в 1848 г. получил новый, международный импульс.
Катастрофическим событием правления Николая I стала Крымская война (1853–1856). Поражение и последующее заключение мирного договора, ущемлявшего интересы России, говорили о кризисе николаевского самодержавия. Важными причинами поражения были неумелое руководство военными действиями и непродуманное обеспечение тыла армии. Даже героический дух защитников Севастополя, запечатлённый в «Севастопольских рассказал» (1855–1856) начинающего писателя Л.Н. Толстого, не смог преодолеть негативных последствий проигранной кампании. К внутренним причинам прибавлялись и внешние.
После победы над Наполеоном прошли годы, и европейский мир перестроился. Единовластно сильная Россия была никому не нужна. Турция стала инструментом ослабления Российской империи в планах европейских держав. Политическая и динломатическая самоуверенность Николая I, похожая на романтическую наивность, на философский идеализм, была жестоко наказана историей. Крымская война наглядно показала экономическое отставание крепостнической России от Франции и Англии. Ведь еще Александр I понял необходимость изменения правового статуса трудового народа, «сеятеля и хранителя» России. Умирая, Николай I сказал наследнику: «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот».
Духовная жизнь 50–70 годов во многом определялась реформами Александра II. Одиако проблематика и стилистика интересов интеллигенции обозначилась уже в 30—40-е годы. На самосознание русской интеллигенции решающее влияние оказало увлечение немецкой философией. Труды Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха воспринимались со славянским азартом, оказывали пьянящее, чарующее воздействие. «Русские не скептики, – писал Бердяев в «Русской идее» (1946), – они догматики, у них все приобретает религиозный характер, они плохо понимают относительное». Дух своеобразной философской горячки господствовал в появившихся общественно-филологических кружках, сформировавших атмосферу общественного свободомыслия. Самыми известными деятелями нового неформального движения стали Н.В. Станкевич (1813–1840) и Т.Н. Грановский (1813–1855).
В кружок Станкевича, который просуществовал с. 1831 по 1837 год, входили в основном воспитанники Московского университета. Среди них были В.Г. Белинский, М.А. Бакунин, К.С. Аксаков, Т.Н. Грановский, О.М. Бодянский, М.Н. Катков, В.П. Боткин, Ю.Ф. Самарин. Во время пребывания Станкевича за границей (для лечения и продолжения образования), в 1838 г. к его кружку примыкает новый студент – И.С. Тургенев. Все они были талантливые молодые люди, страстные и увлечённые, идеалисты в лучшем смысле этого многозначного слова. К.С. Аксаков впоследствии вспоминал эти собрания: «Если бы кто-нибудь вечером заглянул в низенькие небольшие комнаты, наполненные табачным дымом, тот увидел бы живую, разнообразную картину: в дыму гремели фортепианы, слышалось пение, раздавались громкие голоса; бодрые лица виднелись со всех сторон; за фортепианами сидел молодой человек прекрасной наружности; темные, почти черные волосы опускались по вискам его, прекрасные, живые, умные глаза одушевляли его физиономию». При всем оживлении друзья Станкевича спиртного не употребляли. Тот же Аксаков свидетельствовал, что «на сходках выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба». Герой романа Тургенева «Рудин» (1856) Лежнев обозначает темы разговоров этих «русских мальчиков»: «В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьётся, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии…» Станкевич умер в 27 лет. А его собеседники стали властителями дум следующего поколения русского общества.
Грановский был профессиональным историком, профессором Московского университета, одним из идеологов западничества. По существу, его курсы по истории западноевропейского средневековья были своеобразной историософией. Он выдвигал нравственный критерий в осмыслении исторических фактов. Историю он считал наукой революционного характера. Историческая мысль должна совершать своеобразный переворот в мире «нравственных явлений», подобно тому, как естествознание обновило представления об отношениях человека и природы. Публичные лекции Грановского начала 40-х годов высоко оценивали Чаадаев и Герцен.
Важно подчеркнуть, что увлечение немецкой философией носило не столько рациональный, сколько эмоциональный характер. Мировоззренческие, гносеологические и социальные проблемы немецких философов – от метафизика Канта, идеалиста-платоника Гегеля до материалиста Фейербаха и автора «Манифеста коммунистической партии» (1848) Маркса, претворившего библейский хилиазм и общинное финансовое самосознание еврейской диаспоры в социологию, – воспринимались русскими со страстностью неофитов. Разные идейные концепции становились на русской почве общим идеализмом, романтически оторванным от экзистенциальной действительности. Попытки применить немецкий идеализм на практике неизменно заканчивались кровавыми катастрофами. Бердяев в «Русской идее» так обозначает эту психологическую национальную черту: «Интеллигенция была идеалистическим классом, классом людей, целиком увлечённых идеями и готовых во имя своих идей на тюрьму, каторгу и на казнь».
В общественно-политической мысли России середины XIX в. сформировалось два основных направления: консервативное и либеральное.
Принципы консервативной идеологии сформулировал министр народного просвещения С.С. Уваров (1786–1855) в триаде «православие, самодержавие, народность». Стремление выстроить чёткую общественную систему, иерархию, вероятно, по-своему преломляло концепцию общества в идеалистической философии Гегеля. Отсюда её магический, гипнотизирующий эффект. При всех исторических нюансах эта триада просуществовала до эпохи Николая II включительно и продолжает пленять монархическое сознание в XXI в.
Понятие «народности» активно обсуждалось и в литературе, оно было ключевой категорией в литературной критике 30– 40-х годов. Встречается у Пушкина, Гоголя и, в особенности, у Белинского. Оппозиционные мыслители понимали «народность» социально – как демократизацию словесности, гении художественной литературы – как освоение исконных национальных корней, как коллективное бессознательное – интуитивно переживаемый русский «дух». В консервативной мысли «официальная народность» выражала идею единства народных масс и самодержавной власти, личности царя, освященной авторитетом церкви.
В журналистике пропагандистами теории «официальной народности» выступили Ф.В. Булгарин (1789–1859) и Н.И. Греч (1787–1867). Они издавали массовую газету «Северная пчела», которую поддерживала власть. Близкие идеи проповедовались и в популярном журнале О.И. Сенковского (1800–1858) «Библиотека для чтения». Здесь идея народности получала более тонкое выражение.
Самым крупным идеологом «официальной народности» был профессор русской истории М.П. Погодин (1800–1875). В его научно-литературном журнале «Москвитянин» и специальных трудах принципы народности развивались на материале прошлого России, в противопоставлении истории Запада и католической церкви. Верноподданническую идеологию активно отстаивал профессор Московского университета филолог С.П. Шевырев (1806–1864). Важно отметить, что для многих официальная идеология была не искусственно, насильно навязанной, а выражала живой религиозно-политический опыт. Она основывалась на вере, чувстве воцерковленности и мистической иерархии – символе Царя Христа, Христа Вседержителя, изображаемого в храмах на царском троне.
Тот же Погодин выступил с критикой самодержавно-бюрократической системы в период неудач Крымской войны. Свои взгляды он открыто изложил в «Историко-политических письмах», адресованных сначала Николаю I, а затем и Александру II. Для искренних монархистов идея святости самодержавной власти не препятствовала объективной оценке ошибок исторического самодержавия. Идеал усиливал чувство несовершенной реальности.
Общественные настроения и журналистика 40-х и 50—70-х годов во многом определялись полемикой западников и славянофилов. В 30-е годы «западниками» были практически все образованные люди. С Петровских времён Запад был источником научных знаний, моды, общественного устройства, художественных стилей. Эта пора ученичества в России продолжалась примерно до эпохи романтизма, когда возродился интерес к национальным истокам, когда молодой Пушкин произнес свое знаменитое стихотворное заклинание: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…»
Собственно разделение на западников и славянофилов возникло в 1839 г., когда Т.Н. Грановский, вернувшись из Европы, познакомился с новыми модными идеями московских интеллигентов круга И.В. Киреевского (1806–1856) и вступил с ними в полемику. Конфликт России и Запада со всей определенностью был сформулирован уже П.Я. Чаадаевым (1794–1856) в его знаменитых «Философических письмах». С вызовом и максимализмом русского мыслителя Чаадаев в первом письме, написанном ещё в 1829 г. и опубликованном в 1836, утверждал: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, ни в чём не досталось нам от этого движения, мы исказили». С другой стороны, как западник, отрицая значение исторического наследия России, он же обозначил и тот философский вектор, который развивали славянофилы. В «Апологии сумасшедшего» он пророчески угадывал особую миссию страны: «Мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что прийти позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам». Философ утверждал, что Россия должна «решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество…».
Близкие образы волновали и Гоголя, завершившего первый том «Мёртвых душ» (1842) знаменитым символом «птицы-тройки», а в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) и в «Размышлении о Божественной Литургии» (1845–1852) указавшего на путь религиозных исканий. В его разорванном сознании так и не соединились социальная критика и вера. Однако именно эти составляющие стали главной философской антиномией – слагаемыми – так называемой «русской идеи», которую Бердяев определил как «эсхатологическую». Споры западников и славянофилов 40—70-х годов развивались преимущественно в социально-политической и культурной сфере.
Оба течения в русской общественной мысли стали оппозиционными. И славянофилы, и западники выступали за отмену крепостного права, за проведение реформ в области суда, администрации; говорили о необходимости развития промышленности, торговли, просвещения, отстаивали свободу слова и печати, не принимали николаевскую бюрократическую систему. Внутри славянофильства и западничества также существовали разные позиции, что делало оба движения неоднородными. Так, после событий Французской революции, эмиграции Герцена, реформы 1861 г. ряд западников занял консервативную позицию. Издания М.Н. Каткова (1818–1887) «Русский вестник», где печатались многие прогрессивные русские писатели, и «Московские ведомости» стали проводить консервативно-охранительную линию. Грановского настораживали революционные выступления Герцена, и он планирован ответить другу и бывшему единомышленнику в его же издании «Полярная звезда» (№ 1–7, Лондон, 1855–1862; № 8, Женева, 1868). При этом любопытно уважение к противникам, существовавшее в этой среде. В 1858 г. Герцен опубликовал в своем «Колоколе» статью Чичерина «Обвинительный акт», направленную против него самого. Взгляды Герцена там были названы «неистовым беснованием».
Самыми видными представителями западничества были историк Н.Т. Грановский, профессора истории и права С. М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин; среди литераторов – В.Г. Белинский и А.И. Герцен. Их идеи пропагандировались в университетских лекциях и статьях, печатавшихся в «Московском наблюдателе», «Московских ведомостях», «Отечественных записках», позже в «Русском вестнике» и «Атенее». Споры велись и в московских салонах Елагиных, Свербеевых, Чаадаева. Крупнейшими общественными проявлениями западничества стали публичные лекции Грановского и статьи Белинского в «Отечественных записках». Западники заговорили об общественном значении литературы и начали использовать термин «реализм». Их идеи оказали существенное влияние на многих русских писателей – И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Ф. Писемского, И.А. Гончарова. При этом не следует повторять ошибки вульгарно социологического литературоведения, идейно распределявшего писателей по «партиям». И вообще, идея не является чьей-либо собственностью. По словам М. Волошина, идея не может принадлежать человеку – человек может принадлежать идее. В спорах жили антиномическое единство и единичность Истины, которой была любовь к России.
Так, славянофил Самарин вспоминал, что «оба кружка не соглашались почти ни в чём; тем не менее ежедневно сходились, жили между собой дружно и составляли как бы одно общество». После событий Французской революции 1848 г. уже отошедший от западничества Герцен сформулировал это диалектическое единство еще более чётко: «И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно» (курсив автора). Их полемика была интересна большим общественным резонансом, оживившим культурную и литературную жизнь России.
Славянофильство заявило о себе в 1839 г., когда А.С. Хомяков и И.В. Киреевский выступили с программными статьями: Хомяков – «О старом и новом», Киреевский – «В ответ Хомякову». По цензурным соображениям опубликованы они не были, но широко распространялись в списках. К 1845 г. «Москвитянин» Погодина выпустил уже три книжки журнала со статьями славянофильского направления. К этому же времени сложился и славянофильский кружок. Центром этой группы единомышленников стал Хомяков, которого с уважением называли «Ильей Муромцем славянофильства».
Активными участниками этих собраний были братья И. В. и П.В. Киреевские; семья Аксаковых – братья Константин и Иван, их отец – писатель С.Т. Аксаков; публицисты А.И. Кошелев и Ю.Ф. Самарин; ученые-публицисты Ф.В. Чижов и Д.А. Валуев. Славянофилы оставили богатое литературное наследство. Кириевские создавали работы в разных областях; богословии и истории литературы; Хомяков был признанным авторитетом в богословии; К. Аксаков и Валуев занимались русской историей; Кошелев и Самарин – социально-экономическими и политическими проблемами; Чижов – историей искусства. Сохранилось огромное эпистолярное наследство, причём это были не столько частные письма, сколько научные трактаты в жанре письма (появившемся в эпоху классицизма).
Западники считали, что решающую роль в развитии России играло и играет государство. Особое значение для них получала деятельность Петра I, который направил страну по истинному пути развития. В целом западнический взгляд на Россию предполагал буржуазно-демократическую и либерально-просветительскую систему ценностей и идей.
Славянофилы отстаивали самобытность исторического пути и культуры России. Любопытно, что так же, как и западники, славянофилы, точнее «русолюбы» или «русофилы» (они интересовались историей именно русского народа, а не славян вообще), опирались на труды немецких философов, в особенности Шеллинга и Гегеля.
Центральное место в историософии нации отводилось крестьянской общине и православной церкви. В этом двуединстве соединялись социально-экономический и нравственно-религиозный аспекты. Национальный характер объяснялся психологией «мира» или «земли», чуждыми политики. Однако это разделение формировало такое понятие, как социальная совесть, чувство ответственности власти перед народом. Славянофилы выдвинули тезис «Сила власти – царю, сила мнения – народу». Отсюда значение особого совещательного органа, Земского собора и требование свободы слова и печати. Таким же выразителем «мнения» общества была и литература.
Казалось, патриархальная философия должна была приветствоваться властью, будучи близкой «официальной народности». Но эта народность, питаемая русской теократической стихией, духом религиозной свободы, была радикальнее «либерального» западничества. Так, Аксаковы называли царствование Николая I «душевредным деспотизмом, угнетательской системой», а его самого – «фельдфебелем» н «душителем». Чижов подчеркивал инородное происхождение династии «Романовых-Готторпских». Он с горечью отмечал: «Немецкая семья два века безобразничает над народом, а народ терпит». Славянофилы осознали себя частью, «голосом» этого народа. Следуя церковному обычаю, многие русские мужчины снова отпускали бороды. Пророческий протестный характер имело и возвращение к национальному внешнему облику. В историософии 10—20-х годов XX в. «петербургский период», XVIII–XIX вв. русской истории, стал пониматься как краткий этап многовекового пути, направленного таинственным мессианским импульсом.
Славянофилы, таким образом, не стилизовались под прошлое, как литературные «староверы» начала XIX в., а пророчески возвещали будущее, поиск своей дороги, отличной от Запада.
Западники собственного оригинального философского наследия практически не создали, исключая Герцена с его работами «Дилетантизм в науке» (1842–1843) и «Письма об изучении природы» (1844–1845). Более продуктивным оказалось творчество представителей критики и художественной литературы – Белинского и Герцена, также проявивших себя родоначальниками радикально-демократической линии словесности и общественной мысли.
Полемика западников и славянофилов философски завершилась синтезом, достигнутым в концепции Достоевского (1821–1881). Сначала в словах Версилова из романа «Подросток» (1875), а затем и в знаменитой «Пушкинской речи» (1880) «почвенник»
Достоевский доказывал, что национальная самобытность заключается не в противопоставлении Западу, а во «всемирной отзывчивости» русской души, явленной в геиии Пушкина. Он называет его «всечеловеком», универсальной культурной личностью.
Ярким явлением общественно-философской и литературной жизни стало формирование радикально-демократического направления. Наиболее видными его представителями были
В.Г. Белинский (названный Станкевичем «неистовым Виссарионом»), А.И. Герцен, Н.П. Огарев (1813–1877), «левое» крыло кружка М.В. Буташевича-Петрашевского (1821–1866).
С конца 30-х годов в России начали распространяться социалистические идеи, преимущественно связанные с теориями Фурье, Сен-Симона, Оуэна. Они попадали на благодатную почву, воспитанную православной культурой, духовным средоточием которой были общежительные монастыри с коллективной собственностью и нравственным идеалом нестяжания.
В среде интеллигенции поклонником этих «новых» идей станет Белинский. До определённого времени их будет разделять и Герцен. Литература в этой связи получала особое значение. Герцен подчеркивал: «У народа, лишённого свободы, – литература – единственная трибуна, с высоты которой он и заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Особый резонанс в обществе получили статьи Белинского в «Отечественных записках» и художественные произведения Герцена «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», «Кто виноват?», обличавшие бесправие и унижение личности. Характерным литературно-публицистическим явлением стало распространение нелегальных художественных и критических текстов.
Одним из них было знаменитое «Письмо к Гоголю», написанное Белинским в 1847 г. как продолжение отрицательной рецензии на «Выбранные места из переписки с друзьями», опубликованной в февральском номере «Современника». Сегодня «Письмо к Гоголю» интересно и в социальном, и в философско-психологическом отношении. Смертельно больной Белинский обрушивается не только на порядки николаевской России, но также и на религиозную жизнь страны, и даже на саму веру, доказывая, например, что русскому народу присущ «глубокий атеизм». Очевидно, что жизнь его великого современника, преподобного Серафима Саровского (1759 – 1833), как и многим другим представителям салонно-европейской городской культуры (в частности, Пушкину), была Белинскому неизвестна. Вероятно, у этого 37-летнего интеллигента своего религиозного опыта (в отличие от Пушкина) не было. Поэтому духовные искания Гоголя вызвали такое «неистовство». Западник и атеист Белинский называет его «проповедником кнута, апостолом невежества, поборником обскурантизма и мракобесия, панегиристом татарских нравов». Здесь показателен темперамент и стиль обвинений, основанных лишь на собственном книжном мировоззрении, а не на опыте жизни. Этот обличительный пафос характерен для радикально-демократических сил вообще. Страстная борьба за справедливость часто оборачивалась эгоцентрическим самоутверждением спорящих и отсюда – несправедливостью.
В 1847 г. вступление в наследство и личная драматическая судьба вынудила А.И. Герцена вместе с семьёй (фамилия «Герцен» означала «дитя сердца»; Александр Иванович родился в невенчанном браке немки Г.Л. Гааг и русского дворянина И.А. Яковлева) выехать за границу. Он планировал вскоре приехать обратно, но после «Писем из Парижа» и распоряжения Николая I немедленно вернуть Герцена в Россию стал «невозвращенцем». Суд лишил Герцена «всех прав состояния» и объявил подсудимого «за вечного изгнанника из пределов Российского государства». Разочарование во Французской революции, смерть родных в итоге привели его с сыном в 1852 г. в Лондон.
Здесь он написал свои знаменитые мемуары «Былое и думы» и осуществил небывалое для России дело: создал оппозиционную – Вольную – типографию. В обращении «Братьям на Руси» (1853) он призывал откликнуться все свободные силы: «Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью – вся моя цель». В 1855 г. Герцен начал издавать альманах «Полярная звезда» с портретами казненных декабристов в качестве эмблемы на титульном листе. С 1856 г. вместе с Огарёвым выпускал газету «Колокол» (1857–1865, Лондон; 1865–1867, Женева).
«Колокол» давал возможность критически взглянуть на многое из того, что происходило в России. В особенности это проявилось в оценке реформ Александра П. После первых восторженных откликов, когда Герцен писал в «Колоколе»: «Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников…», и восклицал: «Мы приветствуем его именем Освободителя», – появился трезвый анализ произошедших перемен. Огарёв в статье с показательным названием «Разбор нового крепостного права, обнародованного 19 февраля 1861 г. в Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», делал неутешительный вывод: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ царем обманут».
В последние годы жизни Герцен разошелся в оценке перспектив революции в России с прежними единомышленниками – Бакуниным и даже Огарёвым, вместе с которым когда-то на Воробьевых горах дал клятву пожертвовать «жизнью на избранную борьбу». Он осуждал призывы революционных радикалов к немедленной революции и говорил о необходимости учить народные массы. События Французской революции показали ему, что насилие не может служить делу обновления жизни. Как социальный философ он создал теорию «общинного социализма», по-своему соприкоснувшись с идеями славянофилов.
Активными пропагандистами социализма стали петрашевцы. Но и здесь политика отступала перед этикой. На «пятницы» Петрашевского приходили не только политические революционеры, но и писатели: Салтыков-Щедрин, Достоевский, Плещеев, Майков. Среди посетителей «пятниц» были Чернышевский и Л.H. Толстой. С 1845 г. до весны 1849 г. состоялось четыре «сезона». До 1848 г. кружок имел просветительский, литературный характер. Сам Петрашевский, кроме организационной политической работы, стал известен благодаря «Карманному словарю иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Мыслитель-«филолог» вводил в «язык» и сознание понятия, отражавшие идеи европейских социалистов. Издание было прекращено, из 2000 экземпляров 1600 уничтожено.
Политическая программа петрашевцев имела республиканский характер и предлагала создание выборной системы во все государственные органы. Радикальное крыло во главе со Спешневым призывало осуществить эту программу путем «бунта внутри России через восстание крестьян». Сам Петрашевский придерживался эволюционного пути, возлагал надежду на освобождение крестьян путем реформ. Пиком деятельности петрашевцев стала зима 1848–1849 гг. Вслед за событиями Французской революции, весной 1849 г. члены кружка приступили к созданию тайной организации и даже обсуждали план вооруженного восстания.
Возможно, сегодня никто бы не выделил этого кружка среди многих других, если бы не Достоевский. В.ночь на 23 апреля 1849 г. 34 «злоумышленника» были арестованы. Всего по делу' привлекалось 122 человека. 21 участник кружка был приговорен к смертной казни. В вину Достоевскому, в частности, вменялось чтение на собраниях письма Белинского к Гоголю. Отмена смертного приговора в последнюю минуту имела «воспитательные» меры, однако смягчение наказания выглядит весьма относительным. Достоевский пробыл на каторге с 1850 по 1854 год. К этому добавлялась служба рядовым. В Петербург писатель вернулся лишь в 1859 г. Девять лет жизни!
Минуты ожидания смерти определили глубокие различия позиций в кругу петрашевцев. Достоевский пережил один из своих восторженно-болезненных прорывов к иной, духовной реальности. По-французски он сказал Спешневу: «Мы будем вместе с Христом». «Горстью праха», – ответил тот с усмешкой.
Период Великих реформ стал новым мощным импульсом в развитии общественной мысли и литературы. Важной общественной силой, определившей стиль времени, стали разночинцы, активизировалось оппозиционное студенческое движение. Властители дум были молодыми людьми. Средний возраст лидеров революционно-демократического движения не превышал 25–27 лет.
Центром литературной и общественной жизни 60-х годов стал журнал «Современник». Основанный в 1836 г. Пушкиным журнал после гибели поэта издавал Жуковский с группой единомышленников. В 1846 г. владелец журнала, друг Пушкина, поэт, критик, профессор Санкт-Петербургского университета П.А. Плетнёв (1799–1856) уступил права издания Н.А. Некрасову (1821–1877/78) и И.И. Панаеву (1812–1862). С 1847 г. по 1866 г. «Современник» служит выразителем революционно-демократических идей. После смерти Белинского отдел критики возглавляли Н.А. Добролюбов (1836–1861) и Н.Г. Чернышевский (1828–1889). Некрасов как одаренный художник и редактор стремился привлечь к работе лучших писателей своего времени. В «Современнике» сотрудничали Герцен, Тургенев, Л.Н. Толстой, Островский, Достоевский, Дружинин, Анненков. Хорошо известна фотография 1856 г., где изображены маститые и молодые авторы журнала. Среди «начинающих» писателей – Л. Толстой в военной форме.
По идейным взглядам и происхождению состав сотрудников журнала не был однородным. В общественной горячке конца 50-х годов позиции авторов резко размежевались. Добролюбов и Чернышевский настаивали на социально острой, публицистической функции литературы.
Добролюбов развивал так называемую «реальную критику», согласно которой художественный текст становился своеобразной «промежуточной» средой между читателем и реальностью. Через анализ проблематики произведения критик стремился выйти к анализу самой реальности. Да и термин «критика» стал пониматься в узком смысле – как «обличение», как критика «негативных» явлений в жизни и искусстве. Критерий достоинств и недостатков искусства получал социологическое содержание. Несмотря на молодость (Добролюбов умер в 25 лет, посвятив литературной работе всего около четырех лет жизни), критик внес важный вклад в формирование реалистической эстетики. Его статьи о драмах Островского («Темное царство», 1859; «Луч света в темном царстве»,1860), анализ романа Гончарова «Обломов» («Что такое обломовщина?», 1859), романа Тургенева «Накануне» («Когда же придет настоящий день?»,1860) не потеряли своей ценности и сегодня. Стиль этих статей передает увлеченность и страстность молодого максималиста. И Добролюбов, и Чернышевский происходили из семей священнослужителей. Их публицистика выражала не столько аналитический холод разума, сколько проповедническую веру в идеалы общественной справедливости.
К сожалению, в отдельных статьях критиков-публицистов появлялся «менторский» тон. Так, Чернышевский, еще более радикальный в своих оценках, позволил себе нападки на Тургенева после выхода его повести «Ася» (1858). Вместо осмысления нравственно-психологической проблематики этой любовной повести Чернышевский дал обличительный социально-политический анализ жизни русской дворянской интеллигенции за границей. Статья «Русский человек на rendezvous» (1858) послужила поводом к разрыву Тургенева с редакцией «Современника». С другой стороны, Чернышевский обогатил терминологию критической мысли гегелевскими понятиями. Анализируя психологизм первых произведений Л. Толстого, он вводит термин «диалектика души».
Чернышевский в большей степени был публицистом и общественным деятелем, чем критиком. Он был арестован и пострадал не как писатель, а как политик-революционер. Поводом для ареста послужила прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (август 1861). Она призывала не верить царю, который заодно с помещиками, но избегать пока разрозненных бунтов и готовиться к организованному выступлению. Доносчик Костомаров указал на Чернышевского как автора прокламации. Убедительные доказательства, опровергающие доносчика, опубликованы лишь недавно. Во время двухлетнего заточения в Петропавловской крепости писатель создал свой знаменитый роман «Что делать?» (1863).
Хотя авторство революционной прокламации было не доказано, публициста приговорили к 14 годам каторги (сокращенной по приказу царя вполовину) с последующим поселением в Сибири. Только в 1883 г. он был переведен в Астрахань, а в 1889 (незадолго до смерти) – в родной Саратов.
Близкими по мировоззрению и стилистике стали литературно-критические статьи молодого Д.И. Писарева (1840–1868). Он сотрудничал в ежемесячном журнале «Русское слово» (1859–1866), который возглавлял Г.Е. Благосветлов. Писарев был сторонником философского материализма и естественно-научного знания. Значительное влияние он оказал на идеологию народников 70-х годов, хотя сам народником не был. Считается, что критик явился одним из родоначальников нигилизма «базаровского» типа. В 1862–1866 гг. находился в Петропавловской крепости за революционную пропаганду. Удивительно, но это не помешало ему продолжить свою литературную работу. Писарев высоко оценил роман Чернышевского «Что делать?» в статье «Мыслящий пролетариат» (1865) и творчество Тургенева (статья «Базаров», Толстого, Достоевского. В его рассуждениях часто звучал термин «реализм» (например, статья «Реалисты», 1864), который он понимал как научное, социальное, философско-критическое мышление, основанное на опыте жизни.
Критическая мысль того времени представлена и другими яркими именами. Среди них особенно заметны были А.В. Дружинин (1824–1864), А.А. Григорьев (1822–1864), К.Н. Леонтьев (1831–1891).
В конце 40-х – начале 50-х годов А.В. Дружинин сотрудничал в «Современнике». В 1856 г. он получил приглашение возглавить редакцию журнала «Библиотека для чтения». Еще в «Современнике» Дружинин выступил против Чернышевского, который не понравился ему и как человек, и как радикальный литературный критик. Полемику с ним, начатую в «Современнике», Дружинин продолжил на страницах своего журнала.
Критик отстаивал «вечные» духовные, эстетические ценности литературы. В программной полемической статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856) он спорил с позицией Чернышевского в статье «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855–1856), противопоставляя разоблачительному реализму Гоголя гармонический гений Пушкина (Гоголь, как известно, противопоставил своему социально-критическому направлению путь религиозных исканий). Теория «чистого искусства» была сосредоточена на оценке художественной пластики, восприятии слова как эстетического феномена.
Аполлон Григорьев сотрудничал сначала в журнале Погодина «Москвитянин», а в 1861–1864 гг. стал одним из ведущих критиков журналов братьев Достоевских «Время» (1864–1863) и «Эпоха» (1864–1865). В своих статьях он стремился избегать крайностей как социально-публицистического направления, так и теории «чистого искусства». Свою теорию он назвал «органической критикой». Критике «форм», которой увлекались в «Библиотеке для чтения», он противопоставлял «критику духа» произведения. Художественный текст он сравнивал с живым организмом. Этим определялось и его «органическое» восприятие. По существу, это был классический подход в единстве формы и содержания, обозначенный еще пушкинской категорией «вкуса» как чувства соразмерности и сообразности.
Константин Леонтьев придерживался консервативной позиции. Религиозные откровения современной литературы, в том числе и Достоевского, он считал еретическими. Осуждал он у нравственно-философские искания интеллигенции. В статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» он утверждал, что Вронский полезнее для России не только «искателя» Левина, но и самого Толстого. Православие Леонтьева имело обрядово-аскетический характер, что и привело его в итоге к постригу в Оптиной пустыни.
«Почвенничество» братьев Ф.М. и М.М. Достоевских развивало иное понимание христианства. Одним из его идеологов считается и Н.Н. Страхов (1828–1896). Иногда почвенниками называют также А. Григорьева, Лескова, да и Толстого в связи с особой разработкой нравственно-религиозной философии народа. Однако сам Достоевский не вмещался в рамки этой религиозно-психологической и философско-этнографической категории. Русское христианство рассматривалось им апокалиптически, как особая миссия православного народа, суть которой – «спасти человечество и дать новые формы жизни и искусства». Не случайно философское сближение концепции Достоевского и Вл. Соловьева, который вспоминал, что писатель называл апокалиптическую «Жену, облечённую в солнце» (Откр.12;1), Россией, а «дитя», рождаемое Ей, – «новым словом», которое Россия должна сказать миру (см. «Три речи в память Достоевского»). Для религиозных философов начала XX в. Достоевский осознавался как пророк не в метафорическом, а в прямом, духовном смысле слова (см. Н. Бердяев «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» или Д.С. Мережковский «Пророк русской революции»), Достоевского можно также считать родоначальником философской критики и публицистики («Дневник писателя» 1873–1876, 1877, 1880–1881), получившей развитие на рубеже XIX–XX вв. в статьях русских религиозных философов.
На рубеже 60—70-х годов начало формироваться новое общественное движение – народничество. Идеологами этого движения стали М.А. Бакунин (1814–1876), П.А. Лавров (1823–1900), П.Н. Ткачев (1844–1885). Народники считали, что радикальное решение всех социальных проблем может быть достигнуто революционным путем и силами самого народа, руководимого интеллигентами-революционерами. Политического результата первое (1874 г.) «хождение в народ» не принесло. Крестьяне часто сами выдавали агитаторов. Однако народничество сыграло важную нравственную роль. Оно было реальным делом служения народу. Второе хождение в народ (1875 г.) получило общий просветительской характер. Земство дало для этого новые возможности. Интеллигенты «пошли в народ», работая врачами и учителями, осваивая народные ремесла.
Самобытной русской идеей стал анархизм Бакунина, который утверждал, что его жизненная цель состоит в том, чтобы быть свободным и освобождать других. Это была уникальная личность, фигура, достойная авантюрно-приключенческого романа. Одержимый стихией личной свободы, он перенес это мироощущение и в свою социальную систему. В книге «Государственность и анархия» (1873) Бакунин доказывал, что любая государственность, монархия или республика, является источником «эксплуатации и деспотизма». Власть развращает человека, делая одних тиранами, других рабами. Он считал, что необходимо бороться не за власть, а за социальные свободы. Государство как система насилия станет ненужной, если хозяином собственности станет сельская община. Мужик, утверждал Бакунин, «социалист по инстинкту», его не надо агитировать, а прямо призывать к бунту. «Учить народ? – спрашивал он, – это глупо. Народ сам лучше нас знает, что ему нужно». Такая «анархия» была своеобразной утопией свободы, нечто похожее на теократию. Но она невозможна без духовного преображения человека. М. Волошин в поэме 1924 г. «Россия» формулирует эту национальную стихию в виде антиномии: «У нас в душе некошеные степи. / Вся наша непашь буйно заросла / Разрыв-травой, быльем да своевольем. / Размахом мысли, дерзостью ума, / Паденьями и взлётами – Бакунин / Наш истый лик отобразил вполне. / В анархии – все творчество России…». Это не разрушение, не беззаконие и не безвластие, а внутреннее духовное освобождение.
В 70—80-е годы сформировалась и народническая критика. Самым крупным её представителем был Н.К. Михайловский (1842 – 1904). Он был одним из редакторов «Отечественных записок» наряду с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным. Так, в статье 1875 г. «Десница и шуйца Льва Толстого» (правая и левая рука, метафорически «сила» и «слабость») он доказывал, что сила Толстого в понимании жизни простых людей, их нужд и забот, их правды. Слабость он видел в его философии истории. Социолога и публициста, вероятно, не вдохновляла метафизическая концепция, сложившаяся уже в романе «Война и мир», где русский историософ вводит категорию «духа истории» – нечто похожее на учение Л.Н. Гумилева о «пассионарности» и К. Юнга о «коллективном бессознательном».
В 70-е годы в России возникли крупные революционно-террористические организации. Их предвестием стала «Народная расправа» во главе с С.Г. Нечаевым. После разгрома его группы в марте 1869 г. он бежал за границу, где встречался с Герценом, Огарёвым, сблизился с Бакуниным. Нечаев был человеком «дела». Он написал «Катехизис революционера», для которого не существует никаких нравственных ограничений. «Нравственно для него всё то, – заявлял Нечаев, – что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно всё то, что помешает ему». Название организации, в которую он привлекал и «разбойные элементы» и где он занял место диктатора, говорит за себя. Чтобы проверить бойцов и сплотить организацию, Нечаев приказал убить студента Иванова, не пожелавшего беспрекословно подчиняться вождю. Эти факты имели широкий резонанс в обществе и по-своему отразились в романе Достоевского «Бесы».
В конце 70-х близкие методы проявились и в других организациях. Это были «Земля и воля» (1878–1879 гг.), названная в честь организации 60-х годов, и «Народная воля». Первая ставила целью политическую пропаганду. Так, 6 декабря 1876 г. на площади у Казанского собора в Петербурге была организована массовая демонстрация студентов, курсисток, молодых рабочих. Сначала был отслужен молебен о здравии находящегося в ссылке Чернышевского, а затем перед демонстрантами выступил Плеханов, призывая к борьбе против деспотизма. Рабочий Потапов развернул над толпой красное знамя. Среди активистов организации, которая строилась как партия со своей иерархией и отделениями, были братья Михайловы, В. Фигнер, С. Перовская, Н.Морозов, которые создали непосредственно террористическую группу.
Члены «Народной воли» философскими и художественными вопросами не увлекались. 25 августа 1879 г. Исполнительный комитет организации вынес смертный приговор Александру II, и началась настоящая «охота». Начиная с выстрела Каракозова, на царя было совершено восемь неудачных покушений. Однако император не прятался от опасности. Возможно, он устал от гигантской дистанции, пройденной по пути Великих реформ, всколыхнувших Россию. К этому добавлялись сложные личные отношения с княжной Долгоруковой, ставшей его «гражданской женой», что вызывало осуждение двора и семьи.
Один из образованнейших и гуманных русских царей, воспитанный Жуковским, знавший несколько иностранных языков, изучавший русскую литературу в изложении Плетнёва, искренне интересовавшийся жизнью простых крестьян, объявивший при воцарении амнистию декабристам, завершивший кровавую Крымскую войну, ослабивший действие цензурного комитета, стал жертвой борцов за «справедливость». Царствование, начавшееся «оттепелью», завершилось взрывом на Екатерининском канале.
Литературный и художественный процесс этого насыщенного общественными явлениями и идеями периода в целом отличался стилевым единством. Центральными эстетическими явлениями середины XIX в. стали формирование реализма и тяготение к эпическим художественным формам. Осмысляя русскую литературу середины XIX в., необходимо говорить не о реализме вообще, а об одной из разновидностей реализма, ставшей в это время основной.
Проблеме реализма посвящен специальный раздел учебника «История русской литературы XIX в. 40—60-е годы» под редакцией В.Н. Аношкиной и Л.Д. Громовой. Автор раздела А.А. Демченко, развивая концепцию У.Р. Фохта, выделяет две разновидности реализма: психологический (Пушкин, Лермонтов, Гоголь и др.) и социальный (натуральная школа, писатели-демократы 1860-х годов, народническая беллетристика 1870-х). Сохраняя терминологию Фохта и освобождая концепцию от ряда неточностей (среди которых отмечаются «расширительное наполнение психологического реализма произведениями писателей, выходящих за пределы 1830—1840-х годов и, наоборот, ограничение круга беллетристов социального реализма лишь так называемыми «писателями-социологами»»), – Демченко предлагает обозначить специфику реализма середины XIX в. как «реализма социального».
Действительно, в 50—70-е годы социальная «реальность» стала важным предметом художественного освоения, однако, очевидно, что категория «общества» в значительной мере является абстрактной и как единица мышления оказывается лишь термином социологии. Такой художественной абстракцией были государство, империя, просвещённая монархия в эстетике классицизма.
Художника-реалиста интересовало не само общество, а люди, живые судьбы, личность в системе общественных отношений. Думается, теоретически необоснованно делить реализм на «социальный» и «психологический», ведь основным жанром русской классической литературы стал социально-психологический роман. И реализм как тип художественного мышления, как литературный стиль неизменно являет диалектическое единство «социального» и «психологического» (понимая «психею», «душу», в широком смысле слова – как средоточие человеческой индивидуальности, включающей биологически-телесный, эмоциональный и рациональный уровень, нравственно-философский и мистико-религиозный мир личности, её социальное самосознание и т. п.). К этому прибавляется социально-психологическая уникальность художника и ее стилевое воплощение. Ведь, по известному выражению Бюффона, стиль есть личность.
Стремление индивидуализировать «социальный» реализм прослеживается и в концепции А.А. Демченко. Литературный процесс делится здесь на течения и школы, в основе которых философско-гносеологические ориентиры. Так, оформляется социально-просветительское течение: Герцен, Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Слепцов, Н. и Г. Успенские, Решетников, Бажин, Омулевский, Кущевский, Максимов и др. Внутри течения выделяются революционно-демократическая разновидность (Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Слепцов, Бажин, Омулевский) и либерально-демократическая (Помяловский, Решетников, Н. Успенскин, Левитов, Благовещенский, Гире, Шеллер-Михайлов, Мордовцев и др.). Им противопоставляются произведения так называемой антинигилистической литературы: Писемский «Взбаламученное море», Крестовский «Панургово стадо», Клюшников «Марево». По мысли А.А. Демченко, это была «вторичная, «теневая» литература», использовавшая сюжеты «с очернительскими целями». Думается, оценочные термины социологического типа в классификации реализма неточны. Какой же это тип реализма – «очернительский»? Тогда в одну группу с этими художественно второстепенными текстами попадают «На ножах» Лескова, «Бесы» Достоевского, «Обрыв» Гончарова?
Вероятно, осмысляя литературный процесс в рамках реалистической эстетики, можно исходить из типологии художественного пространства, говорить о типе самой художественной реальности, способе художественной манипуляции с действительностью, форме эстетической трансформации реальности, ее художественно-словесной разновидности. Тогда «социально-просветительско-рационалистическое» течение окажется публицистическим, ведь автор здесь не постигает действительность, а доказывает свою готовую общественно-политическую позицию средствами искусства. Публицистический стиль в реализме изначально субъективен, «идеален», по определению Белинского, и потому далеко не всегда объективно реалистичен. Показателен пример из «Дневника писателя» Достоевского, где писатель-психолог ставит под сомнение знаменитый эпизод из главы «Княгиня Волконская» поэмы «Русские женщины», в котором жена декабриста, увидев мужа, целует его цепи. Достоевский замечает, что женщина никогда так не поступит и поцелует сначала мужа, а уж потом (если появится такое желание) – цепи. Публицистически яркая сцена казалась критику реалистически недостоверной.
Тогда и стиль Салтыкова-Щедрина («Сказки», «История одного города»), по сути лишь условно-реалистический, может быть назван гротескно-фантастическим, а не «просветительским». Черты публицистического стиля присутствуют и в названных романах Лескова и Достоевского, которые выдвигают свою, точнее традиционную нравственно-философскую систему восприятия современных общественных явлений.
В рамках социального реализма А.А. Демченко говорит также о литературных школах (в точном смысле слово «школа» – это более позднее явление. Школой был, пожалуй, лишь акмеизм Гумилева). В литературном процессе XIX в., вероятно, можно говорить о подражании, ученичестве, эстетической близости членов группы. По существу, такими «школами» были крупные художественные журналы и их идейные руководители. Например, «Отечественные записки» времен Белинского или «Современник» Некрасова, который сам в творчестве далеко выходил за рамки социологической концепции Чернышевского, и именно он своим талантом привлекал единомышленников-реалистов.
Демченко выделяет в литературном процессе «школу Чернышевского» («Трудное время» В.Слепцова, «Степан Рулев» Н. Бажина, «Шаг за шагом» И. Омулевского и др.); «этнографическую школу» (родоначальник В. Даль, «Плотничья артель» А. Писемского, «Дедушка Поликарп» П. Мельникова-Печерского; «Рассказы. Две части» Н. Успенского, «Подлиповцы. Этнографические очерки из жизни бурлаков» Ф. Решетникова и др.); «некрасовскую школу» (Н. Михайлов, А. Плещеев, Л. Трефолев, И. Никитин, Н. Добролюбов, В. Курочкин, Д. Минаев и др.).
Кроме просветительского реализма, в социальном реализме принято выделять социально-психологическое течение. Собственно, это и есть русский классический реализм. Это произведения Тургенева, Гончарова, Островского. Сюда же относят романы Писемского «Тысяча душ» и Лескова «Некуда». Особое место отводится «школе Островского».
Третьим течением реализма становится социально-этическое (или этико-психологическое) течение. Его сформировали своими произведениями Толстой, Достоевский, Писемский (как автор романа «Масоны», 1880), Лесков (произведения о «праведниках» 1870—1880-х годов – «Однодум», «Запечатлённый ангел», «Очарованный странник»). Точнее это направление можно назвать социально-философским. Названные писатели действительно руководствовались этическими целями, но отнюдь не были морализаторами, а художество не смешивали с дидактикой. Они обнажали душевные бездны. Их откровения о человеке поражают не столько этической оценкой, а пьянящей диалектикой «двух бездн», если угодно, эстетическим «аморализмом» познания. Писателей интересовала человеческая личность как многоуровневая система. Бердяев называл романы Достоевского антропологическими экспериментами. А сквозной экзистенциальной темой Толстого становится смерть. Социальные факторы отступали здесь на второй план, вернее были лишь средой актуализации личности. В XXI в. многие социальные проблемы
XIX столетия кажутся наивными, исторически неактуальными, но философско-психологический уровень бытия не теряет своей значимости по определению. В этой связи художественную действительность такого типа более точно назвать философско-психологической. Как особый уровень реальности здесь раскрываются «внерассудочная» реальность мира «идей», бессознательное и мистико-религиозная реальность, передающая опыт сверхестественного. Такой реализм, по сути, становится мифологическим (религиозно-мистическая тема у Достоевского, ми фологема человеческой души и Души Природы у Тютчева).
Таким образом, придерживаясь той или иной классификации и типологии реализма, следует исходить не из абстрактно-теоретических построений и уж тем более не из социологии, а из сложных представлений о многоуровневой реальности, преломляющейся в мире личности. Именно она художественно воплощается в отдельном тексте или творчестве писателя в целом. Здесь могут возникать новые смысловые и стилевые сцепления. Художественный реализм прекрасен как раз многообразием восприятия и воплощения единой реальности.
Традиционный термин «критический реализм» также не отвечает современным представлениям о художественной реальности. Как известно, он возник в терминологии советского периода, чтобы отграничить новый «социалистический» от старого «критического» реализма, который, по сути, был тем же публицистическим (синтезом реализма, классицизма и романтизма). Реализм XIX в. в целом может быть назван аналитическим. Таким образом, эволюция художественного стиля в литературном процессе менялась от «дагерротинирования» (фотографирования) реальности в «натуральной школе» через публицистический реализм к реализму социально-философскому и философско-психологическому.
Человеческая личность как совокупность общественных явлений и как уникальный философско-психологический мир, художественно запечатленная реализмом, раскрывается и в других видах искусства. Необыкновенную популярность обретает театр. Основными центрами театральной жизни стали Малый в Москве и Александринский в Петербурге театры. Малый театр, связанный с творчеством Островского, стал выдающимся явлением русской реалистической эстетики.
Реализм затронул даже такую «идеальную» сферу искусства, как музыка. Творческое объединение М.П. Мусоргского (1839–1881), Ц.А. Кюи (1835–1918), А.П. Бородина (1833–1887), Н.А. Римского-Корсакова (1844–1908), названное «могучей кучкой», стремилось передать в музыке «правду жизни». Композиторы широко использовали фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали утверждению жанра народно-музыкальной драмы («Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского). Выдающиеся достижения в музыке второй половины XIX в. связаны с творчеством П.И.Чайковского (1840–1893). Кроме сказочно-легендарных балетных сюжетов («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), он активно использовал литературные образы – оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», романсы на стихи русских поэтов. Музыкальный цикл «Времена года» стал своеобразным продолжением реалистической пейзажной живописи.
В живописи второй половины столетия также закрепляется и достигает высочайшего уровня реалистическая манера письма. Уход из Академии 14 «протестантов» во главе с И.Н. Крамским (1837–1887) и создание свободной «Артели художников», а затем «Товарищества передвижников художественных выставок» (1871) стали предпосылкой к созданию нового направления в живописи. Работая в разных жанрах – от бытового до исторического и пейзажного – художники запечатлели картины действительности в тончайших деталях и оттенках изобразительности. Появляются и современные социальные мотивы – «Курсистка», «Студент», «Кочегар» Н.А. Ярошенко (1848–1898). Отличительной особенностью портрета передвижников стали психологический реализм и идейность. Пейзажи Ф.А. Васильева (1850–1873), И.И. Шишкина (1832–1898), И.И. Левитана (1860–1900), А.К. Саврасова (1830–1897) отличались особым лиризмом, игрой света и форм природы.
Широкий резонанс имело творчество И.Е. Репина (1844–1930). Подобно писателям, художников кисти привлекали человеческие характеры, социальные ситуации, картины природы. Его знаменитая картина «Бурлаки на Волге» (1873) перекликается по силе и глубине с близким решением народной темы у Некрасова. Шедевры реалистической живописи были сродни откровениям писателей-реалистов.
Кроме общих эстетических, стилевых явлений, литературный процесс 50—70-х годов определялся проблемно-тематическим единством. Центральными темами стали социальная справедливость («Сорока-воровка» Герцена, лирика Некрасова); жизнь народа («Записки охотника» Тургенева, лирика Некрасова, произведения Лескова); поиски «героя времени» (романы Тургенева, Гончарова), появление «нового» человека, буржуазного дельца, с одной стороны, и разночинца-революционера, с другой («Обыкновенная история», «Обломов» Гончарова, «Накануне», «Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» Чернышевского, «Бесприданница» Островского); философско-психологические вопросы (религиозные произведения Лескова, «Война и мир» Толстого, романы Достоевского), судьба женщины, семейные проблемы (драмы Островского, «Анна Каренина» Толстого, «Обрыв» Гончарова).
Полемизируя с писателями социального направления, Достоевский в «Дневнике писателя» с вызовом заявлял, что главной общественной проблемой современности является проблема бессмертия человеческой души. От её решения зависит решение и всех остальных проблем.
В поэзии к этому кругу проблем добавлялось противопоставление социально-публицистического, гражданского направления во главе с Некрасовым и «чистого искусства»; Тютчев, Фет, А. Григорьев, А. Майков, Полонский. В этом условном делении продолжалась полемика о цели литературы и её общественной роли, начатая ещё в творчестве Ломоносова и литературно оформившаяся в стихотворении Пушкина «Поэт и толпа».
Главным литературным жанром в прозе становится роман. Крупная эпическая форма позволяла с максимальной полнотой изобразить реальность: как социальную, так и философско-психологическую. Русская литература энергично проходит путь от очерка и новеллы к художественному обобщению жизни в рамках одного произведения. В «Записках охотника» Тургенева, «Севастопольских рассказах» Толстого, «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, «Записках из Мёртвого дома» Достоевского формировалась универсальная для середины века эстетическая модель. Романы Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Достоевского, Толстого, «хроники» и романы Лескова создали своеобразный реалистический художественный эпос, в котором запечатлелась русская душа, жизнь русского общества (или гротескный антиэпос «Истории одного города» Салтыкова– Щедрина).
При этом сами романы в рамках периода и в эволюции отдельного писателя объединялись в ещё более объёмные художественные образования. Например, литературная полемика Достоевского с Чернышевским: «Что делать?», с одной стороны, и «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Бесы», с другой. Главные романы самого Достоевского по аналогии с Библией иногда называют «великим пятикнижием». Также органично развивалось единое «романное» пространство у Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» составляют своеобразную «трилогию») и Тургенева. Писатели-реалисты как будто творили некий общий «метатекст».
Эпические тенденции развиваются и в поэзии. Многие реалистические стихотворения Некрасова строятся по эпическим принципам. В них есть система героев, сюжет, лирический монолог поэта приобретает повествовательность («Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Родина» и др.). Поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» формируют лиро-эпический образ русской судьбы, через скрытое олицетворение, персонификацию Родины как женщины – судьбы самой России. Незавершенная из-за смерти художника поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо» заслуженно считается ярчайшим образцом русского «лирического эпоса». Близкий художественный масштаб лирического произведения появляется лишь в поэзии Серебряного века в жанре «книги стихотворений» (трехтомная лирическая «трилогия» А. Блока).
Тяготение к эпическому наблюдается даже в драме. Пьесы Островского объединяются в тематические группы, в результате чего воспринимаются как специфическое («репертуарное?», в рамках одной сцены) образное пространство эпического типа. Например, «трилогия» о Бальзаминове: «Праздничный сон – до обеда», «Свои собаки грызутся – чужая не приставай», «За чем пойдешь, то и найдешь». Вообще, мир купечества и мещанства раскрывается у Островского как пестрое, но единое художественное целое.
Многообразие и богатство русской реалистической литературы по праву делает её классической. Сформированная временем, она выходит за рамки социокультурного периода и становится уникальным эстетическим явлением мирового художественного пространства, созданного искусством слова.
Литература
Бердяев Н.А. Русская идея. Самопознание: Сочинения. М., 1997.
Гачев Г. Русская дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991.
Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х гт. Л., 1991.
Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991.
История России XIX – начала XX вв. М., 1998.
Теория литературы: В 4 т. Том 4. Литературный процесс. М., 2001.
Проза
Развитие прозы 50-70-х годов проходило на волне общественного подъёма. На первый план выдвигается тема социального обличения. Родоначальником этого «демократического» литературного направления стал М.Е. Салтыков-Щедрин со своими «Губернскими очерками» (1856). Типологически такая проза была близка «физиологическим очеркам» 40-х годов, но, кроме натуралистической точности в описании «социальных язв» и общего демократизма стиля, произведения писателей (вероятно, под влиянием социально-психологического романа) приобретали большую аналитичность. Поэтика очерка отличалась «этнографическим» колоритом, который сменил «познавательную» публицистическую направленность. Автор стремился вступить в прямой диалог с читателем. Его присутствие выражалось в системе комментариев и оценке изображаемой реальности.
В такой жанровой форме строились «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского (1862–1863), «Очерки народного быта» Н.В. Успенского (1858–1862), «Очерки московских нравов» А.И. Левитова. Очерковая стилистика была присуща и другим жанрам. Например, «Письма об Осташкове» В.А. Слепцова (1862–1863) или повесть Ф.М. Решетникова «Подлиповцы» (1864), которую сопровождал подзаголовок «Этнографический очерк».
Путь от традиций «натуральной школы» к социально-психологическому реализму проделал в 60-е годы Г.И.Успенский. Этнографическая фактография его произведений начала 60-х годов – «Народное гулянье в Всесвятском», «В деревне», «Сторона наша убогая» – сменяется аналитическим углублением в социальную психологию народа – цикл «Разоренье» (1868–1871).
Кроме очерков, в 50—70-е годы развиваются и крупные эпические формы. Социально-психологический роман стремился художественно освоить появление новых человеческих характеров и судеб. Тип «липшего человека» с его рефлексией и социальной апатией сменяет фигура «нового человека» – деятеля, обычно разночинца по происхождению. Показательна эволюция героев в романах Тургенева: умный, но социально слабый, нерешительный в любви Рудин; деятельный, но «отвлекающийся» на любовь и одинокий Лаврецкий; участник национально-освободительного движения Инсаров, не разделявший любовь и борьбу; отрицающий любовь нигилист-«революционер», разночинец Базаров.
Новый герой «времени» изображается также в произведениях Н.Г. Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов». Социально не состоявшегося дворянина и «успешного» в социальном отношении разночинца противопоставляет в своем романе «Обломов» И.А. Гончаров. Социально-психологическое задание написать произведение о «новых» людях определило публицистический и сентиментально-дидактический пафос романа Чернышевского «Что делать?»
Аналитической реакцией на новые идеи и художественные типы стали так называемые «антинигилистические» романы. Этим социально-философским термином принято определять специфику таких значительных произведений, как «Взбаламученное море» (1863) А.Ф. Писемского, «Некуда» (1864), «Обойденные» (1865), «На ножах» (1871) Н.С. Лескова, «Бесы» (1871) Ф.М. Достоевского. Конечно, круг нравственно-философских и психологических проблем, затронутых этими писателями, выходит за рамки социального явления, каким стал «нигилизм» в 60-е годы. От социально-революционной действительности они поднимались до уровня глубоких философских и психологических обобщений, противопоставляя тезис о том, что «среда заела», противоположному – среда определяет характер. Корни социальной психологии кроются в самой личности. Вообще, проблема нигилизма лишь на поверхности является социальной. Уже Лесков в романе «На ножах» противопоставлял честный и великодушный «нигилизм» майора Форова и «негилизм» (от «гиль» – вздор, чепуха) негодяя и преступника Горданова.
В своей ноуменальной глубине нигилизм является сатанизмом. Грань между двумя явлениями очень тонкая: нигилизм отрицает ради утверждения, а сатанизм утверждает само отрицание. В «Бесах» Достоевского нигилизм становится не социальным, а духовным, почти мистическим явлением, превращается в сатанизм. Достаточно указать на такие сложные, «фантастаческие» характеры, как Ставрогип («стаурос» по-греч. крест) или Верховенский.
К кругу подобных произведений о «новых людях» следует отнести и «Преступление и наказание» (1866), ведь в руках Раскольникова тот самый «топор», к которому звала народную Русь революционная пропаганда. А «бред» бывшего студента, ставшего философствующим убийцей, о «трихинах», вселяющихся в тела людей и делающих их «бесноватыми», в начале XX в. был воспринят как пророчество о грядущей русской революции. По сравнению с ней социальная борьба века XIX (даже терроризм) кажется лишь опасной романтической игрой. Достоевскому ли было не знать, к чему приводит эгоцентрическое самоутверждение революционера, стремящегося к социальной справедливости? Не случайно, полемизируя с писателями социального направления, Достоевский в «Дневнике писателя» с вызовом заявлял, что главной общественной проблемой современности является проблема бессмертия души, от решения которой зависит решение всех остальных общественных вопросов.
Попытка понять соотношение роли личности и массы, постичь подлинный «дух истории», таинственные силы, управляющие движением общества, сформировала и концепцию романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (1863–1869), которую сам писатель определил как «мысль народную». Замысел написать роман о революционере-декабристе в итоге перерос в художественное откровение о русской душе в её становлении и развитии – между экзистенциальными безднами любви и смерти.
Таким образом, заявленная на фоне демократического подъема социальная тема 60-х изначально приобретает в литературе более глубокое содержание. В ней раскрываются не только общественно-политические явления, но и мир человека в его диалектическом, философско-психологическом, экзистенциальном становлении.
А.Ф. Писемский (1821–1881)
Алексей Феофилактович Писемский родился в небогатой дворянской семье, что, вероятно, предопределило его демократические взгляды. Учился в Костромской гимназии и с 1840 г. в Московском университете на математическом отделении. В студенческие годы увлекался романтическим искусством, но затем заинтересовался творчеством Гоголя и литературоведческими идеями Белинского, что определило его тяготение к реалистической эстетике. После окончания университета в 1844 г. несколько лет служил чиновником в Костроме. В 1854 г. вышел в отставку и переехал в Петербург. Литературный дебют писателя состоялся в 1848 г. рассказом «Нина», но настоящую известность он получает после публикации повести «Тюфяк» в 1850 г. Произведение было напечатано в погодинском «Москвитянине», и на волне формирования в литературе реалистического стиля творчество Писемского было поставлено в один ряд с Гончаровым, Тургеневым, Островским.
Эстетические установки сблизили Писемского с так называемой молодой редакцией журнала Погодина (Островский, А. Григорьев) и кругом писателей, объединявшихся вокруг «Отечественных записок», отсюда его генетическое родство с принципами «натуральной школы». Первые произведения Писемского посвящались изображению среднедворянского круга. Хорошо известная писателю среда получала разоблачительную оценку. Как сторонник неприглядной правды жизни, он разрушал поэтическое очарование дворянской усадьбы, полемизируя с Тургеневым и Л. Толстым. Таковы его романы «Боярщина» (1846,1858) и «Богатый жених» (1851), повести «Тюфяк», «Брак по страсти», «М-r Батманов» (1852), рассказы «Комик» (1851), «Фанфарон» (1854), «Старая барыня» (1857).
В духе «физиологических очерков» Писемский сосредоточил внимание на будничной, однообразной жизни среднего человека. По мысли писателя, в этом мире нет ни настоящей родственной близости, ни возвышенной любви. Полемизируя с Лермонтовым и Тургеневым, Писемский развенчивает тип «лишнего человека» с его исключительностью. Критик-нигилист Писарев отмечал, что образ Бахтиярова в «Тюфяке» воспринимался как своеобразная карикатура на Печорина, а Эльчанинов из «Боярщины» и Шамилов из «Богатого жениха» типологически близки характеру Рудина, но при этом снижены до заурядности.
В традициях «натуральной школы» Писемский разрабатывал также тему «маленького человека». Ей посвящен рассказ «Старческий грех» (1861), где изображается катастрофическая судьба мелкого чиновника Иосифа Ферапонтова. Всю жизнь он был честным незаметным тружеником, но растратил казенные деньги из-за любви к молоденькой, но ловкой авантюристке. Судьба женщины в современном обществе разрабатывалась также и в других произведениях писателя. Среди них – роман «Боярщина», повести «Тюфяк», «Брак по страсти» и др.
В 50—60-е годы появляется ряд произведений о народной жизни. Героями их становятся простые труженики, крестьяне. Это «Питерщик» (1852), «Леший» (1853), «Плотничья артель» (1855), «Батька» (1861). Стилистика рассказов и повестей этого направления отличалась натуралистической суровостью, жёсткостью, что сближает писателя дворянского происхождения с творчеством разночинцев-демократов: Успенского, Решетникова, Слепцова, Левитова и др. Писемский уходит от упрощенного противопоставления: «барин – мужик», ставшего литературным штампом, и изображает сложные отношения в самой народной среде. Таковы «Плотничья артель», «Батька». Сложные межличностные и социальные отношения раскрываются писателем и в его драматургии (пьеса «Горькая судьбина», 1859).
В 1857–1860 гг. Писемский создал цикл очерков, связанных с этнографической экспедицией в Астрахань. Очерки публиковались в «Морском сборнике» и «Библиотеке для чтения». Произведения посвящались изображению быта рыбаков и моряков. Среди них «Астрахань», «Бирючья коса», «Баку». Отдельные очерки были собственно этнографическими: «Татары», «Астраханские армяне», «Калмыки». Журнальные публикации были затем объединены в общий цикл «Путевые очерки».
Признанным шедевром прозы Писемского конца 50-х годов стал роман «Тысяча душ». Он был опубликован в журнале «Отечественные записки» в 1858 г. В отличие от «натуралистически» стихийных в композиционном отношении произведений, этот роман выстроен в классической форме. В центре повествования судьба главного героя – Калиновича. Развиваются две сюжетные линии – история служебной карьеры главного героя и его отношения с Настенькой. Так же, как другие русские романисты этого времени, Писемский подчеркивает важность активности человека в общественной сфере и личных отношениях. С другой стороны, писатель выступает против рассудочного практицизма, делающего человека бездушным и циничным. Калинович беден, но полон честолюбивых целей. После окончания Московского университета он становится чиновником. Стремление сделать карьеру делает его эгоцентричным. Ради самоутверждения он не брезгует сомнительными средствами.
Судьба героя – это своеобразное осуществление планов грибоедовского Молчалина. После службы в провинции он переезжает в Петербург, выгодно женится, добивается положения вице-губернатора и, наконец, становится губернатором. Получив власть, Калинович начинает бороться со злоупотреблениями, но при этом действует деспотически, вопреки законам. По мысли писателя, социальная активность героя становится проявлением борьбы за существование, за самоутверждение. Им руководят не высокие идеалы, а карьеризм. Главным социальным вопросом произведения становится конфликт между стремлением к честной практической деятельности и косной, мертвенной бюрократической системой государственной власти. Крах деятельности Калиновича как губернатора подчеркивал иллюзорность надежд той части русской интеллигенции, которая ожидала обновления жизни «сверху».
Любовь Калиновича и Настеньки основана на тесном духовном родстве. Герой находит в ней не только любящую женщину, но и единомышленницу. Этот идеал был близок многим руссьсим писателям и выразился также в произведениях Тургенева, например, в образе Елены Стаховой из романа «Накануне». Настенька сочувствует общественным взглядам Калиновича, его литературным симпатиям, и писатель передает сложный, психологически богатый мир отношений между мужчиной и женщиной. С другой стороны, в истории брака Калиновича с Полиной раскрывается неравная борьба главного героя с дворянским обществом, противостояние которому требовало не приспособления, а иного, революционного отношения к жизни.
Роман интересен и своеобразным бытописательским содержанием. Писатель изображает жизнь русской провинции, представленной образами таких колоритных героев, как смотритель уездного училища Годнев, учитель-пьяница Экзерхатов, ленивый сторож Терка, склонный к философским построениям подрядчик Папушкин, князь Раменский и др. Стилистически роман привлекает добротной реалистической прозой и важен не только с проблемно-тематической, но и художественной точки зрения.
Кроме художественной прозы, в начале 60-х годов Писемский создавал публицистические фельетоны. С 1857 г., вместе с А.В. Дружининым он редактировал «Библиотеку для чтения», где в 1861 г. публикует серию произведений под общим названием «Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки». В том же году выходит еще цикл фельетонов за подписью «Никиты Безрылова». Стилистика этих текстов чем-то напоминает журналистику XVIII в. Грубые выпады против революционно-демократической публицистики «Искры» и «Современника» привели к тому, что B.C. Курочкин и Н. А. Степанов вызвали Писемского на дуэль, но она не состоялась.
В 1862 г., оставив работу в «Библиотеке для чтения», писатель уехал за границу. Он побывал в Лондоне у Герцена, надеясь получить поддержку в борьбе против революционно-демократических журналов. Вернувшись в Россию, Писемский продолжил эту борьбу на страницах своего романа «Взбаламученное море» (1863). Изобразив представителей разных сословий этого «взбаламученного» времени, писатель отдавал предпочтение идеалу национальной самобытности, «здравому смыслу» русского характера, который не потерялся в сложной общественной обстановке 60-х годов. Остальные идеи Писемский считал временными и искусственными.
В 60-е годы Писемский продолжает активную литературную работу, создаёт пьесы и романы: «Люди сороковых годов» (1869), «В водовороте» (1871), «Мещане» (1877), «Масоны» (1880). Произведения посвящены краху иллюзий, однако в романе «Люди сороковых годов», в образе автобиографического героя Вихрова, раскрывается человек, который стремится бороться со злом и как чиновник, и как писатель. Анализируя различные идеалы, писатель приходит к главному выводу о том, что в современной действительности даже лучшие люди лишены опыта живой реальности. Стремясь создать положительный характер,
Писемский всё-таки подчёркивает, что герой-идеалист, порождённый дворянской культурой, исторически несостоятелен. В отличие от Л. Толстого, Достоевского, Лескова, сосредоточенных на идее нравственного возрождения человека, Писемский, как «идеалист сороковых годов», большую надежду возлагал на практическую деятельность, но основать её на справедливых, разумных началах не удавалось. Так, в «Масонах» бескорыстный борец за справедливость Марфин терпит поражение, а разбогатевший преступник Тулузов побеждает. С другой стороны, возвышенный характер масона Марфина обозначал иной, внутренний путь борьбы со злом, и это сближало концепцию романа с творчеством писателей религиозно-философского направления. Для самого писателя такой «практической» деятельностью была прежде всего литература. Разоблачая современную действительность, в 1865 г. Писемский создал цикл рассказов «Лгуны», в котором высмеял нравы и образ жизни дворянского общества.
Художественное мастерство Писемского определяется убедительным реалистическим жизнеподобием. Верный жизненной правде, он тяготел к натурализму французского типа. Это наполняет мир его произведений множеством изобразительных подробностей, деталями быта, побочными сюжетными линиями, большим количеством действующих лиц. Отчасти это сближает его стилевую манеру с творчеством Лескова, но философски и психологически Писемский тяготел не к художественной «влюбленности» в жизнь, а к скептицизму и рационализму в построении образного пространства.
Литература
Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. Пб.; М., 1895–1896.
Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1959.
Видуэцкая И.П. Писемский //Развитие реализма в русской литературе. М., 1973. Т. 2. Кн. 1.
ЕрёминМ.П. А.Ф. Писемский // А.Ф. Писемский. Сочинения: В 3 т. М., 1956. Т. 1.
Могиляпский А.П. Писемский: жизнь и творчество. Л., 1991.
Плеханов С.Н. Писемский. М., 1988.
Н.В. Успенский (1837–1889)
Николай Васильевич Успенский был первым, выступившим в печати представителем новой разночинской, демократической прозы. Он быстро становится известным литературной общественности, и уже в 1860 г. Добролюбов рекомендует включить его «Очерки из народного быта» в хрестоматию для юношества. Отмечая значение Успенского для современности, Достоевский писал, что после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого художник едва ли не первым выразил не новую мысль «высших классов общества о народе», а точку зрения самих народных масс. В этом редком случае оценка Достоевского совпадала с оценкой Чернышевского, отметившего, что Успенский первым рассказал «о народе правду без всяких прикрас». Как и у всякого первооткрывателя, судьба писателя сложилась трудно и противоречиво.
Двоюродный брат Г. И. Успенского, Н.В. Успенский происходил из семьи сельского священника. Как и его братья, он учился в Тульской духовной семинарии, вполне усвоив разрушающий живую личность бурсацкий дух. Не закончив семинарии, Успенский поступает в Медико-хирургическую академию. В это же время, в 1857 г., на страницах журнала «Сын отечества?» появляются его рассказы «Старуха» и «Крестины». В январе 1858 г. писатель знакомится с Некрасовым и становится штатным сотрудником «Современника»; публикует рассказы «Поросёнок», «Хорошее житьё», «Сцены из сельского праздника», «Грушка», «Змей». В том же году при поддержке Некрасова Успенский уходит из медицинской академии и поступает в Петербургский университет, на историко-филологическое отделение, продолжая активно публиковаться в «Современнике?». В 1859 г. выходят его рассказы «Ночь под светлый день», «Сельская аптека», «Бобыль», «Деревенские сцены» и др. В 1860 г. печатаются рассказы «Деревенская газета», «Вечер», «Обоз». К 1861 г. писатель подготовил книгу «Рассказы Н.В. Успенского», ставшую событием в литературной жизни и сделавшую ему имя.
По совету и при поддержке Некрасова, вероятно стремившегося обогатить эстетический кругозор Успенского, писатель совершает путешествие в Европу. Он побывал в Италии и Швейцарии, жил в Париже. Вернувшись в 1861 г. в Россию, Успенский неожиданно порывает с редакцией «Современника», в то время как на страницах журнала была опубликована концептуальная статья Чернышевского «Не начало ли перемены?» о книге «Рассказы Н.В. Успенского».
Писатель вообще имел трудный характер. Близкие отношения с людьми, всячески поддерживавшими его, обычно заканчивались скандалом и разрывом. Так было и с Л.Н. Толстым, у которого одно время он работал учителем русского языка в Яснополянской школе. Переехав в Спасское-Лутовиново к Тургеневу, Успенский вскоре вступает в тяжбу и с ним. Писатели-дворяне, возможно испытывая чувство сословной вины, стремились поддержать талантливого выходца из народа, но его как будто раздражало это покровительство. Просыпались своеобразная сословная гордыня, ничем не обусловленная классовая неприязнь, основанная на инстинктивном презрении простолюдина к самоуверенным и снисходительным «господам».
В 70-е годы литературная слава Успенского ослабевает. Он продолжает публиковаться, но всё меньше. Его книги, собрания сочинений (1871,1872,1875,1883) не имеют былого успеха, не распродаются. Критика обходит его вниманием или резко осуждает. Народническое направление упрекало писателя в безразличии к судьбе изображённого крестьянства или в откровенной клевете на мужика. Сочувственная оценка творчества Успенского появляется лишь в статье Н.К. Михайловского «Сочинения Н.В. Успенского», напечатанной в «Отечественных записках» в 1877 г.
Финал жизни писателя трагичен. С 1884 г. Успенский вместе с малолетней дочерью бродяжничает по Руси. К этому добавлялась постоянная нужда и пьянство. Чтобы прокормиться, он играет на гармони и рассказывает в трактирах и ночлежках биографии знаменитых русских писателей. В его изложении эти истории приобретали скандальные, уничижительные черты. В 1888 г. в юмористическом журнале «Развлечение», а затем отдельным изданием появляются его воспоминания о Л. Толстом, Некрасове, Тургеневе, Слепцове, Левитове, Григоровиче, Помяловском, Г. Успенском, написанные в духе бульварной литературы, этакой «желтой прессы» XIX в. Публикации вызвали протест литературной общественности. Не хватало лишь собственной биографии в таком же роде. В ночь на 21 октября 1889 г. Успенский покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло перочинным ножом.
Самобытный художественный мир Н.В. Успенского сформировался уже в сборнике 1861 г. Критика отметила умение писателя раскрывать характерные черты народной жизни, крестьянской психологии, сохраняя при этом фотографическую объективность. Отдельные рассказы становились как бы окнами в иной мир, окружающий повсеместно, но заново показанный изнутри. Так, в рассказе «Ужин» изображалась нищета мужицкой жизни; в рассказе «Змей» – суеверие и темнота крестьянства; пьянство и деградация личности – в рассказе «Хорошее житье»; роковая, беспросветная жестокость – в рассказе «Так на роду написано». Грубость, воровство, патологическая тупость изображаются в рассказах «Сцены из сельского праздника», «Грушка». Для революционно-демократической критики и публицистики и, прежде всего, для Чернышевского, произведения Успенского были своеобразными свидетельствами того, что крестьянство доведено до крайней степени нищеты и нужен лишь сигнал извне, чтобы вспыхнула народная революция.
Сквозной темой произведений становится бесправие и несправедливость по отношению к простому народу со стороны разного рода «господ». Таковы рассказы «Поросёнок», «Проезжий», «На пути» и многие другие. Даже природа, воспетая в гениальных полотнах русских пейзажистов второй половины XIX в., передает в мире Успенского мрачное, тоскливое состояние души – рассказы «Ночь под светлый праздник», «Зимний вечер».
После разрыва с редакцией «Современника» Успенский сохранил верность своим темам и художественной манере. Кроме реалистического изображения народной жизни, у него появляются произведения, затрагивающие мир других сословий пореформенной России. Так, в 1866 г. в журнале «Отечественные записки» была опубликована повесть «Федор Петрович», где изображались деревенские «капиталисты». Их характеры, запечатленные так же точно, как и мужицкие, получали разоблачительное содержание. И здесь «неприкрытая правда» говорила сама за себя. Писатель показал, что на смену теряющим власть и богатство помещикам приходят кабатчики, кулаки, которые становятся новыми хозяевами деревни. С сатирической наглядностью, минуя характерный для эстетики гротеск, в повести 1870 г. «Издалека и вблизи» писатель создает типические образы русских дворян. Потерявшие почву под ногами, они увлекаются интеллигентским прожектёрством, утопическими формами «улучшения» жизни на «книжный» лад. Эта исторически осуществившаяся маниловщина подчеркивала, что дворяне никогда и не были подлинными созидателями прогресса.
Почти в духе сентиментализма, опять-таки заключенного в самой реальности, написана повесть из жизни крестьян 1871 г. «Егорка-пастух». В ней рассказана история любви двух крестьянских сердец, которая обернулась настоящей трагедией. Причиной этому послужили чиновничье равнодушие и грубая бесчувственность деревенского «мира». Выдвижение на первый план личностной, нравственно-психологической проблематики выходило за рамки нейтрального очеркового объективизма.
Стилевое своеобразие прозы Н. Успенского принято связывать с явлением «бесстрастности». В то же время Достоевский указывал на мнимую бесстрастность, на бесстрастность как стилевой прием. «С виду его рассказ как будто бесстрастен, – отмечает писатель-психолог, – г-н Успенский никого не хвалит, видно, что и не хочет хвалить; не выставляет на вид хороших сторон народа и не меряет их на известные, общепринятые и выжитые цивилизацией мерочки добродетели. Не бранит за зло, даже как будто и не сердится, не возмущается». Однако Достоевский подчеркивает «мнимость» этой бесстрастности, он отмечает, что вывод Успенский предлагает сделать самому читателю. А главным пафосом его творчества считает то, что художник, создающий «дагерротипы» (фотографии) действительности, – любит народ не за какие-то достоинства, а таким, каков он есть.
Эта психологическая черта лишала произведения Успенского ложного пафоса идеализации народа. Как художник-реалист он смело вводит натуралистические, «бесстыдные» детали, использует просторечие, диалектизмы, разговорные обороты, что предваряет сказовую манеру Лескова, ставшую выражением национальной психологии. Жёсткий реализм Успенского формировал поэтику «деревенской прозы» А.П. Чехова («Мужики» и др.) и произведений о народе И.А. Бунина («Деревня» и др.). Поэтому его творчество выходит за рамки демократического направления литературы 1860-х годов и оказывается самобытным явлением русского реализма в целом.
Литература
Успенский Н.В. Повести, рассказы и очерки: Б 4 т. М., 1883.
Успенский Н.В. Повести и рассказы. Тула, 1986.
Бунин И.А. К будущей биографии Н.В. Успенского //Собр. соч. М., 1967. Т. 9. С. 496–501.
Покусаев Е. Вступительная статья // Н. Успенский. Повести, рассказы и очерки. М., 1957.
Чуковский К.И. Николай Успенский, его жизнь и творчество // К.И. Чуковский. Люди и книги. М., 1958.
Н.Г. Помяловский (1835–1863)
По происхождению Николай Герасимович Помяловский был типичным разночинцем
1860-х. Он происходил из семьи священника и в восемь лет был отдан в церковно-приходское училище. Через два года поступил в духовное училище при Александро-Невской лавре, затем перешел в семинарию. 14 лет Помяловский провел в бурсе.
Литературные наклонности писателя обнаружились ещё в семинарии. Он редактировал рукописный журнал «Семинарский листок», испытал свои силы во всех родах сочинительства, думал стать и богословом, и историком, и философом, и драматургом, и романистом, и лириком. Глубокий ум и тонкий вкус выражались и в самоиронии. Оценивая свои литературные опыты, он отмечал, что все они, кажется, были неудачными.
Мировоззрение писателя определилось в годы после воцарения Александра II и завершения Крымской войны. По окончании семинарии в 1857 г. Помяловский священником не стал. Казенное богословское образование, основанное на верноподданнической триаде «самодержавие, православие, народность», убило в нём всю внутреннюю духовную жизнь. «Божественные науки», преподававшиеся в бурсе, не вязались с нравственным и интеллектуальным уровнем её обитателей и вызывали только протест и ненависть. Помяловский зарабатывал частными уроками, прислуживал в храме, помогал в воспитании младшего брата.
Одновременно с этим он активно занимался самообразованием. Решающее влияние здесь оказал журнал «Современник». Позже он писал Чернышевскому о том, что, читая журнал, он установил свое мировоззрение, и называл публициста своим воспитателем. Важное влияние оказали лекции в Петербургском университете и знакомство с революционным студенчеством. Сам Помяловский также занялся педагогической деятельностью, работая в воскресной школе в рабочем пригороде Петербурга. Философские убеждения педагога-разночинца получают материалистическую и атеистическую направленность.
Рано умерший (в 28 лет) писатель оставил небольшое художественное наследие. Самыми известными произведениями стали «Очерки бурсы» и дилогия «Молотов» и «Мещанское счастье».
Цикл «Очерки бурсы» был опубликован в 1862–1863 гг. в журнале братьев Достоевских «Время» и в «Современнике». По свидетельству Благовещенского, Помяловский планировал написать около 20 очерков. В печати появилось четыре. Так же, как и у других писателей демократического направления 1860-х годов, в очерках преобладают документализм, бытописательская фактография. Писатель создает тягостную атмосферу жизни бурсы. Бытовые сцены и картины, портреты бурсаков и преподавателей, вставные эпизоды и рассказы изображаются писателем с натуралистическими подробностями. Нравы студентов не отличались особой духовной возвышенностью, и здесь Помяловский развивает традицию Гоголя (повесть «Вий»). Бурсаки живут в обстановке жестокости, корысти, тупости, доносительства. Сельское духовенство обычно не отличалось высоким интеллектуальным уровнем, о чем подробно пишет в своих произведениях о церковнослужителях Лесков. Это же наблюдение порождало и мощную сатирическую традицию в русском фольклоре. Так что атеист и материалист Помяловский в своих очерках подпитывался глубокими народными истоками.
Писатель не только характеризует среду учебного заведения, но и создает яркие психологические образы. Это второкурсник Тавля, отличавшийся богатырской силой и промышлявший ростовщичеством. Будущий священнослужитель, демонстрируя свое «превосходство», разрывал на части живых птенцов. Пьяница Гороблагодатский от скуки выкидывал «дикие штуки», но при этом добродушно относился к младшим. Коляда славился своей неумеренностью в еде. Гротескной, сюрреалистической фигурой является Лягва, глотавший мух и разведший червей в тюфяках. В этом замкнутом пространстве люди обнажали какие-то подсознательные пласты своей психики, так как их личностное, индивидуальное сознание было раздавлено фарисейской дидактикой «духовного» училища. Языковой колорит создавался своеобразным бурсацким жаргоном и стилем мышления, отразившемся, в частности, в прозвищах студентов.
Не случайно творчество Помяловского привлекло Ф.М. Достоевского, который находил в «Очерках бурсы» созвучие своим «Запискам из Мёртвого дома» (1860–1862). Очерковое бытописательство бывшего семинариста приобретало психологическое, экзистенциальное содержание, раскрывая мир человека в ненормальных, болезненных условиях. Типологическое родство героев Помяловского и Достоевского отмечал и Писарев в статье «Погибшие и погибающие» (1866).
Крупными эпическими произведениями писателя стали романы 1861 г. «Мещанское счастье» и «Молотов», опубликованные в «Современнике». В первой части дилогии изображается судьба разночинца Егора Ивановича Молотова. После окончания университета он поступает на службу к либеральному помещику Обросимову. Наивный романтик, Молотов считает, что умный и просвещённый помещик видит в нем равного.
В основе сюжета романтическая любовь Молотова и Леночки, крестной дочери Обросимова, живущей в соседнем имении. Неожиданно иллюзии рушатся. Егор услышал разговор помещика с женой, в котором выражалось презрение к его плебейскому происхождению и привычкам. Разорвав отношения с Леночкой, оскорблённый Молотов решает уехать в столицу.
Вторая часть дилогии «Молотов» изображает жизнь героя в Петербурге. Он устраивается на службу, становится архивариусом. В семье Дорогова Егор Иванович знакомится с его дочерью. Отец хотел с выгодой выдать её замуж за генерала. Любовный конфликт в лучших традициях русской литературы получает общественное содержание. В итоге коллизия завершается благополучно. Молотов женится на любимой девушке, и они находят свое счастье, которое писатель называет многозначным словом «мещанское». В этом определении заключена ирония. Личное счастье, материальное благополучие, добытое трудом и борьбой, опустошает его, снижает идеальные устремления души. Знаменательно, что итог жизненной борьбы заключается в горьком признании, напоминающим финал гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Эх, господа! что-то скучно!»
Кроме образа главного героя, в дилогии важны и характеры других разночинцев, противопоставленных и в то же время в чём-то дополняющих его позицию. Университетский товарищ Молотова Негодящев видит смысл своего «призвания» в том, чтобы быть преданным слугой самодержавия, защитником государственной системы. Художник Череванин когда-то мечтал о высоких целях, жил идеалами. Теперь же он во всем разочаровался, однако, в отличие от Молотова, не желает подстраиваться под обстоятельства и резко критикует современную жизнь. Он отвергает и «мещанское счастье», но ничего другого противопоставить ему не может. Настроение рефлексирующего художника Помяловский метко называет «кладбищенским». Таким образом, разночинская среда, считавшаяся главной общественной силой 1860-х, предстает в произведении писателя-разночинца неоднородной.
Как художник-реалист, Помяловский выходил за рамки натуралистического документализма, характерного для писателей-демократов. Он мастерски обобщает и сгущает реальность, художественно концентрирует действительность. Работу социального писателя он сравнивал с деятельностью врача, изучающего гниющее тело больного; с работой адвоката, погружающегося в центр разложения человеческой нравственности; со служением священника, выслушивающего неприглядную исповедь греховной души.
В стиле Помяловского присутствует полемическая заострённость, парадоксальность выводов. Авторское «я» выражается порой и напрямую, в публицистических отступлениях и комментариях. Писатель активно и плодотворно вводит в произведения разговорную речь, публицистические и богослужебные обороты и лексику, прибаутки и песни. Язык из средства передачи информации становится предметом художества. Не боится Помяловский и грубых, иногда бранных слов. По утверждению Писарева, писатель «всегда говорит резкими и грубыми словами о том, что резко и грубо в действительности». Народное самосознание, таким образом, обретает в его произведениях свою словесную пластику. Это сближает манеру Помяловского с прозой Н.С. Лескова. Сближал их и другой «писатель из народам, М. Горький, называя Помяловского, Глеба Успенского и Лескова своими учителями во взглядах на жизнь и литературу.
Литература
Помяловский Н.Г. Повести, рассказы и очерки: В 2 т. // С биографическим очерком Н.А. Благовещенского. М.; Л., 1935.
Помяловский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1935.
Вальбе Б.С. Помяловский. М., 1936.
Ждановский НЛ. Реализм Помяловского (вопросы стиля). М., 1960.
Ямпольский И. Н.Г. Помяловский: Личность и творчество. М., 1968.
Пономарева РД. К проблеме жанрового своеобразия «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского //Проблемы метода и жанра. Томск, 1983.
В.А. Слепцов (1836–1878)
Василий Алексеевич Слепцов происходил из древнего дворянского рода. Демократическое направление его творчества было поэтому вызвано не происхождением, а стало результатом воздействия времени. Как мыслящий дворянин он активно искал свой жизненный путь.
Учился будущий писатель в 1-й Московской гимназии, затем в Пензенском дворянском институте, но не закончил его. Там начал писать стихи, но отошел от поэзии. На его мировоззрение глубоко повлияла религиозная жизнь. Он был алтарником в храме, носил вериги. Затем его интересы получили другое направление. Слепцов готовился к военной карьере, но поступил в Московский университет на медицинский факультет (1853). В это же время увлёкся театром и играл на сцене в Ярославле (сезон 1854–1855 гг.). Нарушая дворянские традиции, по возвращении в Москву женился на танцовщице кордебалета Е.А. Цукановой. В 1858 г. он женится вторично – на Е.Н. Языковой.
В 1857–1858 гг. служил в канцелярии московского гражданского генерал-губернатора. Как представитель интеллектуальной элиты стал посещать литературный салон графини Салиас-де-Турнемир, известной писательницы Евгении Тур. В 1860 г. по поручению этнографического отдела Географического общества Слепцов отправляется в фольклорную экспедицию в центральные регионы России, Московскую и Владимирскую губернии. Результатом путешествия стал очерковый цикл «Владимирка и Клязьма». Очерки публиковались в 1861 г. сначала в «Московском вестнике», затем в газете «Русская речь».
С жанровой точки зрения очерки строились как путевые записки, отрывки из записной книжки. Композиция и поэтика цикла напоминают «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина и «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Главное действующее лицо произведения – сам автор. Он рассказывает о жизни рабочих и быте ткацких фабрик, строителях Московско-Нижегородской железной дороги. Важное внимание уделяется случайным встречам, разговорам с местными жителями. Перед читателем проходит пёстрая вереница представителей разных сословий: ямщики, крестьяне, священники, фабриканты, рабочие. В духе физиологических очерков Слепцов фиксирует множество бытовых подробностей. Однако по ходу движения меняется точка зрения автора-повествователя. Сначала он предстает праздным путешественником, наивным правдоискателем. Он составляет представление о жизни по рассказам встреченных людей. Так, о жизни рабочих он узнает со слов капиталистов. Погружаясь в действительность далее, путешественник становится более критичным, аналитически наблюдательным, крепнут его демократические взгляды. Герой эволюционирует от «сентиментального» путешественника карамзинского типа к обличителю и защитнику народа в духе Радищева. Общий вывод очерков сводится к разоблачению губительного влияния на человека пережитков крепостнической действительности.
На поэтику цикла отчасти повлияли театральные увлечения писателя. Отдельные очерки строятся в виде жанровых сцен. В литературоведении возник даже специальный термин, обозначающий это художественное явление, – «прозаические сцены». Так организованы очерки «На железной дороге», «Вечер», «Уличные сцены» и т. п. Жанр «сцены» предполагает не повествование, а непосредственное изображение действительности. Эта стилевая черта обозначается и в названиях отдельных произведений: «Сцены в больнице» (1863) или в подзаголовках, например, «Казаки (Деревенские сцены») (1864).
В 1858 г. Слепцов переезжает в Петербург и сближается с редакцией «Современника». По заданию редакции писатель едет в уездный город Осташков, который по официальной оценке считался образцовым провинциальным городом. Результатом поездки стали «Письма об Осташкове», публиковавшиеся в «Современнике» в 1862–1863 гг. Стилистика писем возрождала обличительную гоголевскую традицию (комедия «Ревизор»). Они были написаны в близкой Слепцову форме путевых заметок. Показанная писателем действительность существенно отличалась от оценок жизни в многочисленных других корреспонденциях из Осташкова. Это несоответствие создавало сатирический эффект. Не случайно высокую оценку цикл получил у Салтыкова-Щедрина, автора «Губернских очерков».
Широкую общественную известность Слепцов приобрел как создатель и идейный вдохновитель Знаменской коммуны. Она просуществовала с сентября 1863 г. по июнь 1864 г. Прообразом послужил так называемый фаланстер, дворец, в котором могут жить и работать члены социальной группы, фаланги. Этот образ был связан с социалистическими идеалами Фурье. В художественной литературе такая социальная община изображалась Чернышевским в романе «Что делать?». Коммуна Слепцова получила большой резонанс в обществе и отразилась в литературе – в романах Н.С. Лескова «Некуда» (1864) и Вс. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869).
Слепцов был энтузиастом «женского вопроса». Кроме коммуны, он активно содействовал организации различных мастерских и курсов, переводческих контор, целью которых было финансовое и нравственное самоопределение женщин. Писатель имел колоритную внешность и пользовался большим успехом в обществе, хотя его деятельность по понятным причинам вызывала различные кривотолки, а социалистические эксперименты привлекали интерес полиции.
Большую известность получила повесть Слепцова «Трудное время» (1865). Герои повести Щетинин и Рязанов представляют собой два типа русской пореформенной интеллигенции. Щетинин воплощает позицию либерального землевладельца. Он пытается вести экономическую деятельность в новых условиях, строить отношения с крестьянами в рамках правовых, либеральных норм. Рязанов изображается как представитель оппозиционных сил. Это разночинец-радикал, нигилист «базаровского» типа, убежденный, что улучшение жизни возможно только революционным путем. Рязанов доказывает необходимость передачи крестьянам как настоящим хозяевам жизни помещичьей земли. Симпатии Слепцова были на стороне разночинца-революционера. Однако в жизни побеждают люди, похожие на Щетинина. Рязанов не лишен черт «лишнего человека» рудинского типа. Он характеризуется как личность «без приюта и пристанища», и сам скептически относится к возможности активных действий в современной России. Однако его скептицизм отличается от позиции Писемского. Характерно, что проповедь Рязанова повлияла на жену Щетинина Марью Николаевну, которая порывает со своим кругом и переоценивает прежние идеалы.
Название повести перекликается со строчками из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час»: «Захватило нас трудное время / Неготовыми к трудной борьбе…?-, но произведение формулирует те актуальные нравственно-психологические и общественные проблемы, которые волновали русское общество в пореформенные годы. По цензурным соображениям писатель пользовался системой намеков и иносказаний. Однако читатели хорошо понимали, о чем идет речь. Характерно, что одним из ревностных почитателей повести стал Д.И. Писарев, откликнувшийся большой статьёй «Подрастающая гуманность» («Русское слово», 1865), называя характер Рязанова «блестящим» и развенчивая либеральную позицию Щетинина.
Популярная в 1860-е годы повесть переоценивается в критике конца 1870-х годов, когда по-новому осмысляется роль культурного землевладельца вроде Щетинина, на которую снова возлагаются большие надежды. В народнической публицистике Слепцова обвиняли в искажении образа русского крестьянина. Это позволяет видеть в повести 1865 г. отражение настроений своеобразного социалистического романтизма.
Слепцов как художник развивался в русле очеркового реализма. В то же время некоторые черты его стиля повлияли на литературный процесс в целом. В частности, так называемая «случайность» изображаемых событий, важная роль художественной детали предвосхитили поэтику прозы и драматургии А.П. Чехова, а сатирический, разоблачительный реализм сближает его с творчеством Салтыкова-Щедрина.
Литература
Слепцов В А. Полное собрание сочинений. СПб., 1888.
Слепцов В.А. Избранные произведения / Вступ. статья и примеч. М.Л. Семановой. Л., 1970.
Слепцов Василий. Неизвестные страницы // Литературное наследство. М., 1963. Т. 71.
Горький М. О Василии Слепцове // Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24.
Серёгин И. Слепцов // История русской литературы. М.; Л., 1956. Т. 8. Ч. 1.
Ф.М. Решетников (1841–1871)
Фёдор Михайлович Решетников родился в семье разъездного почтальона. В раннем
детстве остался сиротой и воспитывался в семье дяди – чиновника почтового отделения в Перми. С детства он познал нужду и унижения, что наложило трагический отпечаток на его мировоззрение и творчество. Подрабатывая во время пребывания в уездном училище, был обвинен в пропаже почты и попал под суд. Дело тянулось два года и закончилось ссылкой в Соликамский монастырь на три месяца для покаяния. Жизнь в монастыре, с одной стороны, привела к убеждению в «нечестии» монахов, ас другой, повлияла на его религиозные переживания. В феврале 1857 г. он обратился к иеромонаху Соликамского монастыря Леониду с просьбой о послушничестве. Думается, этот важный факт недостаточно оценен. Он многое объясняет в стилистике и проблематике творчества Ф.М. Решетникова.
Писатель тяготел к очерковой, документальной прозе. Его вдохновляла не красота, не изящество стиля, а правда, по слову Евангелия, «да будет слово ваше: «да, да? – , «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5; 37). Следуя принципу изображения «голой правды», художник в то же время создает такой образный мир, который мало кого оставляет равнодушным. Сосредотачиваясь на тяжелой, трагической стороне жизни, оп не просто фиксирует, по самим фактом отбора материала «концентрирует» действительность, достигая большой выразительной силы. Его «документализм» напоминает «Житие протопопа Аввакума», где бытовая простота страданий человека становится обличением, проповедью, мученичеством. Этот скрытый христианский пафос сострадания создает главную эстетическую энергию прозы Решетникова.
Известность к писателю пришла после публикации в «Современнике» повести «Подлиповцы» (1864), произведения о жизни деревни в пореформенные годы. Композиционно повесть делится на две части – «Пила и Сысойка» и «Бурлаки». Главные герои – жители деревни Подлинной Гаврила Гаврилович Пилин (Пила) и двадцатилетний парень Сысой Степанович Сысоев (Сысойка). Дочь Пилы Апроська находится в любовной связи с Сысойкой. Изображая жизнь крестьянских семей, Решетников создает удручающую картину. Поле заброшено, потому что ничего не растет. Подлиповцы голодают, хлеба купить не на что, так что приходится есть мякину с корой. Люди ругают себя, и работу, и всё окружающее. Это всеобщее страдание порождает коллективную депрессию, вызванную нуждой.
Следуя «жизненной правде», Решетников создает какой-то кошмарный, сюрреалистический мир. Подлиповцы живут на пороге смерти, в инфернальном пространстве. По ошибке Апроську приняли за мёртвую и похоронили заживо. Услышав стоны из-под земли, девушку откопали, но спасти её так и не удалось. Младшие брат и сестра Пилы были найдены мёртвыми в печи. Они были убиты отвалившимися кирпичами. Символ домашнего тепла, жизни превращается в символ смерти. Это нагнетение страшных фактов напоминает эстетику журналов Н.И. Новикова, повесть «Горькая участь». Как будто писатель хочет шокировать, напугать тех, кто много говорит о народе, но ничего о нём не знает в действительности. Показательно, что Решетников с недоверием относился даже к своим литературным покровителям, в частности к Некрасову, считая столичных литераторов «барами», чувствуя пренебрежение к себе.
Пила и Сысойка пытаются сопротивляться действительности. Узнав о богатой бурлацкой жизни, они отправляются на заработки. Но злой рок преследует их. В городе у Пилы украли лошадь. Чтобы прокормиться, Сысойка продал свою, но все деньги мужики «с горя» пропили. Их нашли спящими на дороге и как бродяг арестовали. Месяц они просидели в арестантской. После всех этих событий они наконец добрались до реки и нанялись в бурлаки. Однако «богатая» жизнь оказалась иллюзией. Мужики находят лишь непосильный труд и скудную еду. Новая жизнь была так тяжела, что вызывала зависть даже по отношению к лошадям. В итоге Пила и Сысойка погибают. Лопнувшая бечева разбила Пиле голову и левую ногу, и вскоре он умер. Сысойка повредил грудь, его оставили в деревне, где через несколько дней умер и он.
Неблагополучно складываются судьбы и других подлиповцев. Жена Пилы Матрена становится пьяницей, и Тюнька, один из сыновей, попрошайничает для неё. Надежда на лучшее связана только с другими её сыновьями, Павлом и Иваном. Они устроились кочегарами на пароход, где их кормят. Но и этот оптимистический мотив представляется относительным. Жизнь рабочих, изображенная Решетниковым в других произведениях, не намного лучше жизни мужика в вымирающей пореформенной деревне.
Эстетический эффект от такого тяжелого произведения все-таки присутствует. Это классический «катарсис» – очищение через страдание. Прочитав повесть, нельзя не сказать: «Так жить нельзя». Близкий эффект присутствует почти во всех произведениях Достоевского, где изображается мир «бедных» людей, всех «униженных и оскорбленных». Решетников делает горький обобщающий вывод: «Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее». Трагизм такой судьбы заключён в осознании: «что-то лучшее» было обычным хлебом насущным, правом на то, чтобы просто выжить.
Очерковый «этнографизм» повести выражается в точном воспроизведении фактов народной жизни, языка, быта, верований уральской деревни. Стиль повести в целом передает особенности народной психологии и философии, которые не идеализируются, а давят своей суровой правдой. Знаменательно, что повесть пользовалась успехом у читателя из народа, о чём вспоминает М. Горький в очерке «Коновалов». Это была не интеллигентская «изящная литература», далекая от жизни, а «правда», сама жизнь.
В 1864 г. в «Современнике» появляются новые произведения Решетникова: повесть из семинарского быта «Ставленник», рассказ «Макея». В 1864–1865 гг. он публикует большую автобиографическую повесть «Между людьми». В ней изображается жизнь мелкого чиновничества, близкая к народной. Писатель с детства знал этот мир «между нищими и средними».
Главной темой произведения становится разоблачение среды, которая пагубно влияет на становление характера Известно, что после публикации дядя укорял писателя за неблагодарность. Герой повести Петр Кузьмин испытывает те лишения и унижения, которые пришлось пережить самому Решетникову. Повесть с трудом пробивалась в печать. Её отклоняли и «Современник», и «Русское слово», где произведение выходило отдельными рассказами. Только в 1869 г. текст получил окончательный вид и название.
В 1865–1868 гг. писатель создает крупные романы из жизни рабочих. Собирая материал, Решетников посетил Урал, чтобы лучше узнать этот социальный круг. Некоторое время он даже работал на Мотовилихинском заводе. Романы «Горнорабочие» (1866), «Глумовы» (1867), «Где лучше?» (1868) раскрывают мир трудового народа. Жизнь семьи Токменцовых из романа «Горнорабочие» близка борьбе за существование крестьян Подлинной. С другой стороны, рисуя картины тяжелой жизни, писатель стремится найти какую-то перспективу. В рабочей среде крепнет сознание необходимости образования. Простые труженики учатся читать и писать, стремятся бороться за лучшую жизнь.
Это несколько меняет тональность прозы Решетникова, появляются яркие привлекательные характеры. Так, в образе Прасковьи Игнатьевны Глумовой, героини романа «Глумовы», раскрывается высокая человечность, чувство собственного достоинства. Образ Пелагеи Прохоровны Мокроносовой из романа «Где лучше?» передает нравственную чистоту простой русской женщины, её самостоятельность. Рабочий Игнатий Прокофьевич Петров воспринимается как новый социальный тип. Он увлечен своим трудом, уважительно относится к женщине, что выделяет его из среды тружеников, воспринимающих свою жизнь как добровольную каторгу.
Яркий женский образ возникает и в романе 1870 г. «Свой хлеб». В нем воплотились черты характера жены Решетникова С.С. Каргополовой, окончившей Санкт-Петербургский повивальный институт и служившей в военном госпитале Брест-Литовска. Героиня романа, дочь обедневшего чиновника Даша Яковлева, находит в себе решительность пойти наперекор семье, чтобы обрести самостоятельность и независимость. Интересно, что вопреки общей задавленности женщин трудом и заботами о семье, именно женские характеры в романах Решетникова олицетворяют живые созидательные силы народного мира
Поэтика произведений Решетникова самобытна В современной писателю критике его упрекали в отсутствии развитого сюжета, индивидуализации характеров, в композиционно неразработанной системе героев. Очерковость как явление стиля характерна и для его романов, и для повестей. Художественно-словесное пространство произведений наполняется множеством бытовых деталей и подробностей, характерных для традиций «натуральной школы». Отмечалась также небрежность языка. Так, роман «Где лучше?» редактировал Салтыков-Щедрин, считавший, что Решетников не умеет «распорядиться своим материалом». Сам писатель замечает в дневнике: «…говорят, что я пишу, не обрабатывая, не забочусь о художественности. Это правда». Он объясняет эту черту внешними обстоятельствами: необходимостью зарабатывать деньги и отсутствием условий для работы.
Однако в этом есть и своя стилевая черта. Ведь стиль – это личность. А личностью Решетников был самобытной. В целом обвинения в «натурализме» исходили из того, что в концепции писателя недостаточно выражены обобщающие и направляющие «идеи». Однако почему же натурализм считать недостатком?
Ведь такая оценка зависит лишь от устоявшихся эстетических канонов времени. Лесков позже объяснял свой «натурализм» тем, что жизнь богаче любого воображения. И воздействует на читателя такой найденный в действительности, отобранный художником для произведения образ ничем не слабее, чем созданный творческим воображением. Знаменательно, что черты натурализма обнаруживаются и в художественном сознании сторонника «фантастического» реализма, художника идеи, Достоевского.
Думается, что тяжелая фактография Решетникова сродни документализму реалистов XX в., в частности, Солженицына и Шаламова.
Литература
Решетников Ф.М. Сочинения: В 2 т. СПб., 1869.
Решетников Ф.М, Полное собрание сочинений: В 6 т. Свердловск, 1936–1948. (Критико-биографический очерк И. Векслера).
Писарев Д.И. Прогулки по садам российской словесности // Д.И. Писарев. Литературная критика: В 3 т. Л., 1981. Т. 2.
Кавуров А.Л. Развитие жанра очерка в творчестве Ф.М. Решетникова // Проблемы развития жанров в русской литературе XVIII–XX вв. Днепропетровск, 1985.
Лотман Л.М. Решетников // История русской литературы. М.; Л., 1956. Т. 8. Ч. 1.
Пруцков Н.И. Школа беллетристов-разночинцев 60-х годов // История русской литературы: В 4 т. Т. 3. Л., 1982.
И.А. Гончаров (1812–1891)
В истории русской классической литературы проза Гончарова заняла достойное место. Первые шаги писателя в ней пришлись на период формирования «эпоса нового мира» – реалистического романа, одним из создателей которого он и явился.
Иван Александрович Гончаров родился в купеческой семье города Симбирска. Детские годы мальчика прошли в атмосфере патриархальной старины, в кругу людей, которые не спешили расставаться со старыми привычками. Их не волновано ничего из событий остального мира. Исследователь Ю.М. Лощиц удачно подметил: «Там, может быть, вчера очередная Атлантида с грохотом провалилась на дно океана, а они и бровью не поведут – знай себе обсуждают, сколькими поросятами опоросилась соседова свинья или как лучше заквашивать брюкву, с хреновой ботвой или без оной». Полусказочная жизнь окружала маленького Ванечку. Центром этого мира была няня маленьких Гончаровых – Аннушка. Она знала и пересказывала множество сказок, историй. Благодаря её рассказам и безграничной любви к детям формируется у преданных слушателей любовь к народному поэтическому слову. Немалую роль в воспитании будущего прозаика сыграл Николай Николаевич Трегубов, крёстный детей Гончаровых, после смерти отца фактически принявший на себя его обязанности. Под влиянием этого отставного моряка будущий писатель обнаружил явные географические наклонности. В комнате Трегубова хранились секстант, хронометр, телескоп и целая библиотека книг о путешествиях и приключениях. Он знакомил мальчика с навигационным делом, сообщал ему начатки математических и астрономических знаний.
Со временем, поняв, что уже не может более быть наставником своего подопечного, Трегубов настоял, чтобы его отдали в пансион. Вот там Гончаров пристрастился к мировой и русской классике (Державин, Жуковский, Стерн и др.), прошёл подлинную «школу чтения». Именно с этого момента любовь к книге станет определяющей всей его жизни. По настоянию матери мальчика отдают в Московское коммерческое училище. Воспоминания о пребывании в его стенах остались самыми тяжелыми для писателя. До окончания полного курса обучения, в 1830 г. молодой человек был отчислен.
Купеческая карьера не прельщала, и мать, уступая настоятельной просьбе своего 18-летнего сына, обращается в Симбирский магистрат с просьбой об увольнении младшего сына из купеческого звания. Это дало возможность молодому Гончарову поступить в университет и заниматься литературой (август 1831 г.). Свобода студенческой жизни буквально опьянила юношу. Университет в те годы воспринимался писателем настоящей вольницей, составляя разительное отличие от полуказарменной обстановки коммерческого училища: чувство свободы, отсутствие надзирателей и унизительных наказаний, жизнь в городе, а не в общежитии, возможность посещать лекции по выбору и на других факультетах, самостоятельные экскурсии по старой Москве и её окрестностям.
Впоследствии очерк «В университете» отразит много интересного из студенческой юности Гончарова и эпохи 1830-х годов. Неоценимую роль в формировании личности будущего писателя, сыграли профессора Московского университета (Снегирев, Надеждин, Каченовский, Шевырев, Погодин, Давыдов). Их знания и любовь к науке, и соответственно интерес к ним студентов, благотворно повлияли на отношение к литературе. Отдельные черты характера Надеждина впоследствии войдут в образ «профессора эстетики» из романа «Обыкновенная история». На втором курсе состоялась первая анонимная публикация – перевод глав из романа Э. Сю «Атар-Гюль» («Телескоп», 1832, № 15). Этот год ознаменовался ещё одним событием – университет посетил Пушкин. Это посещение сохранится в памяти писателя: «…для меня точно солнце озарило всю аудиторию…»
В 1834 г. Гончаров после выпускных экзаменов в Университете возвращается в Симбирск. Хотелось окунуться в атмосферу родной семьи, а затем уже последовать на службу в Петербург. Именно с этим городом были связаны самые смелые надежды на будущие свершения. Родственники, воспользовавшиеся приездом Ванюши, окружили его исключительной заботой, выразившейся в приготовлении всевозможных закусок, напитков и других гастрономических изысков. Заботливый Трегубов советовал посетить известных лиц в городе, в числе которых был и губернатор Загряжский. После этой встречи Гончарову было сделано предложение занять место секретаря губернатора. Но благородная цель борьбы со взяточничеством в губернии так и не была осуществлена. Сам губернатор оказался не без греха и был смещён, а «подставной секретарь» (так в шутку называл себя Гончаров) в конце апреля 1835 г. отправился в северную столицу.
Начато самостоятельной служебной деятельности связано с Департаментом внешней торговли Министерства финансов в должности переводчика. (Чиновничьей службе писатель отдаст много лет, окончательно выйдя в отставку только в 1867 г. За эти годы он будет исполнять много казенных обязанностей, в том числе и цензорские.) Первые впечатления от столичной жизни память писателя сохранит надолго.
Истинным спасением от горького одиночества и «бездомности» стало для Гончарова знакомство и дружба с семьей Майковых, куда в качестве домашнего учителя для сыновей художника он и был приглашен. Новый учитель пришёлся по душе ребятам, они ему тоже понравились, поэтому уроки словесности, эстетики и латинского языка проходили интересно и увлекательно. Гончаров стал желанным гостем в семье Майковых. Они задумали открыть у себя художественный салон. Евгения Петровна и Николай Аполлонович – возвышенные натуры – смогли собрать в своем доме интересных людей, среди которых были и родственники, и близкие друзья. С течением времени круг расширялся, салон завоевал громкую славу. Здесь бывали известные литераторы, среди которых В. Бенедиктов и С. Дудышкин. Вскоре салон станет одним из самых заметных и представительных в литературном мире Петербурга. Сюда наведывались молодые Федор Достоевский, Николай Некрасов, Иван Тургенев, Яков Полонский и др. Роль Майковых в судьбе Гончарова трудно переоценить. Они не только заменили ему семью, но и способствовали развитию его дарования. Именно на страницах их альманаха «Подснежник» он поместил свой первый самостоятельный труд – романтические стихотворения (одно из которых будет использовано в качестве самопародии в романе «Обыкновенная история»). Затем последовали повести, по свидетельству Гончарова, «домашнего содержания, т. е. такие, которые относились к частным случаям или лицам, больше шуточного содержания и ничем не замечательные»: «Нимфидора Ивановна» (1836), бытописательная «Лихая болесть» (1838), любовно-психологическая «Счастливая ошибка» (1839).
В 1832–1844 гг. он много писал, ничего не печатая: «Кипами исписанной бумаги – по собственному признанию – топил потом печки». Требовательное отношение к литературному труду и в дальнейшем никогда не изменяло писателю. Его убеждение, что «…литератору, если он претендует не на дилетантизм… а на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и на всю жизнь!», всегда оставалось главным принципом писателя.
Отличительными чертами характера Гончарова были неторопливость и неспешность во всех делах и поступках: «Принц де Лень» шутливо называли его близкие.
Гончаров работает над романом «Старики», о котором можно узнать из его переписки. Отдельные главы романа были прочитаны автором у Майковых. Тяжкие сомнения терзают писателя, он не решается завершить роман, ссылаясь на отсутствие жизненного опыта, но это только отговорки. На самом деле ему неловко было публиковать свой роман, когда в литературе уже существовали произведения аналогичного жанра. Фабулу несостоявшегося романа можно узнать из переписки писателя с Владимиром Андреевичем Солоницыным: «…два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше…». Очевидно, речь шла о духовной эволюции героев.
Необходимо отметить исключительную роль в творческой судьбе писателя этого его корреспондента. Так, совет последнего о правилах «для написания хороших романов», заключающихся «в том, что так как роман есть картина человеческой жизни, то в нём должна быть представлена жизнь как она есть, характеры должны быть не эксцентрические, приключения не чудесные, а главное, автор должен со всею возможною верностью представить развитие и фазы простых и всем знакомых страстей так, чтобы роман был понятен всякому и казался читателю как бы воспоминанием, поверкою или истолкованием его собственной жизни, его собственных чувств и мыслей», вне всякого сомнения был учтён начинающим автором.
Не дождавшись реализации своих советов, Владимир Андреевич Солоницын умер в 1844 г. Но в памяти ученика след семьи Солоницыных сохранился: они стали прототипами дяди и нлемяшшка Адуевых в «Обыкновенной истории». К осуществлению этого напутствия Гончаров подошел в названном романе, в основе которого «не исключительная, а обыкновенная, пусть даже и заурядная, но бесконечно ценная в своей неповторимости человеческая судьба». Перечитывая многое из всего им написанного, Гончаров невольно обнаруживал схожесть с гоголевскими типами, с манерой письма предшественника. Конечно же, он обожал «необидного в своем смехе Гоголя «Старосветских помещиков». Но начинающий романист опасался неоправданных повторений.
Личное знакомство с В.Г. Белинским (1846), общение с ним и его окружением расширило литературные связи будущего классика, помогло сформировать реалистические принципы его прозы. С трепетом и ужасом передавал он свой первый роман на суд Белинскому. Однако критик, по воспоминаниям И.И. Панаева, «был в восторге от нового таланта, выступившего так блистательно».
Роман «Обыкновенная история» был задуман в 1844 г. и опубликован в 1847 г. в журнале «Современник». Отдельное издание вышло в 1848 г. Произведение произвело в Петербурге «фурор – успех неслыханный!» (Белинский). «Обыкновенная история» явила образец русского реалистического романа. После творений Пушкина, Лермонтова, Гоголя в литературе продолжилось создание русской классической прозы.
Роман воплотил главный конфликт времени – столкновение «романтика жизни» и «положительного человека». Конфликт мировоззрений составил основу романа. Жизненная позиция персонажей, их психология раскрываются главным образом в диалогах. Племянник и дядя Адуевы, представители двух поколений, – носители главной идеи.
В известной мере роман приоткрывает завесу и над личной жизнью писателя в Петербурге. Он решился написать «обыкновенную» историю современных молодых людей. К моменту создания своего романа писатель уже успел разочароваться в государственной службе. Его тяготила невозможность совмещать высокие поэтические мечты с исполнением служебного долга, с карьерой. Жизнь в столице давала разнообразную пищу для раздумий и сравнений. Герои будущих романов, можно сказать, ходили по улицам. Гончаров, в душе оставаясь провинциалом, с большим интересом наблюдал суету столичной жизни. Особенное его внимание привлек тип светского льва. Этот характер ещё не был известен в литературе.
Роман «Обыкновенная история» – не просто первое крупное произведение Гончарова, сделавшее имя автора известным и любимым в России, он открывает романную трилогию: «Я вижу не три романа, а один», – скажет он впоследствии. Художник обосновывал внутреннюю связь романов в последовательном отражении в них эпохи 40—60-х годов. Критик Е. Краснощёкова справедливо отметила: «…единство центральной коллизии трех романов: бездеятельность – практическое действие, – породившей два типа персонажей, антагонистических по существу: мечтатели Адуев – Обломов – Райский и дельцы Адуев (дядя) – Штольц – Тушин. Преемственность от романа к роману женских образов тоже бросается в глаза».
В самом названии первого романа трилогии присутствует полемическое начало. Нельзя же назвать «обыкновенной», в смысле заурядной, судьбу человека. Под «обыкновенностью» здесь имеется в виду вечная тема; как и во имя чего жить. На первом месте жизненные коллизии Александра Федоровича Адуева, отправившегося из благословенного уголка в неведомый Петербург. «Благодать», по мнению матери Александра, стала вдруг для него «тесным домашним миром».
Типичной для эпохи 30—40-х годов предстает история жизни Юлии Туфаевой – условия жизни, воспитание, образование и замужество. Её поведение и мироощущение отвечают канонам характера романтической женщины и, как в зеркале, отражают идеальную, по мнению Александра, историю любви. И если «изменница Наденька» не разрушила романтические иллюзии, то Юлия Туфаева помогла Александру увидеть себя в ином свете.
Жена Петра Ивановича Адуева Лизавета Александровна – пример интересной жизненной истории. Мы не знаем её судьбы до замужества. Однако видим развитый ум, благородную душу, умение сопереживать и сочувствовать людям. Она никоим образом не подходит на роль светской марионетки, тем более кокетки. Об этом можно судить по её поведению в замужестве, в частности, показателен эпизод «с уроком мужу». Она стремится примирить обе крайности (дядю и племянника). Её представления о жизни, об отношениях между людьми приближены к авторским.
Полярные типы мировоззрения людей Гончаров решает представить в рамках одной семьи. Родственные отношения между антагонистами позволяют говорить и о возможном вечном конфликте отцов и детей. Лизавета Александровна по возрасту близка Александру, но оказывается мудрее его, понимая всю несостоятельность его претензий к людям и взглядов на мир. В то же время она лишена рассудочности мужа, скрывающей от него боль и страдание другого человека. Утешая Александра, она неизменно стремится «очеловечить» мужа, напоминая ему о сердечном участии к родственнику. Лизавета Александровна понимает, в чём ограниченность взглядов мужа и племянника. На примере их судеб она осознает, как не надо жить, но сформулировать свой идеал, а тем более его воплотить, – не в состоянии. Она несчастна, её духовный потенциал оказался невостребованным. По мысли автора, эта героиня воплощает в себе «высшую красоту», однако счастья так и не достигает. В финале романа она оказывается полностью подчиненной обстоятельствам жизни, социальной и семейной среде. Пожалуй, этой героиней открывается плеяда замечательных русских женщин не только в творчестве самого Гончарова, но и в русской классической литературе второй половины века – в книгах Тургенева, Достоевского, Толстого, Некрасова.
Мучительно расставание матери с любимым единственным сыном. Молодой человек покидает родимое гнездо Грачи, оставляя маменьку со своим горем. Она со слезами провожает ненаглядного Сашеньку и не может понять, зачем покидать райский уголок: «Какой красотой Бог одел поля…». Главное, что сыночек действительно ещё не знает, зачем ему уезжать. Смутные и неопределённые планы роятся в его голове: «Меня влекло… неодолимое стремление, жажда благородной деятельности: во мне кипело желание уяснить, осуществить».
Писатель зримо представляет нам «благодать» – модель идиллии, здесь ничто н. е нарушает этой гармонии. Замкнутое пространство, но «вдалеке вилась змеей и убегала за лес дорога в обетованную землю, в Петербург». Почему дорога в «обетованную землю» «вилась змеей»? Это восприятие матери. Иначе она и не может воспринимать дорогу, уводящую её сына. Петербург – земля обетованная только для Александра. Его мечтательность общего характера, никакой конкретной основы под собой не имеет – просто служение Отечеству (неизвестно, в какой именно сфере). В портрете героя нет ничего выдающегося, но он привлекателен: нежный, добрый, мечтательный, открытый людям. Нет оснований воспринимать его как идеального героя. Похоже, что Гончаров с доброй иронией посмеялся над собой и себе подобными в молодые годы.
Типичная история 1840-х годов – провинциал отправляется в столицу в поисках славы и счастья – основа для серьезного конфликта. Вечная оппозиция «столица и провинция» образует в романе противоположные полюса мрака и света, рассудочности (холодности) и чувства (душевного тепла, человечности). Каждый полюс – это отдельная планета со своей системой ценностей.
Петербург живет в ином веке – «железном» и прагматичном. Главный принцип города – «карьера и фортуна». Александр со склонностью к «искренним излияниям» оказывается чужим в этом мире. Приехав в Петербург, он ошеломлен. Автор приводит юношу к главным символам города: Адмиралтейская площадь, Медный всадник и Нева. Они восхищают героя. Но пейзаж в целом нерадостен, аналогичен Петербургу Достоевского. Вид из окна: «…одни трубы, да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов…». Тоску наводят и однообразные каменные громады домов, которые сравниваются с гробницами. Случайно ли? Это место гибели пустых мечтаний, высоких неопределённых помыслов.
Отношение к романтическому мышлению у Гончарова и его современников было неоднозначным. Писатель обращается к нему как определенному этапу развития души человека. Художник, сам «переболев романтизмом», иронично улыбается, глядя на героев-романтиков. Именно в этом свете представлен Александр, его язык, мечты, представления о любви, свидания с Наденькой, Юлией, Лизой. Романтические штампы любовной литературы, описание беседы влюбленных на свидании с Наденькой: «И ничего не сказани или почти ничего, так кое-что, о чем уж говорили десять раз прежде. Обыкновенно что: мечты, небо, звезды, симпатия, счастье. Разговор больше происходил на языке взглядов, улыбок и междометий…». Последние предложения – это комментарий «повзрослевшего» автора, избавившегося от «романтического вздора». Стиль Александра постоянно шокирует Петра Ивановича: «Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею»; «Чувство… просится наружу, требует порыва, излияния…»; «…Душа жаждет выразиться, поделиться с ближним избытком чувств и мыслей, переполняющих её…».
Столкновение жизненных позиций романтика и прагматика составляет фабулу романа. Высокие устремления и помыслы Александра разбиваются в прах о «жестокую реальность»: с сознанием небожителя приходится служить в департаменте и переписывать бумаги. Он пытается перенести свою систему ценностей в мир расчёта и рассудка. Утверждая свои духовные принципы, герой не желает замечать «грязь земную» и «низкую действительность», но изолировать себя от быта и действительности невозможно. Не удалась и попытка отшельничества («…везде женщины…»).
Для Гончарова патриархальность неразрывно связана с человечностью, поэзией. Поэтому проверку истинности человеческих отношений Александр измеряет не деньгами, как дядя, а сердечными объятиями друга. Заменить дружеское расположение ему уже ничто не сможет. Жизнь в Грачах породила романтизм Александра, сентиментального героя. Но в университете, приобщившись к мировой культуре, он ощущает потребность в проявлении собственной индивидуальности, в обнаружении своего творческого потенциала, чего невозможно достичь в Грачах.
Петербург предстает в глазах юноши под иным углом зрения. Центральной фигурой каменного города оказывается Пётр (в переводе «камень») Адуев. В его портрете нет бросающихся в глаза негативных черт, но идеальным героем он тоже не воспринимается. В нём доминирует спокойная уверенность в себе. Порой это состояние достигается благодаря внутреннему усилию. Внешняя твердость подчас уступает место голосу сердца. Так, узнав о приезде племянника из деревни, сначала решает сказать, что он уезжает на три месяца, потом вдруг велит принять нежданного гостя.
Казалось бы, между Петром и Александром – бездна, ни одной точки соприкосновения. Но понемногу читатель начинает узнавать нечто сокровенное. Просматривая письма из деревни, привезённые племянником, Пётр Иванович досадует по поводу собственных юношеских поступков (желтый цветок, ленточка). Он, как в зеркале, увидел своё отражение в племяннике. Вычеркнув давно эти «романтические глупости» из памяти, он не приемлет их в поведении Александра. Уже с первой встречи дядя не позволяет расцеловать себя родному племяннику. Жить под одной крышей с ним он тоже не собирается.
Далее следует строгий инструктаж о том, как жить и к чему стремиться. Происходит развенчание главных святынь: понятий дружбы и любви, а тем более «вещественных знаков… невещественных отношений…». Александр со свойственной молодости горячностью восклицает: «Вы, дядюшка, удивительный человек! Для вас не существует постоянства, нет святости обещаний… Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое, прекрасное озеро…».
В споре дяди и племянника очевидна жёсткость и категоричность первого. Когда Пётр Иванович «пересказывает» племяннику его свидание с Наденькой, ощущается, что он эту вечную историю от Адама и Евы знает не понаслышке. В этом угадывается не книжное (теоретическое) знание, а личный опыт, сам-то он уже переборол в себе романтические иллюзии.
Любовные романы Александра позволяют увидеть в нём человека, ищущего самого себя. Он внимательно анализирует собственные переживания, хотя они отгораживают его от остального мира. Погрузившись в них, он верит, что жизнь прекрасна и гармонична, но это убеждение появляется только в момент ухода от действительности. Занятый своей любовью, он не замечает близких людей, их участия и доброты. Так, дядя пеняет ему, что давно не писал матери, не заходил к тете. После этого Александр, устыдившись, с ужасом восклицает: «Я чудовище». Противоречивые чувства владеют его сердцем. Вначале Наденька неожиданно (даже для себя) разлюбила Александра, а затем и он сам так же неожиданно разлюбил Юлию.
Все любовные истории героя – это ступени взросления человека. Мучительно и больно Александр набирается житейского опыта. Гончаров не просто демонстрирует любовные злоключения, а представляет различные типы «обыкновенных любовных отношений».
Писатель убеждает читателя в самой что ни на есть обыкновенности подобных ситуаций. В этом и состоит новаторство прозаика. А.В. Дружинин, хотя и по поводу романа «Обломов», заметил: «До сих пор никто еще из поэтов не останавливался на великом значении нежно-комической стороны в любовных делах, между тем как эта сторона всегда существовала, вечно существует и выказывает себя в большей части сердечных привязанностей».
Изображая героев в общественной сфере, Гончаров проводит социально-психологический эксперимент, в ходе которого обнаруживается несостоятельность жизненных позиций младшего и старшего Адуевых, несовершенство взглядов человека, предполагающего жить по заранее заготовленной схеме, т. е. быть несвободным. Ни один из героев не смог реализовать себя как личность.
«Страшный удар» по ненавистному «романтизму» был нанесен «поэтом-художником» (Белинский), мастером «фламандской живописи». Особенность таланта Гончарова в том и состоит, что он не склонен к изображению героев-резонёров. Он стремится показать все достоинства и недостатки обеих сторон. Критик верно определяет метод прозаика – реализм объективного отношения к героям. Образ Петра вызвал немало нареканий со стороны современников писателя, иначе и быть не могло. Но Гончарову необходимо было столкнуть юного романтика именно с таким представителем рассудочного мира. А симпатии
Белинского на стороне Адуева-старшего, его он хотел бы видеть в безоговорочных победителях. Однако финал «обыкновенной» истории приводит к неожиданному повороту в судьбе главного противника «романтизма».
Пётр Иванович любуется плодами своего труда – племянником, который «пополнел, оплешивел… с… достоинством… носит свое выпуклое брюшко и орден на шее». Но что поразительно, дядюшка как бы и не рад, а даже удручён. Именно в этот момент он переживает серьёзный нравственный кризис. Перед очередным повышением по службе, о котором мечталось долгие годы, он подаёт в отставку. Неожиданно для себя вдруг осознает, что начал любить свою жену. Обаятельная Лизавета Александровна серьезно заболевает. Причиной этому их разумный, рационалистически устроенный брак и бездушно-ровное отношение мужа. Он восклицает: «Я не хочу жить одной головой». Другими словами: «романтизм» одерживает верх. Фразу героя можно воспринять и как начало нравственного перерождения. Круг замкнулся. Вначале Пётр Иванович стремился вытравить романтические причуды у племянника, а в финале с ужасом узнает себя недавнего в «новом» Александре. В Петре Ивановиче всё-таки сохранилась возможность человеческого сострадания. В то же время он с горечью обнаруживает, что в душе нет и следа страсти. В отношении к жене он искренен, но, кроме жалости и растерянности, ничего не испытывает.
Как знать, каков путь предстоит Адуеву-младшему? Очевидно, что он «перегнал» дядюшку. Это опережение отнюдь не только внешнее, а и внутреннее. Слишком высока цена «карьеры и фортуны». За неё Александр заплатил человечностью, возврата к которой уже нет. «Страшный удар» пришелся не только по «романтизму», прагматизм тоже не вышел в победители. Писатель полемизирует с нарождающимся типом буржуазного сознания. У его истоков стоит Чичиков, затем у Гончарова появится Штольц.
В романе возникает не просто конфликт поколений, это вечное противоречие поэзии и прозы жизни. Писатель определяет и художественно воплощает идеал «нормы» отношений человека и общества, т. е. «современную поэзию бытия». Эта проблема станет центральной во всём его творчестве.
Необходимо коснуться вопроса жанра «Обыкновенной истории». Белинский называет произведение повестью, так как в литературном процессе эпохи термин «роман» еще не прижился. Не было еще и русского романа как такового в современном его понимании. Гончаров стоял у истоков зарождения нового романного. жанра в России. Впервые писатель не просто обратился к проблемам современной жизни, но сформулировал идейную позицию человека, показал напряжённый поиск истины, всё то, что отразит русская романная классика второй половины XIX в. и самого Гончарова в его «Обломове» и «Обрыве».
Желание «изобразить в высшей степени идеалиста» заставило писателя продолжить поиски идеального героя современности. Этому посвящен роман «Обломов», фрагмент из которого под названием «Сон Обломова» был опубликован в 1849 г. Однако работу над романом прервало кругосветное путешествие, в которое писатель отправляется в качестве секретаря русского адмирала Путятина. Неожиданно для самого себя Гончаров решается на неслыханное дело: поменять размеренное существование городского человека на полную волнений и неожиданностей жизнь на морском корабле! Некое «встряхивающее событие» было очевидным образом необходимо. Корабль отправился из Кронштадта.
Результатом этого двухлетнего путешествия явился уникальный роман «Фрегат “Паллада”» (отдельное издание – 1858, последующие редакции – 1879, 1886). Авторское определение жанра («путевые записки») содержит уточнение: в книге присутствуют очерки-рассказы, исторические и научно-популярные очерки. И все же современная писателю критика была едина во мнении, что Гончаров остался верен себе, сумев создать «движущуюся картину мира». Автор учел творческий опыт предшественников: «Письма русского путешественника» (1801) Н.М. Карамзина и «Письма об Испании» (1857) В.П. Боткина.
Исследователи творчества Гончарова пришли к выводу об органичной связи романа-путешествия и романной трилогии. В частности, Б.М. Энгельгардт утверждал, что «Фрегат…» ориентируется на прозаически стилизованный рассказ о путешествии».
Закономерно, что этот «стилизованный» рассказ автор насыщает серьезными глубокими идеями. Прозаика увлекают не столько «внешние условия», сколько «образы жизни», национальные нравы. В романе он высказал своё миропонимание, передавая впечатления от увиденного, останавливаясь не на исключительном (экзотическом), а на будничном и обыкновенном. Его интересуют «вся толпа и… каждый встречный».
До порта они ехали на поезде, за окнами которого мелькали пейзажи и бытовые картины Англии. Гончаров наблюдает житейский порядок англичан, определяя его как «жизнь-суету», материальное, но бездуховное существование. По мнению автора, этот «образ жизни» противоречит «норме, идеалу жизни, который указала природа человеку».
Писатель стал свидетелем установки парового двигателя на парусное судно. Противостояние паруса и пара станет главной антиномией книги. За ним угадывается и более глубокий конфликт: старого и нового укладов жизни, разных возрастов человечества. Англия станет не просто началом отсчета, но символом нового уклада жизни, новой системы ценностей и т. д. Англия получила название «абсолютного полюса зрелости». Два месяца, проведённые Гончаровым на острове, позволили ему проникнуться духом английского практицизма, распространяющегося на всё: деловую жизнь, природу и образ мыслей: «Какая там природа!… её нет… Люди овладели ею и сглаживают её вольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдёшь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины». Гончаров, одним из первых русских писателей, трезво и не без иронии оценивает цивилизованную Англию. Впоследствии писатель убедится в том, что дух Англии развеян по всему миру.
Посещение Мадеры с её мягким климатом и пышно цветущей природой напоминает о возможном земном рае. Обитатели «чудного края» не утруждают себя никакой деятельностью. Их Г обычаи, нравы напоминают патриархально-идиллический тип L существования (те же Грачи и Облом or ка)– «В домах иногда открывались жалюзи; из-за них сверкал чей-то глаз, и потом решетка снова захлопывалась. Это какой-нибудь сонный португалец или португалка… на минуту выглядывали, как в провинции, удовлетворить любопытству и снова погружались в дремоту сиесты… Там, должно быть, у шинка, толчётся кучка народу. Но всё тихо: по климату – это столица мира; по тишине, малолюдству – степная деревня». В этом фрагменте угадывается мотив «послеобеденного непробудного сна» обломовцев. Необходимо отметить, что метафоры «дремлющий Восток», «сонная Азия» у Гончарова отнюдь не однозначно негативны, они приобретают смысл сохранения национальной самобытности народов, еще не покорённых европейцами.
Записки путешественника сопровождаются интересными философскими размышлениями. Одним из первых комментаторов романа было отмечено, что автор «вышел из обыкновенной колеи, сбросил с себя условия, которые риторика и рутина под разными предлогами стараются наложить даже на путешествие, и описал свою поездку вокруг света так, что она не похожа ни на какое произведение этого рода».
Можно сказать, что российские Грачи и Обломовка выступают полноправными моделями мира. Его же частью выступает и Петербург с позитивистско-прагматичным взглядом на жизнь (сродни Англии). Несмотря на беглость наблюдений, автор излагает свою концепцию жизни, причем, не декларируя её открыто, а преподав читателю (наблюдателю) «такой общечеловеческий… урок, какого… ни в каких школах не отыщешь».
Русский корабль – образ России – населен разными представителями страны. Он и является центральным героем книги. «Маленький русский мир с четырьмястами обитателями» отправляется в длительное плавание на поиск идеального жизнеустройства. Благодаря его движению по миру на страницах книги предстают различные типы человеческого существования: идиллия, жизнь-суета, жизнь-сказка, жизнь-торговля и др. Принцип контраста в основе книги позволяет говорить о его доминирующей роли в сюжете. Различные уклады жизни демонстрируют авторское видение бытового материала в разных уголках земли – Англия, Мадера, Капштат, Япония, Шанхай, Корея, Сибирь.
Много внимания уделено Сибири, Гончаров описывает, как происходит освоение сибирских земель – не варварскими методами (к примеру, западный тип колониального ограбления), а в высшей степени цивилизованно, через изучение местных языков, нравов, обычаев. Так, священник Хитров составляет грамматику якутского языка, а «один из здешних медиков составил тунгусско-русский словарь из нескольких тысяч слов*. Русские помогают местным жителям обрабатывать землю: «…жертвуют хлеб для посева… посылают баранов, которых до сих пор не знали за Леной… подают пример собственным трудом».
Показателен поступок отставного матроса Сорокина, который нанял тунгусов и засеял четыре десятины хлебом: «Труд его не пропал… и тунгусы на следующее лето явились к нему опять… Двор его полон скота… Сорокин живет полным домом; он подал к обеду нам славной говядины, дичи, сливок. Теперь он жертвует свою землю церкви и переселяется опять в другое место, где, может быть, сделает то же самое. Это тоже герой в своем роде, маленький титан».
Так, наблюдая за жизнью народов мира, их обычаями, нравами, социальными системами, Гончаров ищет подлинно человеческий «образ жизни». В картине Сибири, по мнению В.А. Недзвецкого, получает воплощение «гончаровский идеал человеческого общежития».
Кругосветное путешествие оказало благотворное влияние на личность писателя, из поездки он привез значительное количество рукописей, массу впечатлений. Главное – умиротворенность в душе, которую он боялся утратить в городской суете. Очерки путешествия публикуются на страницах журналов, положительные отзывы окрыляют автора, он дорабатывает имеющийся материал, подготавливая его к выходу отдельной книгой.
Параллельно с очерками писатель возвращается к давнему замыслу, уже представленному в печати отдельной главой «Сон Обломова» – «увертюрой романа» (Гончаров). Продолжая развивать центральную мысль своего творчества об идеальном «образе жизни», писатель делает акцент на судьбе заглавного героя, в отличие от «Обыкновенной истории», рассказавший о типичных судьбах нескольких персонажей.
Внимание автора приковано к истории жизни Ильи Ильича Обломова, к нему стянуты все сюжетные линии и обращены характеристики других персонажей. Жанр романа наилучшим образом подходит для истории целой жизни. Автор стремится её рассказать, основательно и подробно представляя мир героя в первой части романа. Здесь «заключается только введение, пролог к роману… а романа нет! Ни Ольги, ни Штольца, ни дальнейшего развития характера Обломова!» Герой «вписан» в бытовой интерьер, прозаик не жалеет красок для яркого портрета. Замысел романа возник еще в середине 1840-х годов, первая часть писалась в 1846–1849 гг., и влияние натуральной школы на поэтику романа очевидно.
История русского помещика-дворянина в его деревенском и городском быте прослежена по канонам физиологии. Сам замысел романа о русском помещике восходит к нравоописательным повестям натуральной школы. Развернутому описанию быта, жизненного уклада и внешнего вида героя посвящены первые пять глав романа.
Гончаров достиг редкой выразительности в портретной характеристике героя: «Это был человек лет тридцати двух – тридцати трех… Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности…». С описания внешности героя автор переходит к описанию его бытового окружения. Интерьер – продолжение портрета, в котором личность раскрывается через вещи (гоголевская традиция): «Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною… вид кабинета… поражал господствующею в нём запущенностью и небрежностью…». Далее следует настоящая ода халату, продолжая общий бытовой ряд: «Халат имел в глазах Обломова тьму неоценённых достоинств: он мягок, гибок… он как послушный раб покоряется самомалейшему движению тела… Туфли на нём были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу…».
Гончаров – мастер художественной детали: халат и домашние туфли Обломова стали хрестоматийными символами. А Иннокентий Анненский увидел «в обломовском халате и диване отрицание… попыток разрешить вопрос о жизни». Писатель подчёркивает, что «лежанье у Ильи Ильича не было необходимостью… случайностью… наслаждением… это было нормальным состоянием». Обилие бытовых деталей, плотно обступающих читателя, условно «закрывает» внутренний мир героя. Пространная экспозиция даёт исчерпывающую характеристику – в глазах читателя он лежебока и ленивец. Общение не только со слугой, но и с гостями дополняет портрет героя. Гости сменяют друг друга в строгом порядке, не выполняя сюжетной функции, создают социальный внешний фон. Благодаря этим общественным типам дана характеристика среды столичного города. Образы гостей персонифицируют варианты судьбы современного человека, его возможные общественные занятия: Волков – светский успех, Судъбинский – стремление к карьерному росту, Пенкин играет «в обличительство» и т. п. Их характеристики одноплановы, «вещны». Таким образом, автор не просто расширяет пространство романа, но «вписывает» героя в социальную среду.
Слуга Захар тоже включен в бытовой мир Ильи Ильича. Перебранка между слугой и хозяином – обычное, а не исключительное занятие. Подобные сцены являются кульминационными в статичном перечислении деталей интерьера, так как в них оправдана пассивная роль Обломова. В перебранке проявляется и социальная психология его как барина-помещика, по праву рождения принадлежавшего к классу хозяев. Но внутренне Илья Ильич сожалеет о сцене с Захаром, воспоминание о ней не дает ему покоя. Он мучительно рефлектирует, пытаясь понять, отчего он такой? Один из ответов на этот вопрос дает девятая глава «Сон Обломова». Гончаров размышляет над истоками характера героя: «Будто одни лета делают старыми, а сама натура, а обстоятельства? Я старался показать в Обломове, как и отчего у нас люди превращаются прежде времени в… кисель ~ климат, среда, протяжение, захолустье, дремучая жизнь – и ещё частные индивидуальные у каждого обстоятельства». Признание писателя мотивирует историю детства героя.
Пейзаж Обломовки, жизнь её обитателей идилличны. Глава, выполненная в духе натуральной школы, помогает, по мнению Е. Краснощёко вой, создать «обобщающее социально-психологическое исследование о том, как влияет устоявшийся отвердевший порядок жизни на податливую детскую натуру». Итоги воспитания налицо в характере Ильи Ильича.
Принятая в Обломовке система запретов в конечном итоге формирует пассивный характер мальчика: «…не допускать к лошадям, к собакам, козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурной репутацией».
Кипучая энергия ребенка может прорваться наружу только в момент «всепоглощающего, ничем не победимого сна». Мотив сна, неподвижности, покоя – центральный в главе. Подчинение жизненного круга природной цикличности (сон, еда, продолжение рода) полностью лишает жизнь духовного начала Гончаров описывает ночное время суток как «всеобщую торжественную тишину природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли и когда… в Обломовке все почивают так крепко и покойно». Обломовка изолирована от духовного пространства, сон заглушает ростки любой духовной деятельности.
Но маленькому Илюше доступен мир сказки, мальчик, погруженный в атмосферу мечтательности, созерцательности, формируется как человек, далекий от реальности. Обстановка родного дома помогла утвердиться и осознанию собственной избранности, и эгоизму. Без сомнения, среда оказала мощное влияние на характер героя. Желая увидеть социальные истоки его поведения, автор вводит ёмкое понятие «обломовщина» (первоначальное название романа). Но Гончаров трактует его шире узко-социального понятия. Для него оно ещё наделено и нравственной сущностью, которая сводится к атрофии воли, инертности, к своеобразному иждивенчеству и, главное, постоянному стремлению к покою. Фраза Штольца – приговор Обломову: «Началось с неуменья надевать чулки, а кончилось неуменьем жить».
Знакомство с героем продолжается историей его службы. Признание «готовился к поприщу, к роли – прежде всего к службе, что и было целью его приезда в Петербург» напоминает помыслы Александра Адуева (тип разочарованного героя).
Постепенно одноплановая характеристика героя усложняется. Вначале Обломов полностью отвечает роли «сонного» сына Обломовки, но вдруг фраза писателя заставляет задуматься над истинным содержанием этого образа: «Он уже был не в отца и не в деда. Он учился, жил в свете, всё это наводило его на разные чуждые им соображения». Важно подчеркнуть, что соображения Обломова чужды его отцу и деду. Это наводит на мысль и о чуждости их мира герою. Многое, генетически усвоенное, им сохранено, и в то же время есть существенная разница между ним и отцом с дедом. Приобретённые в процессе учёбы знания он так и не сумел сделать «своими»: «Цвет жизни распустился и не дал плодов». Меняется отношение к герою. Автор настойчиво утверждает, что его герой живет напряжённой внутренней жизнью: «Никто и не знал и не видел этой внутренней жизни Ильи Ильича: все думали, что Обломов так себе, лежит да кушает на здоровье, и что больше от него ждать нечего; что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где об этой внутренней волканической работе пылкой головы, гуманного сердца знал подробно и мог свидетельствовать Штольц, а Штольца почти никогда не было в Петербурге».
Эти слова подчеркивают «закрытость» внутренней жизни героя и особое избранное положение Штольца как единственного поверенного в делах Обломова. В лежебоке и ленивце угадывается «гуманное сердце», «пылкая голова» и напряжённая внутренняя жизнь. Именно лежебока и ленивец дает истинную оценку современной реальности. Он видит окружающую пустоту, где за внешней деятельностью кроется всё тот же «всепоглощающий сон». Обломов прекрасно осознает, что реализовать себя в современной деятельности ему не удастся, не «потеряв в себе человека»: «Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?».
Всё это вопросы из категории вечных и общечеловеческих. Удивительно, что к этому взывает коренной житель Обломовки (с её «всепоглощающим» безразличием к духовности). Конечно, по уровню сознания, мироощущения он уже «не в деда и в отца», но унаследовал от них и сумел сохранить чувство природной гармонии и всеми силами стремятся не растерять его в современной жизни. В разговорах с гостями эти вопросы звучат рефреном, в чем выражается не только индивидуальное начало героя, но и социальные условия. Это противоречие личности и социума составляет основу главного конфликта литературы той эпохи.
Во второй части романа появляется надежда на изменение характера персонажа, он утрачивает статичность, завязывается романное действие. История любви Ильи Ильича и Ольги Ильинской раскрывает глубинные черты его личности. Именно в отношениях с ней Обломов ощущает полноту жизни.
Многими чертами Ольга напоминает пушкинскую Татьяну. Другой женский характер романа, Агафья Пшеницына, воплощает собой «пассивное выражение эпохи». Ольга «с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности…» «одухотворяет» Илью Ильича. В момент исполнения Ольгой романсов Обломов начинает «жаждать жизни»: «У него на лице сияла заря пробуждённого, со дна души восставшего счастья…». Её появление перевернуло всю его жизнь, он «проснулся» и «нагнал жизнь», на время обрёл волю и цель жизни: «Он не успевает ловить мыслей: точно стая птиц, порхнули они, а у сердца, в левом боку, как будто болит». Для Ольги отношения с Обломовым стали импульсом духовного развития. Их история складывается трагично. С его стороны, это любовь-мечта и «претрудная школа жизни», так и не сумевшая дать движение его самостоятельности. Штольц впоследствии скажет: «…сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина…». Ольга так и не смогла подвигнуть Обломова на серьёзную общественную деятельность, «поэзия жизни» не победила «прозу».
Во второй части больше внимания уделено Штольцу, постоянному антиподу Обломова. На фоне его динамики более очевидна обломовская пассивность. Рациональное и деятельное начало Штольца – противовес мечтательности и бездействию Обломова. Однако роль Штольца в романе сводится не только к противопоставлению. Именно другу детства доступно разглядеть «чистое, светлое и доброе начало… простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца» Обломова,
Внутренний (истинный) Обломов обнаруживает себя в общении со Штольцем. Только ему Илья Ильич доверяет свои сокровенные чувства, обнаруживая истинную причину своего бездействия. Он обрушивает на него град обвинений: «Жизнь: хороша жизнь! Что там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается всё это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все эти мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества».
Между написанием первой и последующих частей – перерыв в десять лет. Это в значительной степени сказалось на манере письма и осмыслении главной идеи произведения. «Идеалиста в высшей степени» можно назвать сквозным героем трилогии. Александр Адуев в начале романа предстает именно таковым. Судьбы Обломова и Райского продолжают реализацию этого замысла.
В пассивности Обломова все более проступает не столько вина воспитания, сколько апатия – разочарование в возможности настоящей деятельности. Оценка романа «Обломов» в 1859 г. современниками была чрезвычайно высокой (Тургенев, Дружинин, Толстой и др.). Гончаров занял место в ряду первых писателей России.
В процессе работы над «Обломовым», еще в 1849 г. писатель задумывает роман «Обрыв» (1869). Он вынашивает планы трех романов почти одновременно, органическая связь между ними очевидна. Идиллический сон Грачей, Обломовки, Малиновки прерван, ему на смену приходит деятельное разумное начало (Петр Адуев, Штольц, Тушин).
Первоначально роман назывался «Художник», главным героем был Борис Райский – «натура артистическая», а на первом плане – проблема формирования психологии «художника» «с преобладанием над всеми органическими силами человеческой природы творческой фантазии». Это заглавие предполагало исповедальное начало: рассказ о сложных отношениях художника и общества. Показателен в связи с этим спор Райского с Волоховым об искусстве. В 1866 г. Гончаров писал: «…если я знаю, что такое Райский, если умею создать его, значит у меня есть и критика ему, значит сам я – не могу быть Райским, или если во мне и есть что-нибудь от него, так столько же, сколько во множестве русских людей есть из Обломова…». Гончарова многие отождествляли с Райским, поэтому он сознательно изображает художника-дилетанта.
«Натура артистическая» оказалась в искусстве и науке одним из тех неудачников, которые «верили в талант без труда и хотели отделываться от последнего, увлекаясь только успехами и наслаждениями искусства». Писатель подчеркивал типичность героя, указывая на его принадлежность исторической эпохе. «Я ставил неоднократно в кожу Райского своих приятелей из кружков 40–50 и 60-х гг., как многие подходили к этому типу». Эпоха 60-х выдвигала новые исторические проблемы, особого внимания требовали к себе «новые люди», которых в романе представляет Марк Волохов. Нигилист-разрушитель, идеолог вульгарно-материалистического и атеистического мировоззрения стремится к общественно-значимой деятельности. По Гончарову, взгляды Волохова дискредитируются в общении с Верой. Именно Вера определяет суть их споров как «вечную войну» героя «против гнезда», т. е. против семьи и дома. Писатель ярко демонстрирует своё негативное отношение к нигилизму как популярному и распространенному учению современности. Несмотря на максимальное обличение волоховских взглядов, прозаику удалось создать исторически верный образ носителя «новой правды».
В образе Тушина воплощена идея «разумного развития» русской жизни. Он продолжает галерею героев-предпринимателей нового типа. Ему присущи «мысли верные, сердце твердое…», в нем автор видит «представителя настоящей новой силы и нового дела» в пореформенной России. Автор в статье «Лучше поздно, чем никогда» о нем писал: «Он весь сложился из природных своих здоровых элементов и из обстоятельств своей жизни и своего дела, то есть долга и труда».
По собственному признанию, Гончаров вложил в роман все свои «идеи, понятия и чувства добра, чести, честности, нравственности, веры – всего, что… должно составлять нравственную природу человека». Можно сказать, что предыдущие романы служили лишь подготовкой для создания «эпоса любви», где автор, по собственному признанию, «исчерпал… почти все образы страстей». Первоначально писатель намеревался посвятить роман «русским женщинам». «…Этот роман была моя жизнь: я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места…». По мнению В.А. Недзвецкого, вопросы религии, нового социального устройства, эмансипации женщин, нравственный долг, честь и достоинство человека преломляются прозаиком в романе через призму взаимоотношений полов, выдвинутых на первый план, что и придает «Обрыву» значение «эпоса любви». В страстях Марины и Савелия отразилось язычество (писатель называет Марину «крепостной Мессалиной»), в образах Софьи и Ульяны – «дохристианская греко-римская античность», отношения Тита Никоныча и Бережковой напоминают «средневековую рыцарственность», роман Марфеньки и Викентьева – «бюргерско-филистерский», любовь Наташи – дань сентиментализму, увлечения самого Райского – романтизму.
Гончаров всегда рассматривал любовь как главную составляющую человеческого бытия, поэтому его внимание приковано к «течению страсти» в сердцах женщин. В финале романа покаяние и смирение Веры (главного женского образа) – её возвращение к «старой правде». В статье «Лучше поздно, чем никогда» объяснен смысл её драмы: «Пала не Вера, не личность, пала русская девушка, русская женщина – жертвой в борьбе старой жизни с новой: она не хотела жить слепо, по указке старших. Она сама знала, что отжило в старой, и давно тосковала, искала свежей, осмысленной жизни, хотела сознательно найти и принять новую правду, удержав и все прочное, коренное, лучшее в старой жизни. Она хотела не разрушения, а обновления, но она не знала, где и как искать».
Композиция произведения представляет собой «роман в романе» (повествование о повседневной жизни и роман, который пишет Райский). Несмотря на то что роман художника так и остается незавершенным, все события в нём обрамлены раздумьями Райского.
В 50 —60-е годы проблема творческой личности утрачивает актуальность. Смена названий («Художник», «Райский», «Вера») свидетельствует о мучительном поиске идейно-психологического центра романа. Им становится судьба поколения, напряженно ищущего своё место в обществе. Окончательное название обобщает трагедию поколения, стоящего на краю обрыва (пропасти). Символика образа края пропасти многозначна, здесь заложено не только движение вниз, но и вверх. Обрыв условно проверяет всех героев: Марфеньке неведом обрыв, Райский бежит «от этих опасных мест, от обрывов, пропастей!», Волохов «каждый день бродил внизу обрыва». Тушин предлагает конструктивное решение: «Ведь если лес мешает идти, его вырубают, море переплывают, а теперь вон прорывают и горы насквозь, и всё идут смелые люди вперед! А здесь ни леса, ни моря, ни гор – ничего нет: были стены и упали, был обрыв, и нет его! Я бросаю мост через него и иду, ноги у меня не трясутся… Дайте же мне Веру Васильевну, дайте мне её! – почти кричал он, – я перенесу её через этот обрыв и мост – и никакой чёрт не помешает моему счастью и её покою – хоть живи она сто лет! Она будет моей царицей и укроется в моих лесах, под моей защитой, от всяких гроз и забудет всякие обрывы, хоть бы их были тысячи!»
Отрывки из произведения публиковались в 1860–1861 гг., полное издание увидело свет в 1869 г. в журнале «Вестник Европы». Роман был встречен острой дискуссией. Революционеры-демократы были недовольны фигурой Марка Волохова, их оппоненты тоже высказали свои претензии автору: «грязный Марк и незначительная Вера окружаются каким-то поэтическим ореолом» («Русский вестник», 1869). Писатель тяжело переживал эту трагическую ситуацию, изложив многие подробности сложного конфликта в автобиографической повести «Необыкновенная история» (1875–1876, 1878–1879).
Вторая половина 1870-х годов в жизни Гончарова отмечена отходом от занятий художественным творчеством, он признавал себя «устаревшим писателем», но участвовал в общественной жизни, в том числе вошел в состав жюри по присуждению ежегодной премии за лучшее драматическое произведение. В связи с этим он пишет «критический этюд» «Мильон терзаний» (1872), содержащий самый яркий и глубокий анализ комедии А.С. Грибоедова, до сих остающийся классическим. Он расходится с мнением Белинского, считавшим Чацкого «новым Дон-Кихотом, мальчиком на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади», прозаик находит в герое «осердеченный ум» и причину его страданий «от оскорбленного чувства*. Театру Гончаров посвящает «Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском» (1873–1874), «Опять «Гамлет» на русской сцене» (1875), но они остались незавершенными.
В 1879 г. Гончаров завершил литературно-критическую работу «Лучше поздно, чем никогда» – «критические заметки, анализ моих сочинений, т. е. объяснение моих авторских задач, как я их сам понимаю». Прозаик попытался соотнести своё творчество с русской жизнью середины века, здесь он рассматривает свою трилогию как единое целое и обосновывает два типа творчества («сознательный» и «бессознательный»), определяет природу художественной фантазии. В последние годы жизни писатель ведёт обширную переписку с близкими людьми, но перед смертью сжигает все черновики, наброски и настоятельно просит своих корреспондентов уничтожить все письма.
Гончаров подвижнически служил русскому искусству, призывал к нравственной свободе и деятельности, выступал против всяческого проявления деспотизма. Его называли «художником обостренной нравственной реакции», и он полностью оправдал это звание.
Литература
Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1977–1980.
И.А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969.
Алексеев АД. Летопись жизни и творчества И.А. Гончарова. М.; Л., 1960.
Мельник В.И. Реализм И.А. Гончарова. Владивосток, 1985.
Лошиц Ю.М. Гончаров. 2-е изд. М., 1986 (ЖЗЛ).
Краснощёкоеа Е.А. «Обломов» И.А. Гончарова. М., 1970.
Недзвецкий В.А. И.А. Гончаров – романист и художник. М., 1992.
И.С. Тургенев (1818–1883)
Творчество Ивана Сергеевича Тургенева – особое явление русской и мировой литературы. Тургенев прекрасно знал и понимал европейскую культуру, языки и философию, долгое время жил за границей, оставаясь при этом глубоко национальным писателем. Он всегда выступал как посредник между русской и западной художественной мыслью, много сделал для того, чтобы в Европе узнали А. С. Пушкина, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, а в России – Г. Флобера, Э. Золя и др.
Современному читателю Тургенев более известен как автор романов и повестей, между тем его перу принадлежат стихотворения, поэмы, драматургические сочинения. Писатель также по праву считается основоположником в русской литературе жанра стихотворений в прозе. Произведения Тургенева обладают особым качеством, особой узнаваемой поэтикой: они ассоциируются в читательском сознаний с миром «дворянских гнезд», русской природы, с образами «тургеневских женщин». Именно в произведениях Тургенева оформилось понятие «лишний человек», которое впоследствии дало имя целой типологической ветви героев русской литературы от Онегина до Обломова. Наконец, именно Тургенев ярко обозначил в своем творчестве проблему «отцов и детей». Эта меткая «формула» вмещает в себя и значение смены старого новым, и вечный во все времена конфликт поколений, и, что не менее важно, – диалог, собеседование двух мировоззрений и жизненных принципов. Художественная мысль Тургенева отличалась удивительной восприимчивостью, способностью услышать и понять «отцов» и «детей», «западников*' и «славянофилов», скептиков и имеющих веру.
Творчество 1830-х – начала 1850-х годов
Тургенев родился в Орле, детские годы провел в имении своей матери Спасском-Лутовинове, недалеко от Мценска. Его образование поначалу было домашним, но вовсе не поверхностным.
В Спасском была неплохая библиотека, да и матушка писателя старалась идти в ногу со временем: к наукам она относилась серьезно, была не лишена художественного таланта, гордилась своим знакомством с В.А. Жуковским и Н.М. Загоскиным, держала свой оркестр и крепостную труппу. Своеобразной «школой» для Тургенева стала и окружающая природа.
Первыми опытами Тургенева в литературе были переводы «Отелло» и «Короля Лира» Шекспира, впоследствии утраченные. Собственные сочинения он создает в начале 1830-х годов, будучи студентом сначала Московского, а затем Петербургского университетов.
Самое раннее произведение писателя – драматическая поэма «Стено» (1834), в 1836 г. представленная на суд П.А. Плетнева и А.В. Никитенко. Тургенев был увлечен Гете, Шекспиром и Байроном: эпиграфы из Шекспира и Байрона предваряют «Стено», и сам писатель позже назовет свое сочинение «рабским подражанием байроновскому “Манфреду”».
Первое сочинение Тургенева было далеко не совершенным, однако оно обнаружило в авторе чрезвычайно восприимчивого читателя, обладающего чуткой художественной интуицией. В нём проявилось и нечто исключительно тургеневское. Прекрасный знаток творчества писателя М. О. Гершензон отмечал, что 16-летний юноша в «Стено», в сущности, определит вопрос всего своего последующего творчества: «Отчего происходит распадение природного единства в человеке и что оно есть – благо или зло?».
Тургенев 1830-х годов, в основном, лирик. И «Стено», и его первые стихотворения (к сожалению, большая часть их не сохранилась) в целом продолжают традицию русской романтической поэзии. Трудно говорить о каком-либо весомом вкладе ранних произведений Тургенева в литературу тех лет, но то, что они имели серьёзное значение для развития и становления творческой манеры писателя, несомненно. Известно, что к 1837 г. Тургеневым было написано около ста мелких стихотворений и несколько поэм.
Большинство сохранившихся стихотворений принадлежат к концу 1830-х – началу 1840-х годов. Среди них выделяется медитативная лирика: «Толпа» (1843), «Один, опять один я. Разошлась…» (1844), «Исповедь» (1845). Любовная лирика Тургенева связана в основном с именем Татьяны Александровны Бакуниной, сестры Михаила Бакунина, чувство к которой было сложным и неопределённым. Лирический цикл «Вариации» (1843), состоящий из трех стихотворений, написан об этой прошедшей любви, горечи и счастье разлуки. Стихотворение «В дороге» («Утро туманное, утро седое…»), входящее в состав цикла, стало впоследствии известным романсом. Одной из центральных тем тургеневской лирики была природа, которая служила источником и эстетического наслаждения, и философского раздумья: «Вечер» (1837), «Откуда веет тишиной?..» (1844), «Брожу над озером…» (1844), лирический цикл «Деревня» (1846).
На рубеже 1830—40-х годов Тургенев выбирает между карьерой учёного-философа (он изучает философию в Берлинском университете) и литературной деятельностью. Первые громкие успехи, связанные с изданием его поэм, высокая оценка и поддержка В. Г. Белинского всё более склоняют Тургенева к мысли о литературном поприще.
Творчество Тургенева 1840-х годов чрезвычайно разнообразно. Он работает во всех родах литературы: пишет поэмы, стихотворения, рассказы, сочиняет пьесы для сцены, литературно-критические статьи. Писатель полон планов, он пробует свои силы в разных жанрах и стилях, ищет свою дорогу в литературе.
Поэмы Тургенева 1840-х годов отстоят по времени создания от «драматической поэмы» «Стено» почти на десять лет: «Параша» (1843), «Разговор» (1844), «Поп» (1844), «Андрей» (1845), «Помещик» (1846). Большинство из них, исключая только «Разговор», относится к жанру шутливой бытовой поэмы в стихах или стихотворной новеллы (повести) и продолжают традицию А.С. Пушкина («Граф Нулин» и «Домик в Коломне») и М.Ю. Лермонтова («Тамбовская казначейша»). Для молодого писателя в начале творческой деятельности важно было осмыслить свое отношение к литературной традиции, в том числе пушкинской. Во многих своих поэмах Тургенев ведет своеобразный диалог с романом в стихах «Евгений Онегин»: не случайно поэме «Параша» автор дает значимый жанровый подзаголовок – «рассказ в стихах». Её персонажи представляют прозаически сниженный вариант пушкинских Онегина и Татьяны. На уровне разрешения основного конфликта и проблематики также происходят значительные изменения: духовное преображение героев пушкинского романа заменяется у Тургенева пессимистическим итогом: с-…и оба влюблены… /Но все ж мне слышен хохот сатаны» («Параша»).
Причина печального воззрения писателя на современного человека коренилась в складе тургеневского мировоззрения: любовь, счастье, человеческая жизнь представляются ему кратким мгновением. А потому ни значительные герои, ни вечная любовь невозможны: в этом заключается грустная ирония тургеневских поэм.
Проза Тургенева 1840-х– начала 1850-х годов отражает сложность литературного процесса тех лет. Формирование индивидуальной поэтики и стиля писателя происходило на основе осмысления литературных традиций и новых тенденций, связанных, в основном, с тематикой и проблематикой «натуральной школы». В ряде рассказов Тургенева («Андрей Колосов», 1844; «Бретер», 1846) звучит печоринская тема. Главные герои этих произведений – Андрей Колосов и Авдей Иванович Лучков – обладают недюжинной энергией, внутренней волей, но оба жестоки и беспощадны к окружающим. Отчасти поэтизируя характер печоринского типа в Андрее Колосове, Тургенев затем в Лучкове, по словам Ап. Григорьева, сведёт его с пьедестала, обнаружив в нем не силу, а невежество и внутреннюю пустоту. Тургенева будет впоследствии в его романах интересовать сильный герой, но не в печоринских гордыни и своеволии он найдет эту силу.
Влияние Гоголя и «натуральной школы» отразятся в рассказе «Петушков» (1847), где использована архетипическая параллель хозяина и слуги: линия Иван Афанасьевич Петушков и его слуга Онисим (ср.: Иван Александрович Хлестаков и Осип из «Ревизора»). Тургенев следует комической повествовательной манере Гоголя. В гоголевском ключе осуществлена и любовная завязка повести, причиной которой стало отсутствие у героя к завтраку привычной булки. Этот незначительный случай с булкой резко изменит жизнь Петушкова, станет причиной его душевных страданий и приведёт в конце концов к трагедии. Однако трагическая, во многом не подвластная человеческому сознанию тайна любви, которая предстаёт в этом рассказе в непостижимой власти над Петушковым Василисы, обнаруживает уже собственно тургеневский аспект темы. Мысль о таинственной силе любви определит поэтику и проблематику рассказов «Андрей Колосов», «Три портрета» (1846), «Три встречи» (1851) и впоследствии станет одной из важнейших в творчестве писателя.
Драматургия. Большинство комедий и сцен, как определял Тургенев жанр своих драматических сочинений, создавались с 1842-го (незавершенная драма «Искушение святого Антония») по 1852 год («Вечер в Сорренте»), Обращение к драматургии было для Тургенева закономерным и связано с его увлечением театром, влиянием театральной эстетики В.Г. Белинского, а также интересом к музыкальной и театральной деятельности известной певицы Полины Виардо, с которой Тургенев знакомится осенью 1843 г. В 1840-е годы Тургенев много читает и внимательно изучает сочинения известных драматургов – Шекспира, Кальдерона, Аристофана, Расина, Мольера, из русских авторов ему интересен Гоголь.
Важен для писателя и опыт пушкинских «маленьких трагедий», что ощутимо уже в «Неосторожности» (1843). Это небольшая по объему пьеса (один акт с эпилогом), с небольшим количеством действующих лиц и испанским колоритом. Главное в «Неосторожности» то, что Тургенев считал исключительной особенностью пушкинских «маленьких трагедий». Он полагал, что «Моцарт и Сальери» является «родом психологического этюда», где человеческая страсть «показана в энергетической, грациозной, даже поэтической форме». В «Неосторожности» Тургенева герои как раз и обнаруживают свои тайные страсти, а драматург изучает психологию, скрытые пружины человеческих чувств – мести, зависти, любви, ревности, которые заставляют совершать героев те или иные поступки. Ведь все несчастья главной героини, Доньи Долорес, были следствием развития тех тайных страстей, которые бушевали вокруг неё. Предательство её служанки Маргариты объяснимо завистью, душевная глухота мужа – ревностью, а коварство дона Пабло – любовью и местью. Все эти страсти в совокупности своей и приводят героиню к трагедии.
Таким образом, уже в начале своего драматургического поприща Тургенев уделяет особое внимание психологическому прочтению характеров, его интересуют скрытые, не замечаемые самим человеком, причины его бед и несчастий. Тургенев-драматург выступает исследователем человеческих душ. Эта черта станет одной из основных особенностей его театра.
Драматургическая манера Гоголя, которой восхищался Белинский и молодые писатели, объединившиеся вокруг его имени, привлекала и Тургенева. Он создаст ряд пьес, в которых будет развивать основные темы «Ревизора», дополняя их подробностями быта и нравов в русле «натуральной школы». Так, жанр пьесы «Безденежье» (1845) сам автор определит как «сцены из петербургской жизни молодого дворянина». Конечно, там будет изображён современный Хлестаков – Жазиков и его слуга Матвей, списанный с Осипа Вообще, гоголевская параллель Хлестаков – Осип очень полюбилась литературе 1840-х годов. Эту тему разрабатывали Я.П. Бутков, Д.В. Григорович, да и в творчестве Тургенева она встречается неоднократно, а в живописи её бесподобно воплотил П. А. Федотов в картине «Завтрак аристократа». Ощутимо гоголевское влияние и в замечательной пьесе Тургенева «Завтрак у предводителя» (1849), где стоит отметить и яркость характеров, и реалистичность ситуации, и необыкновенный комический дар автора.
Общий для «натуральной школы» интерес к теме маленького человека также не оставил равнодушным Тургенева-драматур-га; В конце 1840-х годов он напишет две комедии – «Нахлебник» (1848) и «Холостяк» (1849), пронизанные гуманистическим пафосом.
В центре пьесы «Нахлебник» – судьба приживала, «нахлебника» Кузовкина в богатом, но опустевшем доме Кориных. Это человек, униженный самой жизнью, беззащитный, жалкий и опустившийся. Он вызывает чувство сострадания как у молодой наследницы имения Ольги Елецкой, которая впоследствии окажется его дочерью, так и у читателей. Кузовкин случайно проговаривается о тайне рождения Ольги и своём отцовстве. Читатель вправе ожидать счастливого финала, ведь отец безумно гордится своей дочерью, а та, в свою очередь, благожелательно и искренно воспринимает новое известие: отец и дочь обретают друг друга. Сбывается и давняя мечта Кузовкииа – вернуть своё утраченное имение, существовавшее, правда, только в его фантазиях. Муж Ольги, чиновник Елецкий, «дарит» старику «свой лом». Кузовкин прощается с дочерью и уезжает к себе в новое жилище. Счастливый финал. Однако в пьесе отчетливо звучит скрытый трагизм, ощутимый только на уровне подтекста, ведь за «радостным» прощанием отца и дочери и обретённой мечтой стоит их будущая разлука, на которую обрекает этих людей сословное тщеславие мужа Ольги.
Тургенев, казалось бы, следует основной установке «натуральной школы», ориентировавшейся на участие, внимание к судьбе маленького человека. Однако гуманистическое звучание и трагизм ситуации в его пьесе обнаруживается не столько на событийном уровне (ведь внешне всё происходит даже благополучно), сколько на возможности «дочитывания» текста, которую предлагает писатель своим читателям. Хотя Кузовкин, уезжая, уверяет, что он «так счастлив», а Ольга просит его «не забывать» их с мужем, понятно, что отец и дочь прощаются навсегда. Возникает некий зазор между собственно действием, поступками, которые совершают герои, и общим настроением пьесы. Тургенев требует от читателя тонкого отношения к слову героев и к тому, что стоит за их словом. Он предлагает совершенно иную модель взаимоотношения автора и читателя, а в потенциале – и зрителя. Это была очень смелая модель для середины XIX в.
В 1840-е годы Тургенев работает в популярном тогда жанре «драматических пословиц». Этот жанр отличался неяркой интригой и особым вниманием к тонкому диалогу, словесному соревнованию героев. Тургеневым в этом жанре была написана пьеса с характерным названием «Где тонко, там и рвется» (1848). Сюжет её был взят из великосветской жизни, в его основе лежал любовный конфликт. Пьеса Тургенева – развёрнутый в одно действие любовный поединок главной героини Веры Николаевны и её избранника Горского. Судьбоносный для обоих героев разговор прервался общей беседой о развлечениях, карточной игре. На сцене происходит драма, а рядом идёт обычная жизнь, и никому дела нет до переживаний Веры. Тургенев уже совсем близко подходит к сущности собственно психологической драмы, где судьба героя во многом определяется внутренним, скрытым драматизмом самой жизни.
Особое место занимает в драматургической системе Тургенева пьеса «Месяц в деревне» (1850). От всех остальных пьес она отличается значительно большим объёмом – в ней пять актов, тогда как большинство тургеневских комедий имеют один или два акта. Да и сюжет «Месяца в деревне» значительно сложнее. История о молодом студенте Беляеве, учительствующем в доме помещиков Ислаевых (первоначально комедия так и называлась «Студент»), переплетается с историей о соперничестве двух женщин – Натальи Петровны Ислаевой и её воспитанницы Верочки. Они дополняются другими самостоятельными сюжетными линиями: Наталья Петровна и её давний друг Ракитин, Верочка и соседский помещик Большинцов, за которого ей придётся выйти замуж; приживалка в доме Ислаевых Лизавета Богдановна и доктор Шпигельский. Это был почти романный размах. И сам Тургенев впоследствии писал, что тема его «Месяца в деревней «более подходит для новеллы, нежели для пьесы».
Действительно, в реализации сюжета этой комедии было что-то «эпическое», свойственное повествовательной прозе. Прежде всего – особый психологизм пьесы. Тургенев-драматург внимательно следит за развитием психологических состояний героев, ему интересны не определившиеся эмоции, что собственно свойственно драме, а зарождение, движение этих эмоций. Отсюда особое внимание к деталям: в какой позе стоит герой или героиня, как она говорит, куда смотрит; важен жест, который сопровождает чувство. Любой диалог снабжен развернутыми авторскими ремарками. Особое значение приобретают символические мотивы – сада, бумажного змея, жары, прохлады и проч. Так как чувства героев «Месяца в деревне» показаны в становлении, ещё не совсем оформившимися, они не всегда ясны самим героям. С трудом угадывает в себе любовь к Беляеву Наталья Петровна. Поначалу ей кажется, что он «заразил» её «своею молодостью – и только». Прожитый в деревне месяц так и не прояснил ситуации, и лишь в последние два дня героине становится ясно, что она, оказывается, полюбила Беляева «с первого дня» его приезда, «но сама узнала об этом со вчерашнего дня». Аналогично осознает свое чувство и Беляев. Во время своего последнего объяснения с Натальей Петровной он признаётся: «Да я сам, за четверть часа… разве я воображал… Я только сегодня, во время нашего последнего свиданья перед обедом, в первый раз почувствовал что-то необыкновенное, небывалое, словно чья-то рука мне стиснула сердце, и так горячо стало в груди…». Такая эволюция чувства свойственна героям тургеневской прозы. Например, герой повести «Ася» только в момент утраты им героини понимает, что в нём рождалась любовь к ней. Автор делает акцент на зыбкости, сложности, мгновенности чувства. Ситуация, в принципе, очень напоминает «Месяц в деревне». Поэтика драмы требует «цельности черт характера» (В.Е. Хализев), характеры в «Месяце в деревне» Тургенева, как и в его прозе, даются в динамике, в процессе, в становлении.
Эпическим можно считать и заглавие пьесы – «Месяц в деревне». Оно концентрирует внимание читателя не на центральном персонаже (тогда название совпадало бы с именем героя или героини) и не на ключевой проблеме (как, например, в пословичных заглавиях пьес А.Н. Островского), а на процессе. Оно обозначает временной промежуток: месяц, проведённый в деревне, хотя события пьесы происходят в последние дни этого месяца
В известном смысле театр Тургенева, безусловно, предвосхитил драматургию позднего Островского и Чехова Комедию «Месяц в деревне» можно считать своеобразным архетипом чеховских пьес. Чрезвычайно близки образы доктора Шпигельского и врача Дорна из «Чайки», образ учителя Беляева и студента Пети Трофимова, Натальи Петровны и Раневской из «Вишневого сада», а рачительный хозяин Ислаев, деятельность которого обеспечивает общее благосостояние, но до которого никому нет дела, перекликается с образом Войницкого в пьесе «Дядя Ваня». Да и жанровое определение произведения как комедии, где явно смешных, откровенно комедийных сцен очень мало, во многом созвучно с чеховским пониманием этого жанра.
Больших пьес Тургенев после «Месяца в деревне» писать не будет. Сюжет этой «большой комедии» вскоре он переработает в «маленькую комедию» «Вечер в Сорренте» (1852). Как заметит А.Л. Штейн, «в этой пьеске, эскизно намечающей ситуацию, аналогичную «Месяцу в деревне», все сведено к шутке». Тургенев снова возвратился к «маленьким комедиям»: написал пьесу «Провинциалка» (1851) и «Разговор на большой дороге» (1852) – диалог, предназначенный для актёрского чтения. А проблематику новаторской комедии «Месяц в деревне» в 1850-е годы он будет осваивать в своей повествовательной прозе.
«Записки охотника». Венцом литературных опытов Тургенева 1840-х начала 1850-х годов станет эпический цикл «Записки охотника» (1846–1852). Первый рассказ «Хорь и Калиныч» появился в самом первом номере обновленного «Современника». Тургенев признавался, что написал его по просьбе редактора И.И. Панаева, которому нечем было заполнить отдел «Смесь». Однако «социальный заказ» просто совпал с творческим замыслом самого автора. Многими чертами – этнографизмом, описательностью, фактографической точностью, особенно ярко высказавшимися в начале произведения, – «Хорь и Калиныч» напоминал распространённый в 1840-е годы физиологический очерк, который в большей степени освещал жизнь городских низов («Физиология Петербурга»).
Основной идеей этого произведения была идея антикрепостническая. У России в те годы, как писал Тургенев позже в «Литературных и житейских воспоминаниях», было одно главное зло, один главный враг, который «имел определённый образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право». Само обращение в «Записках охотника» к жизни крестьянина, его быту, духовному миру, представлениям о жизни было ударом по институту крепостничества, который как бы изначально предполагал неравенство двух культур: дворянской и крестьянской. Однако у Тургенева и помещик, и крепостной, и разночинец в каком-то смысле уравнены, вовлечены в единый поток жизни русской деревни. Их нравственно-эстетические качества измеряются единой мерой – природой, её красотой, величием. Социальная принадлежность героев важна, но в «Записках охотника» образы и русского мужика, и барина работают на создание единого национального образа русского народа.
В рассказе «Бежин луг» проницательный рассказчик-наблюдатель поначалу замечает социальное неравенство между деревенскими мальчиками. Он видит, что Федя из богатой семьи и что в поле пасти лошадей он пошёл «для забавы», а вот Павел «одеждой своей <…> щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов». И сам рассказчик – помещик, принадлежавший к другому социальному кругу, чувствует вначале свою «инородность» рядом с мальчиками. Однако вскоре каждый из ребят начинает его интересовать как индивидуальность, как человеческая загадка, а сам он – ощущать своё родство с ними: ему интересны их таинственные истории про домовых и русалок, их чувство природы. Поэтическая натура рассказчика-охотника близка поэтическому миру деревенского мальчика.
Рисует Тургенев и картины социальной несправедливости и жестокости, как, например, в рассказах «Контора» или «Бурмистр». Имя одного из героев последнего рассказа, «гуманного» помещика Пеночкина, стало нарицательным для обозначения человеческого бездушия и «просвещённого» невежества. И все же центральной в книге Тургенева является мысль не о разделении людей и непреодолимых границах между ними, а о ценности и красоте каждого отдельного человека и непременном родстве человеческих душ. Так, например, рассказчику в «Записках охотника», образ которого объединяет и скрепляет все части цикла, открыта удивительная «способность приобщения» к окружающему миру и людям (Ю.В. Лебедев). Он внимательный слушатель и наблюдатель, ценящий и понимающий своего собеседника Он, а вместе с ним и автор, видит в Хоре Петра I и Сократа, а в Калиныче – поэта, Шиллера (такое сравнение было в первоначальной редакции «Хоря и Калиныча»). Мученица Лукерья из «Живых мощей» напоминает ему лик с иконы («ни дать ни взять икона старинного письма»), а странный приживал из рассказа «Гамлет Щигровского уезда» – самого Гамлета, пусть и не без некоторой горькой иронии (Гамлет-то свой, уездный!).
Иногда чувства и мысли рассказчика по поводу таких талантливых характеров, индивидуальностей, каких довелось ему встретить, окрашиваются горечью. Например, в рассказе «Певцы» поэтическое «вознесение» Якова-Турка во время песенного соревнования с рядчиком, поразившее всех слушателей, сменяется его падением – почти в буквальном смысле слова: «всё было пьяно, – отмечает рассказчик, – всё, начиная с Якова», который «напевал осиплым голосом какую-то плясовую». Мысль о нереализованных человеческих возможностях и талантах, о «невытанцевавшейся» любви и жизни проходит лейтмотивом в рассказах «Певцы», «Уездный лекарь», «Петр Петрович Каратаев», «Гамлет Щигровского уезда» и многих других, не разделяя героев на помещиков и крестьян. Как пишет Ю.В. Лебедев, «при всех различиях, при всём антагонизме между мужиком и барином книгой Тургенева захватывается их общая, русская судьба», в этом и состоит духовное ядро «Записок охотника».
Тургенев вовсе не идеализировал русского человека. Он видел как его духовную красоту, мудрость, поэтичность, так и стихийность, непредсказуемость – от покорного смирения до бунтарства. И появляются в его «Записках охотника» такие противоречивые характеры, как Чертопханов («Чертопханов и Недопюскин»), Бирюк («Бирюк») и др. Эта же тема будет продолжена в более поздних произведениях: в примыкающем к циклу рассказе «Муму» (1852), повести «Степной король Лир» (1870), вошедших в «Записки охотника» рассказах «Конец Чертопханова» (1872), «Стучит!» (1874).
Особой темой, также объединяющей собой все части цикла «Записок охотника», является тема природы. Как отмечал Тургенев в рецензии на «Записки ружейного охотника» С.Т. Аксакова, природа составляет «одно великое стройное целое», в котором «каждая точка соединена со всеми другими». «Всё, что существует, – пишет Тургенев, – существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения – и все жизни сливаются в одну мировую жизнь». Тургенев изображает родство всего живого: и человека, и природы. Великолепны тургеневские пейзажи, автор предпочитает весенние, осенние и особенно летние картины, совсем не изображает зиму. Только в заключающей цикл миниатюре «Лес и степь» мелькнёт в конце зимний пейзаж, за которым, однако, последует мысль о весне: «…весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль…».
Природа и жизнь всего живого представляется автору как вечное, непрерывное циклическое движение, где зима, временное умирание, сменяется рождением – весной. Однако нередко Тургенева смущало равнодушие Природы к человеку, рождение и смерть которого ей были абсолютно безразличны. В рассказе «Поездка в Полесье» (1857), который изначально Тургенев планировал включить в «Записки охотника», эта мысль выражена определённо: «Трудно человеку, существу единого дня? вчера рождённому и уже сегодня обречённому смерти, – трудно ему выносить холодный, безучастно устремлённый на него взгляд вечной Изиды…». Писателя, с одной стороны, восхищала способность русского человека сливаться с природной жизнью, чувствовать и понимать её язык, как понимал его, например, Калиныч, а с другой – его пугала опасность забвения человеком личностного начала, потеря индивидуальности. Это – неразрешимое противоречие в тургеневской философии природы.
«Записки охотника» были высоко оценены современниками. Но выход книги отдельным изданием в 1852 г. принес Тургеневу и неприятности. Собранные вместе, рассказы представляли собой гневный протест против бесчеловечного института крепостничества. Писателя арестовали, хотя формально арест был связан с публикацией в Москве написанного Тургеневым некролога Гоголю, и сослали в Спасское-Лутовиново.
Творчество 1850-х годов
В 1852 г. Тургенев признаётся в письме к П.В. Анненкову: «Надобно пойти другой дорогой – надобно найти её – и раскланяться навсегда с старой манерой». В сознании писателя «старая манера» ассоциировалась с «Записками охотника», в которых Тургеневу удалось создать яркие и незабываемые характеры. Но раскрыть тайну и сложность движения человеческой души, понять процесс формирования личности в человеке в жанровых рамках рассказа и очерка, из которых состояли «Записки охотника», ему представлялось невозможным. Тургенев обратится к повести и роману, в которых будет преобладать интерес к исследованию человеческой личности.
В 1850-е годы Тургеневым написаны повести «Дневник лишнего человека» (1850), «Затишье» (1854), «Переписка» (1854), «Яков Пасынков» (1855), «Фауст» (1856), «Ася» (1858), романы «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1859). Размышляя в них о человеке, его сложной и двойственной натуре, писатель поднимает и возникающий в связи с этими размышлениями круг проблем, прежде всего проблему любви.
Ключом к разгадке характеров многих тургеневских героев является его статья-эссе «Гамлет и Дон Кихот» (1860), задуманная писателем ещё в конце 1840-х годов. В типических образах Гамлета и Дон Кихота, как считает Тургенев, «воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы – оба конца той оси, на которой она вертится». Особенность Дон Кихота – «вера в истину, находящуюся вне отдельного человека», «высокое начало самопожертвования». В Гамлете же выделяется «эгоизм, а потому безверье». По мнению Тургенева, в человеке эти противоречивые качества соединяются, но все же под влиянием тех или иных условий и обстоятельств либо гамлетовское, либо донкихотское начало начинает преобладать. И герои Тургенева нередко проявляют себя как гамлеты, тогда они эгоистичны и предпочитают рефлексию, самоисследование, или как донкихоты – тогда они жертвенны, их жизнь освещена мыслью о служении людям.
В прозе Тургенева рубежа 1840—1850-х годов формируется понятие «лишнего человека». Это словосочетание впервые появилось на страницах повести «Дневник лишнего человека» и стало своеобразным эквивалентом гамлетовского начала в характере героя, связанного с гипертрофированной рефлексией и эгоцентризмом. Однако есть у этого понятия и своя особенность. Тургенев в повести объяснит, что «лишний» – это значит человек «сверхштатный», случайный, «бесполезный», но в то же время чрезвычайно амбициозный. Близок он чем-то «подпольному парадоксалисту» Ф.М. Достоевского. Мироощущение Чулкатурина, героя «Дневника лишнего человека», сознающего свою ничтожность, а потому и «лишность», во многом противоположно трагическому, но при этом величественному разладу с миром пушкинского Онегина или лермонтовского Печорина. Последний, например, ощущает себя лишним в мире, которому он сам равен, он для себя – отдельная, самостоятельная вселенная. Чулкатурин же «лишний» во многом потому, что как раз не чувствует в себе внутренней силы быть наравне со вселенной, ему не дано мужественно переносить все жизненные испытания. И дело не в том, чтобы в самом себе искать спасения и противостоять миру, как это было часто с романтическим героем, а в том, чтобы ощущать в себе «силы необъятные», внутренний стержень. Такого внутреннего стержня нет у многих героев тургеневских повестей: Веретьева («Затишье»), господина Н.Н. («Ася»), Алексея Петровича («Переписка»), Им как бы не на что опереться в этой жизни, потому и любовь часто кажется им мгновенной, непрочной. Они нередко не могут разобраться в своем чувстве, как герой повести «Ася», который оттого не решается связать свою судьбу с героиней, что до самого последнего свидания с Асей был не уверен в своей любви к ней.
Проблема любви и сопряжённые с ней проблемы счастья и долга в повестях тесно связаны с тургеневским пониманием природы человека и его отношением к Вечности. Любовь дается его героям как некое высшее откровение о мире. Они не быстро, не сразу угадывают в себе чувство, и потом оно становится той точкой, тем мгновением, которое заполняет всю их «лишнюю», не сложившуюся жизнь. Многие повести Тургенева 1850-х годов («Ася», «Фауст») не случайно построены в форме воспоминаний.
Однако другой стороной любви является её трагическая сущность. Она возвышает героя, наполняет его жизнь счастьем, по при этом ничто и никто не в силах «остановить мгновение» любви (как хотел этого и гётевский Фауст), сделать её вечной. В том, что любовь преходяща по своей природе, и состоит её трагическая сторона. Тургеневский Рудин, например, скажет: «Любовь! <…> в ней всё тайна: как она приходит, как развивается, как исчезает». Автор, как и его герой, считает, что трагическое значение любви состоит не в несчастии безответного чувства, а в самой её сущности. Потому единственной, но горькой силой, способной сохранить хрупкого «лишнего» человека в огромной Вселенной, является долг. К этой мысли о необходимости абсолютного самоотречения приходит герой «Фауста» Тургенева.
Не вполне справедливой представляется по отношению к тургеневской философии любой оценка Н.Г. Чернышевским повести «Ася» в статье «Русский человек на rendez-vous (размышление по прочтении повести г. Тургенева «Ася»)». Критик высказал сожаление по поводу отсутствия у героя (Чернышевский шутливо называет его Ромео) «житейского благоразумия» и его неспособности быть решительным в ответственную минуту. Слабость и нерешительность г-на Н.Н. в любовном чувстве проецировалась на все другие сферы его жизни, а. сам он признавался несостоятельным в общественной деятельности. Однако Тургенев к героям своих повестей таких требований не предъявлял и общественных вопросов напрямую не затрагивал. Его в большей степени интересовали проблемы психологического и общефилософского порядка. Это нужно учитывать и остерегаться резких суждений об общественной и социальной несостоятельности тургеневского (дворянского по преимуществу) героя.
Однако когда в 1850-е годы Тургенев заявил о себе как романист, он создал социально-философские произведения, в которых ему удалось соединить проблемы общественные, насущные, с вопросами философского порядка. В центре – неизменно проблема личности.
Первый завершённый роман Тургенева «Рудин» первоначально назывался «Гениальная натура». Однако писатель, видимо, опасался иронического прочтения этого заглавия и впоследствии заменил его более нейтральным. И все же он, по свидетельству М.Н. Толстой, чрезвычайно заботился о том, «вышел ли Рудин действительно умным среди остальных, которые умничают». Образ Рудина был исключительным, хотя отчасти напоминал тургеневского «лишнего человека» из повестей и рассказов, но при этом обнаруживалось в нём нечто, противоположное «лишнему человеку».
Один из важных моментов в постижении характера Рудина – понимание сущности его красноречия. Тургенев в письмах называл его «человеком слова», подразумевая под этим не верность сказанному и твердость характера, а особое понимание мира. Язык и слово в романе так же действенны и сильны, как и само дело, поступок. Неслучайно антагонист Рудина, его бывший студенческий друг Лежнев, в эпилоге скажет о герое: «Доброе слово – тоже дело».
Важной для понимания характера Рудина является рассказанная им легенда о греющихся у огня царе и воинах и о залетевшей на огонь птице. Герой не согласен со словами царя: «Эта птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела в темноту, и не долго побывала в тепле и свете…». Эта мысль созвучна тому, как понимается человеческая жизнь, любовь и счастье в тургеневской повести. Но в романе у легенды есть продолжение: «Царь, – возражает самый старый из воинов, – птичка и во тьме не пропадёт и гнездо свое сыщет…». «Точно, – заключает Рудин, – наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он жизнь свою, своё гнездо…». Эти слова свидетельствуют о преодолении трагического противоречия жизни и смерти величием и значительностью человека, так как он живет и действует на земле, исполняя нечто высшее: «Всё великое совершается через людей». Интересно, что сама смерть, которая в повестях воспринимается как шаг человека в небытие, здесь приобретает значение, пусть даже и метафорическое, – жизни, конечно, качественно иной.
Весьма существенным для понимания романа и его главного героя является вопрос о любви и долге. Для Рудина долг – это некая высшая данность, а вовсе не тяжкая и давящая ноша; это «подпора», которая, как считает Рудин, необходима в жизни каждому, иначе можно, словно яблоня, «сломиться от тяжести и множества собственных плодов».
В любви Рудин, на первый взгляд, напоминает многих героев тургеневских повестей: он не выдерживает испытания любовью, оказывается слабее, чем более сильная духом Наталья. Однако это не совсем так. Рудин действительно «много и охотно» говорит о любви, размышляет о её «трагическом значении», но сам он в любви более энтузиаст, восторженный Дон Кихот. В этом и его сила, и его слабость. Рудин-энтузиаст любит Наталью, как он позже напишет ей, «любовью воображения» – так, как любит, по мнению Тургенева, Дон Кихот, боясь практической стороны чувства, «стыдливо и безгрешно». «Едва ли в тайной глубине своего сердца, – скажет Тургенев о Дон Кихоте, – надеется он на конечное соединение с Дульцинеей, едва ли не страшится он этого соединения!». Поэтому практическая решимость Натальи так пугает Рудина. Он пасует перед ней, видимо, точно так же, как спасовал бы и Дон Кихот. А мысли Рудина в письме к Наталье об ответственности перед любимым человеком, которые, конечно, нельзя игнорировать, но нельзя и возводить в абсолют, рождались в душе героя в момент скорбного отчаяния, что знакомо «лишним людям» и не чуждо оказывается и Рудину.
Собственно, Рудин – энтузиаст, Дон Кихот. Он не лишен и гамлетовского начала, не лишен и скорбного сомнения и самоуничижения «лишнего человека», но лишь до некоторой степени. Как пишет Тургенев, «по мудрому распоряжению природы, полных Гамлетов, точно так же, как и полных Дон Кихотов, нет: это только крайние выражения двух направлений. <…> К ним стремится жизнь, никогда их не достигая». Если перефразировать последнюю мысль писателя, то и в Рудине донкихотство является неким положительно прекрасным идеалом, который никогда не может быть достижим в жизни, но к которому стремится герой.
В 1859 г. в «Современнике» появляется один из лучших романов Тургенева, принесших писателю любовь читателей и восторженные отзывы критиков, – «Дворянское гнездо» (1858). Создавался он в период общественного подъёма. По свидетельству самого Тургенева, замысел этого произведения у него возник ещё в 1856 г., т. е. буквально сразу же после написания «Рудина», во время надежд на проведение либеральных реформ, которые связывались в русском обществе с приходом к власти императора Александра II.
Несмотря на то, что события, разворачивающиеся в романе, относятся к началу 1840-х годов, по духу они соответствуют настроению конца 1850-х. Тогда все общество понимало, что крепостнические социальные отношения тормозят его развитие и крепостное право нужно отменять. Но при этом вставал вопрос, что же будет с многочисленными дворянскими гнездами, с дворянским сословием в целом, а значит, наконец, и с русской провинцией и огромной Россией. Дворянство – это долгие века российской истории, культуры. Его исчезновение представлялось невозможным и, самое главное, неправильным с точки зрения Тургенева. Писатель задумывался, как выжить «дворянским гнездам» в этот сложный исторический момент, как измениться и какому пути следовать, как сохранить Россию. На эти вопросы он дает довольно определённый и конкретный ответ в романе «Дворянское гнездо».
Общественно-историческая проблема судьбы России и русского дворянства тесно связана с судьбой главных героев – Лизы Калитиной и Фёдора Ивановича Лаврецкого. Их любовь, надежды на личное счастье, которые становятся осуществимы с известием о смерти жены Лаврецкого Варвары Павловны, оказываются тщетными. Опять любовь предстает у Тургенева своей трагической стороной, снова автор и герои обращаются к мысли о долге.
Лаврецкий и Лиза в романе много об этом рассуждают. О долге и предназначении каждого человека говорит с Лаврецким и его давний приятель Михалевич. Этот герой словно и «придуман» Тургеневым для того, чтобы разбудить Лаврецкого от «байбаческого» сна. Он единожды появится в романе, но его разговор с Лаврецким будет иметь решающее значение для определения жизненной позиции последнего. Замученный личными невзгодами, потерянный и душевно опустошённый, Лаврецкий олицетворяет собою всё российское общество, находившееся в те годы словно в состоянии сна. И слова Михалевича о долге перед своим народом и самим собою, о добре «неотразимо вошли в душу» Лаврецкого. «Религия, прогресс, человечность» – последнее, что прокричал Лаврецкому на прощание уезжающий Михалевич. Такой видится автору формула будущего пути России.
Лаврецкий вскоре придет к мысли, не без влияния просьб Лизы о необходимости примирения и прощения, а также и идей Михалевича, что самое главное дело теперь в России – «пахать землю… и стараться как можно лучше её пахать». В конце романа автор покажет героя претворившим в жизнь свои убеждения. Читатель встретится с Лаврецким через восемь лет. За это время «совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого невозможно остаться порядочным человеком до конца; он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях». Герой выбирает путь долга, и этот путь приводит его к своеобразному счастью, не личному эгоистическому счастью, которое, по убеждению писателя, всегда «основано на несчастье другого», а счастью в его глубоком гуманистическом и христианском понимании. Лаврецкий в конце романа предстает покойным и «довольным»: он «трудился не для одного себя; <…> упрочил жизнь и быт своих крестьян», он внутренне свободен и потому счастлив. Да, личное счастье не далось, ускользнуло из рук, но обрелось другое, едва ли не более значимое и полное.
Размышления героя в эпилоге о своей «бесполезной жизни» и «одинокой старости», краткая встреча с Лизой в монастыре акцентируют трагическую личную тему. Но личная трагедия преодолевается донкихотской идеей радостного жертвенного служения. Не случайно в финале романа подчеркиваются мотивы радости, счастья, молодости – дом Калитиных оказывается не разорён, в нем появились молодые обитатели. И Лаврецкий в своём прощальном монологе благословляет эти молодые силы.
Однако для счастливого будущего России необходим был и путь покаяния Лизы. В её решении нет стремительности отчаявшегося человека, а ощутима осознанность выбора. Она, в отличие от многих героинь тургеневских повестей, не замыкается в себе, не кончает жизнь самоубийством. Её уход в монастырь связан с мыслью о ближних, о грехах, которые нужно отмолить. Ведь с бездной в душе идти в новую жизнь нельзя; покаяние и прощение – это единственный путь спасения. «Религия, прогресс, человечность» – гениальная формула Михалевича вспоминается здесь вновь.
Таким образом, во втором своем романе Тургенев вновь изобразил героя внутренне перерождающегося, сумевшего открыть в себе добрые и светлые силы, обращённые к людям. О «преображении» и «перерождении» такого рода Тургенев размышлял в одном из своих писем: «Я чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадлежащим к давно минувшему, существом – но существом, сохранившим живую любовь к Добру и Красоте. Только в этой любви уже нет ничего личного… Возможность пережить в самом себе смерть самого себя – есть, быть может, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот – я умер – и всё-таки жив – и даже, быть может, лучше стал и чище. Чего же ещё?». Мысль о долге как счастливом и радостном служении ближнему будет увлекать Тургенева и в его последующих романах.
Роман «Накануне» (1859) затрагивает, в сущности, тот же круг проблем, что и предыдущие два романа, хотя на первый план в нем выдвигается новый герой – разночинец. Однако в разночинце, болгарине Инсарове, как и в русском дворянине Лаврецком, подчёркивается общечеловеческое – борьба противоречивых начал, самопожертвования и стремления к личному счастью. Тургенев вовсе не желал замыкаться на так называемом дворянском герое. Ему важно было увидеть в представителях разного социального плана «деятельное стремление к совершенству», одержимость идеей добра, путь к воплощению которой чрезвычайно сложен. Более того, ни новые социальные предпочтения при создании героя, ни его весьма условно выраженная национальность (скорее важен сам факт, что Инсаров нерусский) вовсе не меняют проблематики произведения. «Накануне» – роман о любви, счастье и долге. Перед дилеммой любви, эгоистического счастья (которое всегда, однако, мимолетно) и долга стоят герои романа «Накануне» Дмитрий Инсаров и Елена Стахова, олицетворяющая молодую, ожидающую перемен Россию.
Роман не случайно открывается рассуждением-спором Шубина и Берсенева о двух видах любви: «любви-наслаждении» и «любви-жертве». Первая, как считает Берсенев, даёт «воспламеняющее» счастье, но быстро гаснет и не способна соединять людей, а вторая – способна. «Мне кажется, – говорит герой, – поставить себя номером вторым – всё назначение нашей жизни». Так и Рудин когда-то призывал «надломить упорный эгоизм своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать». Простить и принять другого человека таким, каков он есть, призывает и Лиза Калягина. Слова Берсенева как бы намечают линию развития характера главной героини романа «Накануне» Елены Стаховой, которая после смерти Инсарова отправилась исполнять дело мужа. Автор, размышляя в эпилоге о затерявшемся следе Елены, прибавляет, что «по другим, более достоверным сведениям», её «видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда собиралось; описывали даже её наряд, черный с головы до ног». Почти монашеский, жертвенный подвиг.
С романом «Накануне» в жизни Тургенева будут связаны два испытания. Осложнился начавшийся еще после публикации романа «Дворянское гнездо» конфликт с И.А. Гончаровым, обвинявшим Тургенева в плагиате, в присвоении ключевых тем, художественных образов его романа «Обрыв», о котором оба писателя много разговаривали еще в начале 1850-х годов. Вскоре с помощью критиков П.В. Анненкова, А.В. Дружинина и С.С. Дудышкина этот конфликт был погашен, но не разрешён окончательно. Гончаров впоследствии опишет эти события в автобиографической «Необыкновенной истории»; Тургенев в предисловии к своим романам в издании 1880 г. подробно расскажет о создании «Дворянского гнезда» и прототипах героев, о самом сюжете, который стал известен писателю от его соседа по имению. Хотя, конечно, нужно признать, что идеи и замыслы Гончарова не могли не повлиять на Тургенева, да и российская действительность давала обоим писателям близкие темы и сюжеты.
Второе испытание – это история со статьей Н.А. Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?», где анализировались последние романы Тургенева – «Рудин», «Дворянское гнездо» и «Накануне», – и фактический разрыв с редакцией журнала «Современник». Тургенев был против публикации статьи Добролюбова в «Современнике», где должен был увидеть свет и его роман. Он обратился к редактору Н.А. Некрасову с «убедительной просьбой <…> не печатать этой статьи», потому что считал, что она «несправедлива и резка», иначе он прекратит свое сотрудничество с «Современником». Некрасов выбрал Добролюбова. Тургенев публиковал «Накануне» уже в «Русском вестнике».
Творчество 1860-х годов
В 1860-е годы в творчестве Тургенева скажутся общественные потрясения, связанные с реформой 1861 г., неустроенность личной жизни. Сохранятся прежние жанровые предпочтения. Тургенев напишет два романа: «Отцы и дети» (1862) и «Дым» (1867), а также повести «Призраки» (1863) и «Довольно» (1864).
Роман «Отцы и дети» создавался как бы «на гребне волны». Тургенев начал работу летом 1860 г., накануне ожидаемой обществом отмены крепостного права, а закончил летом 1861 г., после знаменитого февральского манифеста. Роман создавался в эпоху перелома, таким же переломным оказался он и в творчестве самого писателя. Многие современники и критики считают его вершинным достижением тургеневской романистики – по стройности и целостности идейного и художественного выражения, социальной злободневности и универсальности, философичности. Этот роман положит начало спорам и диалогам в русской литературе и среди читателей о нигилизме. Он станет «питательной почвой для возникновения революционно-демократической героики романа “Что делать?”» (А.И. Батюто), но также будет способствовать зарождению антинигилистического романа.
В «Отцах и детях» писатель несколько отступает от традиционной поэтики своих предыдущих романов. Любовный конфликт был там основным, сюжетообразующим. В «Отцах и детях» любовная интрига обнаруживает себя не сразу (только лишь в XIV главе) и во многом нужна для своего рода художественной реализации некоторых убеждений героя – его взглядов на любовь. Конфликт, вокруг которого организуется романное действие в «Отцах и детях», диалогичен. Он представлен, однако, не столько спором двух героев, имеющих противоположные взгляды на жизнь (Александр и Петр Адуевы из «Обыкновенной истории» Гончарова), сколько спором двух мировоззрений и политических программ, выраженным еще в заглавии романа, – спором «отцов» и «детей». Убеждения отцов исповедуют и Павел Кирсанов, и его брат Николаи, и, отчасти, Аркадий, и родители Базарова (в романе возникает даже параллель: «старички Кирсановы» и «старички Базаровы»). Дети в романе – это тоже не один Евгений Базаров. Современного нигилистического взгляда одно время склонен был придерживаться и Аркадий Кирсанов; убежденными нигилистами являются Ситников с Кукшиной. Тургенев еще не предлагает читателю услышать полифонизм мнений, как это будет у Достоевского, он разделяет героев на два лагеря, делает их приверженцами двух разных идей и показывает эти идеи с разных сторон.
Центральное место в большом диалогическом споре между отцами и детьми в романе Тургенева занимает коллизия: Базаров – Павел Кирсанов. Знаменательна первая встреча героев, которая открывает собой роман и сразу же обнаруживает их антагонизм. Даже в социальном плане: «плебей» Базаров (хотя плебейство его весьма относительно – родители героя добропорядочные провинциальные помещики: отец, правда, разночинец, но мать – «настоящая русская дворяночка прежнего времени») вызывает взаимную неприязнь у аристократа Кирсанова. Но в дальнейшем конфликт получает более глубокое и не только социальное звучание. Противостояние Базарова и Кирсанова – это противостояние культуры традиционной и приходящей ей на смену культуры нигилистической. В основе каждой из них лежит свое мировидение. Для первой при всем различии ее представителей – важна вера (Павел Кирсанов ценит в русском народе то, что он «жить не может без веры», матушка Базарова верует простодушно и искренно), самоуважение, честь, красота, искусство, любовь. Для культуры новой, нигилистической – важен позитивный опыт, практическое знание и сила фактов. Именно это определяет отношение нигилистов к искусству, любви, человеческой индивидуальности. Не случайно Базарова Тургенев изображает именно врачом, естествоиспытателем.
О чем бы ни спорили Павел Кирсанов и Базаров: об аристократии и нигилизме, о художестве и искусстве, о русском народе – везде в основе этих столкновений лежат разные концепции мира. Отсюда и абсолютное непонимание ими друг друга. Так, для Павла Кирсанова аристократия – это гуманная организация общества, институт свободы и права человека: «аристократия дала свободу Англии и поддерживает её», аристократы «не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других». Базарову же его позитивный опыт говорит о том, что «аристократ» и «аристократия» не более чем бранные слова, синонимичные слову «дрянь». Аналогичны причины и известного негативного отношения Базарова к искусству. Поскольку искусство и художество не имеют конкретной практической пользы, они тоже относятся к категории «вздора». Причем, что характерно, любое искусство, даже новое, демократическое, противопоставляющее себя классическим образцам. Отсюда знаменитая базаровская фраза: «Рафаэль гроша медного не стоит, да и они (новые художники. – И.Б.) не лучше его». В одном и том же факте – религиозности русского народа, – что признается и Павлом Кирсановым, и Базаровым, герои видят соответственно положительное и отрицательное качества. Кирсанов – духовность, Базаров – косность и необразованность: не знает русский мужик законов естествознания. «Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице по небу разъезжает, – говорит Базаров. – Что ж? Мне соглашаться с ним?»
Исключительно важной в споре отцов и детей является концепция человека, своеобразия его личности. Она проявляется в полемике Базарова и Павла Кирсанова, прежде всего в понимании героями сущности любви, а также представлена в диалогах Базарова и Одинцовой. Высказанное Базаровым утверждение об усреднённости отдельного человека («люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой») имеет много общего с убеждениями Н.Г. Чернышевского, высказанными им в статье «Русский человек на rendez-vous». Человек в системе Базарова-Чернышевского – это такой же элемент природы, как дерево или лягушка; в человеке важна его физиологическая, естественная сторона; метафизического, таинственного не существует и существовать не может. А потому нет и любви в её высоком, метафизическом значении.
Один из самых серьезных споров отцов и детей в романе – это спор по поводу различного понимания любви. Для Павла Петровича и, во многом, для Аркадия любовь – это тайна, загадка, символом которой является кольцо со сфинксом (история любви Кирсанова к княгине Р.), извечно непостижимая и потому прекрасная сущность и смысл человеческого бытия. Для Базарова, «великого охотника до женщин и до женской красоты», любовь поначалу – простое физиологическое отношение полов. Любовь в смысле «идеальном» или «романтическом» он называл «белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни». Чувственная, почти животная страсть к Одинцовой, «страсть, похожая на злобу» (она высказалась в его неожиданном и быстром признании Анне Сергеевне), начинает соседствовать с неведомым и глубоким чувством, и Базаров, пусть и с «негодованием», но постепенно начинает сознавать «романтика в себе самом». Он вступает в спор со своим представлением и пониманием любви. Если изначально его ведущим оппонентом в этом вопросе являлся Павел Кирсанов с его историей рыцарственно-таинственной любви, то затем этот спор усиливается, переходит как бы внутрь самого героя по мере того, как в нем пробуждается мучительно непостижимое чувство. Умирающий Базаров, правда, не отказывается от своих прежних мыслей. «Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается», – говорит он. Но уходит из жизни он с сомнением на устах, с вопросом перед вечностью. Да и метаморфозы, которые происходят с ним после встречи с Одинцовой (участие в дуэли, идею которой он относил ранее к категории «вздора», перемирие с Павлом Петровичем, знаменитые философские беседы с Аркадием под стогом сена, хотя философствования Базаров прежде не любил), говорят о том, что герой становится немножко метафизиком, побеждает в себе позитивиста.
Как упоминалось, нигилистическое мировидение «детей» в романе представляет не только Базаров. У него есть «единомышленники»: Аркадий, который его поначалу боготворит, но постепенно отдаляется, emancipee Кукшина, «передовая женщина» и «старинный знакомый» и «ученик» Базарова Ситников. Кукшина считает себя человеком практическим, интересуется женским вопросом, как и Базаров, исповедует свободную любовь: с мужем своим она живёт в разъезде, благодарит Бога, что свободна и у неё нет детей. Во время единственной в романе встречи сторонников новых взглядов герои обсуждают вопросы, по поводу которых Базаров не раз спорит со своими оппонентами. «Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление, и какие родятся люди – одинаковые или нет? и в чем собственно состоит индивидуальность?». Тургенев дистанцирует своего героя от его учеников и последователей – Базаров осторожно и почти с презрением относится к ним («Не Боги горшки обжигают».). Но именно они – реальная, массовая сторона идеи: Аркадий – случайный гость среди «детей», Ситников и Кукшина – недалекие и увлеченные её популяризаторы.
Тургенев в «Отцах и детях» сумел верно изобразить не только ситуацию мировоззренческого конфликта эпохи, но всю сложность и противоречивость нового воззрения на мир, когда нигилистическая идея шла в массы и становилась угрожающе опасной в руках ситниковых и кукшиных. Тургенев в этом смысле предугадал проблематику поздних романов Достоевского, а его «Отцы и дети» стали формальной причиной «раскола в нигилистах» (Ф.М. Достоевский), который произошел в середине 1860-х годов в России. Наиболее явственно проявился этот раскол в длительной литературно-критической полемике вокруг романа, развернувшейся прежде всего на страницах демократической печати, в журналах «Современник» и «Русское слово». Позиция «Современника» была представлена статьями М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени», «Промахи», «Лжереалисты», а «Русского слова» – статьями Д.И. Писарева «Базаров», «Реалисты», «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»).
Полемика и обвинения в адрес Тургенева, звучащие как со стороны демократов (исключением была лишь позиция Писарева), так и либералов в карикатурности созданных Тургеневым характеров, художественной незрелости романа, были болезненно восприняты писателем. Тем более дорог Тургеневу был положительный и сочувственный отзыв Ф.М. Достоевского о романе, к сожалению, в настоящее время утраченный. Тургенев говорил, что в нём содержалась наиболее точная и полная оценка его сочинения и героя. «Дай Бог, чтобы все увидали хотя часть того, что Вы увидели!» – писал он Достоевскому. Основные мысли и положения этого отзыва содержатся в статье Н.Н. Страхова «И.С. Тургенев. Отцы и дети» («Русский вестник», 1862), близкого кружку братьев Достоевских. Страхов, как и Достоевский, ценил в главном герое романа слияние типично русских черт – теоретизирования и «ломанья» своей человеческой природы, а также удивительную жизненность, искренность души. Критик считал важным в романе Тургенева его «таинственное нравоучение», выраженное в описании могилы Базарова, «озарённой светом и миром» и родительской любовью. Трагический раскол в душе героя и одновременно трагизм общественно-исторической ситуации в России преодолевался, с точки зрения критика, «общими силами жизни», «самой идеей жизни», её «вечными началами».
Замысел «Призраков» возник у Тургенева ещё в середине 1850-х годов, но работает писатель над этой повестью, как и над следующей («Довольно»), практически параллельно с романом «Отцы и дети». Трагедийные коллизии общественной и личной жизни отразились и в романе, и в повестях, однако в романе «вечным началам жизни» удается преодолеть этот трагизм. Ключевой же идеей повестей является мысль о бренности человеческой жизни, любви, трагической затерянности человека во времени и пространстве («Призраки»), бессилии искусства и красоты победить смерть («Довольно»), Человек, по мысли писателя, – творец «на миг», беззащитный перед «слепой силой» жизни. И ему, «чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения… самопрезрения», нужно «спокойно отвернуться от всего» и «сказать: довольно! – и скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая вселенная его раздавила – он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала». Отсюда – пронзительный призыв, крик отчаяния первых строк повести «Довольно!»: «Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать» и гамлетовский финал: «The rest is silence». Вспоминается в связи с этим и сцена смерти Базарова, где из уст героя звучат почти те же слова. Но не они завершают роман.
В повестях 1860-х годов Тургенев предстает как художник, которому интересны области подсознательного, иррационального. Не случайно их относят к ряду «таинственных повестей». Так, в основе сюжета «Призраков» лежит фантастическая ситуация путешествия во времени и пространстве: в ней рассказывается о таинственных полетах героя над землей – разными странами и разными историческими цивилизациями – вместе с необычным существом по имени Эллис, призраком, существующим почти реально. Тургенев стирает грани между действительностью и ирреальностью, явью и сном. Взору путешествующего героя открываются картины Германии, Италии, Англии, Франции; ему становятся доступны Рим времён Цезаря и Россия времён Степана Разина. Между этими разными видениями, казалось бы, нет никакой связи и всё случайно – мир распадается на маленькие кусочки-фрагменты, картина становится импрессионистической. Фантастические перелёты позволяют герою как бы в одно мгновение увидеть всё, заметить каждую деталь: греческие изваяния; этрусские вазы; прекрасных итальянок и толпы народа на улицах Парижа; бесчисленных кузнечиков и лягушек, обитающих на понтийских болотах. Но между тем из этой видимой хаотичности, пересечения и сцепления несовместимого и несвязанного между собой, отчетливо звучит мысль об извечном несовершенстве мира. Тургенев вновь возвращается к тому центральному мотиву, который звучал в одном из самых первых его произведений – драматической поэме «Стено», – мотиву мировой скорби. Всё, что предстает взору героя, в независимости от того, суетно оно или величественно красиво, – всё говорит об увядании и изношенности мира.
Таинственные повести 1860-х годов, особенно «Довольно» («отрывок из записок умершего художника»), Тургенев рассматривал как свое прощальное слово в литературе – так глубоки были его пессимистические настроения. Однако постепенно у писателя созрел замысел нового романа «Дым», который стал для него своеобразным выходом из кризиса или, точнее, – романной альтернативой призрачности, зыбкости мира и человека в повестях «Призраки» и «Довольно». Роман был задуман в 1862–1863 гг., в самое время работы над таинственными повестями.
В «Дыме» Тургенев еще более, чем в «Отцах и детях», отходит от привычной для его романов 1850-х годов жанровой структуры. «Культурно-героический» тип тургеневского романа (термин Л. В. Пумпянского), где в центре был один герой и его отношения с героиней, заменяется более сложной структурой. В «Дыме», как и в «Отцах и детях», изображаются две полярные силы, две идейные группировки, имеющие вес в России, но обитающие за границей: лагерь молодых демократов (кружок Губарева) и представители высшего света, придерживающиеся консервативных взглядов (кружок генерала Ратмирова).
Параллельно этой сюжетной линии развиваются другие, в частности, любовная коллизия, в центре которой взаимоотношения Литвинова, его бывшей возлюбленной Ирины Ратмировой и невесты Татьяны Шестовой, а также линия, связанная с образом западника Созонта Потугина. Многочисленные сюжетные линии романа кажутся, на первый взгляд, плохо связанными между собой, что нередко отмечалось в критической литературе. В «Дыме» довольно трудно выделить и главного героя. Сам автор называл «главным лицом» романа Потугина, однако в «Формулярном списке» на первое место ставил Литвинова. Изначально писатель не разграничивал этих героев, Потугин и Литвинов, видимо, мыслились им как одно лицо. Первый – выразитель идеи, второй – как бы незримый центр всего повествования. Именно глазами Литвинова видит читатель события, рассказанные в романе: герой присутствует на собраниях кружка Губарева, в светском салоне генерала Ратмирова, с которым Потугин делится своими мыслями о Европе и России, он находится в центре любовного конфликта.
Литвинов объединяет «разрозненные» сюжетные пласты романа и более того – представляет собой идейную альтернативу Потугину, хотя, на первый взгляд, герой не исповедует «никаких политических убеждений», кроме сознания необходимости «землю пахать», деятельного созидания. Эта истина открыта Литвинову уже в начале романа, «от того он так уверенно глядит кругом». Но «Дым» – роман-испытание. Литвинов усомнится и потеряет и это знание, и уверенность, и жизненную прочность, потеряет любовь – свою Татьяну Ему придётся пройти через испытание и искушение – очарованием Ирины Ратмировой, прежней и вновь вспыхнувшей любовью-страстью.
Любовная линия романа «Дым», внешне, казалось бы, не связанная с идейными спорами и политическими кружками, оказывается исключительно важной для понимания общественно-идеологического конфликта произведения. Разочарованному и измученному страстью к Ирине Литвинову вся жизнь – и его, и всей России, и «великого Губарева», и Матрены Суханчиковой, и генерала Ратмирова – кажется дымом и паром, похожим на клубы, вырывающиеся из паровозной топки. Дым – это и «газообразное состояние» России, и празднословие губаревцев и ратмировцев, и искушающая любовь Ирины. Героиня – некое воплощение всеобщего разрушения и самообмана русской жизни. Есть нечто искушающее и в Потугине – как бы втором «я» Литвинова, в его западническом радикализме. Потугинская ненависть к русской поверхностности, как и пламенное уважение к западной цивилизации, даны словно в избытке, сверх меры. Это настораживает и Литвинова, и, видимо, самого Тургенева.
В эпилоге «Дыма» звучат мотивы примирения, покоя и тишины, соотносимые с аналогичными интонациями «Дворянского гнезда». Герой, подобно Лаврецкому, переживает своего рода преображение духовное, т. е. рождается заново. «И дух в нём окреп: он снова стал походить на прежнего Литвинова. <…> Исчезло мертвенное равнодушие, и среди живых он снова двигался и действовал, как живой. Исчезли также и последние следы овладевшего им очарования…». Возникает образ плодородной, открытой доброму семени земли: «Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам – ни явным, ни тайным». Так видит автор будущее в эпилоге.
Роман был сдержанно встречен критикой и читателями и в определённом смысле повторил судьбу «Отцов и детей». Представители демократического, либерального и консервативного направлений увидели в нем политическую карикатуру, памфлет на самих себя.
Творчество 1870-х – начала 1880-х годов
В период 1870-х – начала 1880-х годов Тургенев много и плодотворно работает. Его интересует общественная жизнь, новые настроения среди молодежи, набирающее силу народничество. Он много занимается популяризацией русской литературы на Западе, активно пропагандирует сочинения европейских писателей в России. В эти годы вновь появляется интерес к народной теме: Тургенев продолжает работу над «Записками охотника», дополняет книгу рассказами «Живые мощи», «Конец Чертопханова», «Стучит!». В повестях и рассказах «Несчастная» (1869), «Степной король Лир» (1870), «Стук… стук… стук!..» (1871), «Вешние воды» (1872), «Пунин и Бабурин» (1874), «Часы» (1875) его интересует национальная психология. Доминирующим в творчестве писателя становится интерес к подсознательному, скрытым сторонам человеческой природы. Он обнаруживается как в уже перечисленных произведениях, так и в «таинственных повестях»: «Сон» (1877), «Песнь торжествующей любви» (1881), «Клара Милич. (После смерти)» (1883). В этот период Тургенев завершит роман «Новь» (1876) и создаст цикл «Стихотворений в прозе» (1877–1882).
Писатель стремится постичь многообразие русской жизни. На первый взгляд, абсолютно разные произведения о страхе и суеверии («Стук… стук…стук!»), о противостоянии в человеке любви и страсти («Вешние воды»), о судьбе русского короля Лира («Степной король Лир») – посвящены одной ключевой теме. Они являются попыткой Тургенева-художника понять русского человека, а значит, понять русскую жизнь в целом. Часто в этом писателю помогают «вечные», прежде всего шекспировские, образы. В трагедии Мартына Харлова, русского короля Лира, Тургенев видит проблему властолюбия и честолюбия – общечеловеческую по своей сути, но с русскими смирением и стихийностью. Тема любви в «Вешних водах» как бы возвращает читателя к ключевой проблематике тургеневских повестей 1850-х годов. Однако основное в этом произведении – не философия любви, всегда трагически хрупкой и возвышающей человека до высокого откровения о мире, а мучительный и, в сущности, бессознательный выбор героя между «божественной амброзией^, любовью, и «сырым мясом», страстью (П.В. Анненков). Природа русского человека по-прежнему в центре внимания писателя.
Роман «Новь» посвящен проблеме народничества, которая приобретает в произведении не только социальный, но и метафизический смысл. Народничество интересует Тургенева прежде всего как новая социальная идея, которую он хочет изучить всесторонне. Писатель рисует её последователей: решительного и радикального по взглядам Маркелова; случайного и как бы нежданного в народничестве Нежданова; впервые в его романе появляется поэтический образ «нигилистки» Марианны. Народническая идея для многих представителей новой силы, по мнению Тургенева, носила почти религиозный характер: писатель подчеркивает их проповедничество, жертвенность. Тургеневские герои искренни и правдивы – даже в своем заблуждении. Как заблуждение оценивает писатель движение народничества в целом, несмотря на симпатию к его отдельным представителям. В эпилоге романа возникает тревожная мысль о Руси, которой «распоряжается» некто «безымянный». «Безымянная Русь» как бы забыта Богом, лишена своего лица и имени.
Идейным центром романа является образ Соломина. Он сторонник ступенчатого прогресса, «герой-постепеновец», которого герой-резонер Паклин характеризует так: «…он не внезапный исцелитель общественных ран. Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы всё ждём: вот, мол, придёт что-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! только, батюшка, рви зуб!! Это всё леность, вялость, недомыслие! А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает – он молодец!». Писатель подчёркивает в герое внутреннюю тишину, спокойствие – «серость», «одноцветность». Такие, как он – «крепкие, серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно!». Соломин и его позиция постепенного преобразования – это, как сказано в эпиграфе к роману, «глубоко забирающий плуг», который должен стать новым словом для России. Причем это «новое» имеет глубокие корни и основания: Тургенев сополагает с соломинской «серостью» и «одноцветностью» образы древних «старосветских помещиков» Фимушки и Фомушки, суть которых передана в метафоре «стоячей воды, но не гнилой».
«Новь» продолжила традиции тургеневской романистики в изображении споров различных политических лагерей: либерального (Сипягин), консервативного (Калломейцев), народнического и др. Не отказывается писатель и от любовной коллизии, которая обнаруживает и подчеркивает духовные силы героя: Нежданов лишь пробудил в Марианне чувство, но полюбила она Соломина. Однако структура произведения не позволяет говорить ни о центральной роли какого-то одного героя, ни о доминировании одной сюжетной линии, даже одного исторического времени. Роман обнаруживает огромные силы эпоса.
После публикации «Нови» Тургеневу пришлось пережить долгий и сложный период непонимания. Критические отзывы на его роман были, в основном, отрицательными, независимо от литературных и общественно-политических пристрастий критиков. Тургенева обвиняли в странной приверженности теме нигилизма (М.Н. Катков), непонимании народнического движения (Н.К. Михайловский). После неуспеха этого произведения Тургенев сосредоточивается на вопросах философского и психологического порядка.
В «таинственных повестях» 1870-х – начала 1880-х годов («Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич») писатель обращается к проблемам любви, счастья, смерти. В их поэтике преобладает фантастический элемент, большое значение приобретают мотивы сна и музыки. Любовь оказывается животворящей силой, способной осветить существование человека, однако в любовном чувстве обнажаются стихийность, иррациональность. Человек предстает слабым и бессильным по отношению к стихии любви, а любовь – похожей на бездну, способную как давать жизнь («Песнь торжествующей любви»), так и отнимать её («Клара Милич»),
Своеобразным итогом всего творчества Тургенева является цикл «Стихотворений в прозе». Этому циклу писатель дал и другие названия: «Senilia» (старческое – лат.) и «Posthuma» (посмертное – лат). Причем последнее название означает не только то, что автор не желал публиковать произведение при жизни, но нечто большее. В нём он подошел к откровению загробного, замогильного бытия человека, понимаемого ещё и как состояние «старости». Параллелизм этих двух заглавий очевидно неслучаен, они дополняют и объясняют друг друга.
«Стихотворения в прозе» считаются поэтическим завещанием Тургенева. В них отразились все основные темы и мотивы творчества писателя. Этот цикл, как и любое явление циклизации, тяготеет к целостному взгляду, органично соединяющему многообразие и противоречия мира. Потому он вмещает в себя ключевые, но противоречивые тургеневские интонации: пессимистическое отчаяние и светлую веру. Печальны и безысходны «Старик», «Без гнезда», «Когда меня не будет…», «Как хороши, как свежи были розы…», «Когда я один… (Двойник)». В них преобладают мысли об одиночестве, болезни, смерти как окончательном исчезновении. Однако в «Стихотворениях в прозе» звучат также мотивы торжества жертвенной любви, веры в духовные силы человека: «Христос», «Милостыня», «Русский язык», «Памяти Ю.П. Вревской», «Мы ещё повоюем!», «Воробей». В этом цикле автор принимает и уважает и отчаяние, и страх человека перед огромной вечностью, а также приветствует неприятие этого отчаяния, «тихую радость» жертвенного добра.
Новаторским был жанр «Senilia». Тургенев опирался на традиции русской лирической прозы, европейский опыт (Гейне, Бодлер). Тургеневские стихотворения в прозе – уникальное единение прозаического слова и лирического чувства. Стих, поэтическая мысль в них рождается в ёмкой, афористической форме, особенно чётко выраженной в заключительных строках произведения. Но при этом каждый абзац текста несет в себе цельность и замкнутость стиха. Тургенев в «Стихотворениях в прозе» как бы ступил на грань, разделяющую собственно поэзию и прозу. Он стал в русской литературе родоначальником жанровой традиции, продолженной И. Анненским, И. Буниным.
Литература
Батюто А.И. Тургенев-романист // Избранные труды. СПб., 2004.
Генералова Н.П. И.С. Тургенев: Россия и Европа. СПб., 2003.
Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула, 2001.
Лебедев Ю.В. «Записки охотника» И.С. Тургенева. М., 1977.
Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман XIX в. Л., 1975.
Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-е – 80-е годы). Л., 1985.
Топоров В.Н. Странный Тургенев (четыре главы). М., 1998.
Н.Г Чернышевский (1828–1889)
Литературная судьба Николая Гавриловича Чернышевского сложилась необычно. В общей сложности его участие в литературном процессе 1850 – 1870-х годов продолжалось около 10 лет. Всероссийская известность пришла к нему на волне демократического подъёма, но его деятельность была прервана арестом и ссылкой. С другой стороны, именно после ареста, находясь во время следствия в Петропавловской крепости, Чернышевский создал свой знаменитый роман «Что делать?» (1862–1863). Радикальными суждениями о литературе и общественно-политической жизни он завоевал славу «властителя дум» поколения «нигилистов», «новых людей» 1860-х годов. В советском литературоведении творчество писателя-публициста приобретало культовое идеологическое значение. Оно получило «благословение» от самого В. Ленина, который вспоминал, что увлёкся революционной деятельностью под влиянием романа «Что делать?». Один из вождей революции 1917 г. и создателей коммунистической партии и советского государства, Ленин признавался, что роман его «глубоко перепахал».
Революционно-романтическим сознанием современников Чернышевский воспринимался как мученик за идею справедливости. Некрасов в стихотворении 1875 г. с характерным названием «Пророк» (с подзаголовком «Воспоминание о Чернышевском») понимает его миссию в религиозно-апокалиптическом контексте: «Его послал Бог Гнева и Печали / Царям земли напомнить о Христе» (впоследствии вызывающее «царям» было заменено на многозначное «рабам»). Массовая политическая демонстрация б декабря 1876 г. у Казанского собора во главе с Плехановым началась с молебна о здравии Чернышевского. Феномен Чернышевского имел явно эмоциональный, «иррационально-догматический» характер, воплощал в себе содержание «коллективного бессознательного» – общественных настроений массовой демократической общественности и уже этим заслуживает внимания.
Краткая биография
Как и многие другие представители разночинской интеллигенции, Н.Г. Чернышевский родился в семье священника. Отец писателя был умным, духовно незакрепощенным человеком и подтопил сыну искать себя на другом поприще. Сначала Чернышевский учился в Саратовской семинарии, где ему предвещали блестящую карьеру духовного проповедника и богослова. Активно занимался изучением языков, в том числе и восточных. Не закончив семинарии (с согласия отца-священника), поступил на отделение общей словесности философского факультета Петербургского университета. Кроме того, увлекался всеобщей историей, физикой (даже серьезно работал над созданием вечного двигателя). В это же время интересуется политическими вопросами – внимательно следит за событиями Французской революции 1848–1849 гг. Знакомится также с социалистическими теориями Сен-Симона, Фурье, Фейербаха. Во время следствия по делу петрашевцев в 1849 г. записал в дневнике (не побоялся!), что сам никогда бы «не усомнился» вмешаться в их общество и со временем «вмешался» бы (как знать, не повторил ли бы он судьбу Достоевского?).
Ко времени окончания университета (1850 г. – 22 года!) сформировались его основные убеждения. В 1850 г. он писал: «Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда её, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. – что нужды?» Неудивительно, что Некрасов назвал его пророком, только касается это предчувствие не XIX, а XX в. В этом признании действительно была какая-то одержимость, «инспирация» разрушительных сил. Не отсюда ли такая энергетика, «пассионарность», власть, которую он имел над частью общества и личностей? В словах молодого человека в то же время чувствуется и трагизм, какая-то обречённость.
В том же 1850 г. в дневнике появляются и записи, свидетельствующие об атеизме Чернышевского. От этого юношеского отрицания Бога, через которое прошли почти все великие русские писатели и мыслители, даже религиозные (С. Булгаков, например), публицист не освободился и позже. Другой знаменитый атеист, Ленин с уважением подчеркивал в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1908–1909), что «Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50 гг. вплоть до 88 г. остаться на уровне цельного философского материализма…».
После окончания университета Чернышевский работал «репетитором» во 2-м кадете ком корпусе в Петербурге, а затем – старшим учителем словесности в Саратовской гимназии (1851–1853). Весной 1853 г. он женился на Ольге Сократовне Васильевой, дочери саратовского врача, честно (увлеченно-романтически?) предупредив её о том, что в России скоро будет бунт, и он «непременно» станет участвовать в нём. Образ бунтаря психологически всегда романтизируется. Достаточно вспомнить пленительный образ Дубровского из одноимённого романа Пушкина. Жене Чернышевский посвятил романы «Что делать?» и «Пролог» (1865–1870). Публицист боготворил жену. Его чувства к невесте и мысли о семейной жизни выразились в «Дневнике моих отношений с той, которая составляет моё счастье». Следуя примеру жен декабристов, Ольга Сократовна даже отправилась к мужу в Сибирь. Однако не осталась там: то, что требовало религиозной жертвы собой, для «разумных эгоистов» оказалось «неразумным». И великодушный Чернышевский этой жертвы не принял. Ольга Сократовна вернулась обратно в Петербург, оставив мужа одного на его мученическом пути.
В 1853 г. писатель преподаёт во 2-м кадетском корпусе и готовится к экзаменам на степень магистра. Для получения учёной степени он подготовил диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Защита научного сочинения состоялась в мае 1855 г., но официальное утверждение (из-за скандальной полемики или сомнительной научной ценности?) работа получила лишь в январе 1859 г.
Одновременно с научной работой Чернышевский начинает свою литературно-критическую деятельность. С 1853 г. в журнале А.А.Краевского «Отечественные записки» появляются его первые рецензии. Решающее значение для личной и литературной судьбы публициста имело знакомство с Н.А. Некрасовым осенью того же 1853 г. Весной 1855 г. Чернышевский совершает окончательный выбор между журналами и до 1862 г. является ведущим сотрудником «Современника».
С 1854 г. Чернышевский вел в «Современнике» отдел критики и библиографии. Зимой 1857 г. он передач сто Н.А. Добролюбову, которому в это время был 21 год. С приходом в журнал сотрудника, занявшегося литературоведением в рамках своей «реальной критики», Чернышевский сосредоточился на политической, экономической и философской темах. С приходом Чернышевского и, отчасти, Добролюбова деятельность «Современника» приняла революционно-демократическое направление. Примерно с 1859 г. журнал из художественного становится по преимуществу политическим, публицистическим. Из «Современника» уходят ведущие сотрудники, не разделявшие новой редакторской позиции: А. В. Дружинин, П.В. Анненков, Л.Н. Толстой, А.Н. Майков, А.А. Фет, И.С. Тургенев, Д.В. Григорович. На их место пришли единомышленники революционеров-демократов: Н.В. Шелгунов, М.А. Антонович, М.Л. Михайлов и др.
Новая радикальная публицистика и литературная критика «Современника» вызвала неприятие Герцена, выразившееся в статье «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!»), напечатанной в «Колоколе». В июне 1859 г. Чернышевский ездил в Лондон для объяснений по поводу новой позиции журнала. И хотя конфликт казался решённым (выступление Герцена в № 49 «Колокола»), полностью разногласия так и не были устранены.
Политическая программа, проводимая Чернышевским в «Современнике», состояла в необходимости освобождения крестьян с землей без выкупа (или с минимальным, номинальным выкупом), в сохранении крестьянской общины как формы местной власти и экономического самоуправления. Опираясь на теории социалистов, публицист считал, что необходимо соединить труженика и собственника в одном лице, и отдавал предпочтение крупным объединениям собственников-производителей по типу «фаланстер», трудовых общин Фурье. По воспоминаниям членов «Земли и воли» А.А. Слепцова и Л.Ф. Пантелеева, Чернышевский был причастен к этой подпольной политической организации, которая была создана с целью руководства крестьянским восстанием, ожидавшимся к весне 1863 г.
В «Письмах без адреса» (опубликованных за границей в 1874 г.), адресованных, по существу, Александру II, публицист обвинял самодержавие в обмане и ограблении крестьянства. При этом делался вывод в духе Радищева о том, что активизации борьбы народа следует ждать от самой «тяжести порабощения». Чернышевский писал: «Когда люди дойдут до мысли, «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел». Под «делами» подразумевалась крестьянская революция. Поэтому не так уж и ошибался провокатор и доносчик В.Д. Костомаров (подделавший почерк Чернышевского), когда указал на его авторство революционной прокламации, стилизованной под народный, понятный простым мужикам, язык (например, «булгу поднять», т. е. начать бунтовать).
Если Чернышевский и не писал её, созвучие идей было очевидным. В прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (1861) содержался призыв воздержаться от неорганизованных беспорядков, а ждать начала общего выступления, когда «доброжелатели», т. е. интеллигенты-революционеры дадут мужикам сигнал к бунту, пришлют свой «поклон». Обстановка была накаленная. К этому добавлялись петербургские пожары. Существует даже версия, что Достоевский лично просил Чернышевского «не поджигать» город. В июне 1862 г. издание «Современника» и «Русского слова» было остановлено на восемь месяцев.
Прямым поводом для ареста Чернышевского послужило перехваченное письмо Герцена и Огарёва к Н.А. Серно-Соловьевичу 1862 г., в котором, в условиях наступившей пореформенной реакции (расстрел крестьян в селе с колоритным названием Бездна, закрытие Петербургского университета, репрессии против студентов), предлагалось издавать «Современник» в Лондоне или Женеве. Возможно, правительство хотело продемонстрировать свою карающую власть, отыграться на недоступном для репрессий и давно надоевшем своим «Колоколом» Герцене, а также других революционерах-эмигрантах, например, сбежавшем из ссылки Бакунине.
Два года Чернышевский провел в Алексеевской равелине Петропавловской крепости. Он отрицал все предъявленные обвинения. 19 мая 1864 г. на Мытнинской площади состоялась «гражданская» казнь. Литератор был лишён всех прав состояния и приговорён к 14 годам каторги (замененным по указу Александра II на 7 лет) с последующим проживанием в Сибири. Каторга на руднике Кадае Нерчинского округа, а затем с сентября 1865 г. – в тюрьме Александровского завода – завершилась в 1871 г., затем последовало поселение в Якутии, в захолустном городе Вилюйске.
Только в 1883 г., уже при Александре III, Чернышевскому было разрешено переехать в Астрахань. Смена климата подорвала и без того не лучшее состояние здоровья, однако это была почти свобода. В июне 1889 г., перед смертью, писатель получил разрешение переехать в родной Саратов. В общей сложности каторга и ссылка продолжались 21 год! Мученическая судьба оппозиционного литератора наметила тот трагический путь, по которому пойдут тысячи русских интеллигентов при той «новой» революционной «народной» власти, за которую он боролся своим творчеством.
Сам Чернышевский прошел свой путь мужественно и спокойно. Попытки устроить побег (в 1871 г. – Г.А. Лопатин, в 1875 г. – И.Н. Мышкин, оба были арестованы) и вывезти его за границу не удались. Кажется, что он бы и не поехал. В 1871 г. Чернышевский писал жене: «А что касается лично до меня, я сам не умею разобрать, согласился ли б я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул тебя на целые десять лет в огорчения и лишения. За тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других, – об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их». В этом спокойствии и вере в смысл своей жертвы есть что-то от «Жития протопопа Аввакума». Несмотря на катастрофический трагизм самой революционной идеи, обнажившейся в XX в., личность Чернышевского заслуживает нравственного уважения. Некрасов действительно имел право сказать: «Его послал Бог Гнева и Печали / Царям (рабам) напомнить о Христе». Бердяев позже с вызовом заявлял о том, что революция произошла по вине христиан, которые не исполнили своего христианского долга. Христианским было всё русское общество, от мужика до царя, соединённых в один церковный организм. Поэтому революционная катастрофа последовала как Возмездие, как Суд. Без осознания этого откровения невозможно строительство нового общества, возрождения Церкви как Богочеловечества, единого социального и духовного организма России.
Трагическая судьба революционера-разночинца 1860-х является подтверждением этой веры.
Публицист, критик и писатель
Чернышевский стал выразителем напряжённого и противоречивого духа эпохи Великих реформ. Своеобразие общемировоззренческих и эстетических взглядов Чернышевского последовательно раскрывается в его теоретических работах «Антропологический принцип в философии» (1860) и «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), а также авторецензии (автореферате) к диссертации («Совремеиник» № 6, 1855).
В диссертации по эстетике выдвигается материалистический принцип понимания красоты. Концепции Гегеля (в изложении Фишера) о том, что цель искусства – это создание идеала, Чернышевский противопоставляет тезис о том, что «прекрасное есть жизнь». По существу, никакого противопоставления здесь нет, и сам публицист раскрывает категорию «прекрасного» следующим образом: «…прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова быть она должна по нашим понятиям», т. е. несет в себе идеал. Точнее противопоставление, которое он пытался сформулировать, может быть выражено так: художник создает идеал или идеал заключается в самой действительности?
Исходя из материалистического, точнее атеистического, «а-духовного», восприятия мира, теоретик искусства переносит все «прекрасное» в биологическую и социальную сферу, отрицая их внутреннюю духовность. Публицист говорит о социальной обусловленности эстетического, с чем трудно не согласиться. Но при этом делается упрощенный вывод о том, что эстетическая потребность удовлетворяется самой действительностью.
Целью искусства он считает подражание жизни, «соглашаясь» с Платоном и Аристотелем, но при этом добавляет две другие. Это объяснение жизни и вынесение ей «приговора». Главным «эстетическим» критерием оказывается наличие социально прогрессивной «мысли». Искусство становится своеобразным «учебником» жизни, сближаясь с научным познанием и нравственной системой. Искусство подчинялось действительности, а действительность мыслилась в социологических категориях, превращаясь в иллюстрацию идеологических построений. По этому пути затем пошел Ленин, выдвинув принцип «партийности» литературы, но такая «партийность» уже присутствовала в критических статьях самого Чернышевского.
Диссертация Чернышевского, известная современникам прежде всего по автореферату, вызвала бурную полемику. Её не приняли ведущие писатели и критики: Тургенев, Л. Толстой, Анненков, Дружинин и др. Они упрекали теоретика-публициста в непонимании и недооценке природы искусства.
Исходя из своей теоретической концепции, Чернышевский писал и критические статьи.
В цикле «Очерки гоголевского периода» (1856) Чернышевский анализирует творчество ведущих критиков 30—40-х годов: Полевого, Сенковского, Шевырева, Надеждина. При этом критерием оценки их размышлений становится само отношение к Гоголю как писателю «обличительного» направления. Центральное внимание на этом фоне уделяется работам Белинского, имя которого по цензурным запретам в печати не употреблялось. В особенности он ценит публицистический пафос статей Белинского, его внимание к общественным вопросам. Чернышевский также осуждал религиозные искания Гоголя, видя в них отход от прогрессивного направления литературы.
Высокую оценку у Чернышевского получают первые произведения Л. Толстого («Детство и отрочество. Сочинения графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы Л.Н. Толстого», 1856). Критик отмечает нравственный пафос его творчества, а своеобразие психологизма обозначает термином «диалектика души». Безусловную поддержку получают «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина (одноимённая статья 1857 г). Высоко оцениваются рассказы Н. Успенского. В статье 1861 г. «Не начало ли перемены?» он отмечает, что писатель говорит «о народе правду без всяких прикрас», преодолевая традицию «идеализации» народа, идущую от Гоголя, Григоровича и Тургенева. В нагнетании жёстких реалистических образов произведений Успенского критику виделось выражение протеста, приближающаяся народная революция. Однако сам Успенскии в том же году разорвал с редакцией «Современника».
Художественное творчество Чернышевского также соответствовало его публицистическим представлениям о роли литературы. Обстановка располагала к этому. В заключении был написан роман «Что делать? Из рассказов о новых людях». За ним последовали незавершенные повесть «Алферьев» (1863), роман «Повесть в повести» (1863), «Мелкие рассказы» (1864). На каторге Чернышевский создал роман «Старина», отосланный в Петербург Пыпину, но по неосторожности потерянный (или конфискованный?). Его продолжением был «Пролог. Роман из начала шестидесятых». Он был написан в 1867–1870 гг. Первая часть, «Пролог пролога», была опубликована в Лондоне в 1877 г. В России роман был издан полностью лишь в 1906 г. Кроме того, сохранились также пьесы «Драма без развязки», «Мастерица варить кашу», повесть «История одной девушки», рассказы «Кормило кормчему», «Знамение на кровле» и другие наброски.
Центральным произведением Чернышевского, конечно же, стал роман «Что делать?», продолживший начатую Гончаровым и Тургеневым тему поиска «героя» времени. В особенности очевидна связь с романом «Отцы и дети». Писатель уточняет тему подзаголовком «Из рассказов о новых людях».
С жанровой точки зрения «Что делать?» является социально-философским или социально-психологическим романом, но при этом «психологизм» получает не исследовательский, а дидактический характер. Писатель показывает, дает советы, какими должны быть «новые люди», увлеченно изображает новые любовные и семейные отношения. В традиционной критике его сразу же обвинили в проповеди разврата, «свободной любви», откровенно затронутой, по-базаровски научной и честной, сексуальности героев. «Новые люди» и, главное, «особенный» человек мыслились в политических категориях. По существу, «Что делать?» – это публицистический роман. Писатель не анализирует действительность, а разъясняет своими образами выработанную им общественно-политическую позицию. В.В. Набоков через героя своего романа «Дар» (1937) Годунова-Чердынцева высказывает гипотезу о том, что роман писался Чернышевским для отвода глаз полиции.
Якобы, он вообще не занимался никакои революционной деятельностью, а всё это было лишь «литературой», «сочинительством».
С другой стороны, жанр публицистического романа, создававшегося в специфических условиях тюрьмы, приобрел и свои формально-стилевые черты. Это последовательно развиваемый подтекст в главах, посвящённых любовно-семейным событиям из жизни Веры Павловны; авантюрно интригующее сюжетно-композиционное построение; «спрятанный», но тем самым и особо обозначенный, «вставной», сюжет об «особенном человеке»; многозначительные обращения автора к «проницательному» читателю; система намеков, аллегорий, цитат. Всё это создает многоуровневое художественное пространство и становится проявлением эстетической трансформации действительности, создает этакий модернистский, «барочный» хронотоп, требующий активности читателя, приглашающий к разгадке аллегорического образного ребуса. Так, неожиданно для читателя в главах, обозначенных этапами жизни Веры Павловны, появлялись «внутренние» главы, своеобразный интертекст, как бы совсем другое произведение со своими заголовками: «Гамлетовское испытание», «Первый сон Верочки», «Похвальное слово Марье Алексеевне», «Третий сон Веры Павловны», «Теоретический разговор», «Особенный человек», «Беседа с проницательным читателем и изгнание его».
Пожалуй, проявлением публицистичности становится лишь сама манера подачи художественной реальности: это не столько «изображение», сколько «рассказ» о действительности, в котором чувствуется назидательное, навязчивое присутствие авторского голоса.
Система героев романа была близка композиции «Отцов и детей». Чернышевский группирует персонажей по возрасту, социальной принадлежности и мировоззрению. Старый мир представлен в романе в образах «старших» – Марьи Алексеевны Розальской, Павла Константиновича, Анны Петровны – и «молодых» – Жюли, Сержа, Михаила Ивановича Сторешникова. Ироническое отношение автора к психологии «прошлого» выражено в «Похвальном слове Марье Алексеевне». Этот мир в романс тоже неоднороден. Так, Серж и Сторешниковы олицетворяют праздную жизнь, или на аллегорическом языке романа «фантастическую грязь». «Реальная грязь», связанная с борьбой за существование, ради которой все средства хороши, изображается через судьбу Марьи Алексеевны. Однако она потенциально содержит будущее обновление, из нее вырастает «пшеница» («Второй сон Веры Павловны»),
Общий публицистический вывод состоит в том, что старый мир нуждается в переустройстве. И мещанская, и дворянская среда ведут к нравственной деградации личности, одних развращая необходимостью приспосабливаться к миру, где всё решают деньги, а других – наоборот, обилием материальных благ, доставшихся безо всякого труда.
«Новые люди» в романе – это Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна. Социально они представляют уже знакомый читателю по роману «Отцы и дети» мир разночинцев, но акцент здесь делается не на социальном происхождении и борьбе «нигилиста» с дворянами, а на психологии, образовании, труде, быте «новых людей». Увлеченная симпатия автора к героям этого типа приобретает черты откровенной идеализации и потому дидактизма Чернышевский-философ наделяет героев системой приоритетов «эгоизмов», уже известной по работе «Антропологический принцип в философии» (1860). Он исходит из буржуазного принципа личной «выгоды» как источника деятельности, но придает ему социалистический характер, основанный на преодолении эгоцентризма в пользу общества. Эгоизм «новых людей» Чернышевский называет «разумным». Это трудовая теория, согласно которой человек работает на себя, но результаты его труда приносят пользу окружающим. Писатель с каким-то умилением и чувственным удовольствием, легко объяснимым лишениями тюрьмы, подчеркивает бытовой практицизм своих любимых героев, их умение найти дешёвые и качественные продукты питания («сливки», например). Материалистическая эстетика писателя эту сторону «жизни» утверждала как «прекрасную».
Социально «новые люди» обращены к практической трудовой пользе. Лопухова и Кирсанова сближает типичное для разночинцев медицинское образование. Примем Лопухов объясняет свое обучение в медицинском Академии практической выгодой. «Мы с отцом видели, – рассказывает он Вере Павловне, – что медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых не подняться бы мне. Вот вам причина, по которой я очутился и остался в Академии, хороший кусок хлеба». Писатель с сентиментальным любованием и романтическим увлечением изображает эту практически полезную деятельность разночинцев-буржуа. Психологически в них преобладает не жертвенность, а «разумно эгоистическая» профессиональная целеустремленность, активность.
Роль «новых людей» получает просветительское, революционно подготовительное значение. В то же время писатель намекает и на реальную подпольную работу, например, в эпизоде «загородной поездки на острова», в которой участвуют Лопухов, офицер NN и Рахметов. Несомненно участие в революционной работе Лопухова-Бьюмонта после его «ухода со сцены».
Важным в социальном и политическом отношении «делом» становится судьба Веры Павловны. Полемизируя с Тургеневым, создавшим иронический образ «эмансипированной женщины» Евдоксии Кукшиной, Чернышевский увлеченно изображает путь героини, сумевшей разорвать с пошлой мещанской средой, стремящейся к образованию и материальной независимости, к свободной от патриархальных предрассудков личной жизни.
Швейные мастерские, организованные Верой Павловной, были и новым экономическим, и новым социальным, и новым нравственно-психологическим явлением. Героиня стремится помочь в получении независимости другим женщинам. И в то же время «социалист» Чернышевский подчеркивает материальную выгоду деятельности подобного рода коммуны.
Решающее значение в развитии социалистической идеи книги получает «Четвертый сон Веры Павловны», изображающий будущее, в котором люди, «разумно», рационально рассчитав и осознав все «эгоизмы», все «выгоды» коллективной жизни, живут бытовой и трудовой общиной. Писатель увлечённо подчеркивает, как они прекрасны, свободны, что труд для них – высшая радость, проявление любви к другим. Чернышевский воспевает и «новые технологии» труда и быта грядущей цивилизации, где всюду «стекло и алюминий» (так и представляются армейско-зэковские алюминиевые миски и ложки, от которых через педелю чернеют зубы).
Важную роль в изображении «новых людей» играют новые личностные отношения, вынесенные в официальное оглавление романа: «Первая любовь и законный брак», «Замужество и вторая любовь», «Второе замужество». Любовно-семейный треугольник Лопухов – Вера Павловна – Кирсанов разрешался в духе «разумного эгоизма». Лопухов женился на Вере отчасти из-за идейных соображений, для того чтобы вырвать её из пошлой мещанской семьи матери. Это был почти «фиктивный» брак (всё-таки они чувствовали симпатию друг к другу), что в понимании Чернышевского оправдывало «вторую любовь» героини. При всей иронии по отношению к разработке в романе проблемы супружеской измены нужно отметить, что это была острая тема. Ведь по церковным канонам второй брак разрешался лишь в случае смерти одного из супругов. Тяжелейшие нравственно-психологические проблемы, связанные с «узами» брака, имели и жизненное и литературное проявление. Достаточно назвать по существу «историческую» проблему «измены» жены в «Грозе» А.Н. Островского (сегодня такой конфликт разрешился бы обычным разводом) или «Анну Каренину» Л.Н. Толстого. В наше время никакой «общественной» катастрофы не было бы не только в случае с первым мужем, но и со вторым. В жизни существовала та же ситуация. «Скандальная», катастрофическая судьба Тютчева и Денисьевой. Более благополучная (но не без проблем) история Некрасова и Панаевой. Или получавшая «династическую» сложность гражданская семья Александра II и княжны Долгорукой. В этом смысле Чернышевский затронул в романе по-настоящему серьёзную проблему. Отсюда такой действительно «скандальный» – благочестиво гневный или обывательски «хихикающий» – резонанс.
Семейная проблема решалась в духе общей концепции. Лопухов великодушно, почти по-пушкински («Как дай вам Бог любимой быть другим…»), уступает свою «законную» жену товарищу и во избежание юридических и нравственных осложнений имитирует самоубийство. Уйдя «со сцены», он целиком погружается в революционную деятельность. Личный «эгоизм» супруга отступает на второй план перед счастьем «двоих» и общественной борьбой. Эта жертва «личным» ради революции раскрывается в аскетической психологии и реальных людей (стихотворение Некрасова «Памяти Добролюбова»), и литературных героев – Рахметов у Чернышевского, Павел Власов в романе Горького «Мать».
Женившись на Вере Павловне, Лопухов изначально предоставил ей полную свободу. Она влюбляется в его лучшего друга Кирсанова, который «перевоспитывает» проститутку Настю Крюкову. После смерти Насти Вера Павловна и Кирсанов сочетаются «настоящим» браком, у них рождается ребенок. В финале Лопухов под именем Быомонта возвращается из Америки и женится на богатой дворянке Кате Полозовой, которая «порвала» со своим кругом и которую спас от смерти Кирсанов. Обе пары обзаводятся общим хозяйством и живут в гармонии маленькой коммуной.
Межличностные отношения, изображённые Чернышевским, вызвали наибольший резонанс в публике. Набоков в романе «Дар» приводит суждение Герцена о том, что роман заканчивается не просто фаланстером, а «фаланстером в борделе». Набоков отмечает, что «чистейший» Чернышевский, никогда публичных домов не посещавший, в бесхитростном стремлении «особенно красиво обставить общинную любовь, невольно и бессознательно, по простоте воображения, добрался как раз до ходячих идеалов, выработанных традицией развратных домов». В пример Набоков приводит образ «весёлого вечернего бала», основанного на свободе и равенстве отношений, при которых «то одна, то другая чета исчезают и потом возвращаются опять». Этот «вечерний бал» напоминал сцены из рассказа Ги де Мопассана «Дом Телье». Ирония Набокова лишь, действительно, не учитывает «идеализм» материалиста Чернышевского, изображавшего любовные отношения во время своего двухгодичного заключения в одиночной камере.
Главное внимание Чернышевского было сосредоточено на социальных проблемах. Образ «особенного человека» Рахметова был, по существу, первым литературным воплощением характера «профессионального» революционера. Писатель романтизирует его личность, наделяя чертами исключительного героя. Рахметов, сын богатого помещика, отказывается от состояния и становится своеобразным «религиозным» подвижником революции. Он сознательно тренирует волю, изучая «скучные» книги, которые никто не читает, живёт одной жизнью с бурлаками, получая прозвище Никитушка Ломов, соблюдает «боксёрскую» диету, питаясь говядиной, чтобы «напитать» мышечную силу, наконец, спит на войлоке, утыканном гвоздями, – йог, сверхчеловек Образ «особенного человека» получился пленительным, выражая извечную бессознательную тоску по сильной личности: от былинного богатыря и святого-чудотворца до авантюриста и сверхчеловека, изображённого Достоевским в «Бесах» и философски прославленного Ницше.
Яркая сильная личность была привлекательна даже помимо политической деятельности Рахметова, но и сама эта деятельность романтизировалась вместе с ним. Разве не Рахметову подражали затем Нечаев, для которого не существовало не каких нравственных ограничений, или идеалисты-террористы убивавшие Александра II, или расстрелявшие его внука Николая II вместе с семьей, канонизированной как мученики? Или тот, кого роман «перепахал», считавший, что чем больше удастся расстрелять священников, тем лучше для революционного дела? Один из ревностных поклонников характера Рахметова Д. Каракозов, готовя покушение на Александра II, выбрал для этого 4 апреля 1866 г., третью годовщину завершения романа. Думается, что всякая поздняя ирония по поводу произведения и его персонажей по меньшей мере является легкомысленно!
Представление о художественной несостоятельности романа также вызвано лишь формально-эстетическими причинами, несоответствием сложившемуся в это время канону социально-психологического романа. Конечно, было бы соблазнительно допустить, что роман написан плохо специально, в провокационных целях.
Вероятно, оправдываясь, сам писатель говорил о том, что романист он слабый. Однако уже Радищев в свое время в связи с «Путешествием из Петербурга в Москву» пояснял, что его главной целью является не красота, а правда. «Правда» в литературе всегда оказывала на русского человека магическое воздействие.
Ведь и популярные в 1860-е годы писатели-демократы очеркового реализма не стремились к изяществу стиля, поэтика их произведений основывалась на жёстком фактографическом натурализме. У Чернышевского эстетически действовала «господствующая мысль», о чем он говорил в своей публицистике. И эта «мысль» оказалась художеством особого типа, всколыхнувшим общественность и литературу. В ней выразилось коллективное бессознательное настроение значительной части общества, по преимуществу молодежи.
Согласно официальной версии, роман появился в печати по недосмотру цензуры. Якобы сработала «уловка» писателя, представившего политический текст как семейно-любовный. После отдельной публикации произведения цензор, разрешивший её, был уволен. По другой версии, цензор не посмел запретить издание текста, изученного как материалы следствия охранным отделением, ведь тогда Чернышевский ещё не был осуждён, и его творчество рассматривалось на общих для цензуры основаниях. Согласно третьей версии, роман был разрешён к публикации сознательно, чтобы дискредитировать Чернышевского, потому что после романов Тургенева и Гончарова его художественная несостоятельность была очевидной.
Однако роман «Что делать?» сразу же стал культовым произведением. Написанный как «учебник жизни», текст вызвал многочисленные подражания. Достаточно назвать коммуну, организованную писателем В.А. Слепцовым по аналогии с мастерскими Веры Павловны. Массовые подражания вызвал и образ Рахметова. Критик А.М. Скабичевский вспоминал, что «Рахметовых можно было встретить на каждом шагу». Один из вождей революционного движения 1860-х годов, Ишутин говорил, что знает только трех великих людей – Иисуса Христа, апостола Павла и Николая Чернышевского.
Как магическое заклинание, как пророчество звучали слова Чернышевского о будущем: «Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего…». Этому видению трудно что-либо возразить
Это почти апокалипсис: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…» (Отар. 21; I).
Не удивительно, что роман бывшего ученика семинарии и подававшего большие надежды проповедника и богослова так подействовал на русских революционеров с их религиозными, эсхатологическими корнями. Этот же эффект вызвал и бурную полемику, и серьезный критический анализ. Так, Н.Н. Страхов в статье «Счастливые люди» (1865) оспаривал рационализм и оптимизм «новых людей» и отмечал отсутствие между ними глубоких конфликтов, делавшее характеры надуманными. М.Е. Салтыков-Щедрин в статье «Наша общественная жизнь» (1864) выразил сочувствие идее романа, но отметил, что автор не смог «избежать некоторой произвольной регламентации подробностей». Высокую оценку роман Чернышевского получил в статье Д.И. Писарева «Новый тип», названной впоследствии «Мыслящий пролетариат», (1865). Сам критик до 1866 г. находился в той же Петропавловской крепости.
Глубокой аналитической реакцией на роман Чернышевского стали произведения Ф.М. Достоевского «Записки из подполья», «Преступление и наказание», Н.С. Лескова «Некуда» и «На ножах», Л.Н. Толстого «Живой труп».
В «Записках из подполья» Достоевский подробно анализирует теорию «разумного эгоизма», будущее, основанное на точном расчете всех «выгод». Экзистенциальный психолог и философ доказывает, что в этой концепции не учтена самая главная «выгода» – «самостоятельное хотение», свобода «Я», которая иногда заставляет человека поступать вопреки самой разумной выгоде. Без такой, подчас хаотичной, бунтующей и анархической ноуменальной сущности личность просто перестает существовать. Развивая эту мысль, М. Волошин в статье «Пророки и мстители» (1906) писал, что когда кто-нибудь хочет сделать людей «добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходит к желанию убить их всех».
В характере героя «Преступления и наказания» Лужина «разумный эгоизм» логически перерастает в просто эгоизм, в принцип «возлюби одного себя». Так же «разумно» рассуждает и «негилист» Горданов из романа Лескова «На ножах».
У Достоевского «подпольный человек», как и Кирсанов из «Что делать?пытается «перевоспитать*– проститутку. Но это приводит к краху его рационального, книжного самосознания. В романе «Преступление и наказание» близкая ситуация получит совсем другое содержание и решение.
Столь пристальное внимание к образам и идеям «художественно слабого» романа «Что делать?» говорит о его уникальном значении в русском литературном процессе. Вопросы произведений «Кто виноват?», «Что делать?», «Кому на Руси жить хорошо» (у Некрасова в заглавии нет знака вопроса, но в самой поэме этот вопрос звучит) действительно выражали актуальные проблемы времени. Но они же рождали контр-вопросы и ответы. В одном из своих афоризмов В.В. Розанов иронически замечал: «Что делать? – воскликнул нервный петербургский юноша. Как что? Если лето, собирать ягоды и варить варенье. Если зима, пить с этим вареньем чай». Образ «Четвертого сна Веры Павловны» по-новому переосмысляется в сатирическом романе Е. Замятина «Мы», сформировавшем жанровую разновидность антиутопии.
Роман «Пролог», создававшийся в 1867–1870 гг. на каторге и предназначавшийся для публикации за границей, тематически связан с произведением «о новых людях».
Политическая тема выражена в нем более открыто, но при этом в её развитии исчезает радикальность. Революционная мысль сменяется рефлексией. Иногда эту перемену считают очередным «иносказанием», стремлением обмануть «глупую» цензуру (в цензурном комитете служил, например, И.А. Гончаров). Однако можно предположить, что Чернышевский пытался найти, выработать новое представление об общественных преобразованиях в России. Опыт каторги не мог не повлиять на мировоззрение писателя.
События романа «Пролог» обращены не к будущему, а в прошлое. В нем изображается жизнь периода подготовки крестьянской реформы. Действие разворачивается в 1857 г. Композиционно произведение делится на две части «Пролог пролога» и «Из дневника Левицкого за 1857 год». С жанровой точки зрения это роман социально-психологический. Главные персонажи имеют прототипов: у вождя демократов, журналиста Волгина – сам автор, у жены Волгина – Ольга Сократовна Чернышевская, у Левицкого – Добролюбов, у графа Чаплина – М.Н. Муравьев, у Рязанцева – один из лидеров либеральной интеллигенции К.Д. Кавелин, у Савелова – активный деятель крестьянской реформы Н.А. Милютин.
В изображении «новых людей» писатель отходит от принципа группового портрета. Действующие лица заметно расходятся в понимании общественных проблем и перспектив, спорят по вопросам революционной тактики. Так, сам Волгин противопоставлен нетерпеливому и страстному Левицкому трезвым политическим реализмом и «апатией», сформированной опытом жизни. Он отказывается от обсуждения радикальных действий, аргументируя это тем, что вся нация «снизу доверху» – нация рабов. Чернышевский был убежден, что дело освобождения народа не очередная бюрократическая акция, а важный нравственный акт и требует высокой этики от его участников.
В целом литературное творчество Чернышевского было частью его общественно-политической и публицистической деятельности. В художественном отношении проза писателя заложила те стилевые традиции, которые будет развивать социалистический реализм XX в. В литературном процессе XIX в. его произведения стали одной из вершин революционно-демократического направления 1860-х годов.
Литература
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 16 (дополнительный). М., 1939–1953.
Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1976.
Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Ч. 2. Л., 1991.
Лебедев АЛ. Герои Чернышевского. М., 1962.
Пинаев М.Т. Н.Г. Чернышевский. Художественное творчество. М., 1984.
Н.С. Лесков (1831–1895)
Мировая слава Николая Семеновича Лескова сегодня никого не удивляет. Общеизвестно, что его произведения переведены на все основные европейские языки, в США и Японии наравне с Л.Н. Толстым и Ф.М. Достоевским. Это наша гордость, наше культурное достояние. И только академическая наука знает, как горек и труден был его писательский путь.
Сложные, запутанные отношения с петербургскими радикалами, нигилистами, революционно настроенными людьми начала 60-х годов XIX в. послужили отправным моментом в его литературной биографии. Они и определили вектор творческой жизни писателя, начиная с его первого романа «Некуда», который был назван современниками несправедливым и клеветническим, но, как показало время, оказался пророческим.
Оригинальный, изобретательный ум, выдающаяся сила его дарования, социальный опыт и знание народной жизни не понаслышке и не по литературным источникам, а, что называется, искони, от самого начала своего бытия («я вырос в народен), колоссальная духовная энергия не могли заставить Лескова остаться в стороне от общественной борьбы. Человек прогрессивных взглядов, он был прочно заперт в исторических обстоятельствах своего времени с его принципиальным размежеванием идейных предпочтений, но неизменно отстаивал в произведениях собственную точку зрения и нигде себе не изменил, хотя ему приходилось много страдать, смиряться и идти «против течений». Цензура, словно собственная тень, всегда была на страже.
Теперь Лесков – один из крупных русских писателей-реалистов, мастер, новатор, волшебник слова, преобразователь повествовательных жанров. Его талант, интуиция великого художника позволили ему не только передать скорбное, тревожное мироощущение простого человека в меняющемся у него на глазах мире, предупредить общество о грозных катаклизмах, но и попытаться просветительски восстать против того раскола, который вызревал в недрах российской жизни.
Родословная Николая Семеновича Лескова характерна для русской жизни XIX в.: дед по матери – из дворян, дед со стороны отца – священник. Отец писателя, Семен Дмитриевич Лесков, окончил духовную семинарию, но служил чиновником, получил потомственное дворянство. Детские годы писателя прошли в основном в сельской местности – хутор Панино, имение богатого помещика М.А. Страхова в Горохове. Деревенская крестьянская жизнь – вот первые самые яркие впечатления: очарование русской природы и подневольная судьба народа Откройте любую страницу его произведений – там русский дух, жизнь России во всей её трагической красоте и безысходности.
Получив в доме помещика Страхова первоначальные знания, в 1841–1846 гг. Лесков учится в Орловской гимназии. Он много читает. Эта страсть к чтению станет основой блестящей эрудиции, которая будет изумлять современников и определит поэтику его творчества. Имена мировых классиков и их героев постоянно присутствуют на страницах его произведений: Беньян, Шекспир, Стерн, Байрон, конечно, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, не говоря уже о библейских героях и сюжетах. Библия и есть тот фундамент, на котором возводится стилистика и проблематика его творчества. Каждое его произведение, не просто русские очерк или повесть, на них всегда есть отблеск вселенской значимости изображённых событий.
Осиротел Лесков рано, гимназии не окончил. В 1847–1849 гг. он служит чиновником Орловской палаты уголовного суда, а затем его переводят в Киевскую казенную палату помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения. Здесь будущий писатель пережил глубокое душевное потрясение, и после этого его мысли окончательно настроились на тот высокий лад, который он определял словами одного богословского писателя: «предстояние ума в сердце». Немаловажный этап в жизни составила служба в частной фирме (1857–1860) у англичанина А.Я. Шкотта, который был мужем его родной тёти Пелагеи Дмитриевны. Должность агента фирмы предполагала многочисленные поездки по России и последующие служебные отчёты. Уже в этих деловых письмах Шкотту проявился его литературный талант, колыбелью которого был очерк на злобу дня, публицистическая статья. Пристрастие к очерковости, острой публицистичности станет важной составляющей его поэтики.
В 1861 г. Н.С. Лесков переезжает в Петербург. Он становится профессиональным писателем, и сложная пёстрая атмосфера «шестидесятых» окутывает молодого «идеалиста-практика».
Проза Лескова в целом представляет собой особый художественный мир. Он густо населён: русские, украинцы, цыгане, татары, якуты, поляки, немцы, англичане и т. д. И всегда находится под пристальным взглядом автора-создателя, от которого не ускользают ни малейшее движение души его персонажей, ни развитие событий, их подтекст, ни проявление злой и доброй воли и иррациональные глубины. Всё тщательно отделано, оформлено, композиционно и ритмически выстроено.
Пространство этого мира широко распахнуто: крайний север, с его первобытными законами выживания, и слепящие знойные южные степи, в которых мучительно страдал и тосковал очарованный странник; Кавказ и Прибалтика; Англия, в которую был приглашён русский умелец Левша, но не остался в этой благополучной стране; Франция, где нашёл своё сытое благоденствие Шерамур, и даже легендарный Египет времен Римской империи. Приближение к реальности часто достигается указанием на не вымышленные, а настоящие города и сёла, где автор наблюдает события и происшествия: Петербург, Москва, Киев, Орел, Мценск, Тула и провинциальные губернии, которые в дни молодости исколесил писатель. Всё в этом мире кипит, обжигает, взламывает застывшую форму привычного бытия.
Дав многослойную панораму событий во временной и исторической ретроспекции, Лесков ставит в центр своих художественных наблюдений духовно – нравственные поиски героев, праведничество как один из вариантов противостояния человека «неправде века сего». Это стержень, нерв, боль его художественной вселенной, всего творчества.
Автор любит изображать своих героев в минуты самоиспытания, в период «хождения по пустыне» и исхода и» «египетского рабства». Он пишет в рассказе «Павлин» (1874): «Я хотел бы для более точного определения наблюдаемого много тогда состояния этого человека воспользоваться библейским выражением и сказать, что он был восхищен из самого себя и поставлен на какую-то особую степень созерцания, открывающего ему взгляд во что-то сокровенное». Писатель создал обширную галерею разнообразных типов людей, но отдавал предпочтение герою праведному, странному, не привычному в повседневной жизни. Странник и есть главный герой Лескова. И не обязательно он должен исколесить всю Россию как Овцебык, Иван Флягин или артель раскольников в «Запечатлённом ангеле». Автору ближе понятие странствия как духовного пути и образа жизни. Само слово «странный» – это и «находящийся в пути», «идущий куда-либо», но и «вызывающий недоумение», удивление своей необычностью. У таких героев, как Однодум, Несмертельный Голован, Фермор, рядовой Постников, Левша, старец Памва, Панька, немец-учитель по прозвищу Коза и многих других, есть свои, высокогуманные ценностные ориентации, помогающие им возвыситься над неприглядными нормами морали и нравственности. Они живут в предчувствии возвращения на свою духовную родину, и в этом смысле они тоже странники на чужбине, что не мешает им любить жизнь, творить, делать добро, быть гражданами своего отечества.
Всё творчество Лескова символично, но в то же время для него характерна сочность, яркость, точность, реалистичность бытовых описаний.
Шестидесятые годы. Начало творческого пути. «Овцебык» (1863), «Некуда» (1864). Начало 60-х годов в творческой биографии Лескова – это и чистая публицистика, и художественно-публицистические очерки, и первые нравоописательные рассказы о русском народе: «Погасшее дело» («Засуха»), «Разбойник», «В тарантасе», «Овцебык» и др.
Своеобразным откликом на жизнь шестидесятых годов, на общественное пробуждение этого времени явился рассказ «Овцебык» о двух возможных вариантах развития России. Первый – революционный. Носителем этой идеи является главный герой, своего рода «нетерпеливей» (термин автора), разночинец Василий Петрович Богословский, по прозвищу Овцебык. Второй – буржуазного толка: свободное развитие русской промышленности и торговли, путь реформ, искоренение крепостничества. Представитель этого направления в рассказе – «постепеновец» Александр Иванович Свиридов.
Как реалист-практик писатель не верит в возможность крестьянской революции. Он не доверяет теориям, в основании которых лежат чуждые социальные умозаключения и философские идеи. Странное прозвище – Овцебык – Богословскому дано явно не случайно. Оно словно подчеркивает его несовместимость с русской народной жизнью; ведь овцебык – редкое животное, обитающее в Гренландии и на островах Канадского арктического архипелага. В России оно было неизвестно. Этот образ – художественное открытие Лескова. Писатель исследует причинно-следственную зависимость: утрата человеком веры в Бога приводит к внутреннему смятению и перерождению героя, природная доброта оборачивается злобой, теории и идеи превращаются в химеры, поиск путей к преобразованию общества ведёт к личной драме.
Не так легко разгадать сущность главного героя, этого «нового Диогена», появившегося на русской почве. Вот Овцебык только что буквально свалился на голову своему знакомому Челновскому. Сели обедать. «Василий Петрович налил себе рюмку водки, влил её в рот, подержав несколько секунд за скулою и проглотив её, значительным образом (выделено мною. – Н.К.) взглянул на стоящую перед ним тарелку супу.
– А студеню нет разве? – спросил он хозяина.
– Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого, – отвечал Челновский, – и не приготовили.
– Сами могли есть.
– Мы и суп можем есть.
– Соусники! – прибавил Овцебык. – И гуся нет? – спросил он с ещё большим удивлением, когда подали зразы.
– И гуся нет, – отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. – Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом.
– Завтра – не сегодня».
То ли наивность, то ли бесцеремонность героя всё более будут озадачивать рассказчика при последующих их встречах. Герой бредёт по жизни «на ощупь», ищет ответы у Платона и иных античных мыслителей. Не случайно на страницах рассказа возникает сравнение Богословского, пребывающего в тёмном мире своих философских химер, с Квазимодо Виктора Гюго, горькая судьба которого в какой-то мере объясняется его оторванностью от народа. Это сравнение усиливает трагедийное звучание рассказа.
Окружающих людей Овцебык делит всего лишь на две категории. Первая – это те, с кем он «сходился» и кто ему помогал, устраивая его житейские дела, находя ему работу, которую он тут же бросал и по уважительным причинам, и просто от скуки. Делать он, как выясняется, ничего не умеет, даже налить гостям чаю. Вторая категория – все остальные, которых он обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Женщин всех считал дурами, дрянью. И вообще – «всё дребедень». Дух отрицания полностью овладел сознанием героя. «Сердце моё не терпит этой цивилизации, этой нобилизации, этой стерворизации!..» – говорит он Челновскому.
Так кому же проповедовать теории о правде, справедливости, равенстве, революции, если все «свиньи»? Монахи его речей не понимают, сближение с раскольниками разочаровывает, и даже с рассказчиком в последнюю встречу беседа не ладилась. Чего не может понять или почувствовать Овцебык? Оказывается, самой сути русской жизни. В этом убеждает четвёртая глава, где описываются воспоминания рассказчика о своём детстве, когда шестилетним ребёнком он сопровождал свою богомольную бабушку в поездках по монастырям и пустыням. Автор поменял местами последовательность событий, сначала представив нам главного героя с экзотическим прозвищем, а потом ретроспективно показав глубинку русской жизни с её каноническим пониманием добра и зла, норм и ценностей человеческих взаимоотношений. И в этом обнаруживается особый смысл, подготавливающий читателя к оценке душевных мук Овцебыка, его напряжённого неприятия народной жизни, которую он знает весьма поверхностно да и особого интереса к ней не проявляет.
Миру Овцебыка противостоит другой – монастырский, с его старинным укладом быта, чудотворными иконами, верой. Здесь жизнь протекает в труде, пении, в рассказах о странниках, разбойниках, в слове, в непосредственной близости к природе. Непреложное отношение к бытию, простое и мудрое – уж что определено Богом, то и будет. Отсюда и покой, и весёлая беспечность, и «чисто русское равнодушие к самому себе». Мало что изменилось за прошедшие годы. Это понимает рассказчик, но не Овцебык.
Усиливает несовместимость Богословского и окружающей жизни появление в повествовании главного оппонента героя, Александра Ивановича Свиридова. Возникает необходимая драматическому повествованию оппозиция: Овцебык – «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся», – и талантливый Свиридов, одарённый ясным практическим умом. И самое обидное для Овцебыка в том, что этого нового хозяина жизни не в чем упрекнуть: не промотавшийся помещик, не разночинец, не церковного звания, а бывший крепостной (!), в 19 лет откупивший сам себя, обучившийся строительному делу, даже в Германию ездил совершенствоваться, потом откупивший семью, крепостную девушку Настасью Петровну, ставшую его женой и «правой рукой» Свиридова: «Она и хозяйство по хутору ведёт, и приказчиков отчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает». Невольно рядом встают другие факты: нищенствующая старуха-мать Богословского умирает в богадельне, а жена, без смысла и любви взятая у раскольников, брошена на произвол судьбы.
К этим людям определяется на работу Богословский по протекции рассказчика. И наступает для Василия Петровича время великого искушения. Оказалось, что не все мужчины – пьяницы, а женщины – дуры. За этим фактом просматривался другой, более серьёзный и типичный; история неумолимо поворачивала от патриархального быта со всеми его плюсами и минусами в буржуазно-капиталистическое русло и предъявляла человеку новые жёсткие требования: хочешь жить – работай, твори, ищи себе место. Пытался Овцебык наглядно объяснить рабочим Свиридова, что такое революция, но они не пошли за ним.
Горечью и обидой пронизано письмо Богословского к рассказчику в Петербург, в котором он писал о Свиридове: «…вижу, что он, сей Александр Иванов, мне во всём на дороге стоял, прежде чем я узнал его. Вот кто враг-то народный… С моими мыслями нам вдвоём на одном свете жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо он излюбленный их… Никто меня не признает своим, и я сам ни в ком своего не признал».
Смешение добра и зла, амбивалентная природа сознания героя, где нет веры и любви, благодарности и добросердечия, всего того, что сам герой называл «страстями», выталкивают его сначала из общества, а потом и из жизни. Самоубийство его такое же нелепое, как и «теории».
Рассказ Лескова полифоничен. Голоса в нём равноправно ведут свои партии. Голос рассказчика перед остальными особых преимуществ не имеет. Он в равной мере соприсутствует в событиях и даже откровенничает с читателями: «Неужели же, – думал я, – ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в Бога, отвергал его и паки находил его; любил мою родину и распинался с нею и распинающими её!» Это лирическое размышление рассказчика о себе лишний раз убеждает, что появление Овцебыка не случайность, а грозное знамение эпохи.
В произведении определились несколько ведущих мотивов, которые, варьируясь и эволюционируя, станут характерными для всего последующего творчества писателя: полемика с нигилистическими настроениями, мир незабвенной православной старины, картины нравов русской жизни, незаурядные женские характеры, т. е. фундаментальная духовная проблематика.
Роман «Некуда» (1864). Каждое произведение Лескова создавалось в русле самых актуальных проблем времени. Тема нигилизма в России используется им в ряде произведений, начиная с «Овцебыка», и далее в романах «Обойдённые» (1865), «На ножах» (1870). Лесков был человеком независимым и предложил своё понимание этого социального явления.
Роман «Некуда», вышедший под псевдонимом М. Стебницкий, – первое большое произведение писателя о современной жизни, об общественном движении, свидетелем которого он был.
Впоследствии «Некуда» был определен критикой как «антинигилистический» роман, и с этих позиций, как правило, оценивалось это роковое для литературной судьбы Лескова творение, метко названное Л.Аннинским: «Некуда» – катастрофа в начале пути». Рассматривая издательскую судьбу романа в книге «Лесковское ожерелье» (1982), критик писал: «Может быть, всемирная слава его автора, взошедшая в новом веке и непрерывно возрастающая, со временем вытащит и эту его книгу из тени библиотечных хранилищ, и новые поколения прочтут его по-новому (такое бывает в жизни книг); но та драма, которая свершилась с этой книгой при жизни старых поколений, по-своему закончилась».
В «Истории русской литературы XIX в.» В.И. Кулешов (МГУ, 1997) отмечает, что роман «Некуда» «вполне читаем и сделан мастерски, хотя стиль и язык еще не чисто лесковские, а газетно-вылощенные, «правильные», чем в большинстве случаев отличался тогдашний демократический язык»… в романе много сцен, упреждающих «Бесов» Достоевского, читаемых с большим интересом». Он убедительно доказывает, что узко социологические мерки, укоренившиеся в литературоведческой методологии тесны Лескову. Они умаляют талант писателя.
Сам Лесков так оценивал своё детище: «Роман этот носит на себе все признаки спешности и неумелости моей, но успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей “комической эпохи"». Добавим, не только спешность и неумелость, но и невероятное количество цензурных сокращений и изъятий («печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом в типографии»). Иногда «вымарывались не места, а целые главы, и притом часто самые важные». «Некуда», – объясняет автор, – вина моей скромной известности и бездны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинен по заказу Третьего отделения… На самом же деле цензура не душила ни одной книги с таким остервенением, как «Некуда». В таком виде этот роман-первенец Лескова и вошёл в литературную жизнь, а полноценная его рукопись была утеряна. Однако, невзирая на указанные погрешности, роман предстаёт как художественно-исторический документ об ушедшей эпохе, о поисках человеческой мысли и иллюзиях, её питавших, заблуждениях и ошибках людей. Спор писателя с миром «шестидесятых» не мелок и возникает не на пустом месте; в нём заложен грозный и высокий смысл бытия человека вообще.
В наше время после долгих лет издательского молчания роман был включен в новое полное собрание сочинений Лескова в 30 томах и появился в 4-м томе с серьёзными интересными замечаниями В.А. Недзвецкого, который справедливо считает, что. «лишь сейчас по существу происходит и настоящее открытие этого произведения». Автор рассматривает «Некуда» не как тенденциозную (антинигилистическую) книгу «о новых людях» 60-х годов, а как художественное произведение, во многом опередившее свое время, давшее не только исследование самых острых проблем, но и предупредившее «читателя о пагубности преобразования общества и человека посредством любых отвлечённо-рационалистических концепций, игнорирующих многообразие и неповторимость проявлений живой жизни, нравственное чувство и свободную волю (выбор) реальной личности».
В разговоре с одной из главных героинь произведения, Лизой Бахаревой доктор Розанов объясняет ей простую истину: мало любить абстрактное человечество, надо «жалеть людей, которые вас окружают и быть к ним поснисходительнее. Пока мы не будем считать для себя обязательным участие к каждому человеку, до тех пор все эти гуманные теории – вздор, ахинея и ложь, только вредящая делу». Сравнивая новые теории с прокрустовым ложем, так что «всякого либо повытянут, либо отрубят», Розанов говорит: «Вот и эти теории-то то же самое прокрустово ложе. Они надоедят всем, поверьте, и как бы теоретики ни украшали свои кровати, люди от них бегать станут. Это уж и теперь видно».
Но оставим в стороне социологическую сторону романа, она тщательно рассмотрена во многих учебных пособиях с выявлением всех прототипов героев. Обратим внимание на иные аспекты. Современный читатель, открывая книгу Лескова, узнаёт в ней прежде всего социально-психологический роман, один из первых в русской литературе своего времени, так хорошо знакомый по своей принадлежности из классики: Стендаль, Бальзак, Диккенс и др. Представлена широкая картина жизни, как и в стенда-левском, например, романе «Красное и чёрное» (1830). Исследуются разные срезы бытия: провинция, крупный город, столица. У Стендаля – лесопилка, где живет восемнадцатилетний Жюльен Сорель, не желающий мириться с существующими общественными порядками, Верьер, семинария в Безансоне, Париж. У Лескова – дворянская усадьба – имение Бахаревых в селе Мерево, уездный город, монастырь, наконец, Москва и Петербург; речь пойдёт и о Польше, и о Швейцарии. Для создания панорамы событий Лесков использует в книге несколько сюжетных линий, связанных общей интригой, но по-разному освещающих отношение героев к происходящему.
Среди главных и второстепенных персонажей, населяющих этот художественный мир, где идут жаркие споры о жизненно важных ценностях, молодые люди – Лиза Бахарева, Женни Гловацкая, Вязмитинов, Зарницыи, Розанов, Юстин Помада – люди умные, образованные, интеллигентные; учителя, врачи. Разные пути уготованы им.
Главное столкновение Лесков видит вслед за Тургеневым («Отцы и дети», 1862) в конфликте между старшим поколением и молодёжью. Писатель угадал дыхание эпохи, трагическую ломку прежнего уклада, традиций старой российской жизни, тот момент, когда жить прежними ценностями невозможно, ибо их разменяло на мелочь старшее поколение, и дети уходят из дома. Они уходят, отвергая ложь, насилие над личностью, совестью, домашнюю тиранию, отбросив обветшалые приличия, прикрывающие пустоту, желая жить свободно и с пользой для общества. Такова Лиза Бахарева. Юная дворянка прочитала Гизо, Маколея, Милля, Шлоссера, Гегеля, Прудона и многих других мыслителей, философов, экономистов. Ей кажется, что можно изменить жизнь к лучшему: столько прекрасных теорий.
Этот разрыв интересов старшего и младшего поколений чувствует и понимает игуменья Агния, родная тётя Лизы. Она так характеризует время: «У нас что ни семья, то ад, дрянь, болото. В институтах воспитывают плохо, а в семьях ещё несравненно хуже?». Ей-то хорошо известны нравы: сколько несчастных приходит в монастырь за советом и помощью! Даже бахаревская птичница понимает, какова жизнь: «Скука престрашенная!», – говорит она о зимнем времени в усадьбе, – мы словно как в гробу живём».
Решение Лизы уйти и жить отдельно от семьи в среде единомышленников (как потом окажется, часто случайных и даже мелких или таких же заблудших, как и она сама, людей) приведёт её к гибели. Писатель не менее убедительно показывает эту драму с обеих сторон: жестокая категоричнось дочери – разбитое сердце любящего отца Егора Николаевича Бахарева, Проклиная свою дочь, умирающий Бахарев в беспамятстве бормочет: «Я полковник, я старик, я израненный старик. Меня все знают… мои ордена… мои раны… Она дочь моя. Где она? Где о-н-а? – произнёс он, тупея до совершенной невнятности. – О-д-н-а!.. р-а-з-в-р-а-т… Разбойники! Не обижайте меня; отдайте мне мою дочь, – выговорил он вдруг с усилием, но довольно твёрдо и заплакал».
И как тут не вспомнить слова другого умирающего любящего отца – бальзаковского Горио (роман «Отец Горио», 1834): «Дочки, дочки, Анастази, Дельфина! Я хочу их увидеть! Пошлите за ними жандармов, приведите силой! За меня правосудие, за меня всё – и природа, и кодекс законов. Я протестую. Если отцов будут топтать ногами, отечество погибнет. Это ясно. Общество, весь мир держится отцовством, всё рухнет, если дети перестанут любить своих отцов». Не возвышенная мечта, как у Лизы, а мелкие тщеславные причины не позволили дочерям Горио проводить его в последний путь, но исследуемая авторами причина этих поступков общая – гордыня, порождающая чёрствость, бессердечие, эгоистическое равнодушие к близким, слепота сердца, когда человек теряет способность отличать важное от малозначительного.
Роман Лескова остро полемичен, голос писателя поднимается до иронии и сарказма там, где он чувствует ложь, фальшь, неискренность. В нём ясно представлена тема лжепророков, спекулирующих на горе людей, их незнании, невежестве, темноте и неистребимом желании сделать жизнь лучше. Вслед за драматической сценой ухода Лизы из дома звучит ироничный голос автора: «Недавно публика любовалась картинкою, помещённой в одном из остроумных сатирических издании. Рисунок изображал отца, у которого дочь ушла. Отец изображен на этом рисунке с ослиными ушами.
Мы сомневаемся, что художник сам видел когда-нибудь отца, у которого ушла дочь. Художественная правда не позволила бы заглушить себя гражданской тенденции и заставила бы его, кроме ослиных ушей, увидеть и отцовское сердце». Нравственный урок, вытекающий из этих слов, понятен. Подыгрывая молодёжи переводом в разряд анекдота серьёзнейшей проблемы, недостойные журналы калечат молодые души.
Исследуя в различных аспектах непривычное для российской жизни, новое общественное движение «шестидесятых», Лесков вводит важный мотив, который будет затем развернут у Достоевского в его «Бесах». В Доме Согласия, руководимом Белоярцевым (прообразом этого совместного проживания «отрицателей» явилась организованная В. А. Слепцовым в Петербурге «Знаменская коммуна», 1863–1864), решаются такие важные вопросы, как, например, отмена христианского календаря и разделение времени на декады, где десятый день будет днём отдохновений и собраний. Во время одного из таких собраний жильцов Белоярцев видит икону, принесённую в дом няней Лизы Бахаревой Абрамовной. Возникает выразительный диалог
– Чей это образ тут на виду стоит?
– Мой сударь, моя икона, – отозвалась вошедшая за Лизиным платком Абрамовна.
– Так уберите её, – нервно отвечал Белоярцев.
Няня молча подошла к окну, перекрестясь, взяла икону и, вынося её из залы, вполголоса произнесла: «Видно, мутит тебя Лик-то Спасов, не стерпишь».
Автор «Некуда» приходит к выводу, что «век жертв очистительных просит». Эти слова принадлежат Лизе Бахаревой, прошедшей путём тяжелейшего искуса, отвергнув семью и веру, потеряв людей, которые её любили и которых любила она. Результатом всего этого стало трагическое одиночество и ранняя бессмысленная смерть.
Справедливо мнение В.Ю. Троицкого: «В «Некуда» воочию была поставлена тема нигилизма как растления духа, как отказа от духовных качал и традиций мыслящих прогрессистов, возлюбивших добро и возненавидевших ложь, но живущих вне религиозных представлений, лишь идеями социальной свободы». Романы Лескова «Некуда» и «На ножах» написаны на ту же тему, что и «Дым» Тургенева, «Обрыв» Гончарова, «Марево» Клюшникова, «Взбаламученное море» Писемского. Рассматривалось и оценивалось в этих произведениях движение шестидесятых годов, которое, по мнению авторов, для одних современников оказалось призраком, других привело к обрыву или тупик}' после которого идти было некуда. Показав несостоятельность «нетерпеливцев», Лесков противопоставил им глубину и основательность народной морали, впитавшей в себя христианские истины. Об этом он расскажет в последующих своих романах и рассказах..
Все повести цикла Н.С. Лескова о русских женщинах: «Житие одной бабы» (1863), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865), «Воительница» (1866), «Старые годы в селе Плодомасове» (1869) являются психологическими этюдами, в каждом из которых вычерчивается сложный рисунок состояния героини, попавшей в безвыходную ситуацию. Писателя интересует развитие страсти, прорыв страсти сквозь детерминированность бытия, те пределы и бездны, в которые вовлекается вкусившая любви душа, та грань, до которой можно дойти в отчаянии и беде. Его героинями становятся женщины разных сословий – крестьянка, купчиха, мещанка, дворянка. Их объединяет внутренняя сила, стойкость, бунт против своего бесправия.
«Житие одной бабы» и «Леди Макбет Мценского уезда» – повести о любви. Обратим внимание, не жизнь бабы, а житие, – что переводит историю героини Насти в высокий трагический план бытия. Структура произведения построена в основном на контрасте. Первая часть рассказывает о жизни главной героини с девичьих лет, сначала в доме матери, затем в семье свекра. Центральный эпизод здесь – замужество Насти, сцена тупой бессмысленной свадьбы («не свадьба, а похороны»), неудачный побег, молчаливый стоический бунт и последующее тяжёлое нервное заболевание. Автор рассказывает, как живут бедные крестьяне: сплошная мука с детства. В избе «теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие – такое безобразие шло, что не приведи Бог! Дети тут так и росли в этой срамоте». Жизнь предстаёт здесь во всей своей наприглядности. Много печальное замужество в грубой атмосфере диктата вызывает глубокую тоску и депрессию у впечатлительной, доброй и кроткой Насти. Одна только мысль-стон в голове у неё: «Куда деваться? Куда деваться? Куда деваться?» И действительно, тройное рабство испытывает героиня – брата, семьи мужа, а потом ещё и чиновников, выполняющих свои полицейские функции.
Описание крестьянской жизни в первой части – необходимое обоснование для последующего объяснения неизбежно вспыхнувшей любви Насти к Степану. Вторая часть дана по контрасту с первой. Злодею брату Костику противостоит народный целитель добрый Сила Иванович Крылушкин; гугнивому мужу – статный русый парень, тупой тоске – любовь не на жизнь, а на смерть. Важным моментом в развитии этих отношений является разговор Насти и Степана, в котором раскрывается высокое представление бедной крестьянки о любви как редком даре Божием. Ведь в житиях, наряду с описанием деяний святых, их подвигов, мученической смерти, чудес, есть и сюжеты о мудрой деве, о цельности натуры, достоинстве и чести. Каждое произведение Лескова содержит в себе нравственный урок. Идеал писателя христиански высок, взгляд его взыскующе требователен.
«Житие одной бабы» – это монологическая повесть. Речь рассказчика под стать крестьянской: и эмоциональна, и образна. Он обнаруживает знание скрытых процессов национальной жизни и острое неравнодушие к судьбе народа: «Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе ещё валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак да за ум взяться?»
В те же трагические тона окрашена повесть «Леди Макбет Мценского уезда». По единодушной оценке критики это – вершинное явление психологической прозы (В. Троицкий), шедевр (Л. Аннинский). Поль Валери как-то сказал, что шедевр узнаётся по важному признаку: из него ничего нельзя выбросить. Всё в этом произведении Лескова взаимообусловлено, начиная с заглавия и подзаголовка – очерк, т. е. зарисовка подлинной жизни, жанр публицистический, приближающийся к рассказу, стоящий на грани рассказа и исследования. И задача у него конкретная – описать нравы, дать характеристику общества и происходящих в нём процессов. Действительно, на первый взгляд, повествование напоминает документ, в котором анализируется криминальное дело об убийстве трех человек – свёкра, мужа и малолетнего племянника, совершённом купчихой Катериной Львовной Измайловой и её любовником Сергеем. Но за простотой сюжета скрыта история роковой любви и коварства, бездна, в глубины которой погружает автор читателя, предлагая пережить вместе с героиней горечь и обиду, отчаяние, безысходность.
В какой-то мере ситуация Катерины похожа на Настину. Она тоже из бедной семьи, выдана замуж в зажиточный купеческий дом за человека неласкового, холодного, старше её на 30 лет, все мысли которого направлены на умножение капитала. Главное, что от неё требуется в семье, – родить наследника. Но детей нет, что вызывает недовольство и раздражение. Ребёнок появится, но только от любовника. А пока – скука, апатия, тоска, лень, безделье; никаких интересов – сытая, тёмная, тупая жизнь в 24 года. А до замужества обнаруживался пылкий характер. Однако на этом сходство и заканчивается. Контраст между героинями значительный: светлый ясный ум Насти, её деятельный характер и нравственная глухота Катерины. Мелькает такая деталь: «Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было». В таком застывшем, мёртвом мире, в каком оказалась героиня, любое мужское внимание может обернуться страстным пожаром, где мгновенно сгорят все представления о грехе и совести, что и показал несколькими годами раньше Гюстав Флобер в романе «Госпожа Бовари» (1856): пошлая провинциальная жизнь в буржуазной Франции, банальные любовники, долги, разорение и самоубийство Эммы.
Соблазнителем лесковской героини оказывается молодой приказчик Сергей, хитро и ловко играющий чувствами богатой купчихи, преследуя цели обогащения и самоутверждения. Катерина безоглядно отдаётся страсти, она любит за двоих, жертвуя более, чем всем, и ни на минуту не задумывается о грядущих последствиях и возмездии. Но уже с самого начала их отношений она жёстко заявляет возлюбленному, вызывая у него невольный трепет: «Слушай же, Серёжа!., ежели ты, Серёжа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да ни будь, на какую ни есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, – живая не расстанусь».
Катерина живёт данным мигом, её действия импульсивны. Добра и зла для неё не существует, морали она не ведает, есть только Сергей и её любовь к нему, которая неожиданно серую муть её жизни превращает в цветущий солнечный сад. Катастрофа наступила так же внезапно, как и счастье; и радость сменилась горем, гордость – унижением, богатство – нищетой, любовь – предательством. Не только страсть толкает её на преступление, но и подспудное понимание, что это единственная возможность вырваться из «тёмного царства», где закон один – кулак и розги до смерти, право сильного. По словам её мужа: «Нашей над вами власти никто не снимал и снять не может». Автор показывает, как жестокость в человеческих отношениях изменяет психику влюблённой женщины. Покорная, тихая жена превращается в другого человека. Всё её существо полно «высочайшего восторга» от признаний Сергея, она была отуманена его словами. Ей было ясно, что к мужу она не вернётся и «либо ему, либо ей не жить». Лесков пишет: «Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь и в воду, в темницу и на крест».
В какой-то мере убийство 80-летнего свёкра спровоцировано им самим. Поймав с поличным Сергея, спускавшегося вниз «из-под невесткиного окна», он стегал его нагайкой в каменной кладовке до тех пор, пока не устал. Но ведь Сергей добровольно пошел на это, сознавая, что виноват. На просьбу Катерины отпустить избитого, еле живого любовника, пригрозил отправить того в острог, а её выдрать на конюшне. Всё тот же библейский мотив: не простить, а побить камнями застигнутую в прелюбодеянии, как будто и не было никогда «Нового Завета». Цель тайно, ночью, возвращающегося домой мужа та же: поймать с поличным и жестоко наказать, за что он и поплатился. И только последнее убийство – больного племянника полностью спровоцировано алчностью Сергея. Он же и выдаёт Катерину на следствии. «Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела па него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:
– Если ему охота была сказывать, так мне запираться нечего: я убила.
– Для чего же? – спрашивали её.
– Для него, – отвечала она, показав на повесившего голову Сергея».
Если Катерину можно приравнять к леди Макбет по её решимости, силе и крепости характера, то Сергей вполне сопоставим с Ричардом III, универсальным воплощением коварства и расчётливости. Разница лишь в том, что Сергей, невзирая на участие в убийствах, мелок и труслив. Он трижды предаёт любовницу: когда завлекает её, не любя, в свои сети, когда называет её на следствии своей соучастницей в убийствах, когда изощрённо издевается над ней во время их скорбного пути на каторгу, заведя шашни с Сонеткой. Объединяет этих персонажей общая архетипическая черта – коварство, лживость и вседозволенность в достижении своих целей. Как ни далеки они друг от друга, но Сергей такой же хищник, только мелкого пошиба, и он мог бы подписаться под словами Ричарда III:
Да не смутят пустые сны наш дух: Ведь совесть – слово, созданное трусом, Чтоб сильных запугать и остеречь, Кулак – нам совесть, а закон нам – меч.Сколь ни тяжки преступления героини, но из бездны и тьмы непросветлённого сознания за несколько мгновений до смерти вдруг вырывается душа: «Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит тубами, а губы её шепчут: «Как мы с тобой погуливали, осенние долгие ночи просиживали, лютой смертью людей с бела света спроваживали».
Лесков фиксирует страшный факт, становящийся обыденностью – оскудение веры. И лампадки в домах горят, и в храм ходят, и силу богоявленской воды знают, и праздники святые почитают, а убивают больного ребенка, продают из корысти родную сестру и измываются над ближним.
Сергей наказан по закону за свои злодеяния. Но это только ещё преддверие наказания для христианина. Тот ужас от содеянного, которым наполнена повесть Лескова (и по сей день, по словам рассказчика, не забыта жителями Мценского уезда) невольно заставляет вспомнить слова Евангелия: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18; 6).
«Леди Макбет Мценского уезда» – трагедия в духе Шекспира, следующий шаг Лескова в совершенствовании писательского мастерства. Он использует сказовое повествование, прибегает к стилизации, имитирует живую разговорную простонародную речь со всеми её неточностями, интонацией, орфоэпией. Так на вербальном уровне происходит проникновение в глубины психики героев, их самораскрытие. Психологический рисунок состояний героини выверен до тончайших нюансов: от бездонной любви – к глухой яростной ненависти. По словам Л. Аннинского, «огромное внутреннее давление – черта лесковской прозы». Вот напряжённый диалог-умолчание героев перед убийством мальчика Феди:
«– Закрыли окна? – спросила его Катерина Львовна.
– Закрыли, – отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.
Водворилось молчание.
– Нонче всенощная не скоро кончится? – спросила Катерина Львовна.
– Праздник большой завтра; долго будут служить, – отвечал Сергей.
Опять вышла пауза.
– Сходить к Феде; он там один, – произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.
– Один, – спросил её, глянув исподлобья, Сергей.
– Один, – отвечала она ему шёпотом, – а что?
И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова». Текст «набухает», «топчется на месте», умолчание главного становится невыносимым. Упрёк невысказанно присутствует в каждом слове очерка. В повествовании звучит горькая правда о нравственном и духовном обнищании людей.
В XX в. всемирной известности этого произведения Лескова немало способствовала знаменитая опера Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».
«Воительница» – следующая вариация на тему сложных человеческих характеров. Героиня очерка – ещё одна жертва обстоятельств и собственной противоречивой натуры. Прибегая к сказовому повествованию, стилизованной речи, Лесков даёт своей героине возможность добровольного самораскрытия в слове. В беседе с рассказчиком кружевница Домна Платоновна вспоминает множество историй из собственной жизни. Выясняется, что знакомство у неё было самое обширное, «даже необъятное и притом самое разнокалиберное», поэтому мнения её о петербургской жизни, как она думает, самые точные. Свести их можно к нескольким выводам: «Свет этот подлый», «везде одни обман», «из живой-то из всей нынешней сволочи – всё одно только качество: отврат да и только». Сама же Домна Платоновна всегда права, и её все любят, потому что она проста необыкновенно.
Это, однако, «оптический обман», такой же, как и её внешность. На самом деле у нее хватка матёрой хищницы, целенаправленно, неутомимо добивающейся своей выгоды. Среди её многочисленных «приватных дел» была и роль сводни, которую она выполняла, не осознавая ее гнусности.
Центральной в повести «Воительница» является история о Леканиде Петровне, опровергающая слова, дела и мнения Домны Платоновны. Жизнь Леканиды Петровны с мужем не сложилась. Она расстаётся с ним и уезжает в Петербург. Красивая женщина полна иллюзий, что здесь она найдёт работу, друзей, что её жизнь изменится к лучшему и обретёт достойный смысл.
Однако «петербургские обстоятельства» совсем иные, и очень скоро Леканида Петровна остаётся без гроша и попадает в цепкие руки «кружевницы», которая сама кружева не плетёт и не вяжет, а только разносит их на продажу в богатые дома и заодно подбирает хорошеньких содержанок для пресыщенных господ, а плетёт она, как паук, сети, в которые те и попадают. Леканиде Петровне всего-то и нужно было от Домны Петровны немного денег взаймы на обратный билет к мужу. Но такой лакомый кусочек сводня из рук не выпустила и методично, жестоко и расчётливо довершила падение несчастной женщины, сделав её «дамой полусвета».
Диалоги рассказчика и Домны Платоновны, в которых раскрывается истинная сущность этой «мценской бабы», прерываются его размышлениями о непостижимости внутренней извращённой сути героини: как же она совмещает в себе такие противоречивые качества: и молитву, и пост, и собственное целомудрие, и в то же время «наклонность к устройству коротеньких браков не любви ради», а ради собственного интереса. Однако послушав рассказы о том, как встретил её великий город Петербург по приезде обманами, разного рода воровством и махинациями, рассказчик начинает понимать закономерность становления простоватой провинциальной мещанки неким «фактотумом» (посредником) в продажном обществе, и ту циничную метаморфозу, которая произошла с её сознанием, где перепутались представления о добре и зле, о ценностях подлинных и фальшивых.
Конец Домны Платоновны назидателен. Женщина, долгие годы жившая иллюзией о том, что она нужна людям и все её любят, отрицавшая добрые чувства, христианское милосердие, так как они несовместимы с прагматическими интересами, на старости лет, «не ко времени», влюбляется в двадцатилетнего Валерочку, обокравшего своего хозяина и теперь находящегося под судом и следствием. Самой Домне было что-то около сорока семи лет, а то и больше. И неожиданно она обретает человеческое лицо, понимая неуместность этой страсти, её смехотворность и испытывая в то же время бесконечную нежность к непутёвому возлюбленному, отдав ему всё, что имела, «даже банку варенья». Эта последняя история уже не формально обращает её к вере, к молитве, так как какой-то умный раскольник определил её состояние: «Это тебе аггел сатаны дан в плоть… Не возносись». Диагноз духовного заболевания поставлен точно: тщеславие и самомнение.
Истории Насти и Катерины – это страницы высокого трагизма, но и в комической ситуации воительницы обнаруживается живое, трепетное человеческое чувство.
«Старые годы в селе Плодомасове» (1869). Тема женской доли, характерная для литературы 60-х годов, занимает в творчестве Лескова важное место. Среди его персонажей есть яркие индивидуальности, восходящие к пушкинской традиции, что особенно наглядно видно в его хрониках «Старые годы в селе Плодомасове» и «Захудалый род» (1873). Главные героини этих хроник – боярыня Марфа Андреевна Плодомасова и княгиня Варвара Никаноровна Протозанова – цельностью своих характеров напоминают Татьяну Ларину из «Евгения Онегина» и Машу из «Капитанской дочки».
«Старые годы в селе Плодомасове» – монологический очерк нового типа, приближающийся к жанру романа-хроники. Картины жизни екатерининских времён, патриархальный быт, «дух времени» воссозданы писателем исторически достоверно, удивительно ярко и виртуозно.
Не так безоблачно сложилась жизнь Марфы Андреевны, но неизменная её вера в промысел Божий, решительность, бесстрашие и воля помогают ей во всех неординарных событиях. Она мужественно противостоит разбойной банде мужиков и холопов, взбудораженных успехами Пугачёва и решивших обворовать плодомасовский дом. Даже пытка не сломила «железную старуху». Сам Николай Угодник приходит к ней на помощь по её молитве – таково мнение разбойников, в ужасе разбежавшихся из боярского дома, когда икона святителя Николая, по их словам, «пошла» по воздуху.
Произведение осталось незаконченным, но сама Марфа Андреевна и ещё два персонажа: карлик Николай Афанасьевич и его сестрица появятся в «Соборянах», где маленькому человеку предстоит совершить достойные дела. Это – характерная особенность поэтики Лескова, когда одно произведение словно продолжается в другом.
Творчество 40-х годов. В семидесятые годы были написаны «Соборяне» (1872), «Очарованный странник» (1873), «Запечатлённый ангел» (1873).
Роман-хроника «Соборяне» не сразу приобрел тот вид, в каком он известен читателю сегодня. С самого начала автору был ясен жанр – «романическая хроника». Он остался неизменным, по тому времени – новаторским, проложившим путь произведениям подобного рода.
Новым был не только жанр, но и среда, описанная Лесковым, и герои – представители духовенства провинциального причта, созданные не карикатурно, не в насмешку, а всерьёз, со всеми их положительными и отрицательными чертами, проникнутые глубокой авторской симпатией. Работа над произведением шла по линии сокращения широкого горизонтального бытового охвата действительности и углубления духовной вертикали, сосредоточенности на изображении внутренней жизни протоиерея Савелия Туберозова, героя масштаба личности протопопа Аввакума.
В жанре хроники писатель излагает исторически достопримечательные события в их временной последовательности. У Лескова – это летопись старогородского мира, в центре которого – три священнослужителя: протопоп (протоиерей – старший священник) Савелий Туберозов, иерей Захарий Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын – достойный триумвират по евангельскому слову: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18; 20.). Все они жили простой жизнью, не богатой событиями, «и все более или менее несли тяготы друг друга». Начало действия романа относится к 1865 г. Протопопу в это время «за шестой десяток жизни», иерею Захарию – и того больше, дьякону Ахилле – далеко за сорок, т. е. жизнь почти прожита и наступает «время собирать камни». В романе нет любовных интриг. Есть одна главная любовь, самая трудная – к Богу и ближним.
Шестидесятые годы XIX в. в истории России – переломные, судьбоносные: уходит патриархальное прошлое, разрушаются традиционные верования, привычные отношения, формируются новые нравственные принципы буржуазного толка. И многие соблазняются, увлечённые модой и новыми идеями, а значит, неизбежны неразрешимые противоречия. В такой атмосфере проходит жизнь героев романа. Лесков раздвигает временные рамки хроники, вводя в повествование дневник отца Савелия. Первая запись сделана в нём 4 февраля 1831 г., а последняя – 9 июня 1865, отразившие «целый мир воспоминаний» и грустных, и весёлых, и трагичных, и анекдотичных, и сугубо личных, и общественно значимых. Через них раскрываются подробности жизни, светская суета государственных чинов и простых прихожан.
Осознать историческую глубину общероссийских проблем помогает и разговор отца Савелия с боярыней Марфой Андреевной Плодомасовой, уже известной читателю по хронике «Старые годы в селе Плодомасове». Она приглашает протопопа в своё имение, где и встретились «век нынешний и век минувший». Женщина «вельми немалого духа», хоть и проста в обращении, но «как бы над всем будто царствует» – такой видит её отец Савелий. Боярыня проницательно отмечает, что церковь, как в библейские времена, снова в «лавочку» превратилась, «благодатью как сукном торгуете». Ей особенно хорошо видно в перспективе прожитых лет, какие перемены набирают силу в русской жизни. Оценивая ум, харизму, дар проповеди тогда ещё молодого иерея Савелия, видя его честность и неподкупность, она, словно, заранее угадывает будущий конфликт священника с наступившим прозаическим веком купли-продажи, его воинствующим аморализмом. Она же замечает одиночество отца Савелия: «помыслами души всё-таки одинок стоишь». Сама Марфа Андреевна всю жизнь свою одиноко отстояла, неизменно строгая и щедрая, но не сдалась ни в одной из сложных ситуаций, уповая лишь на Божью помощь. Верой и сильна была. Скончалась боярыня 1 января 1850 г., «пережив пятерых венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и с двумя из них танцевала на собраниях». Одиночество как естественная среда обитания, вечный бунт самостоятельного человека – характерная черта персонажей Лескова.
О «веке минувшем», его устоях и морали, о своей жизни у боярыни Плодомасовой рассказывает и её карлик Николай Афанасьевич, крепостной, получивший вольную. Так возникает в романе мотив «старой сказки», исторической памяти, традиции. И, наконец, к своеобразной документальной основе романа-хроники можно отнести письма дьякона Ахиллы из Петербурга, а потом и его рассказы о городской жизни.
Своеобразна композиция произведения; она имеет вид «ленты», даже чёток, где основу составляет история жизни протопопа Савелия Туберозова, а каждая бусинка – это фрагменты биографий остальных персонажей, так или иначе связанных с центральным сюжетом: друзья, враги, равнодушные. Среди них – «новые люди»: учитель-атеист Варнава Препотенский, Дарья Николаевна Бизкжина, идущая в йогу с модой, откровенный мерзавец и шантажист Термосесов, когда-то пребывавший в рядах нигилистов, «еретичествующий», праздношатающийся мещанин комиссар Данилка – местный пролетарий и др. Важное лицо – предводитель Туганов на мучительные доводы отца Савелия: «Без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих… Это… сгубит Россию», – спокойно отвечает: «Да что же ты ко всем лезешь, ко всем пристаёшь: «идеалы, вера?» Нечего делать, когда всему этому, видно, время пришло».
Создавая образ отца Савелия, Лесков использует богатый арсенал художественных средств. Вслед за Гоголем он даёт подробное описание его внешнего вида, дома, в котором он живёт. Как хроникёр и режиссёр изобретает самые разные ракурсы и мизансцены. При раскрытии этого характера, его трепетного предстояния Богу за всю вверенную ему паству, «горних» помыслов, автор прибегает к описаниям его поступков, разговоров, действий, мнений о нём окружающих. В начале романа писатель приглашает благосклонного читателя погрузиться в глубины внутреннего мира самого драматического лица этой повести, проникнуть в чистенький домик отца Туберозова, заглянуть внутрь души его хозяина, «как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот», и при этом надо иметь «наши уши отверзтыми».
Той же цели служит дневник Туберозова. В записи от 2 марта 1845 г. отец Савелий пишет: «Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство ещё на Руси не проповедано, а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегом своим, отцом Николаем, и был удивлён, как он это внял и согласился. «Да, – сказал он, – сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но ещё во Христа не облекаемся». Вот та основа, которая придает трагизм мироощущению священника, – непросветлённость паствы, невозможность выполнить свой долг на уровне апостольского служения первых веков христианства. А душа его, непомерность любви во Христе требует именно такого понимания священнического долга. «Негодую, – пишет он в дневнике. – Зачем я как бы в посмешище с миссионерской целью послан: проповедовать – да некому; учить – да не слушают!» С горечью он осознаёт тот факт, что общество пребывает в состоянии духовного варварства, отчуждения от благодати церковного воздействия, в состоянии нравственного опустошения или вражды с ближним, что является оскорблением самого Бога. Для людей, пока ещё не облечённых во Христа, наступают опасные времена тотальной или целенаправленной лжи. Как им устоять перед вероломным напором зла, как не соблазниться? (История Варнавы Препотенского и подобных ему.) Остро чувствуя, какой великий раскол грядет в России будущего («… у нас в необходимость просвещённого человека вменяется безверие, издёвка над Родиной, в оценке людей, небрежение к святыне семейных уз, неразборчивость…»), наблюдая, как сердца людей заполняются лишь земными, материальными интересами, честолюбивыми стремлениями («…откупщики жаловались министру внутренних дел на православных священников, удерживающих народ от пьянства» – доходы падают), отец Савелий решает остеречь старогородцев, обличая их маловерие, когда «нужна духовная самостоятельность».
У священника только одно оружие – его слово, его талант пророка. Его миссия на земле – быть посредником между людьми и Богом. Воодушевлённый великой идеей «возбудить упавший дух собратий», церковный пастырь, «ревнуя» о благе русского народа, произносит слово обличения в духе христианских идеалов и заканчивает свою проповедь такими словами: «Я порицаю и осуждаю сию торговлю совестью, которую вижу перед собой во храме. Церкви противна сия наемничья молитва…» За эту проповедь, по доносу, отца Савелия под надзором отправляют в губернский город. Прощаясь с женой, он произносит пророческую фразу: «Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается "житие”».
Автор, словно полемизируя с предводителем Тугановым, назвавшим отца Савелия маньяком, констатирует: «И как человек веры, и как гражданин, любящий отечество, и как философствующий мыслитель, отец Савелий в его семьдесят лет был свеж, ясен и тёпел: в каждом слове его блестел здравый ум, в каждой ноте слышалась задушевная искренностью. Добавим к тому же, что был он на редкость образованным и начитанным человеком: любимые его книги – «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» Лоренса Стерна и «Путь паломника» Поля Бэньяна.
Картины природы выполняют в сюжетной схеме романа-хроники функцию символов. Сцены предгрозового зноя, жара, томления и последующей освежающей грозы, как отзвуки душевного нестроения и смуты отца Савелия, написаны мощно, эпически полнокровно, крупными мазками художника-реалиста и считаются одними из лучших в русской литературе. Оказавшись в эпицентре страшной грозы, протоиерей потрясён наглядно реализовавшейся в мгновение ока библейской метафорой «Всё в руце Божией»: только что стоял перед ним вековечный могучий дуб и прятался в его листве перепуганный ворон, и вот от удара молнии этот дуб как ножом был срезан у самого корня… Приём сна помогает установить связь данного мгновения с прошлым и будущим, наполняя космическим значением земной сюжет.
«Житийная часть» бытия «ссыльного протопопа» наполнена скорбями и печалью. Умирает его жена Наталья Николаевна, разделявшая с ним его наказание, взяв на себя непосильные труды. Её тихий подвиг, кроткий и смиренный, не менее значим, чем противостояние протоиерея. Это подтверждает и сам автор, предлагая подумать над кончиной Натальи Николаевны, которой снится вещий сон, будто дьякон Ахилла «её взял и внёс в алтарь, и алтарь тот огромный-преогромный: столбы – и конца им не видно, а престол до самого неба и весь сияет яркими огнями, а назади, откуда они уходили, – всё будто крошечное, столь крошечное, что даже смешно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а дьякон её в алтарь внёс. «В уме ли ты, дьякон! – говорит она Ахилле, – тебя сана лишат, что ты женщину в алтарь внёс», а он отвечает: «Вы не женщина, вы – сила!»
Всё маленькое в этой юдоли печали видит Наталья Николаевна перед смертью, «а вот зажмурюсь… все возрастают: и ты, и Николай Афанасьевич, дружок, и дьяконочек Ахилла… и отец Захария… Славно мне, славно, не будите меня! И Наталья Николаевна заснула навеки».
Смерть героя и масштаб её символической аранжировки-важный аккорд в общей тональности хроники. Последние дни Савелия были уединённы и скромны: «Ангел смерти стал у изголовья, готовый принять отходящую душу», а протоиерей всё ещё был штрафным, в запрещении, отлучённым от службы. Хлопоты Ахиллы не увенчались успехом. Настоящий подвиг совершает карлик Николай Афанасьевич, неустанно стремящийся облегчить участь протопопа, прибегая к самым разным ухищрениям и ни на йоту не отступая в почти безнадёжной борьбе с чиновниками. «Да-с, мне семьдесят годов, и меня никуда заключить нельзя; я калечка и уродец!» – бесстрашно говорит он и действительно добивается разрешения хотя бы похоронить отца Савелия достойно, как положено по чину. Мистическое переживание дьякона Ахиллы в ночь после смерти отца Савелия раскрывает истинный смысл произошедших событий, соединяет в единое целое временное, преходящее и вечное, страдание и воздаяние. Символика его сна-видения утешает и обнадёживает: ему предстаёт преображённый лик умершего священника.
Общее качество, которое объединяет протоиерея, иерея и дьякона – «непомерность» высоких чувств: духовной мощи отца Савелия, смирения и молитвенного подвига отца Захария, любви к Богу, ближнему, к жизни дьякона Ахиллы.
И внешне в отце дьяконе всё непомерно: могучая сила, рост, громкий голос, открытость миру, добродушие, страстный восторг бытия. Отец Савелий так определяет суть его личности: «… в нём одном тысяча жизней горит», «он есть само отрицание смерти». И гневен, и милосердеи, и по детски простодушен, и отзывчив налюбое человеческое горе, «дитя великовозрастное», Ахилла как личное оскорбление воспринимает любое надругательство над верой, саном, обрядом. Поэтому на протяжении всей хроники он пребывает в постоянной борьбе с нарушителями благолепия: с учителем Варнавой, комиссаром Данилкой. Отцу Савелию всё время приходится сдерживать Ахиллу в его детском экстремизме и рукоприкладстве. Дьякон говорит протопопу: «Я предстою алтарю и обязан стоять за веру повсеместно. Святой Николай Угодник Ария тоже ведь всенародно же смазал…»
Будучи в Петербурге, пишет опальному протопопу трогательное письмо: «Насчёт же вашего несчастья, что вы ещё в запрещении и не можете о себе на литургии молиться, то, пожалуйста, вы об этом нимало не убивайтесь… есть у вас такой человек в столице, что через него идёт за вас молитва и из Казанского собора… и из Исакиевского… и столичный этот за вас богомолец я, ибо я, четши ектению велегласно за кого положено возглашаю, а про самого себя шепотом твое имя, друже мой, отец Савелий потаённо произношу и молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю Превечному, и жалуюсь, как ты напрасно пред всеми от начальства обижен».
Смерть протопопа производит резкий перелом в сознании героя. Та беззаботно мальчишеская, бахвалистая и удалая, безмерно увлекающаяся сторона личности Ахиллы была вытеснена скорбью по отцу Савелию. Открылось внутреннее зрение, обнажилась мысль о «тщете всего земного, замучила тоска, которую лекарь определил как “возвышенную чувствительность”».
Автор добавляет: «Хроника должна тщательно сберечь последние дела богатыря Ахиллы – дела, вполне его достойные и пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе». Таким делом будет схватка один на один ночью на кладбище с «внезапным чёртом» в полной адской форме, с рогами и когтями», который начал бесчинствовать в Старом городе. Этой нечистью окажется комиссар Данилка. И главный подвиг Ахиллы будет заключаться не в том, что он его поймает и разоблачит (хотя никто на это не отважится: ни полиция, ни горожане), а в том, что великодушно отпустит, защитив несчастного бедолагу, потому что воровал и разбойничал Данилка «с голоду и холоду, всеми брошенный и от всех за своё беспутство гонимый».
Умирающий дьякон исповедуется отцу Захарию кратко, ёмко, примирённо: «Всем грешен, простите, Христа ради». Отцу Захарию открывается и невидимая сторона (брань) видимых смертельных событий: «Ахилла вскрикнул сквозь сжатые зубы: – Кто ты, огнелицый. Дай мне путь! – Захарий робко оглянулся и оторопел, огнелицего он никого не видел, но ему показалось со страху, что Ахилла, вылетев сам из себя, здесь же где-то с кем-то боролся и одолел».
Отец Захарий являет собой ещё один интересный психологический тип. Именно таких верующих людей больше всего на Руси, незаметных и скромных, чьё незримое присутствие ощущается постоянно и повсеместно. Иерей Захарий – «воплощённая кротость и смирение», как сообщает о нём автор, и это подтверждается всей его нелёгкой жизнью и отзывами о нём окружающих, в том числе отца Савелия: «Бесценный сей прямодушный Захария, Сосуд Господень и молитвенник, какого другого я и не видывал. Жажду обнять его».
Заканчивая хронику старогородской жизни, автор пишет: «Тихий старик не долго пережил Савелия и Ахиллу. Он дожил только до великого праздника весны, до Светлого Воскресения, и тихо уснул во время самого богослужения». По преданию, это великая награда – умереть в Пасху: душа прямо возносится в рай.
«Соборяне» имели успех: критика отмечала, что как нигде прежде выразительно передал Лесков оригинальность и масштаб русских характеров, своеобразие течения русской жизни.
«Очарованный странник» (1873). Литература семидесятых годов обращает пристальное внимание на изучение жизни народа. Для Лескова это своя тема, родная и на редкость хорошо им изученная. Очарованный странник и есть герой из народа – «богатырь и притом типический», похожий на Илью Муромца: Флягин Иван Северьянович, из крепостных, лет за пятьдесят с небольшим, откупившийся от своего графа, получивший чин офицера и орден за подвиг на Кавказе и в момент действия повести пребывающий послушником монастыря.
В «Очарованном страннике» особый принцип повествования: автор устраняется, предоставляя слово герою. В беседе с пассажирами парохода, на котором совершается паломничество на Соловки, он рассказывает о себе, покоряя редким умением говорить весомо, ясно, понятно, образно. Речевая характеристика (стилизованный лесковский сказ) – ведущий принцип изображения внутреннего мира героя. Монолог странника, лишь изредка нарушаемый репликами попутчиков, поражает своей откровенностью и драматизмом. Его рассказы – своего рода исповедь, что определяет особенность фабулы или, по словам Н.К. Михайловского, «целый ряд фабул, нанизанных как бусы на нитку», все они прорастают друг в друга в причинно-следственной обусловленности.
В повести явно обнаруживаются черты притчи о предопределении и свободе воли человека. Исключительная притчевая заострённость наполняет это произведение. Каждый эпизод, каждый образ раскрывает многоуровневый характер бытия. Так, в первой главе речь идёт о священнике, страдающем недугом пьянства, но усердно молящемся обо всех, кто без покаяния скончался и руки на себя наложил. Эта история, рассказанная Иваном Флягиным, символически объясняет, что действие повести будет развиваться в двух планах: житейском и житийном. Оказывается, что Царство Божие гораздо ближе к земным делам, прорывается в человеческую юдоль во сне, в видении, творением чудес, мироточением икон, навевая чары, внося неземные моральные коррективы, по которым выходит, что слабый в житейском смысле поп является ключевой фигурой в борьбе добра и зла в том деле, которое он сам себе определил. Его неустанная молитва (заметим, молится он не о себе, сознавая свою малость, ничтожество, а о ближних, которых даже не знает) сдерживает целое темное воинство злых духов, спасая души самоубийц, и, по мысли Ивана Северьяновича, «он уже от дерзости своего призвания не отступит и всё будет за них Создателю докучать, и Тот должен будет их простить», потому что в Евангелии сказано: «толцытеся»; «ведь это от Него же самого поведено, так ведь уже это не переменится же-с».
Показательно, что и сам послушник Флягин, пройдя свой нелёгкий жизненный путь, приходит к тому же евангельскому императиву. В самом конце он признается: «Я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться», «мне за народ очень помереть хочется». Взятая в первой главе высокая нота служения людям звучит крещендо в заключительной двадцатой главе.
Каждый образ Лескова, черпая из глубин народного обаяния неповторимые черты, есть литературное откровение.
По единодушному мнению критиков, Иван Флягин от природы наделен чистосердечием и широтой души, простодушием до наивности и бескорыстием, отзывчивостью на чужое горе и добротой, богатырской жизненной силой, справедливостью и чувством собственного достоинства, выносливостью и долготерпением. Он обладает редкими качествами: артистическим чутьём и даром художественного воображения.
В то же время, доказывает писатель, добро и зло существуют в мире в смешанном состоянии, и необходимо постоянное трезвение, чтобы не впасть в грех. В случае с героем Лескова это выглядит как нарушение обета, данного Богу его матерью, у которой не было детей. Молитвенным подвигом заплатила она за сына и своей смертью во время родов, обещав посвятить Ивана Создателю, т. е. уготовив ему монашеский путь. Но молодой Флягин далёк от мысли о монастыре, его путь – это своевольная самодостаточность. Однако старик-монах, которого он случайно убивает, приходит к Ивану во сне и предупреждает, что его путь определён, надо послушаться, иначе он навлечёт на себя большое зло. Иван не верит сновидению. И лишь прожив полсотни лет он, вспоминая прошлое, сокрушённо судит себя: «Мне надо было бы… в монастырь проситься, а я… пошёл от одной стражбы к другой, всё более претерпевая, но нигде не погиб, пока всё мне монахом в видении предречённое в настоящем житейском исполнении оправдалось за моё недоверие».
Словно зачарованный (чары здесь – сюжетообразующий принцип, характерный для фольклора) идёт герой по жизни от искушения к искушению: силой, талантом «по конской части» – ему приходится усмирять и приручать самых диких, свирепых, никому не поддающихся лошадей – и, наконец, страстью к красавице цыганке Груше. Начинаются долгие скитания героя. Каждое очарование будет оборачиваться потерей и болью. Его душа, распахнутая для любви, так и не получит ответной, буквально с самых ранних лет. Тонко чувствуя красоту мира, Иван Флягин в то же время ощущает на житейском уровне пустоту и скуку, переходящую в тоску, – устойчивый мотив в повести, словно неосознанный сигнал бедствия.
Житийная ипостась его бытия, напротив, оборачивается приобретением, приращением духовного капитала и добрых дел. Ценою собственной жизни он спасает графа и графиню: когда лошади понесли, Иван бросился на конец дышла и повис над пропастью. Матери он помогает вернуть дочку, отнятую мужем. Пребывая в плену у татар, лечит их, зная нужные травы, а потом и крестит их, словно Пророк и Предтеча Иоанн Креститель, его, кстати, ангел-хранитель. Жалеет старых людей, у которых сына в рекруты забирали, и вместо него идёт на царскую службу и, наконец, все силы своей души отдаёт Груше, когда князь разлюбил её и бросил, как Печорин Бэлу. (О художественной перекличке Лескова с Лермонтовым, Тургеневым и Л. Толстым см. в комментариях к повести.)
Чтобы почувствовать диссонанс в своей жизни, скверну, заполнившую душу, необходимо очищение сознания. Тогда появляется очередная «бусинка?» фабулы – новые рассказы героя, органично и напрямую связанные с предыдущими событиями. Автор обнаруживает виртуозную логику в подаче событийного ряда: герой попадает на 23-м году жизни сначала в татарский плен в знойных, слепящих Рынь-песках. В пустыне (на богословском языке это место суда и обновления, место испытания) он проводит десять мучительных лет, сокрушаясь о православных храмах и русской зелёной природе. Затем пятнадцать лет служит в солдатах на Кавказе, находясь между жизнью и смертью. Последнее пристанище – монастырь. Там происходит незримое борение со страстями, приходит осознание, что он «грешный и слабый человек». Теперь скитания обретают цель – хождение за истиной. Влияние этого жанра древнерусской литературы на повесть очевидно. К тому же во второй половине XIX в. были написаны неизвестным автором знаменитые «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» об Иисусовой молитве, о том, как некий человек хочет понять, что такое «непрестанно молитеся», как это «молиться на всякое время духом».
Сложный характер Ивана Северьяновича дам в развитии. Лесков раскрывает внутренний мир героя естественно и правдиво. Писатель стремится к предельной точности изображения, чему служит тонкая нюансировка переживаний героя. Всё устремлено к тому, чтобы обнаружить, как черты ветхозаветного человека в душе героя – бездумного, своевольного и импульсивного, – вытесняются осознанным осмыслением своей греховности, а это первый шаг на пути возвращения «блудного сына» к своему Отцу. Этапы духовного роста героя прослеживаются и в поиске писателем адекватного названия своему произведению, которое первоначально называлось «Чернозёмный Телемак», затем «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения» и наконец были сняты все авторские подсказки, читателю был предложен таинственный в своей простоте и ёмкости окончательный вариант, ориентирующий на особый уровень его прочтения. Можно сказать, что конец у повести открытый. Пока Иван Северьянович находится в дороге на Соловки к Зосиме и Савватию за благословением, но он твердо знает: война будет, поэтому – «ополчайся». Это его личное дело, если приходит общая беда. По верному наблюдению И.В. Столяровой, повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» чрезвычайно значительное произведение, стоящее на магистральном пути развития русской литературы. Оно знаменует собой новый этап в приближении русской литературы к стихии народной жизни, в выявлении её современного состояния и глубинных возможностей».
«Запечатлённый ангел» (1873). Если в «Очарованном страннике» изображён путь к спасению души, то в «Запечатлённом ангеле» Лесков показывает, какой небывалой духовной высоты может достичь человек, ходящий пред Господом. Всё возможно верующему. Вот анахорет Памва, «беззавистный и безгневный», «непостижимые чудеса про его высокую жизнь» рассказывают церковные люди. Прозорливый старец, маленький и горбатенький, тихий, однако, как сразу понимает увидевший его старовер Марк Александрович, – «повелительный». Живёт он в лесном скиту, плетёт лапотки, непрестанно молится. Раскольнику предстоит понять, что же из себя представляет старец, а вместе с ним и благодать православия. И первый его испуг при встрече сменяется восхищением: «Ах, сколь хорош! Ах, сколь духовен! Точно ангел передо мной сидит и лапотки плетёт, для простого себя миру явления». В смятении старовер. Страшно ему. Не случайно заблудились они в лесу с Леонтием, который занемог так, что почти умирает, а Марк Александрович ничего сделать не может. Но вот появился старец с вязанкой дров на спине. Тихо, ласково сказал всего пару фраз: – Встань, брате! Понеси-ко за мною. И молодой человек встал и понёс, как будто никакой хворобы и не было. По вере старца всё произошло.
А затем возникает напряжённый разговор между ними о полном доверии Богу. Памва согласен идти в «преисподнейший ад», если на то будет воля Всевышнего, и даже просит Господа об этом. Такой поворот разговора обескураживает Марка Александровича, ведь нормальный человек сам не попросится в ад. И только потом к нему приходит осознание, что отшельник – сама кротость, «весь любовью одушевлён»: «Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог сказать: согруби ему – он благословит, прибей его – он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда сам в ад просится?.. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «Жёстче терзайте, ибо я того достоин! » Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! Он все руки об него обколотит, все когти обдерёт и сам своё бессилие постигнет пред Создателем, такую любовь создавшим. И устыдится его. Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на погибель создан!…»
Можно сказать, что «Очарованный странник» и «Запечатлённый ангел» – две художественные картины, связанные единым замыслом, как и положено диптиху. «После злого романа «На ножах», – писал М. Горький, – литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее иконописью, – он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников. Он как бы поставил целью себе воодушевить Русь, измученную рабством, опоздавшую жить»…
В конце 70-х – начале 80-х годов появляется серия очерков о нравах и быте церковных иерархов («картинки с натуры»): «Мелочи архиерейской жизни» (1878), «Архиерейские объезды» (1879), «Борьба за преобладание» (1882), «Райский змей» (1883). Здесь и высокие чины священнослужителей и простые сельские льячки, вроде Лукьяна из Орловской монастырской слободки, который интересен автору своей «жалкой приниженностью и сословной оригинальностью». Повествование развивается в сатирическом тоне. В предисловии к первому изданию Лесков так объясняет свою цель: «Сказать кое-что в защиту наших владык», стараясь отделить невероятные анекдоты о них от событий на самом деле происходивших. Однако в центр повествования он помещает отрицательные стороны жизни церковнослужителей: грубость, пьянство, сребролюбие и т. п.
Какие бы ироничные громы и молнии ни метал автор против недостойных служителей алтаря, чиновников-обскурантов, он тем не менее к Храму Господню «имеет усердие и страх», ему «внятно шествие Твоя, Боже». Писателю важно отделить христианство от фарисейства, высокий дух веры от фальши. В 90-х годах он всё убеждённее станет говорить о служении людям как основополагающей идее христианства, о действенной любви к ближнему, потому что «вера без добрых дел мертва есть». Не раз возникнет в его творчестве мотив ложной набожности, радикально отторгающей человека от Бога. Понятно, что издание «Мелочей архиерейской жизни» вызвало резко отрицательную оценку в церковной печати. Очерки были запрещены. В 1883 г. Лесков был уволен из Министерства просвещения, где состоял членом особого отдела Учёного комитета по рассмотрению книг, издаваемых для народа (с 1874 г.). Писатель остался без работы и без пенсии.
Творчество 80-х – начала 90-х годов. Рассказы о праведниках. Жизнь Лескова по-прежнему протекает в постоянном духовном поиске. В семидесятые и восьмидесятые годы он многое переоценивает в своих взглядах. Тема праведников – сквозная в творчестве писателя, роман-хроника «Соборяне» стоит у её истоков. К началу 80-х годов появляется особый цикл, который позволяет автору рассказать не только о людях высокой духовности, но и создать ряд ярких картин из народного быта.
Лесков писал: «Я выдумываю тяжело и трудно, и потому я всегда нуждался в живых лицах, которые могли меня заинтересовать своим духовным содержанием. Они мною овладевали, и я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительные события». Подтверждением его слов стали произведения: «Однодум» (1879), «Несмертельный Голован» (1880), «Кадетский монастырь» (1880). Написанные позже «Левша» (1881), «Тупейный художник» (1883) и другие произведения тоже посвящены теме праведников.
Внимание писателя сосредоточено на создании таких народных характеров, которые вопреки тяжелейшим жизненным испытаниям сохранили себя в чистоте помыслов, не нарушив ни одного из своих принципов: независимости в суждениях, чувства собственного достоинства, потребности творить добро и быть милосердным. Каждый рассказ – своеобразный этюд в общей мозаике художественного «иконостаса», имеющий свою нравственную задачу. Небольшие по размеру, они наполнены глубоким содержанием, отличаются сжатостью текста. Авторская речь переплетается с повествованием рассказчика, подчёркивая ироническим комментарием то, что от него ускользнуло. Часто это «коварство» речи Лескова меняет акценты в произведении, дополняя рассуждения добродушного рассказчика или опровергая его оценку происходящего («Левша», «Тупейный художник»).
Хотя авторская цель – поиск праведников, и речь идёт именно о них, вся Россия возникает в рассказах в полном объёме. Представлены все социальные сферы, все сословия получают свою оценку: верхние эшелоны власти, учителя, врачи, тульские оружейники, горожане, крестьяне, церковнослужители. Не ускользают от внимания автора и «пустошные» люди – всякого рода мелкие проходимцы, карманники. Русская жизнь во всём многообразии её течения – главная тема, и боль, и тоска, и воздыхание писателя «о нашем добром и умном народе».
Действие в рассказах разворачивается в первой половине XIX в., когда ещё процветает крепостничество. Соответствуют времени и нравы – зуботычины, порка шпицрутенами, розгами, полное бесправие и рабский трепет казенных людей перед вышестоящими. Так создаётся фон, прорывается эпоха сквозь простые рассказы, иногда с анекдотическими нотами, чаще в трагическом звучании. Во время пожара, спасая людей, гибнет Несмертельный Голован. Бессмысленна жестокая смерть талантливого
Левши, загубленного российской действительностью. Горька гибель тупейного художника Аркадия Ильича, зарезанного безымянным дворником из-за денег, заработанных на царской службе и предназначенных для выкупа крепостной возлюбленной. Мученическая смерть, по народному представлению, – прямой путь в царство небесное – своего рода высокое воздаяние. И на этом фоне личность праведника неизмеримо возрастает: не каждому дано до конца выдержать все испытания и не соблазниться, не потерять веры и не возненавидеть ближнего.
Таков главный герой рассказа «Однодум» – квартальный Александр Афанасьевич Рыжов (Однодум – это прозвище), который не берёт «приношений», взяток ни в каком виде. Этот житель города Солигалича, персонаж, не выдуманный писателем, имевший своего прототипа, что лишний раз подчеркивает: праведники – это не только художественная игра писательской фантазии, его тоска по положительному герою. Они существуют на самом деле. Они – соль земли. Ими держится Отечество.
А история Рыжова такова. Будучи мальчишкой, он долгое время таскает почтовую сумку из Солигалича в Чухлому и обратно – лесами, полями, болотами и во время отдыха на привалах читает Библию, которая имела на него «неодолимое влияние». И на «библейском грунте» возникли и укрепились его правила жизни. Получив должность квартального с жалованием 2 рубля 85 копеек в месяц, он ухитряется на это жалованье жить всей семьей на хлебе и воде, но «приношений» всё-таки не берет, ибо «мзду брать Бог запрещает».
Между тем в городе установился порядок благодаря хозяйскому досмотру Рыжова. Но возникает анекдотическая и в то же время тревожная ситуация – остальные-то берут «приношения», в том числе и городничий, так как их жалования тоже маленькие и прожить на них трудно. Он опасается, как бы Рыжов на него не донёс вышестоящему начальству Чтобы узнать, о чём думает квартальный, протопоп приглашает его на исповедь во время поста, а потом сообщает городничему, что его «грехи все простые, человеческие», на начальство «зла не имеет, доносить не думает», «а что даров не приемлет, – то это по одной вредной фантазии:…Библии начитался».
Именно Рыжову пришлось исполнять обязанности городничего, когда прежнего отстранили от занимаемой должности за нерадивость. Вот в этой ситуации Александр Афанасьевич не побоялся устыдить и урезонить самого губернатора С.С. Ланского, прибывшего с инспекцией в город и вошедшего в храм «надменно», «не положив на себя креста и никому не поклонился». Однодум просто взял и своей рукой «степенно наклонил графа (в будущем известного министра внутренних дел) в полный поклон, а потом «стал навытяжку». Интересен последующий разговор Рыжова и С.С. Ланского:
«– Я бы мог велеть вас арестовать.
– В остроге сытей едят.
– Вас сослали бы за эту дерзость.
– Куда меня можно сослать, где мне было бы хуже и где бы Бог мой оставил меня? Он везде со мной, а кроме Его никого не страшно».
Праведники Лескова не отшельники, они живут в гуще народной жизни, руководствуясь заповедями и совестью. Гражданский долг, доброе сердце, честность и трудолюбие – основа их миропонимания. Создавая эти характеры, писатель меньше всего говорит об их страданиях. Напротив, он подчёркивает – все живут трудно, бедно, нищенски; его внимание устремлено к выявлению их стойкости и нравственной силы. Их немало на Руси, но, как пишет Лесков в «Кадетском монастыре», «у нас не переводились и не переведутся праведники. Их только не замечают, а если начать присматриваться – они есть… Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо».
Автор основывается не только на документальных событиях, дополняя их художественным вымыслом, но прибегает и к мемуарным зарисовкам, передавая живое дыхание ушедших времён. О праведных людях Лесков пишет: «Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся ещё более невероятными, когда удаётся снять с них этот налёт и увидеть их во всей их святой простоте».
Невероятен герой Лескова – безымянный косой левша из Тулы, ставший народной легендой и благодаря этому получивший у восхищенных читателей-потомков имя – Левша («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»). Все знают этого талантливого умельца, который подковал, не имея никакого понятия о физике и математике, стальную блоху-игрушечку, созданную английскими мастерами так, что она могла танцевать, если её завести крохотным ключиком. Блоха такая маленькая, что видно её только в «мелкоскоп» (микроскоп). И соль фабулы заключена в том, что увидеть работу Левши и его двух товарищей можно только в ещё более сильный мелкоскоп, «который в пять миллионов увеличивает». Тогда можно обнаружить, что на «каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер подкову делал», а имя самого Левши на гвоздиках, которыми подковки забиты – его работа ещё мельче и «никакой мелкоскоп взять не может». Блоху-то они подковали, но танцевать она перестала: не знали, как рассчитать правильно – не учёны (горький упрёк автора). На вопрос государя, где же их мелкоскоп, с которым они работу делали, Левша ответил; «Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши». Вот так решается самая актуальная проблема: судьба таланта в России. Лесков писал: «Где стоит «левша» – надо читать «русский народ».
«Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» представляет собой высокий образец стилизации под лубок, раешник. По общему мнению критики, этот сказ, равно как и «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел», «Человек на часах», «На краю света», «Владычный суд» и ряд других рассказов писателя относятся к жемчужинам русской литературы.
Легенды. Своеобразным продолжением рассказов о праведниках явились легенды и сказки Н.С. Лескова: «Скоморох Памфалон» (1887), «Гора» (1890), «Легенда о совестном Даниле» (1888), «Лев старца Герасима» (1888), «Повесть о богоугодном дровоколе» (1890), «Невинный Пруденций» (1891), «Маланья – голова Баранья» (написана в 1888 г., но при жизни не была напечатана), «Час воли Божией» (1890) и др.
Сюжеты легенд и истоки темы писатель находит в творчески переосмысленном русском Прологе, в состав которого входили жития святых, повести, проповеди, учительные слова и т. п. Эти предания, известные на Руси с XII в., привлекали Лескова своей первозданностью и высокой этической проблематикой.
Как человеку творческому писателю было интересно окунуться в эпоху, историю и философию раннего христианства, что совпадало с его размышлениями над современным состоянием русской жизни. С этой целью он изучает многие сочинения: немецких и французских египтологов, историков, писателей Иосифа Флавия, Э. Ренана и др. Тот же путь прошёл чуть раньше Г. Флобер, перечитав горы литературы при написании «Саламбо»
(1862) и «Искушения св. Антония» (1872), чтобы воссоздать археологический и этнографический колорит ушедших времён. Вероятно, эта похожесть во многом покоилась на созвучии интересов писателей, их духовных поисков.
В рассказе «Юдоль» (1892) Лесков описывает страшный голод, который постиг Орловскую губернию в 1840 г., когда ему шёл десятый год. Болезни, смерти, случаи людоедства, убийства обезумевших крестьян, великое народное горе, темнота и дикость – и никакой помощи от государства. Эту жизнь он определит как «голод ума, сердца, чувств и всех понятий».
Но голодный год пройдёт, новый хлеб созреет, на улице опять «шла гульба», было «сыто и пьяно», «…и молодые люди, стеною наступая друг на друга, пели: «А мы просо сеяли!» А другие отвечали: «А мы просо вытопчем. Ой, дид Ладо, вытопчем!…» И о себе, девятилетием мальчике, пережившем вместе с другими этот тяжёлый год, Лесков напишет: «Я уже рассуждал… Зачем одни хотят «вытоптать» то, что «посеяли» другие? Я ощущал голод ума, и мне были милы те звуки, которые слышал, когда тётя и Гильдегарда пели, глядя на звёздное небо, давшее им «зрение», при котором можно всё простить и всё в себе и в других успокоить». Его тетя Полли и её подруга квакерша Гильдегарда, два верующих человека, спасли от смерти во время голода полдеревни, не брезгуя больными, не боясь заразы, собственными руками обмывая раны страдальцев-крестьян.
«Голод ума, сердца, души» приводит Лескова к легендарным Византии, Сирии, Египту первых веков христианства. Пластически объемно воссоздаёт он события, среду, внешнюю обстановку, героев – скоморохи, отшельники, гетеры – и т. д., передавая живое ощущение «трепета истории», реальный мир, в котором, как в колыбели, возникало и распространялось новое христианское учение. Но речь в его легендах идёт прежде всего о человеке XIX столетия, о его «томлении души», невзгодах, взлётах и падениях, о современных поисках истины и разногласиях: кто-то просо сеет, а кто-то вытаптывает посевы.
Возник характерный для поэтики Лескова стилизованный сплав раннехристианского и современного понимания смысла человеческой жизни. Историческая интуиция писателя не подвела. Герой «Скомороха Памфалона» богатый сановник римского императора Феодосия Великого (ок. 346–395) по имени Ермий, взыскуя жить, как «заповедал Христос по Евангелию», оставляет свою должность, раздаёт нищим свои несметные сокровища, покидает тайно столицу и уходит к отдалённому городу Едесса, там находит «некий столп» и становится отшельником.
Как только жители соседнего села узнали о новом столпнике, так тут же стали носить ему еду и воду. И никто их не заставлял это делать. Милосердие, что называется, соприродно людям. Писатель тонко чувствует и в своей прозе никогда не проходит мимо этого важнейшего движения человеческого сердца – помощь ближнему. Таких героев в прозе Лескова предостаточно. Теперь он их находит в Римской империи. Размышляя об оставленном мире, отшельник полагает, что зло умножилось, добродетель иссякла, а значит и вечность запустеет. Однако встреча с простым скоморохом и беседа с ним наполняет его радостью и утешением: «вечность впусте не будет», потому что перейдут в неё путём милосердия много из тех, «кого свет презирает…»
Восьмидесятые годы в жизни писателя ознаменованы встречей с Л.Н. Толстым. Лесков, оценивая значение яснополянского мыслителя и свою близость к нему, отмечал: «Я именно «совпал» с Толстым… Я раньше его говорил то же самое, но только не речисто, не уверенно, робко и картаво. Почуяв его огромную силу, я бросил свою плошку и пошёл за его фонарём». Однако не такая уж и маленькая была его плошка: Н.С. Лернер утверждал, что после Толстого и Достоевского Лесков решительно наиболее ярко выраженный религиозный ум во всей русской литературе XIX в. В этой фразе всё справедливо, только слово «после» можно вполне обоснованно заменить словом «вместе» – «вместе с Толстым и Достоевским».
Не всё Лесков принимал у Толстого, в частности, его учение о непротивлении злу. В то же время их многое объединяло. Это проявилось в оценке противоречий российской жизни, в критическом отношении к пореформенной действительности и в поиске путей к решению насущных проблем и духовных вопросов. Под влиянием яснополянского мыслителя написаны «Скоморох Памфалон», «Гора», «Час воли Божией» и некоторые другие.
В 80-е годы усложняется жанровая палитра писателя. Он пробует самые разнообразные стилевые вариации, продолжает смело экспериментировать со словом, создает новые жанровые разновидности художественных произведений, но в то же время его проза наследует давние и стойкие традиции русской словесности. Появляются такие произведения, в которых обнаруживаются черты мемуаров, фольклорных жанров, хроники, агиографической литературы, новелл-моралитэ и т. п. В это время выходят из печати «Печерские антики» (отрывки из юношеских воспоминаний, 1883), «Зверь» (рождественский рассказ, 1883), «Отборное зерно» (краткая история в просонке), 1884), «Старый гений» (1884), «Заметки неизвестного» (цикл сатирических новелл с моралью, яркая стилизация в духе литературы XVIII в., 1884), «Совместители» (1884), «Пугало» (1885), «Интересные мужчины» (1885), «Человек на часах» (1887), «Колыванский муж» (1888), «Инженеры-бессребреники» ((1887) и др.
Жизнь России и «убогой», и «обильной» питает музу Лескова. Всестороннее изучение действительности наполняет «густое, образное» содержание его произведений. Всё интересно писателю, вся «русская рознь».
Наряду с необыкновенным героем появляются средние люди, «особы средней руки». Внимание Лескова по-прежнему приковано к «крепким мужам, благостным личностям, очень характерным и любезным» («Печерские антики»), но рядом с ними и «серый жилец», т. е. публика из простолюдинов, «простецы и мытари», всякая нищета и мелкота», иногда «очень характерная и интересная»: захудалое армейское офицерство, военная «холостёжь», разнообразные типы воров, казнокрадов, мздоимцев, ханжей и лицемеров, злоупотребляющие властью губернаторы, дворянки, купчихи, поповны, мещанки и т. д. Рядом с неправдами, хищениями и тому подобным – подвиги чистоты, милосердия, воздержания… Как живёт человек: по закону Божию или по видам самолюбия и влечению страстей? Каждый тип рассмотрен с самых разных точек зрения. Вот офицеры («Интересные мужчины») – картёжники и любители выпить, но в то же время люди чести. Молоденький офицер Саша предпочёл застрелиться, но не поставить под удар имя женщины. Рассказчик горестно вздыхает: «Томление духа. Ходишь, ходишь, куришь, куришь до бесчувствия и уйдёшь, и заплачешь. Какая юность, какая свежесть угасла!.. Вот именно вкусил мало мёду и умер».
Лесков всегда честен и объективен, его творчество отличается «непререкаемой искренностью». Всё максимально приближено к действительности, поэтому он так любит «картинки с натуры», живые воспоминания: «Я не должен «соблазнить» ни одного из меньших меня… Из этого я не уступлю никому и ничего – и лгать не стану и дурное назову дурным кому угодно» (1893. Из письма к С.Н.Шубинскому).
В последние пять лет Лесков пишет ряд произведений с ярко выраженной сатирической тенденцией и скорбными размышлениями о современности. Это «Юдоль» (1892), «Томление духа» (1891), «Полунощники» (1891), «Загон» (1893), «Продукт природы» (1893), «Зимний день» (1894), «Дама и фефела» (1894)и др.
Рассказ «Юдоль» обозначен музыкальным термином «рапсодия». Главное его отличие – свобода формы, фабула произведения состоит из «разноплановых эпизодов». Речь идёт о голоде 1840 г., о народных приметах, предвещавших его, о состоянии тревоги и растерянности деревенских людей. В натуралистически подробные и ужасающие эпизоды голода вплетаются авторские рапсодии-воспоминания иного плана, посвящённые тетушке Пелагее Дмитриевне, тете Полли, её жизненным взлётам и падениям. С её приездом врывается в жизнь вымирающей деревни свет, надежда, деятельная любовь, «мощный дух, присутствие которого изменяло весь ход и настроение нашей жизни».
«Юдоль» интересна не только остротой проблематики, своей сатирой, но не в меньшей степени новаторским художественным решением. Рапсодии Лескова при кажущейся свободе и внешней несвязанности эпизодов, образуют поток воспоминаний, объединенных личностью автора, его страстным призывом к душе человека, к его совести.
Творчество позднего Лескова – прежде всего общественная сатира, которая всегда ему была присуща. Изначально диапазон её был довольно обширен, теперь она стала ещё откровеннее и наполнилась яростной личной энергией. Автор ненавидел фальшивую жизнь ленивых и тупых обывателей. О «российских гнусностях» он пишет в «Юдоли», «Продукте природы», «Загоне», «Зимнем дне» и др. Журналы опасаются за судьбу его произведений, некоторые из них печатать не осмеливаются. О «Загоне» он сообщает в письме к Л. Толстому: «Списано всё с натуры», на что тот ему отвечает: «Мне понравилось, особенно то, что всё это правда, не вымысел». Постоянные опасения цензурных гонений в какой-то мере содействуют укреплению особой манеры письма, чтобы спрятать «очень тщательно и запутанно», с помощью аллегории, эзопова языка, символа и гротеска «деликатную материю», т. е. российский политический режим; гримасы и преступления «банковского» периода, полицейские провокации, лицемерие и аморализм. Поздняя сатира становится гневной и обличающей.
Произведения Лескова 90-х годов – своего рода итог в русле всей русской литературы XIX в., на что красноречиво указывает эпиграф к «Полунощникам»: «Парки бабье лепетанье, // Спящей ночи трепетанье, // Жизни мышья беготня». Пушкинское «я понять тебя хочу, // смысла я в тебе ищу» всегда присутствует в лесковской прозе.
Лесков создал галерею самых разных героев – от мудрого до невежды, от пустынника до гражданина. Его герои – главные, второстепенные, «проходные» – все глубоко индивидуальны, с особой речью, интонациями, любимыми словечками. Писатель считал индивидуализацию языка персонажей ведущим художественным принципом создания характера, хотя критики и писатели упрекали его в чрезмерном «искажении» слов. Он отвечал своим оппонентам: «Мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики по-мужицки, выскочки из них и скоморохи – с выкрутасами и т. д. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений – довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош… Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету, в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и в монастырях. Они все говорят по-своему, а не по литературному».
Разговоры людей, по мнению писателя, – важнейшая часть человеческой жизни. Именно такой художественный подход позволяет проникнуть в сознание героя и в тот архетипический слой, откуда выплыл на поверхность литературного пространства конкретный образ. В полной мере Лесков владел «искусным плетением нервного кружева разговорной речи» (М. Горький). Его диалоги – образцы лапидарной красоты и совершенства. Каждый персонаж Лескова интересен, незабываем, жизненно достоверен, психологически убедителен.
В целом творчество писателя своими корнями уходит в глубины русской словесности и в то же время стоит на пороге искусства XX в., что в своё время понял Л. Толстой, сказавший, что «Лесков – писатель будущего». М. Горький высоко оценивал его значение: «Как художник слова Н.С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтой охвата явлений жизни, глубинного понимания бытовых загадок её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих».
Литература
Лесков Н.С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Издание начато в 1996 г., вышло 6 т.
Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. М., 1957–1958.
Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1989.
Лесков Н.С. Легендарные характеры. М., 1989.
Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: Б 2 т. М., 1984.
Аннинский Л. Лесковское ожерелье. М., 1982.
Гроссман Л. Н.С. Лесков. Жизнь – творчество – поэтика. М., 1945.
Горелов А. Н.С. Лесков и народная культура. Л., 1988.
Горячкина М. Сатира Лескова. М., 1963.
Другов Б. Н.С. Лесков. Очерк творчества. М., 1961.
Старыгина Н, Н.С. Лесков в школе. М., 2000.
Столярова И. В поисках идеала. Творчество Н.С. Лескова. Л., 1978.
Троицкий Ю. Лесков – художник. М., 1974.
Поэзия
«Отчего мне вообще стихи (свои и не свои) стало читать скучно. Всякое чувство или мысль, олицетворённые в фантастический образ (хотя бы на манер древних), – перестали быть для меня наслаждением. Всё мне кажется утомительно натянутыми – не образами – а словами. Вся поэзия мне кажется каким-то салонным произведением, которое метит больше на снискание одобрения известной публики, а не производится внутренней необходимостью высказать свое поэтическое содержание», – писал Н.П. Огарёв в неоконченной статье «С утра до ночи». Читательское признание Огарёва вполне можно применить для характеристики восприятия поэзии в 1840-е годы. В этом восприятии стихи стали проигрывать прозе. Возникло некоторое эстетическое отчуждение от стихов, но это не остановило развитие поэзии. Поэзия в противоборстве с прозой потеряла только в количественном отношении. В это время меньше стали писать стихов, а некоторые стихотворцы, например, М.Е. Салтыков и И.С. Тургенев вообще ушли из поэзии, как это сделал гораздо раньше и И.А. Гончаров.
Но зато в противоборстве с прозой, обладающей эпическими жанрами, поэзия еще основательнее утвердилась в том своем свойстве, которое определилось благодаря Тютчеву в момент его «конфликтной» встречи с Пушкиным. Свойство это – художественная метафизика (создание лирического образа в соотнесении с первоосновами бытия) в единстве с романтической эстетикой. «Всякая метафизика есть не более как усилие человеческого ума обнять мировой дух», – определил В.П. Боткин в статье «Стихотворения А.А. Фета». Вот это «усилие» всё настойчивее начинает воплощаться в поэзии. Стихотворная лирика тем самым доказала прозе, что и она может, только «малыми» жанрами, раскрывать не только мир человеческой души, но и проникать в онтологическую бесконечность. Это на протяжении всех 1840-х годов осуществлял Тютчев («Живым сочувствием привета…», «Глядел я, стоя над Невой…», «Колумб», «Море и утес», «Неохотно и несмело…», «Итак, опять увиделся я с вами…*»), а А.В. Кольцов («Поэт», «Жизнь», «На новый 1842 год») и Е.А. Баратынский («Скульптор», «Пироскаф») в самом их начале. В этом направлении происходит формирование лирической образности и в поэзии Н.П. Огарёва («На сон грядущий», «Ночь», «Я наконец оставил город шумный…»).
Основные закономерности развития поэзии 1850—1870-х годов
Уже в 1840-е годы произошло породнение романтической метафизики с «чистым искусством», стремящегося к воплощению только идеального мира, озарённого «улыбкой красоты» (А.А. Фет). Это слияние создало еще более прочную эстетическую основу для романтического «двоемирия», что зримо проявляется в лирическом творчестве В.Г. Бенедиктова, АА. Григорьева, А.А. Фета, А.Н. Майкова именно в 1840-е годы. «Я созерцал явленья красоты» («И тщетно всё»), – писал Бенедиктов в 1846 г., и таким созерцанием пронизана вся романтическая поэзия этого периода. Естественно, такая поэзия не искала встреч с «натуральной школой».
А вот другое направление в поэтическом развитии формировалось под диктатом этой школы, согласуя лирическую образность с «принципом дагерротипия» (натуралистическая фотографичность), который укоренился прежде всего в физиологическом очерке. Этот опыт прозы активно перенимала поэзия, что привело к сгущению в ней социальных и гражданских мотивов с ощутимым вкраплением элементов сатиры. Таким образом, к началу 1850-х годов в поэзии во весь голос заявила о себе социально-гражданская лирика, путь которой прокладывал прежде всего Н.А. Некрасов, создавший в 1840-е годы «Чиновника», «Стишки! стишки! Давно и я был гений?..», «Современную оду», «В дороге», «Пьяницу», «Когда из мрака заблужденья…», «Родину», «Псовую охоту», «Еду ли ночью по улице темной…». Укоренению гражданского начала в лирическом творчестве содействовала поэзия петрашевца А.Н. Плещеева, призвавшего к всеобщему счастью и благоденствию:
Вперед! Без страха и сомненья На подвиг доблестный, друзья! Зарю святого искупленья Уж в небесах завидел я!По сути дела, эти два направления, постоянно находясь в состоянии отталкивания и притяжения (в романтической поэзии могли появиться сатирические мотивы, а в социально-гражданской лирике вспыхнуть мотив красоты), предопределили путь развития поэзии в 1850—1870-е годы. Первое направление привело к тому, что в поэзии возникла «тютчевская эпоха», которую можно назвать малой эпохой внутри большой литературной эпохи. Движение поэзии в этом направлении обусловило не только «магическое» воздействие лирики Тютчева, сила которого передана в лирических посланиях П.А. Вяземского, Ф.Н. Глинки,
А.Н. Майкова, А.А. Фета, Я.П. Полонского, А.Н. Апухтина, но и статьях Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А,А. Фета о поэзии Тютчева, в которых была подчеркнута величайшая значимость его художественных открытий. В статье 1854 г. «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева» Тургенев укажет на это с твердой убежденностью: «Мы сказали сейчас, что г. Тютчев один из самых замечательных русских поэтов; мы скажем более: в наших глазах, как оно не обидно для самолюбия современников, г. Тютчев, принадлежащий поколению предыдущему, стоит решительно выше своих братьев по Аполлону». В стихотворении «Ф.И. Тютчеву» Полонский, сравнивая тютчевскую поэзию с притягательным «огнем» (символ высокого творчества), выразит ту же самую мысль:
Глухая ночь меня застигла, Морозной мглы сверкающие игла Открытое лицо мое язвят; Где 6 ни горел огонь, иду к нему, и рад — Рад верить, что моя пустыня не безлюдна, Когда по ней кой-где огни ещё горят…Благодаря Тютчеву в центре малой эпохи окажется та романтическая метафизическая эстетика, начало которой было положено в 1840-е годы с опорой на немецкую философию (Шеллинг, Гегель). Но теперь в эту эстетику еще глубже врастает «чистое искусство» и та «красота», которую порождает это искусство. Этим и объясняется рождение в недрах метафизической поэзии формулы «искусство для искусства» (красота для красоты). Той формулы, которая так ярко вспыхнула в финальных строфах стихотворения Фета 1860 г. «Ты прав: мы старимся. Зима недалека…», обращённого к Тургеневу:
К чему пытать судьбу? Быть может, коротка В руках у парки нитка наша! Еще разымчива, душиста и сладка Нам Гебы пенистая чаша. Зажжет, как прежде, нам во глубине сердец Ее огонь благие чувства, — Так пей же из нее, любимый наш певец: В ней есть искусство для искусства.Созданная искусством красота и «вечная красота» (А.Н. Майков) образуют опорную художественную категорию в романтической поэзии. Процесс «врастанья» этой категории в художественную метафизику становится самой заметной закономерностью развития поэзии.
Эта закономерность воплощалась в лирике П.А. Вяземского («Мужайтесь! и для вас – мир царство красоты»), а также Ф.Н. Глинки, А.С. Хомякова, С.П. Шевырева, в произведениях которых подчас незримо присутствует символ красоты. Самое характерное стихотворение такого рода – «Слава творения» Шевырева (1857), где лирическое «любомудрие» художественно соотнесено через подтекст с символом красоты.
Но еще с большей отчетливостью все это выражено в поэзии Е.П. Ростопчиной, В.Г. Бенедиктова, А.А. Григорьева, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, А.К. Толстого, Л.А. Мея, К.К. Павловой,
А.А. Фета, к которым во второй половине 1850-х годов «присоединятся» К.К. Случевский и А.Н. Апухтин. Из всех этих поэтов наиболее настойчив и категоричен в отстаивании своих эстетических принципов был Фет, требовавший полной отрешённости поэтического искусства от земных дел и забот. Отсюда идёт его неприятие поэзии Некрасова, полемически высказанное в стихотворении «Псевдопоэту»:
Влача по прихоти народа В грязи низкопоклонный стих, Ты слова гордого свобода Ни разу сердцем не постиг. Не возносился богомольно Ты в ту свежеющую мглу, Где беззаветно лишь привольно Свободной песне и орлу.Не без сопротивления философии «чистого искусства» продолжала активно развиваться социально-гражданская лирика. Теперь центром этого художественного процесса стала поэзия М.Л. Михайлова, И.С. Никитина и А.Н. Плещеева. Но всё же главное направление в развитии социально-гражданской лирики определяла поэзия Н.А. Некрасова, под влиянием которой постепенно сформировалась «некрасовская школа». Как определил Н.Н. Скатов, «обычно же под школой Некрасова – и здесь речь идет именно о такой школе – понимают поэтов 50—70-х гг., идеологически и художественно наиболее ему близких, испытавших на себе прямое влияние великого поэта, даже организационно в сущности объединённых уже в силу того обстоятельства, что большинство из них группировались вокруг немногочисленных демократических изданий: некрасовского «Современника», «Русского слова», «Искры». С «некрасовской школой» были связаны художественные искания Михайлова, Никитина, Плещеева. Под воздействием традиций социально-гражданской и сатирической поэзии Некрасова, привитых именно через «школу», формировалось творчество Н.А. Добролюбова, И.И. Гольц-Миллера, B.C. Курочкина, Н.С. Курочкина, Д.Д. Минаева, Л.Н. Трефолева. В художественном сознании всех поэтов «школы» Некрасов был таким, каким его представлял Н.С. Курочкин в стихотворении «Некрасов» (1878 г.):
И – он свершил вполне свое призванье, Он к страждущим – сочувствие привлёк, Расслушал стон народный и рыданья И в звуки их могучие облёк, И осветил народа путь тернистый Сознания лучами… этот свет В грядущем мрак рассеет ночи мглистой, Всё сбудется, о чём мечтал поэт! Недаром с музой мести и печали Он пережил всю скорбь страны родной Недаром песни все его звучали Такой глубокой правдой и тоской!Литература
История русской поэзии: В 2 т. Л., 1969.
Ямпольский И.Г. Середина века. Очерки о русской поэзии 1840–1870 гг. Л., 1974.
Гаспаров M. Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984.
Скатов Н.Н. Некрасов. Современники и продолжатели. Очерки. М., 1986.
Баевский B.C. История русской поэзии. 1730–1880. Компендиум. М., 1996.
Поэты «Искры»
В конце 1850-х годов в России возник тип еженедельного журнала с карикатурами – плод сотрудничества писателя и художника. Наиболее значительным из сатирических журналов была «Искра». Одновременно с ней возник и «Свисток» Н.А. Добролюбова, сатирическое приложение к «Современнику». Замысел журнала появился у художника-карикатуриста Н.А. Степанова и поэта B.C. Курочкина, известного своими переводами П.Ж. Беранже. «Искра» выходила с 1859 г. и вскоре приобрела неслыханную популярность.
Журнал просуществовал 15 лет. В нем сотрудничали в разные годы талантливые писатели демократического лагеря – поэты Д.Д. Минаев, П.И. Вейнберг, В.И. Богданов, Н.С. Курочкин, Г.Н. Жулев, А.П. Сниткин и др., прозаики Н.В. и Г.И. Успенские, Ф.М. Решетников, П.И. Якушкин, Н.Н. Златовратский и др., публицисты Г.З. Елисеев, И.И. Дмитриев и др. Кроме того, у «Искры» образовалась сеть корреспондентов по России. Читатели сообщали журналу о злоупотреблениях, редакция обрабатывала факты, снабжала карикатурами и пускала в печать.
Главным оружием «Искры» был смех, её обличения затрагивали все сферы русской жизни, в том числе всю бюрократическую лестницу вплоть до правительственных верхов. С первых же дней редакции приходилось работать в обстановке непрекращающихся цензурных репрессий. Публикации «Искры» отличались злободневностью, они откликались на актуальные факты общественной и литературной жизни. Многие произведения со временем устарели и стали непонятными без специального комментария.
«Искра» была чем-то вроде сатирического крыла поэтов демократического направления. Поэт для искровцев – прежде всего гражданин, человек, болеющий страданиями народа и борющийся за его благо, «поэт для многих». Обличение социального неравенства, ирония по поводу «хозяев жизни», живущих в роскоши, воспевание честного труда и тружеников, несостоятельность реформ 1860-х годов – главные мотивы их стихотворений. Сатира была направлена и против нарождавшейся буржуазной России, мира наживы, полицейского произвола, милитаризма, а также взяточничества, лакейства, либерального фразерства, обывательщины.
Незаурядным поэтом, блестящим переводчиком, основателем и редактором «Искры» был Василий Степанович Курочкин (1831–1875). Его отец, из дворовых, был отпущен на волю и дослужился до чина коллежского асессора. Василий с двумя братьями, Владимиром и Николаем (тоже будущими писателями), учился в кадетском корпусе, затем в Дворянском полку служил офицером, не чувствуя, впрочем, интереса к военной карьере. Добившись, наконец, отставки, он поступает на службу в канцелярию, но с 1857 г. полностью отдаётся литературной работе.
Сочинять же он начал гораздо раньше – с 10 лет, а в Дворянском полку вместе с Д. Минаевым выпускает рукописный журнал. Дебют в печати состоялся в 1850 г.
Поворотным пунктом в карьере писателя стала первая публикация его переводов Беранже. Большой известностью пользовались перевод стихотворения «Старый капрал» (1855) и вольный перевод «Господина Искариотова» (1861), по мастерству превосходящий подлинник. В нем дан собирательный образ фискала, тайного агента. Язвительная ирония, скрытая в описании этого «добродушнейшего чудака» и «поборника просвещенья», проступает в рефрене – словах, которые все шепчут при его появлении:
«Тише, тише, господа! Господин Искариотов, Патриот из патриотов — Приближается сюда».Поэт стал приобретать известность, его переводы и оригинальные стихи издавались в журналах. Уже в раннем творчестве проявились и затем окрепли демократические симпатии, антикрепостнический и антимонархистский пафос Курочкина («Рассказ няни», «Ни в мать, ни в отца», «Общий знакомый» и др.). Поэт покушается даже на государственный герб (стихотворение долго распространялось в списках):
Правды нет оттого в русском мире, Недосмотры везде оттого, Что всевидящих глаз в нем четыре, Да не видят они ничего. Оттого мы к шпионству привычны, Оттого мы храбры на словах, Что мы все, господа, двуязычны, Как орел наш о двух головах. («Двуглавый орел»)С конца 1850-х годов жизнь и поэзия Курочкина неразрывно связаны с «Искрой», журнал был его любимым детищем, в нем он печатает почти все свои произведения. Современники отмечали благородство и щедрость писателя, который материально поддерживал собратьев по перу.
В 1860-е годы поэт участвует в революционном движении, посещает Лондон ради встречи с Герценом и Огаревым, становится членом тайного общества «Земля и воля», после каракозовского выстрела и до самой смерти находится под полицейским наблюдением. В 1873 г. «Искра» была закрыта правительством. В последние годы Курочкин пишет ряд остросатирических кукольных пьес «на манер простонародных», из которых до нас дошла лишь одна – «Принц Лутоня». Скончался поэт от слишком большой дозы морфия, впрыснутой ему доктором по ошибке. До последнего дня жизни он строил планы, собираясь создавать новый сатирический журнал.
Много лет рука об руку с В. Курочкиным в «Искре» трудится одарённый и остроумнейший поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835–1889). «Минаева знала вся читающая публика, – вспоминал современник. – Его пародии, экспромты, эпиграммы облетели всю Россию и повторялись, переходя из уст в уста». О нем писали в приветствии-монорифме:
Кто на Руси гроза хлыщей и шалопаев, Судебных болтунов и думских попугаев, Всех званий хищников, лгунов и негодяев… <…> Ханжей, доносчиков, шпионов, разгильдяев?.. Всё он – сатирик наш талантливый – Минаев!Минаев – сын небогатого симбирского дворянина, подполковника, литератора-любителя, автора переложения «Слова о полку Игореве». В 1847 г. семья переезжает в Петербург, Дмитрий учится в Дворянском полку, где и начинает писать стихи. Молодой человек служит в Симбирске, затем в Петербурге (в министерстве внутренних дел), но в 1857 г., как и В. Курочкин, уходит в отставку и посвящает себя литературе.
Минаев издает первую биографию своего кумира Белинского, пытаясь восстановить подлинный облик «неистового Виссариона». С начала 1860-х годов сотрудничает в журналах «Современник», «Русское слово», но наиболее активно – в «Искре» (вплоть до ее закрытия). Будучи очень плодовитым автором, он пишет сатирические стихи, пародии, эпиграммы, сказки, фельетоны, поэмы, комедии и др. В сказке «Кому на Руси жить плохо» (1871) используются некрасовские мотивы. Всем грехам матерью оказывается «глупость всемогущая» – доверчивость и темнота крестьян. В сатирических поэмах «Евгений Онегин нашего времени» (1872) и «Демон» (1874) автор «переносит» героев Пушкина и Лермонтова в свое время. Минаев – виртуозный версификатор: его каламбуры, игра стихотворными размерами, звучные и неожиданные рифмы повлияли на дальнейшее развитие русского стиха.
С 1865 г. Минаев «как крайний либерал и нигилист» находится под постоянным негласным надзором полиции. В конце 1870-х годов занимается главным образом газетной работой, ведя в разных изданиях фельетонные обозрения. В последние годы поэт переживает кризис, долго болеет, возвращается в Симбирск – «лечиться воздухом родины».
В поэзии искровцев можно наблюдать огромное разнообразие сатирических средств и приемов: это иронические заглавия и подзаголовки, ироническое использование цитат, иронический комментарий; насмешка под видом похвалы и, напротив, сочувственное отношение под видом осуждения и т. п.
Часто авторам «Искры» приходилось в условиях жёсткой цензуры прибегать к эзопову языку, «зашифровывать» свои взгляды и объекты нападок. В редакции был даже принят некий код для названий и фамилий: Санкт-Петербург – Тартараринск, Тверь – Глупое, Диагональ – западносибирский губернатор Дюгамель, Баклушин — херсонский губернатор Клушин и проч. Многое читатели должны были понять по намекам. Так, в финале юмористических куплетов Д. Минаева «Роковое число» слово «третий» выделено курсивом:
Чтоб горя в жизни не иметь им, Во избежанье всяких бед, Шепнул бы я ещё о третьем… Да, жалко, времени мне нет.Это не что иное, как намек на III Отделение.
Особое место, по мысли исследователя И.Г. Ямпольского, отводилось приему «маски», «повествования от имени подставного лица, которое не только не тождественно с авторским, но служит основным объектом сатирического разоблачения». При этом «враждебный поэту образ мыслей доводится <…> до предельной уродливости и развенчивается как бы изнутри»:
Человек я хорошего нрава — Право! Но нельзя же служить, как известно, Честно. Я вполне соглашаюсь, что взятки Гадки; Но семейство, большое к тому же, Хуже… B.C. Курочкин «Жалоба чиновника»Таковы маски благородного дворянина, мечтающего о возвращении крепостного строя («Мы – особь статья!» Богданова), провинциального помещика («Провинциальным Фамусовым» Минаева), либерала («Сон на Новый год» В. Курочкина), чиновника-взяточника («Негордый человек» Вейнберга), славянофила («Я трепетал…» Минаева), обывателя и мн. др. Устойчивой маской Д. Минаева стал отставной майор Михаил Бурбонов, тупой и грубый солдафон, от лица его вышла целая книга – «Здравия желаю! Стихотворения отставного майора Михаила Бурбонова» (1867).
Еще один яркий прием – на страницах стихотворений искровцев действуют известные литературные герои: Митрофан, Ноздрев, Чичиков, Хлестаков, Молчапин, Скалозуб, Базаров и др. Типические явления прошлого, оказывается, ещё живут, приспосабливаясь к новой действительности. Так, персонажи «Горя от ума», дожившие до 1860-х годов, действуют в сценке Минаева «Москвичи на лекции по философии». Оба названных приема нередко сочетаются. В одном из лучших своих стихотворений В. Курочкин рассуждает о романе Чернышевского «Что делать?» от имени «проницательного читателя» – не выражая прямо своего сочувствия идеям романа:
Жена героя – что за стыд! Живет своим трудом; Не наряжается в кредит И с белошвейкой говорит — Как с равным ей лицом. <…> Нет, я не дам жене своей Читать роман такой! Не надо новых нам людей И идеальных этих швей В их новой мастерской! B.C. Курочкин «Нет, положительно, роман “Что делать?” нехорош…»Включение в сферу поэзии «низкой» действительности привело к обновлению поэтического языка – его демократизации, сближению стихотворной речи с разговорной. Отстаивая простоту формы без намеренной примитивной упрощённости, искровцы использовали куплеты с рефреном, обращаясь к опыту французских поэтов-песенников, в первую очередь, Беранже.
Остроумны пародии, направленные главным образом против «искусства для искусства». Таковы пародии Минаева на А. Фета – «Чудная картина!..», «У камина», «Грезы» и др. «Пародия становится… средством становления новой формы, одним из путей обретения самостоятельности, противоядием серости и безликости штампа», – писал Н. Скатов. Поэты «Искры» высмеивают узость тематики, воспевание мимолетных и смутных настроений, красивость, романтический пейзаж и т. п. как общие тенденции в творчестве своих литературных противников:
Поэт понимает, как плачут цветы, О чем говорит колосистая рожь, Что шепчут под вечер деревьев листы, Какие у каждой капусты мечты, Что думает в мире древесная вошь. <…> И только поэт одного не поймёт: О чем это думает бедный народ? Д.Д. Минаев «Золотой век»Кроме собственных пародий, искровцы нередко прибегали к пародийному использованию отдельных строк и словосочетаний, ритмики, строфики, сюжетной схемы известных произведений. Эти поэтические «перепевы» в отличие от пародий не дискредитируют литературный источник – объекты сатиры здесь другие. Но смех вызывает и само разрушение привычных поэтических ассоциаций. Неожиданное сближение двух литературных источников служит средством усиления комического эффекта. Так, например, в «Просьбе» Минаева (1862), разоблачающей выпады ретроградов против эмансипации женщин, используются элементы художественной формы «Молитвы» («Я, матерь божия, ныне с молитвою…») и «Туч» М.Ю. Лермонтова:
Я, жены севера, ныне с участием… <…> Нет, позабудьте все пренья бесплодные, Будьте довольны, как прежде, рутиною: Вечно нарядные, вечно свободные, Бойтеся встретиться с мыслью единою.Излюбленным жанром искровцев была эпиграмма, в которой использовались такие средства комического, как острота и каламбур (игра двойным значением, звуковой близостью далеких по смыслу слов и т. п.). Лучшим мастером эпиграммы, непревзойденным импровизатором был Д. Минаев:
Нельзя довериться надежде, Она ужасно часто лжёт: Он подавал надежды прежде, Теперь доносы подает.Большое место в литературном наследии искровцев занимают переводы из классической европейской поэзии – Данте, Шекспира, Байрона, Шелли, Лонгфелло, Гете, Шиллера, Гейне, Мольера, Беранже, Мюссе, Гюго и многих других. Вершина переводческой деятельности – песни Беранже в переводе В. Курочкина. Интересным был перевод Д. Минаевым «Божественной комедии». Поэт просил сделать на его надгробном памятнике надпись: «Жил и перевёл на русский язык Данте».
Творчество поэтов-сатириков середины века – одна из самых ярких страниц в истории русской сатирической поэзии.
Литература
Поэты «Искры»: Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Вступ. ст., сост., подгот. текста и прим. И.Г. Ямпольского. Л., 1987 (БПбс).
Ямпольский И.Г. Середина века. Очерки о русской поэзии 1840– 1870-х гг. Л., 1974.
Скатов Н.Н. Некрасов: Современники и продолжатели. Очерки. М., 1986. С. 77–99.
Кулешов В.И. Русская демократическая литература 50-60-х гг. XIX в. М., 1989. С. 67–83.
Козьма Прутков (1803–1863)
Первая книга сочинений Козьмы Пруткова открывалась красочным портретом автора и биографической заметкой, из которой читатель мог узнать, что Прутков родился 11 апреля 1803 г. Далее следовали сведения об его молодости, государственной службе и т. д., и т. п. Но всё это было литературной мистификацией. Никакого Козьмы Пруткова, поэта, баснописца, драматурга, в действительности не существовало. Молодые литераторы – братья Жемчужниковы и поэт А. К. Толстой – создали образ тупого, ограниченного служаки-чиновника, претендовавшего на сочинение произведений в подражание популярным писателям и философам 50—60-х годов XIX в. В образе Козьмы Пруткова пародировались безвкусица и вычурность, высмеивались претенциозность, самодовольство и хвастовство.
Сочинения Пруткова пользовались большой известностью. Особенно популярны были его «Плоды раздумья. Мысли и афоризмы».
Я.П. Полонский (1818–1898)
Яков Петрович Полонский родился в Рязани в семье чиновника. В 1844 г. он окончил юридический факультет Московского университета и несколько лет служил по специальности в разных провинциальных городах. В 1853 г. Полонский переезжает в Петербург, где продолжает свою служебную деятельность и одновременно сотрудничает в разных журналах. В его литературном наследии есть и проза, и драматургия, но известность Полонскому принесла лирическая поэзия. Первый сборник стихов «Гаммы» вышел в свет в 1844 г., последний – «Вечерний звон» – в 1890. Полонский подходил к явлениям общественной жизни с общечеловеческих гуманистических позиций. В его лирике присутствуют и гражданские мотивы, но явно преобладают «тревоги сердца».
Стихотворения Полонского просты и изящны. Поэт тонко чувствовал музыку русского слова. Недаром многие его произведения привлекли внимание известных композиторов и стали романсами. А «Затворница» и «Песня цыганки» широко известны как народные песни. Достижения Полонского в жанрах элегии и песни повлияли на дальнейшее развитие русской поэзии, в частности на творчество А.А. Блока.
А.Н. Майков (1821–1897)
Родился в Москве. Его отец был академиком живописи. В начальном образовании
будущего поэта принимал участие И.А. Гончаров. В 1841 г. Майков окончил юридический факультет Петербургского университета и отправился для продолжения образования за границу, где изучал искусство Италии и Франции, слушал лекции в Сорбонне. По возвращении на родину Майков работал сначала библиотекарем, а с 1852 г. и до конца жизни – цензором. Стихи он писал с ранней юности. Его первые печатные произведения были одобрены В.Г. Белинским.
Майков продолжал пушкинские традиции ясности, точности и простоты. Тематический диапазон его творчества включал в себя философские и исторические проблемы. Он создавал онтологические стихи, живописал картины русской природы, придавая им глубокий аллегорический смысл. В своих поэмах, часто используя драматическую форму, поэт обращался к произведениям античных и раннехристианских авторов, к фольклорным произведениям. Ему принадлежит перевод «Откровения Иоанна». Майков перевёл также «Слово о полку Игореве». Эта его работа и сегодня успешно конкурирует с переводами позднейших авторов. Многие стихи поэта положены на музыку.
А.Н. Плещеев (1825–1893)
Родился в Костроме и происходил из старинного дворянского рода. Он писал стихи, прозу, занимался переводами, выступал как критик и фельетонист. Будучи членом кружка Петрашевского, он создал ряд стихотворений, выражающих недовольство социальным устройством общества – «Да! этот мир хорош», «Дума». Плещеев призывает к подвигу, к жертвам, к борьбе – «Сон», «Поэту». Особенно широко было известно его стихотворение «Вперед! без страха и сомненья», ставшее гимном нескольких поколений русских свободомыслящих людей. В 1849 г. Плещеев, как и Ф.М. Достоевский, был арестован по делу петрашевцев и десять лет провёл в ссылке, рядовым в Оренбургском гарнизоне. После возвращения из ссылки в его поэзии появляются некрасовские темы и образы – «Скучная картина», «Родное», «На улице». В последний период творчества лирика поэта была окрашена скорбным настроением: многие из его идеалов рушились. Стих Плещеева прост, ясен, музыкален. Его стихотворения вошли в детские хрестоматии, были положены на музыку.
И.З. Суриков (1841–1880)
Короткая и тяжелая жизнь выпала на долю наиболее талантливого из поэтов-самоучек И.З. Сурикова: рождение в крепостной деревне Ярославской губернии, переезд в город и жизнь в купеческой среде, постоянная борьба за хлеб насущный, помощь отцу и дяде в мелкой торговле углем и железным товаром, работа в типографии. Сложные отношения в семье, нищета, попытка самоубийства; наконец, чахотка и смерть. В то же время увлечение устным народным творчеством и русской классической поэзией, растущая литературная известность, поэтические сборники, стихи в популярных журналах, вступление в Общество любителей российской словесности по рекомендации Ф. Буслаева и Л. Толстого. Самоотверженная попытка создать творческий коллектив писателей из народа («суриковцев»), редактирование и выпуск в 1872 г. их сборника «Рассвет». И полицейский запрет на издание журнала писателей-самоучек.
Под первыми публикациями песен поэт подписывался: «Крестьянин И.З. Суриков». Он певец крестьянской жизни в ее драматическом освещении, тяжелого труда, бесприютности, сиротства, и в этом – преемник некрасовской традиции, однако Сурикову чужды аналитический взгляд и «гнев» музы Некрасова. Деревня для автора «Рябины» – это прибежище измученной души поэта, предмет любования, даже идеализации. Во многих стихотворениях господствует повествовательное начало – пейзажные зарисовки, а также житейские истории из жизни швеек, сапожников, бродяг, близкие форме городского романса. Тема смерти устойчива в лирике Сурикова, но она лишена безысходности. Автор по-христиански подчеркивает аскетическую суть человеческой жизни, поэтизирует силу духа, достойно принимающего страдания и неотвратимый уход.
Фольклоризм И. Сурикова питают в большей мере не книжные источники, а впечатления жизни. Фольклорная и литературная стихии находят органическое единство в его песнях. Характерны укрупнённость, обобщение; часты природные образы-символы, олицетворения отвлечённых понятий «горя», «доли». Используются параллелизм, постоянные эпитеты, уменьшительно-ласкательные суффиксы, дактилические окончания. Особый раздел творчества поэта – исторический эпос (былины, поэмы, баллады).
На тексты И. Сурикова писали музыку А. Гречанинов, А. Даргомыжский, П. Чайковский, Ц. Кюи. В сборники песен и устный фольклор вошли песни на слова Сурикова неизвестных композиторов, а некоторые произведения, варьируясь, стали подлинно народными.
Ф.И. Тютчев (1803–1873)
Фёдор Иванович Тютчев родился в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. Годы его учения в основном начались после переезда Тютчевых в Москву. В конце 1812 г. учителем Тютчева становится поэт С.Е. Раич (Амфитеатров), что значительно ускорит развитие его литературного дарования. «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня, – восторженно отзывался о своем ученике Раич, – года через три он уже был не учеником, а товарищем моим, – так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум!». С помощью Раича Тютчев не только оказался основательно подготовленным для поступления на словесное отделение Московского университета (в ноябре 1821 г. Тютчев закончил университет со степенью кандидата словесных наук), но и осуществил первые свои поэтические опыты – «Любезному папеньке», «На новый 1816 год», «Урания», в которых уже начали сказываться философичность и космичность, характерные для будущего его лирического творчества
В последующие годы, когда Тютчев уже находился в Мюнхене (поступив на службу в Государственную коллегию иностранных дел, он был «причислен к миссии в Мюнхене сверх штата»), поэт не прекращал общения со своим учителем. Раич настойчиво вёл Тютчева в мир литературы. В альманахах «Новые Аониды», «Северная лира» и журнале «Галатея» Раич печатает тютчевские стихи, а Тютчев впечатляюще воспроизвел его романтическое мироощущение в стихотворении 1825 г. «Проблеск». И не случайно Тютчев уже в июле 1836 г., обсуждая с И.С. Гагариным вопрос о публикации его стихотворений, советовал ему обратиться «к Раичу, проживающему в Москве; пусть он передаст вам всё, что я когда-то отсылал ему и что частью было помещено им в довольно пустом журнале, который он выпускал под названием “Бабочка”» (так Тютчев назвал журнал «Галатея»).
Еще раньше Тютчев с помощью Амалии Крюденер (это её Тютчев представит в стихотворении «Я помню время золотое…» в воздушном образе «младой феи») переправил свои стихи в Петербург. Более никакой заботы о печатании своих стихов в пушкинском журнале «Современник» Тютчев не проявлял, и позднее он будет это делать без особого энтузиазма. В творческом сознании Тютчева постоянно шла борьба с тем эстетическим императивом, о котором он писал из Мюнхена Гагарину в мае 1836 г.: «Ах, писание страшное зло, оно как бы второе грехопадение бедного разума, как бы усиление материи…» Безусловно, эта борьба сильнейшим образом способствовала достижению поразительного художественного совершенства тютчевских текстов, что сполна проявилось в цикле «Стихотворения, присланные из Германии», опубликованном в третьем и четвертом томах «Современника» за 1836 г.
Самым загадочным в этом цикле является его превращение из «неавторского» в «авторский». Тютчев не мог приложить свою руку к тому, чтобы 24 стихотворения обрели то композиционное единство, которое характерно именно для «авторских» лирических циклов (от пролога до финала в определённом композиционном ритме варьируются стихотворения натурфилософские и экзистенциальные с четким выделением вершин – «Весенние воды», «Цицерон», «Я помню время золотое…», «SilentiumU, «О чем ты воешь, ветр ночной?..», «Сон на море», «Не то, что мните вы, природа…»). И такое же чёткое обозначение финального стихотворения «Душа моя, Элизиум теней…», где не без риторического нажима выделено романтическое «двоемирие»:
Душа моя, Элизиум теней, Что общего меж жизнью и тобою! Меж вами, призраки минувших, лучших дней, И сей бесчувственной толпою?..Тютчевские тексты сплотились в художественное единство «авторского» цикла потому, что им суждено было принести весть о новой поэтической эпохе. Произошла первая встреча разных эпох («пушкинской» и «тютчевской»), что и зафиксировалось в четвертом томе «Современника»: после «Ф.Т.» сразу следует «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Разумеется, пушкинская традиция в поэтике Тютчева занимает положение доминантной. В стихотворении «29-е января 1837» Тютчев пишет о вечной жизни, уготованной пушкинскому гению:
Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..Пушкинским гении освещал творческии путь Тютчева. А то противостояние между ними, о котором в свое время убедительно писал Ю.Н. Тынянов, было предопределено неизбежным конфликтом разных поэтических эпох. Цикл «Стихотворения, присланные из Германии», выдержав это испытание за счет чуть ли не абсолютной внутренней сплоченности, явил миру цельный художественный мир Тютчева. Тютчев как творец этого мира настолько потряс Л.Н. Толстою, что он скажет: «Без него нельзя жить».
Конечно, когда Толстой произносил эти слова (они воспроизведены в «Дневнике» В.Ф. Лазурского), он имел в виду, прежде всего то, что чарующие, эстетически покоряющие, страстные ямбы Тютчева – поэтическое чудо, сотворить которое мог только гениальный поэт. В этих толстовских словах такое же восхищение и поклонение, какое пережил А.А. Фет, многие годы стремившийся разгадать «тайну» поэзии Тютчева:
Вот наш патент на благородство, — Его вручает нам поэт; Здесь духа мощного господство, Здесь утончённой жизни цвет.Великое счастье – наслаждение высоким искусством. По мысли Толстого, Тютчев способен одарить этим «счастьем» всех, кто войдет в его поэтический мир. Но тютчевская поэзия – это не только поэзия счастья, но и поэзия ужаса, порождаемого «злой жизнью», в поэтическом постижении которой Тютчев проявил поразительное бесстрашие. Только это бесстрашие удержало вдохновение Тютчева, когда он создавал такие стихи:
И чувства нет в твоих очах, И правды нет в твоих речах, И нет души в тебе. Мужайся сердце до конца: И нет в творении творца! И смысла нет в мольбе!«Злая жизнь» лишена «души», поэтому она столь страшна. «В этом бездонном отчаянии всего ужаснее то, что оно такое тихое, ясное: чем яснее, тем бездоннее», – писал об этом стихотворении Д.С. Мережковский.
Это «бездонное отчаяние» порождает тютчевский эстетизм, которым пронизано каждое его стихотворение. Из этого поэтического мрака вырывается тютчевский призыв: «Живя, умей все пережить: // Печаль, и радость, и тревогу». И еще более понятным становится толстовское суждение о Тютчеве: его поэзия вдохновляет на продолжение жизни даже тогда, когда сама жизнь кажется уже невозможной. Даже тогда, когда подступает смерть:
Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаём Себя самих – лишь грёзою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной.Эти стихи написаны Ф.И. Тютчевым 17 августа 1871 г. Незадолго до этого, 11 декабря 1870 г., Тютчев, прощаясь с умершим братом, писал:
Бесследно всё – и так легко не быть! При мне иль без меня – что нужды в том? Всё будет то же – вьюга так же выть, И тот же мрак, и та же степь кругом. Дни сочтены, утрат не перечесть, Живая жизнь давно уж позади, Передового нет, и я, как есть, На роковой стою очереди.Стихотворения «Брат, столько лет сопутствовавший мне…» и «От жизни той, что бушевала здесь…», конечно же, обладают каждое своей собственной поэтикой. Но в то же время они настолько близки, что воспринимаются почти как одно стихотворение, по крайней мере, без всякого художественного напряжения они складываются в поэтическую дилогию. И эта поэтическая дилогия возникает в завершении творческого пути поэта. Смерть брата («И ты ушел, куда мы все идём…») и предчувствие своей смерти – Тютчеву остается жить совсем немного («На роковой стою очереди») – предопределили трагическую тональность лирического повествования. Реквием и исповедь формируют поэтику первой части дилогии, а философское отвлечение возникает лишь в третьей строфе.
Из этой строфы вырастает вторая часть дилогии – стихотворение «От жизни той, что бушевала здесь…», уже с иной тональностью. Это философская поэтика, потому что все уровни организованы философским началом. Тютчевское слово в результате становится философско-поэтическим словом.
Отчетливо видно, что части дилогии объединяются по двум резко противоположным принципам. Первый – это принцип соответствия, который требует художественной солидарности. И такая солидарность здесь, безусловно, есть. Она настолько сильная, что третья строфа, например, может найти место во втором стихотворении. В этом случае не возникает ни ритмических, ни стилистических, ни композиционных диссонансов.
Другой принцип – это принцип художественного несовпадения. Суть его в том, что один и тот же смысл воспроизводится по-разному. Несовпадение возникает в художественной форме. Второе стихотворение постепенно (всё же в первых двух строфах есть доля описательности) обретает форму философского эссе на тему смерти.
Художественное сочетание этих принципов и создает художественную целостность дилогии. Благодаря им органично сочетаются два противоположных начала: лирическая экспрессия и философская манифестация, что является определяющей особенностью тютчевской поэтики в целом. Эта поэтическая дилогия В структурном отношении завершает художественную систему Тютчева. И не только в структурном отношении. Символический образ смерти, созданный Тютчевым в этой дилогии, стал той художественной доминантой, которая предопределила почти все содержание его прощальных произведений.
Тема смерти вообще постоянно присутствует в лирическом творчестве Тютчева. Она является неотъемлемой частью поэтики оппозиции «бытие – небытие», которая отчётливо выделена в лирике Тютчева Ю.М. Лотманом. Именно эта поэтика сильнейшим образом способствовала воплощению романтического мироощущения Тютчева. Противостояние смерти как романтический мотив стало опорным элементом этой поэтики. Но все же в позднем творчестве Тютчева образ смерти заслоняет все остальные образы. Он становится в своей художественной функции всеобъемлющим, потому что в глубинах поэтики смерти содержится еще и образ свободы.
Как известно, образ свободы является доминантным в поэтике русского романтизма. Тютчевская поэтика находится отнюдь не за пределами этой художественной закономерности. Но у Тютчева зачастую образ свободы возникает не через детализированные художественные описания, а через лирический подтекст, который является производным от образа смерти. Через лирический подтекст образ смерти в поэтике Тютчева сочетается с образом свободы.
Такое переплетение художественных противоположностей в поэтике Тютчева обусловливает появление романтического гротеска. Вся эта художественная триада (образ смерти – образ свободы – гротеск) становится главной формой воплощения романтической коллизии, направление развития которой находится в полной зависимости от тютчевской идеи самосохранения человеческого духа. Только в своем духовном мире, по мысли Тютчева, человек обретает абсолютную свободу. Свобода же дает человеку силы в противоборстве с угнетающей прозой жизни (это и есть воплощение романтического конфликта).
Свобода – главное условие самосохранения человеческого духа, только она удерживает от распада романтическую антиномию: человеческий дух – реальный мир. Эта антиномия является основанием психологии тютчевского творчества. Романтическое стремление к свободе выразилось в том, что Тютчев смог укротить в себе желание увидеть свои стихи напечатанными. Он хотел видеть свои стихи такими, какими породил их свободный творческий дух.
Тютчев всецело убеждён в том, что печатать стихи равносильно ограничению свободы. И в этом, естественно, надо усматривать проявление романтического культа свободы – того культа, который так тесно сблизил творческий процесс Тютчева с фольклорным творчеством. В устном творчестве проявляется масксимальная свобода (произведение полностью избавлено от того диктата, который возникает при его подготовке к печати). Именно с такой свободой породнился творческий дух Тютчева, не случайно его устные гениальные экспромты в самых разных речевых жанрах по силе художественного воздействия не уступают стихотворным произведениям. Но в этих поэтических импровизациях Тютчев как творец был более свободен по сравнению с тем, когда он писал стихи (в этих случаях Тютчев всё же не мог окончательно избавиться от мысли, что стихи будут напечатаны).
Возвращаясь к романтической концепции самосохранения человеческого духа, надо отметить еще и особую функцию гротеска. Благодаря гротеску, в художественных пределах которого произошло соединение образов смерти и свободы, Тютчев смог осуществить еще одно глобальное поэтическое противопоставление: трагическая завершенность земного бытия – бесконечность духовного бытия. Свобода как единственная форма самосохранения человеческого духа служит этой бесконечности, а смерть всегда устремлена к тому, чтобы прервать эту бесконечность. В этом смерти усиленно помогает проза жизни.
Проза жизни подтачивает человеческий дух, ограничивая его пределы, а это означает одно: человек начинает терять свою духовную свободу. Такое трагические ощущение возможной потери духовной свободы проникает сознание тютчевского лирического героя:
Как ни тяжёл последний час — Та непонятная для нас Истома смертного страданья, — Но для души еще страшней Следить, как вымирают в ней Все лучшие воспоминанья…Это стихотворение написано Тютчевым 14 октября 1867 г. Вся его поэтика, основанная на развернутом сопоставлении и художественной гиперболизации («Но для души еще страшней…»), подчинена стремлению найти причину трагедии души. Она – в утрате духовной памяти, что приводит к всевластию смерти, а потому «лучшие воспоминания» становятся здесь символом духовной памяти.
Образ духовной памяти стал художественной сублимацией, проникающей в текст и подтекст всех поэтических произведений Тютчева. В большей степени это относится к тем произведениям, где создается образ «духа». В стихотворении «Наш век», написанном Тютчевым 10 июня 1851 г., этот образ появляется в первом стихе («Не плоть, а дух растлился в наши дни…»), а затем, исчезнув из повествования, уже через подтекст проникает в поэтику психологического гротеска («И жаждет веры… но о ней не просит…»). Образ «духа», отыскав опору в психологическом гротеске, стал тем самым ещё более открытым для «подтексто-вого» взаимодействия с символическим образом духовной памяти. Растление «духа», как это явствует из всей гротескной образности «Нашего века», – результат угасания духовной памяти. И всё это стихотворение, в котором нашлось место даже для сатирических мотивов, создано для поэтического сохранения духовной памяти.
Но элементы сатиры – все же большая редкость в поэтике Тютчева. Мотив сохранения духовной памяти как глубинной основы человеческого бьггия связан с лирическим формообразованием. Слово «вспомнил» становится здесь доминантой:
Я встретил вас – и все былое В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое — И сердцу стало так тепло…Вот здесь, на волне лирической экспрессии, вырвалась на поверхность поэтической реальности тютчевская идея о том, что только духовная память может противоборствовать со смертью. И поэтому в пределах одной метафоры столкнулись онтологические противоположности: смерть и жизнь («В отжившем сердце ожило…»). Поэтический итог этого стихотворения – гротескная метафора, которая затем будет потеснена метафорой жизни:
Тут не одно воспоминанье, Тут жизнь заговорила вновь, — И то же в вас очарованье, И та ж в душе моей любовь!..Воспоминание стало магическим воплощением «тех лет душевной полноты» (это и есть духовная память). В свою очередь духовная память стала источником жизненной энергии. Две метафоры, таким образом, очертили символический круг, в пределах которого и находится тютчевская поэтика.
В этих же пределах заключен и духовный космос Тютчева. Своего лирического героя Тютчев направляет именно сюда, в глубины его собственной души (здесь круг символизирует не замкнутое пространство, а бесконечность движения но космическому пути). Каждый миг в этом бесконечном движении знаменуется духовными откровениями, которыми живет духовная память. И в этом – сокровенная суть программного стихотворения Тютчева «Silentium!», где мы находим самое полное поэтическое воплощение тютчевской философии духовной памяти:
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звёзды в ночи, — Любуйся ими – и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими – и молчи. Лишь жить в себе самом умей — Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; Их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи, — Внимай их пенью – и молчи!…Перед нами одно из самых таинственных поэтических созданий Тютчева. На первый взгляд, однако, может показаться, что в нем нет никакой таинственности. Здесь много поэтической риторики, а она по своей природе рационалистична. Таинственность всегда сопрягается с иррациональным, но эта стихия изначально подавляется риторическим рационализмом. Призывное «молчи!» – риторическая доминанта, с опорой на которую осуществляется художественная метаморфоза; лирическое повествование обретает форму философского императива («Мысль изреченная есть ложь»), В стилистическом отношении этот императив – порождение поэтической риторики. Таким образом, в стихотворении «Silentium!», как и во многих других, поэтическая телеология на какое-то время подчиняется логике философской идеи. Это, действительно, временное подчинение, но оно все же есть, например, и в стихотворении «Близнецы»;
Есть близнецы – для земнородных Два божества, – то Смерть и Сон, Как брат с сестрою дивно сходных — Она угрюмей, кротче он… Но есть других два близнеца — И в мире нет четы прекрасней, И обаянья нет ужасней, Ей предающего сердца… Союз их кровный, не случайный, И только в роковые дни Своей неразрешимой тайной Обворожают нас они. И кто в избытке ощущений, Когда кипит и стынет кровь, Не ведал ваших искушений ~ Самоубийство и Любовь!Конечно, в «Близнецах» поэтическая риторика ослаблена. Она больше присутствует в незримом пространстве подтекста, чем в самом лирическом тексте. Только во втором стихе второй строфы появляется интонационный взлёт, характерный для риторической стилистики. Но уже одного этого достаточно для того, чтобы философскую логику ввести в поэтику повествования, а потому именно на рациональной основе соединяются «Самоубийство и Любовь». В результате складывается тот императив, который предопределяет трагическое содержание тютчевской философии любви. И здесь особо следует отметить, что этому императиву принадлежат самые важные организующие функции в поэтике психологических и трагических гротесков «денисьевского цикла».
Теперь становится более очевидным, что риторика стихотворения «Silentium!» – это проявление одного из самых существенных качеств тютчевской поэтики. Не случайно Ю.Н. Тынянов так настойчиво связывал его поэтику с русской ораторской поэзией XVIII в.: «Анализ тютчевского искусства приводит к заключению, что Тютчев является канонизатором архаической ветви русской лирики, восходящей к Ломоносову и Державину. Он – звено, связывающее «витийственную» одическую лирику XVIII в. с лирикой символистов». Безусловно, эта традиция способствовала насыщению поэтики Тютчева риторическими формами. Риторическое начало даже образует своего рода «подсистему» в художественной системе Тютчева. Благодаря этой художественной «подсистеме» лирика в пределах всей поэтики Тютчева органично соединяется не только с его публицистическими стихотворениями («Славянам», «Свершается заслуженная кара…», «Гус на костре», «Два единства»), но и со всем циклом философско-политических статей («Россия и Германия», «Россия и Революция», «Папство и Римский вопрос», «Письмо к цензуре в России»). Риторическая «подсистема» – тот художественный атрибут, который философскую публицистику Тютчева уводит в самые глубины его лирической поэтики.
Но этот художественный атрибут служит не только формосвязующим началом. Через обретённую «синтетическую*» форму (риторика – лирический импрессионизм) происходит взаимопроникновение лирической семантики и философско-публицистических манифестаций. В результате идея самосохранения человеческого духа, выраженная в лирической поэтике, сливается с философской концепцией духовного единства человечества. Путь обретения духовного «Я» – это и путь обретения духовного единства. Духовное единство вызовет к жизни тот мир, в котором гармоническое совершенство станет на пути эсхатологической мощи Революции. «Иными словами. Революция – болезнь, пожирающая Запад. Это отнюдь не душа, порождающая движение», – напишет Тютчев в первой главе так и не завершенной книги «Россия и Запад».
Соотнесение публицистического образа Революции с «душой» возникло под напором лирической поэтики. Лирический образ «души» появился здесь для того, чтобы показать: в Революции нет и не может быть жизни как «движения» вперед. На пересечении лирического и публицистического образов формируется поэтика философской сатиры Тютчева, главным объектом отрицания которой становится мир, лишённый духовного единства.
Надо особо выделить, что именно философское стихотворение «Silentium!» определило такое направление в формировании тютчевской поэтики. И его художественная «таинственность» во многом объясняется этим обстоятельством. Но оно «таинственно» еще и потому, что Тютчев здесь стремится выразить поэтический смысл без помощи слова. Получилось как бы два стихотворения: одно со словами, а другое без слов. Определяющий смысл этого «двойного» текста заключен, конечно же, в «бессловесном» стихотворении: мир «таинственно-волшебных дум», если каждый его откроет в своей душе, станет миром духовной памяти, онтологическую сущность которого будет определять только одно время – «время золотое».
Совсем не случайно в поэтике этого стихотворения появляется мотив волшебства («таинственно-волшебных»). Этот мотив роднит поэтический мир стихотворения с миром русской народной сказки, где прекрасное всегда торжествует. Поиск прекрасного определяет и путь тютчевского лирического героя в безмолвные «глубины» собственной души. Открытие прекрасного в этих глубинах ведет лирического героя ещё ладьте – в такой же прекрасный мир природы, символический образ которой был создан Тютчевым в стихотворении «Не то, что мните вы, природа…» (1836). В природе есть прекрасная «душа» – вот определяющий мотив этого стихотворения:
Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык…Если миновать все подробности полемического сюжета стихотворения, то прежде всего внимание надо сосредоточить на том, как происходит персонификация образа природы. Эта персонификация осуществляется так же, как Тютчев создавал образ лирического героя. Активизируются в основном только поэтические формы, которые раскрывают тайную жизнь «души»:
Они не видят и не слышат, Живут в сем мире, как впотьмах, Для них и солнцы, знать, не дышат И жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили. Весна в груди их не цвела, При них леса не говорили И ночь в звездах нема была! И языками неземными, Волнуя реки и леса, В ночи не совещалась с ними В беседе дружеской гроза! Не их вина: пойми, коль может, Органа жизнь глухонемой! Увы, души в нем не встревожит И голос матери самой!Безусловно, полемическое воодушевление захлестывает повествование. И скорее всего поэт не ориентирует философскую полемику на конкретного адресата. Он создает собирательный образ, не лишённый сатирических черт, тех, кто так и не смог открыть прекрасное в своей душе. Отчуждение от прекрасного в себе ведет к враждебному отчуждению и от мира природы.
Вот здесь заключена самая суть романтического конфликта, воплощённого в поэзии Тютчева. Он уже захватывает не только внешний, но и внутренний мир. Поэтому у лирического героя Тютчева появляется двойник – тот герой, который предал забвению прекрасное в своей душе («Живут в сем мире, как впотьмах»). Мир двойника – проза жизни. Поэзия души, как и поэзия природы, для него скрывается во тьме. Конфликт между лирическим героем и его двойником воплощается и с опорой на цветовую символику. Причем именно ту символику («впотьмах»), которая ассоциативно связана с символическим образом смерти.
Воплощение этого конфликта в поэтике Тютчева обретает мистериальный характер. Лирический герой, избавившись от зловещих объятий своего двойника (в этом и заключается смысл тютчевской формулы «Как бы двойного бытия!»), устремляется в мир прекрасной «души» природы, а затем, обретя новую духовную силу, уходит в ту космическую бесконечность, где его давно ожидает «мировая душа». Слияние прекрасной «души» лирического героя с «мировой душой» – высшая ступень в воплощении романтического конфликта. Здесь со всей художественной полнотой реализуется романтический мотив «двоемирия», ибо духовное слияние с «мировой душой» – свидетельство абсолютного отчуждения лирического героя Тютчева от земного мира.
Эта романтическая мистерия Тютчева нашла почти зеркальное отражение в его философии искусства. Суть ее в том, что Тютчев поэтическое искусство определяет как «небесное» творение. Оно приходит «к земным сынам» с вестью от «мировой души» для того, чтобы, духовно примирив всех, вознести человечество к «небесной» жизни, избавив его тем самым от «злой жизни». И только там, в этих духовных высотах, человечество будет неподвластно смерти. В стихотворении «Поэзия» эта философия искусства Тютчева предстанет в форме яркой поэтической декларации:
Среди громов, среди огней, Среди клокочущих страстей, В стихийном, пламенном раздоре, Она с небес слетает к нам — Небесная к земным сынам, С лазурной ясностью во взоре — И на бунтующее море Льет примирительный елей.Такой образ Музы-Поэзии живет в тексте и подтексте всех поэтических созданий Тютчева, включая цикл «политических» стихотворений, также в основе «денисьевского» цикла, который стал формироваться в поэзии Тютчева с начала 1850-х годов. Лирическая героиня цикла – Елена Александровна Денисьева, а циклообразующая тема – «роковая» любовь, сметающая все преграды и «запреты». И в бушующие любовные страсти тютчевская поэзия «льет примирительный елей», но внести туда примиряюще-гармоническое начало ей не по силам. Ибо любовь – это «поединок роковой», как об этом Тютчев напишет в «Предопределении» (1852), образующем смысловое ядро цикла. Да и художественное его ядро (трагический гротеск) наиболее полно выражено именно в этом стихотворении.
Трагический гротеск предопределил сюжетное развитие цикла. «Поединок роковой» превращается в доминантный сюжетный мотив, скрепляющий многие стихотворения цикла: «Чему молилась ты с любовью…»; «О, не тревожь меня укорой справедливой…»; «Не говори: меня он, как и прежде любит…», «О, как убийственно мы любим…»; «Я очи знал – о, эти очи…»; «Последняя любовь». В стихотворениях, написанных после смерти Денисьевой («О, этот юг, о, эта Ницца…»; «Утихла биза… Легче дышит…»; «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…»; «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»; «Есть в моем страдальческом застое…»; «Нет дня, чтобы душа не ныла…»), этот мотив художественно соединен с лирическим выражением сердечной боли утраты и чувства трагической вины.
В «денисьевском» цикле через трагический гротеск создается образ «двойного бытия», который в поэтике Тютчева является «сквозным». Вся онтологическая природа его поэзии предопределена этим образом, который обрел все свойства символа в стихотворении 1855 г. «О, вещая душа моя!..»:
О вещая душа моя! О, сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге Как бы двойного бытия!.. Так, ты – жилица двух миров, Твой день – болезненный и страстный, Твой сон – пророчески-неясный, Как откровение духов… Пускай страдальческую грудь Волнуют страсти роковые — Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть.В этом стихотворении Тютчев, как и во всей своей поэзии, раскрывает вечные законы жизни. Он смотрит поэтическим взором на мир из самых онтологических глубин и передает свое видение в музыке стиха, завораживающее влияние которой пережили многие поэты «тютчевской» эпохи: поздний В.А. Жуковский, А.А. Григорьев, Ф.Н. Глинка, П.А. Вяземский, Н.А. Некрасов, АА. Фет, Я.П. Полонский, А.Н. Майков, Л.А. Мей, А.Н. Апухтин, К.К. Случевский, Вл. С. Соловьев.
Литература
Аксаков И.С. Федор Иванович Тютчев // Литературная критика. М., 1981.
Соловьев B.C. Поэзия Ф.И. Тютчева //Литературная критика. М., 1990.
Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев // В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М./ 1991.
Тынянов Ю.Н. Вопрос о Тютчеве // Поэтика. История. Литература. Кино. М., 1987.
Пигарев К.В. Тютчев и его время. М., 1978.
Касаткина В.Н. Поэзия Ф.И. Тютчева. М., 1987.
Мотман Ю.М. Поэтический мир Тютчева // Избранные статьи: В 3 т. Т, 3. Таллин, 1993.
А. К. Толстой (1817–1875)
«Я один из двух или трёх писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение моё состоит в том, что назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдёт себе применение безо всякой пропаганды», – писал в своей эпистолярной «Исповеди» Алексей Константинович Толстой в 1874 г. (письмо-автобиография было адресовано итальянскому драматургу и историку литературы А. Губернатису). Таким образом Толстой, поэт, драматург, прозаик, выразил своё творческое кредо, свидетельствующее о том, что и он – сторонник «чистого искусства». Толстой представил здесь и своё «нравственное» кредо: «Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависть к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить к этому ненависть к педантичной пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии». Толстой со всей ясностью показал, как в его поэтике ужились явные противоположности: романтический лиризм как отражение «чистого искусства» и сатира как отрицание всякого «деспотизма». Всё это дано им на фоне подробного рассказа о своей жизни: счастливое детство в имении дяди А.А. Перовского па Украине, привычка «к мечтательности, вскоре превратившаяся в ярко выраженную склонность к поэзии», любовь к природе, встреча с Гёте, оставившая в памяти «величественные черты лица Гёте», выпускной экзамен на словесном факультете Московского университета, служба в русской миссии в Франкфурте-на-Майне, звание камер-юнкера, заграничные путешествия, сотрудничество в журналах «Вестник Европы» и «Русский вестник».
Толстой стал писать стихи с шестилетнего возраста. И уже самые первые его опыты «в метрическом отношении отличались безупречностью». Такими они стали не без влияния В. А. Жуковского и А.С. Пушкина, который похвалил стихи юного Толстого. В последующем творчестве Толстого именно пушкинская традиция станет определяющей.
В жизненном пути Толстого выделяется одна закономерность. Литературный мир, в который он с упоением вживался с детских лет, всё дальше и дальше уводил его из социального мира и самой литературной среды. Как поэт-романтик он искал творческого одиночества. И он достиг этого ценой отказа от служебной карьеры (Толстой служил во 2-м отделении императорской канцелярии) и постепенного удаления от литературного окружения. В первой половине 1850-х годов он входит в «некрасовскую школу» «Современника», печатает в журнале свои стихотворения, и на этом его литературные отношения с «Современником» заканчиваются. Затем подобные отношения начинают складываться со славянофилами, что сделает его сотрудником «Русской беседы». Но и отсюда Толстой уходит, чтобы, подобно близкому ему А.А. Фету, уединиться в своих имениях Пустынь-ка и Красный Рог. В 1861 г., уходя в отставку, Толстой объяснил это Александру II так: «Я думал, что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. Служба и искусство несовместимы».
Но и когда Толстой находился в водовороте социальной жизни, его «натура художника» проявлялась настойчиво и вдохновенно. При всей полижанровости его творчества (рассказы и повести, дневники, драмы, былины, баллады, притчи, поэмы) родной его стихией становится лирика, природа которой зеркально отражена в стихотворении 1856 г. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!». Не случайно это стихотворение обрело форму литературного манифеста:
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, Много чудесных в нём есть сочетаний и слова и света, Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать, Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивлённый. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем, Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен, Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы, Стройные слов сочетанья в ясном сплетутся значеньи… Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье, И, созидая потом, мимолётное помни виденье!Прекрасное, величественное, совершенное как некая идеальная субстанция сокрыто во Вселенной, а поэт силой творческого воображения запечатлевает эту субстанцию в поэтическом слове. Гармония стиха (определяющая идея данного стихотворения) – отражение гармонии далёких идеальных миров.
Вот эти «стройные слов сочетанья» предопределили удивительную музыкальность толстовского стиха. Поэтому П.И. Чайковский признавался: «Толстой – неисчерпаемый источник для текстов под музыку». В поэтике толстовского стиха поразительным образом музыкальность породнилась с глубоким лиризмом и изобразительностью. Всё это образует основу поэтики пейзажной лирики Толстого, особенно таких стихотворений, как «Бор сосновый в стране одинокой стоит…» (1843); «Ты знаешь край, где всё обильем дышит…» (1840-е годы); «Вот уж снег последний в поле тает…» (1856). И особенно сильно такая триада выражена в лирическом цикле «Крымские очерки», где в шестом стихотворении резко проступает характер толстовского романтического «двоемирия»:
Душе легко. Не слышу я Оков земного бытия, Нет места страху, ни надежде — Что будет впредь, что было прежде — Мне всё равно – и что меня Всегда как цепь к земле тянуло, Исчезло всё с тревогой дня, Все в лунном блеске потонуло.Преодоление «оков земного бытия» – определяющий мотив всей лирики Толстого. Преодоление происходит в «волшебном сне» романтического искусства, нашедшего пути соединения с мировой гармонией. Этой же силой в художественном мире Толстого наделена любовь.
И.Г. Ямпольский сделал точный вывод: «Другой мотив поэзии Толстого также связан с одним из положений романтической философии – о любви как божественном мировом начале, которое недоступно разуму, но может быть прочувствовано человеком в его земной любви». От «земной» любви к «божественной» любви – именно это образует сквозной мотив любовной лирики Толстого, а в «шиллеровском» лирическом цикле он становится главным связующим звеном между текстами. С 1851 г., когда состоялось знакомство Толстого с Софьей Миллер (впоследствии она, преодолев все трудности развода с прежним мужем, станет женой поэта), начинает формироваться этот «неавторский» цикл, в прологе которого прочно займёт своё место самое пронзительное стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»:
Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, А голос так дивно звучал, Как звон отдалённой свирели, Как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий И весь твой задумчивый вид, А смех твой, и грустный и звонкий, С тех пор в моём сердце звучит. В часы одинокие ночи Люблю я, усталый, прилечь — Я вижу печальные очи, Я слышу весёлую речь; И грустно я так засыпаю, И в грёзах неведомых сплю… Люблю ли тебя – я не знаю, Но кажется мне, что люблю!И такие «грёзы неведомые», соединяющие земное и божественное, во всех стихотворениях, образовавших «миллеровский» цикл: «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!» (1851); «Ты не спрашивай, не распытывай…» (1851); «Мне в душу, полную ничтожной суеты…» (1852); «Смеркалось, жаркий день бледнел неумолимо…» (1856). И здесь же – изображение любви как «живительной силы», что найдёт своё философско-поэтическое обобщение в драматической поэме «Дон Жуан»:
Дон Жуан
(в сильном волнении)
О, если я не брежу! Если вправду Люблю её любовью настоящей! Как будто от её последних слов Отдёрнулася предо мной завеса, И все иначе вижу я теперь… Когда она так ясно повторила, Что хочет умереть, во мне как будто Оборвалося что-то: словно я Удар кинжалом в сердце получил — Еще доселе длится это чувство… Что ж это, если не любовь? Каким Моя душа исполнилась волненьем? Сомнения исчезли без следа… Я снова верю, как в былые дни… О, я с ума сойду от счастья! Я… О Боже, Боже! Я люблю её! Люблю тебя! Я твой, о дойна Анна! Ко мне! Я твой! Ко мне! Люблю, люблю!«Дон Жуан» – это ещё и плодотворный опыт соединения стиха с драматическим искусством, что станет устойчивой закономерностью толстовского творчества. В скором времени он создаёт три стихотворные исторические трагедии: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Фёдор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870), детально разработав «проекты постановки» первой и второй части трилогии (в этих проектах «театральные» стихи искусно превращены в историческую прозу). Чуть раньше об эпохе Ивана Грозного Толстой рассказал в историческом романе «Князь Серебряный», где образ Серебряного стал воплощением романтического идеала: «Лица, подобные Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нередко как светлые звёзды на безотрадном небе нашей русской ночи, но, как и самые звёзды, они были бессильны разогнать её мрак, ибо светились отдельно и не были сплочены, ни поддерживаемы общественным мнением». В «Князе Серебряном», как и во всей прозе Толстого («Упырь», «Семья вурдалака») довольно много фольклоризмов. Но ещё больше фольклорной образности в поэзии Толстого. Помимо различного рода фольклорных вкраплений, в поэтику Толстого вошли целые фольклорные жанры (былины «Змей Тугарин», «Илья Муромец», «Алёша Попович», «Садко»),
Свои сатирические замыслы, направленные против «деспотизма», Толстой чаще всего воплощал в стихотворной форме. Сатирические стихотворения вместе со «Сном Попова», «Историей государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и Прутковекими сочинениями (Толстой вместе с братьями Жемчужниковыми писал юмористические произведения под именем вымышленного писателя Козьмы Пруткова) образуют сатирическую область его творчества, в которой характерным является взаимодействие романтической иронии и смеха.
В стихотворении «Алексей К. Толстой» Игорь Северянин выразил всё это многообразие художественного мира поэта:
Языческие времена Днепра, Обряд жрецов Перуну и Яриле, Воспламенив, поэта покорили, Как и Ивана Грозного пора. Их воскрешал нажим его пера; Являемы для взоров наших были Высокопоэтические были, Где бились души чище серебра… А как природу пела эта лира! А как смертельно жалила сатира! Как добродушный юмор величав! Гордясь своею родиной, Россией, Дыша императрицею Марией, Он пел любовь, взаимности не ждав.Литература
Жуков ДА. Алексей Константинович Толстой. М., 1982.
Кормилов С.И. Толстой Алексей Константинович // Русские писатели, XIX век: Биобиблиографический словарь. 2-е изд., дораб. Т. 2. М., 1996.
Ямпольский И.Г. А.К. Толстой // А.К. Толстой. Собр. соч.: В 5 т. Т. I. М., 2001.
Н.А. Некрасов (1821–1877/78)
Творчество Николая Алексеевича Некрасова трудно назвать популярным в наши дни. В школе его изучают достаточно поверхностно, а среди студентов-филологов чтить его немодно и непрестижно. Между тем Некрасов оказал огромное влияние как на форму русского стиха, так и на его содержание. Пройдя мучительный путь ученичества и прилежного юношеского эпигонства, он уже к середине 1840-х годов выступил как сильный новатор, выбрав предметом поэзии ту сферу проблем, которая традиционно считалась областью прозы и публицистики. Сочувствие народу, боль за его горькую участь, бунт против унижения личности – вот те чувства, которые преобладали в лирике Некрасова. Со страниц его произведений на читателя смотрит умное лицо потрясённого мужицкой долей интеллигента, презирающего себя за косвенную сопричастность этому злу.
Стихи Некрасова воплотили главные идеи и умонастроения шестидесятников, но их небывалая популярность связана не только со злобой дня. Ведь несмотря на смену времен и поколений народные песни на стихи Некрасова всё так же любимы. Всё так же непредставима любая школьная хрестоматия без «мужичка с ноготок» или «мороза-воеводы», всё так же неразрешим вопрос, «кому живётся весело, вольготно на Руси». Классиком его сделала, помимо востребованной тогда идейности, необыкновенная искренность, сердечность и яркий, самобытный талант.
Путь в литературу для Некрасова был очень непростым. Шестнадцати лет он покинул родную ярославскую деревню и приехал в Петербург, где по воле отца должен был поступать в военное училище. Но юноша уже хранил заветную тетрадку своих стихотворных опытов, бредил Лермонтовым и мечтал о литературной славе. Первым бастионом, который запланировал взять отважный провинциал, был Петербургский университет. На экзаменах он провалился. Гордость и оскорблённое самолюбие не позволили вернуться назад в Грешнево. Отец был в ярости. Широко известен ответ юного Некрасова на его гневное письмо: «Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма». Одиночество в большом городе, голод, литературная подёнщина – первые жертвы на алтарь искусства. Второй неудачей после университетских экзаменов, был некрасовский поэтический дебют. Сборник «Мечты и звуки» (1840) насквозь состоял из гладеньких романтических подражаний. И «взгляд, и нечто, и туманна даль», и «юной девы беспорочная душа» – весь арсенал
Ленского был им использован весьма прилежно. Ревниво оценив «успех» книги, начинающий поэт собственноручно казнил большую часть тиража.
Каторжный труд и поразительная практичность уже к 1844 г. вывели Некрасова из нужды. Два прибыльных литературных проекта – «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846) – ещё более упрочили его материальное положение. И в 1846 г. совместно с И.И. Панаевым он арендует у профессора П. А. Плетнёва пушкинский «Современник». Чем не символ? Журнал был той эстафетной палочкой, которую пока всего лишь бойкий издатель Некрасов опосредованно получил от великого поэта. Впрочем, эти «пока» и «всего лишь» для 1846 г. не совсем справедливы. Дело в том, что уже в 1845 г. Некрасовым были написаны стихи, где впервые зазвучал его подлинный голос.
Стихотворение, которым принято открывать некрасовские сборники, – «В дороге» (1845) – буквально потрясло современников. Оно и теперь воспринимается с неизменным душевным волнением. И дело здесь не только в безысходности освещаемой жизненной драмы. История девушки, получившей дворянское воспитание и отданной замуж за крестьянина, рассказана с той долей пронзительного простодушия, которая не дает усомниться в её психологической достоверности. Далеко не все учёные считают стихотворение «В дороге» безусловным шедевром, но единодушны в одном: оно содержит в зародыше большую часть будущих открытий Некрасова.
Слова о губителях-господах в то время воспринимались как главный вывод стихотворения. Но теперь идейность отошла на задний план. Стиховед отметит в этих строках частый у Некрасова трёхсложник, стилист попрекнёт несколько нарочитым подражанием устной народной речи («врезамшись», «патрет», «то-ись»), а читатель вслед за автором воскликнет: «Ну, довольно, ямщик! Разогнал/ Ты мою неотвязную скуку!..»
«В дороге» блестяще демонстрирует, насколько поэзия Некрасова изначально была перенасыщена эпосом, как виртуозно умел он дать толчок читательскому воображению. Чего стоит, например, последняя фраза ямщика: «А, слышь, бить – так почти не бивал,/ Разве только под пьяную руку…». Каждая зарисовка словно стремилась стать поэмой, каждый сюжет обладал драматургической остротой.
Как и положено всякому большому поэту, Некрасов достаточно быстро нащупал тот спектр тем, которые будет разрабатывать до конца жизни. Самая обширная часть его лирики посвящена трагической доле русского народа («Псовая охота» (1846), «На улице» (1850), «На Волге» (1860), «Орина, мать солдатская» (1863) и многие другие). Эта сфера оказалась особенно востребованной в советское время. Меньшей по объёму, но постоянной была тема поэта и поэзии («Вчерашний день, часу в шестом…». (1848), «Блажен незлобивый поэт…» (1852), «Поэт и гражданин» (1856), «Элегия» (1874) и др.). Неотступной и мучительной рефлексией наполнен сугубо интеллигентский мотив недовольства собой («Я за то глубоко презираю себя» (1845), «Самодовольных болтунов…» (1856), «Ты, как подёнщик, выходил…» (1861), «Рыцарь на час» (1862) и др.). Блистательно и неординарно звучала сатирическая нота – «Современная ода» (1845), «Нравственный человек» (1847), «Отрывки из путевых заметок графа Гаранского» (1853). В романтическом ключе создавались портреты «народных заступников» – «Памяти приятеля» (1853), «Памяти Добролюбова» (1864), «Н.Г. Чернышевский» (1874). Оригинально разрабатывались любовные мотивы («Я не люблю иронии твоей…» (1850), «Как ты кротка, как ты послушна…» (1856) и др.).
Помимо обновления содержательной стороны русского стиха, поэт проявил себя как решительный экспериментатор в области формы. Замечательно комментирует это историк русской поэзии B.C. Баевский, называя некрасовские дерзания «революцией в жанровых тяготениях»: «На развалинах старой жанровой системы Некрасов создал новые жанровые образования: элегию на общественные темы, пародийный романс, пародийную оду; воскресил сатиру и послание; ввёл в литературу остросоциальную стихотворную повесть и лирическую поэму, поэму-обозрение, крестьянскую эпопею».
Некрасовский стих и фонетически звучит очень необычно. Довольно часто его двухсложники воспринимаются на слух как трёхсложники, кажутся необыкновенно долгими и растянутыми. «Таких песен замогильных, страшных в русской поэзии ещё не было, – настаивал известный эмигрантский литературовед К.В. Мочульский. – (…) В них особые гласные – глухие, протяжные, бесконечно длящиеся и особый ритм – раскатывающийся, гулкий, пустынный». Поэт не боялся дисгармонических аккордов в своем «суровом, неуклюжем стихе». У него было особое ощущение просодии, заставлявшее оркестровать свои стихи многочисленными «ЭР, ША, ЩА». Критики-недоброжелатели весьма остроумно пародировали «чихающий» стих Некрасова, но он был последователен и неумолим. Разговорная речь крестьян и городских низов сочеталась в его творчестве с канцеляризмами и профессиональной лексикой. Он смело прозаизировал стихи, активно вводил в них прямую речь, постоянно работал с ритмическим рисунком.
И всё-таки формальная сторона его поэзии, которую так скрупулёзно исследовали формалисты Ю. Тынянов и Б. Эйхенбаум, самим Некрасовым воспринималась как нечто вторичное. Стихи его исходили из сердца и обращены были к душе читателя. И несмотря на то, что в жизни он любил достаток и комфорт, был «человеком перемирия» (Ю. Айхенвальд), предприимчивым литературным дельцом и удачливым картёжником, стихи его направлены только на одно – возбудить сочувственное отношение к народу, оживить сердца состраданием. Отсюда идёт лирическая доверительность интонации. В этическом плане поэзия Некрасова по-настоящему безупречна.
Поэт умеет вызвать потрясение как самими фактами беззакония, так и их эмоциональной оценкой. По этому принципу построены знаменитые «Размышления у парадного подъезда» (1858). Но чаще всего он полагается на выразительность жизненных коллизий. Таковы городские зарисовки «На улице», где каждая из четырёх частей посвящена душераздирающим сценам горя и нужды. По тому же принципу построены сюжеты пятичастной «Забытой деревни» (1855). Что ни история, то произвол! Поразительно, как удаётся Некрасову при его острой наблюдательности не срываться на крик, а сохранять интонацию мужественного, скорбного, подчас горько-ироиичного свидетеля. «Мерещится мне всюду драма», – замечал поэт в себе.
Тема страдании народных никогда не кажется у Некрасова однообразной. Для усиления эмоционального воздействия поэт использовал огромный арсенал как фольклорной, так и классической поэзии. В его творчестве необыкновенно развилось искусство лаконичного словесного портрета. Зримо, крупно зарисованы «высокорослый больной белорус» («Железная дорога»), крестьяне-просители («Размышления…»), собирательный портрет петербургского бедняка (поэма «О погоде» – 1859, 1865), новопреставленный труженик Прокл («Мороз Красный нос») и др.
Современный исследователь А.А. Илюшин отмечает у Некрасова «социальную стереоскопию, социальную объёмность предметного мира»: «На любое явление действительности Некрасов мог взглянуть (и оценить его) с двух разных точек зрения – «барской» и «мужицкой». Поэзия его многогеройна. Наряду со сквозным образом некрасовского alter ego мы встретим в его стихах целую вереницу так называемых ролевых персонажей. Так, в «Огороднике» (1846) рассказ ведёт красавец-крестьянин, в «Филантропе» (1853) – бывший чиновник, в «Отрывках… графа Гаранского» – недалёкий европеизированный сноб-дворянин. Поэт блистательно использовал интонационные возможности ритма, эмоциональную вариативность в подаче материала, не брезговал формой куплетов, остроумно и зло работал в пародии. Вот почему стихи на одну и ту же тему ни разу не повторяют себя.
Исключение составляет, пожалуй, мотив некрасовской Музы. Поруганная, гордая, униженная, иссеченная кнутом, она не изменит свой облик до самой смерти поэта. В этом есть особый смысл. Некрасов трезво оценивал свой вклад в русскую поэзию. Его Муза мщенья действительно подарила ему свою, ещё никем не изведанную тему. И он шёл за ней до конца.
Сугубо интеллигентский комплекс раздвоённости, малодушия, вины перед народом также был навеян этой Музой. Чувства самопрезрения, отступничества приносили ему небывалые страдания. Он действительно был болен ощущением собственного недостоинства. Пережив и оплакав большинство из своих наставников, он считал себя «рыцарем на час», предавшим их память, мёртвым «для дела»: «Суждены вам благие порывы, / Но свершить ничего не дано…»
Защитником Некрасова от самобичеваний выступил через 30 лет после его кончины Ю.И. Айхенвальд. По его мнению, Некрасов «не осуществил своего подвига, но подвиг-то взял на себя геркулесов. (…) Объектом своей поэтической работы он избрал целую страну, целую нацию. Он мечтал бросить хоть единый луч сознания на путь русского народа… Вот какая грандиозная задача, посильная только для героя и святого, оказалась непосильной для него… и ему не приходило на мысль, что он мал только перед великим».
Очень рано Некрасов стал делить свои вещи на хорошие и «дельные», т. е. соответствующие благородным идеям освобождения крестьян. В пропагандистском плане он был человеком ведомым и внушаемым. Огромное воздействие на его идеологическое становление оказал В.Г. Белинский. Раз и навсегда поэт решил, что его Муза будет служить не вдохновенью, а тем, кто нуждается в помощи.
Влияние демократических идей было подчас настолько сильным, что поэт впадал в какие-то странные психологические диссонансы. Один из них – довольно устойчивый мотив любви-ненависти, впервые ярко проявившийся в написанном на смерть Гоголя стихотворении «Блажен незлобивый поэт…». Здесь налицо абсолютно «белинская» трактовка гоголевского творчества, которую, вероятно, сам Гоголь воспринял бы с содроганием. «И как любил он – ненавидя», – эта последняя строка сразу вызвала нападки (например, со стороны А.В. Дружинина), как и предшествовавший ей тезис: «Он проповедует любовь / Враждебным словом отрицанья».
Так, в «Колыбельной песне» (1845) – стихотворении, принесшем Некрасову репутацию «неблагонамеренного», – герой рисует гнусное будущее «пострела, пока безвредного», пророча ему судьбу вора, подхалима и растратчика: «Будешь ты чиновник с виду/ И подлец душой…». Понятно, что песенка эта была адресована чиновным лизоблюдам, но ведь но сюжету поётся она невинному грудному младенцу… Некрасова это не смущало.
Впрочем, со временем он станет куда больше стремиться к психологической убедительности. Так, в не менее знаменитой «Песне Ерёмушке» (1859) герой вновь поёт колыбельную, на сей раз призывающую ребёнка к благородному подвигу. Она сознательно противопоставлена не только нянюшкиному бормотанию, но и предыдущей «Колыбельной» 1845 г.: «Будешь редкое явление, / Чудо родины своей…» и т. д. В самый патетический момент песни дитя «вдруг проснулося/ И заплакало», причём в ту минуту, когда речь зашла о «ненависти правой»… Песня няни, конечно, не взрастит в малютке личность (о чём всерьёз беспокоится поэт), но и пафос заезжего агитатора в финале как бы притупляется мудрой устойчивостью жизни. Вряд ли Некрасов рассчитывал на такой двоящийся эффект.
В трактовке темы малой родины Некрасов со временем уходит от безоглядного отречения. Десять лет спустя в прекрасной миниатюре «На родине» (1855) он залюбуется роскошью «родимых нив». И пусть герою «нейдёт… впрок» «хлеб полей, возделанных рабами», он уже в состоянии увидеть в них не только приметы рабства, но и красоту.
Окончательное примирение с малой родиной произошло в том же 1855 г., когда Некрасов написал свою первую поэму «Саша». Герой-рассказчик, наблюдая скудные прелести родного края, во вступлении задастся вопросом: «Невесела ты, родная картина! // Что же молчит мой озлобленный ум?..» Оказывается, ему «сладок… леса знакомого шум», «любо… видеть знакомую ниву». Любовь к «равнине убогой» побеждает ненависть к ней же как символу угнетения.
Следом идёт очень важное признание, которое подчас замалчивалось в недавние времена: «Злобою сердце питаться устало // Много в ней правды, да радости мало…» В духовном плане эти слова знаменуют процесс некоего выздоровления от радикальных крайностей революционно-демократических доктрин. Характерно, что путь этот начинается со смирения, против которого так яростно выступал Некрасов-бунтарь:
Родина-мать! Я душою смирился, Любящим сыном к тебе воротился.(…) Сколько бы ранней тоски и печали Вечные бури твои ни нагнали На боязливую душу мою — Я побеждён пред тобою стою!В стихотворении 1860 г. «На Волге» этот мотив будет воспроизведён почти дословно:
– О юность бедная моя! Прости меня, смирился я! Не помяни мне дерзких грёз, С какими, бросив край родной, Я издевался над тобой!Сюжетно эти стихи затем резко меняют регистр. От неподдельного умиления родной рекой герой после встречи с бурлаками переходит к скорбному описанию их участи. Потрясающе передан диалог смертельно усталых людей, крупным планом нарисован незабываемый портрет «угрюмого, тихого и больного» бурлака Даже на фонетическом уровне здесь ощутим надрыв, который в финале стихотворения вновь приведёт героя к проклятиям («И в первый раз её назвал / Рекою рабства и тоски!..») и риторическим вопросам: «Чем хуже был бы твой удел, / Когда б ты менее терпел?» Но характерно, что теперь Некрасов чётко различает понятия милой родины с её живительными для души токами и социальной несправедливостью. Они могут накладываться друг на друга, порождать горькие размышления, но эта горечь не будет развиваться в лирике Некрасова в ущерб любви. Скорее любовь к отчизне станет по-русски горькой и (прав Дружинин!) совершенно лишённой ненависти. Эта любовь даст ему возможность показать не только перевернувший мир ребёнка эпизод с бурлаками, но и простодушную поэзию детства, ранее игнорированную Некрасовым в автобиографических текстах.
Если вернуться к мотиву любви-ненависти, то и здесь зрелый Некрасов постепенно смягчается. И не потому, что поводов для негодования стало меньше, а оттого, что душа устала от собственной непримиримости. Так, в стихотворении «Надрывается сердце от муки…» (1863) поэт ищет успокоения от внутренних страданий в «матери-природе»: «Заглуши эту музыку злобы! / Чтоб душа ощутила покой / И прозревшее око могло бы / Насладиться твоей красотой». Под «музыкой злобы» Некрасов, безусловно, имен в виду социальную агрессию, но в контексте других его признаний можно предположить, что процесс освобождения от тёмных эмоций, издёрганности шёл как извне, так и изнутри. Только душевный покой делает око «прозревшим», способным ценить земную красоту. Более того, наступает он чаще всего тогда, когда измученная страданиями душа готова расстаться с земными оковами. Лаконично и предельно ясно эта мысль отражена в одном из предсмертных стихотворений:
Скоро – приметы мои хороши — Скоро покину обитель печали: Вечные спутники русской души — Ненависть, страх – замолчали. (1877)Борьба с самим собой продолжалась и на смертном одре… Эти настроения поэт нередко дарил своим ролевым героям.
Крестьянин из стихотворения «Зелёный шум» (1862) полон «думой лютой», правда, уже не по общественному, а глубоко личному поводу – оскорблён изменой жены. Некрасов даёт возможность и ему пережить исцеление весной, природой. Весенний шум поёт ему изумительную песню: «Люби, покуда любится, / Терпи, покуда терпится, / Прощай, пока прощается, / И – Бог тебе судья!»
Эти слова позволяют нам перейти к тем некрасовским мотивам, которые не были всерьёз востребованы его современниками и о которых всё чаще говорят в наши дни. Это религиозные ноты в его творчестве. Некрасов вращался среди людей маловерующих и атеистов, но глубокая вера его матери, её удивительная кротость, вероятно, породили и нечто иное, чем бунтарские настроения. В некрасовских стихах часто слышны отголоски евангельских мотивов.
Он выявляет в своих «заступниках народных» черты бескорыстной жертвенности. Таковы упомянутые выше стихотворения «Памяти приятеля» (1853), «В.Г. Белинский» (1855), потрясающая по силе надгробная эпитафия «Памяти Добролюбова» (1864), «Не рыдай так безумно над ним…» (1868, насмерть Писарева). Весьма показательно, что этот ряд заканчивается стихотворением о Н.Г. Чернышевском («Пророк», 1874), где гражданский подвиг писателя напрямую сравнивается с жертвой Христовой. Конечно, по отношению к реальному прототипу, революционеру и атеисту, такое сравнение вряд ли уместно. Но ведь Некрасов создавал свой идеал гражданина. А настоящий идеал всегда чем-то похож на Христа. Некрасов в своём неверии ушёл вовсе не так далеко, как, быть может, хотелось некоторым из его окружения. Библейские притчи были у него на слуху, он неоднократно использовал в своих текстах евангельские аллюзии, причём с художественной точки зрения всегда уместно и убедительно (даже в случае с Чернышевским). Как подлинно народный поэт, он был особенно чуток к настроениям простых людей и не мог не отразить все оттенки их отношения к вере.
В своём понимании религии его персонажи весьма различны. По-своему веруют в Бога герои стихотворений «Вино» (1848), «Песни Ерёмушке», семь правдоискателей из главной поэмы Некрасова. Тип кающегося грешника выведен в стихотворении «Влас» (1854), в образах атамана Кудеяра и богатыря Савелия.
Некоторым героям Некрасова дано вкусить сладость подлинной молитвы: страдалице Дарье («Мороз Красный нос»), «счастливице» Матрёне Тимофеевне («Кому на Руси…»), княгине Волконской («Русские женщины»); некоторым – изведать горечь маскирующегося благочестием обмана. Поэт тонко ощущал потребность русского человека в чуде, в мечте о несказанном, в божественном прощении и божественном возмездии. Однако самыми поразительными являются те моменты, где Некрасов (быть может, неожиданно для себя) обнажает черты собственной религиозности. Таких текстов немного, но все они наполнены теплотой неподдельного сердечного трепета.
Особенно остро этот мотив звучит в небольшой поэме «Тишина» (1857). Некрасов написал её по возвращении из Европы, куда уехал после страшного горя – смерти второго ребёнка. Что же нового услышал он на родине? Особую тишину. Для обострённого личной трагедией слуха в ней различимы теперь иные звуки, иные образы. Мотив исцеления родиной относится здесь уже ко всей России, которую «в умиленьи» видит герой из окна кареты: «Спасибо, сторона родная, / За твой врачующий простор!»
Именно в момент молитвы измученный самобичеваниями герой, пожалуй, впервые в поэзии Некрасова почувствует своё единство с народом – единство в страдании и в вере:
Я внял… я детски умилился… И долго я рыдал и бился О плиты старые челом, Чтобы простил, чтоб заступился, Чтоб осенил меня крестом Бог угнетённых, Бог скорбящих, Бог поколений, предстоящих Пред этим скудным алтарём.Вероятно, имея в виду эти строки, Д.С. Мережковский сказал «В чувстве религиозном он уже одно с народом. Пусть только на миг – этот миг вечный…». Тишина магически действует на героя Некрасова, от неё веет «какой-то глушью благодатной». Во внутренней тяжбе его души – между Поэтом и Гражданином – вновь на какое-то время побеждает Поэт.
По-новому теперь ему видится и прежде ненавистное терпение русского мужика: он различает в нём черты духовной стойкости, мужества и философского приятия мира. В финальных строках поэмы герой извлечёт урок из этих качеств русского пахаря и напрямую свяжет их с понятием Промысла: «Его примером укрепись, / Сломившийся под игом горя! / За личным счастьем не гонись / И Богу уступай – не споря…»
Нечто подобное неожиданно услышится в «Железной дороге». «Толпа мертвецов», напугавшая Ваню, поёт песню с удивительными словами: «Всё претерпели мы, божии ратники,/ Мирные дети труда!». Терпение здесь однозначно трактуется в христианском ключе – как духовное орудие. И лирический герой, призывая Ваню «не робеть за отчизну любезную», вдруг опять вспомнит о Боге: «Вынес достаточно русский народ, / Вынес и эту дорогу железную / Вынесет всё, что Господь ни пошлёт!».
Подобные мотивы появятся в его лирике ещё как минимум дважды. Первый раз – в любовном стихотворении «Ночь. Успели мы всем насладиться» (1858). По его началу можно предположить, что оно будет посвящено интимнейшим признаниям. Но совершенно неожиданно оно вдруг превращается в молитву о тех, «кто всё терпит во имя Христа», и о тех, «кто бредёт по житейской дороге / В безрассветной, глубокой ночи, / Без понятья о праве, о Боге, / Как в подземной тюрьме без свечи…». Впрочем, стихотворение это всё равно воспринимается как любовное. Может быть, совместная молитва о страждущих и есть духовная вершина любви, связывающая людей крепче плотских наслаждений?
Второй раз – в описании старой церкви у могилы матери («Рыцарь на час», 1862). «Властительно пенье» церковного колокола в ночи. Оно успокоит больного, укрепит путника, заставит в полусне помолиться «заботливого пахаря». Но, главное, оно поможет герою по-новому оценить духовный подвиг матери – подвиг терпения и любви: «Всю ты жизнь прожила нелюбимая, / Всю ты жизнь прожила для других». Этот подвиг любви герой готовится повторить, но в финале ощущает слабость и малодушие.
Молитвенные интонации будут слышны в предсмертных стихах Некрасова: «Вступление к песням 1876—77 годов», «Молебен» (1876—77), «Чёрный день! Как нищий просит хлеба…» (1877), «Сон» (1877). Д.С. Мережковский называл Некрасова «верующим атеистом»: «В русской литературе нет ничего подобного: никто из русских писателей так не молился или, по крайней мере, так не жаждал молитвы. И то, что он думает одно, а чувствует другое, в Бога не верует, а молится, – не уменьшает, а увеличивает искренность чувства…»
Совершенно особое место в лирике Некрасова занимает любовная тема. Основу её составляет так называемый «панаевский цикл». Несмотря на свой относительно небольшой объём, он столь оригинален и по-новаторски дерзок, что B.C. Баевский посчитал его «одним из наиболее значительных во всей русской поэзии». Эти стихи посвящены гражданской жене поэта А.Я. Панаевой, мучительные отношения с которой продолжались почти 18 лет. Юридический муж Авдотьи Яковлевны был другом и компаньоном Некрасова по «Современнику». Классический любовный треугольник, несомненно, принёс много страданий и той и другой стороне. Возмездие же было по-античному роковым: оба ребёнка от этого незаконного брака умерли во младенчестве.
«Панаевский цикл» никогда не публиковался поэтом как единый текст, но тематическая связь этих стихов несомненна. Их первые строки воспринимаются как главы романа: «Если, мучимый страстью мятежной…» (47), «Ты всегда хороша несравненно» (47), «Я не люблю иронии твоей…» (50), «Да, наша жизнь текла мятежно…» (50), «Так это шутка? Милая моя…» (50), «Мы с тобой бестолковые люди…» (51), «О письма женщины, нам милой…» (52), «Тяжёлый крест достался ей на долю» (55), «Где твоё личико смуглое…» (55), «Как ты кротка, как ты послушна» (56).
Исследователю трудно устоять перед искушением распределить эти стихи в хронологическом порядке и проследить динамику столь неспокойного и драматичного романа. Но стоит отметить, что героиня этого типа родилась в поэзии Некрасова чуть раньше собственно «паиаевского цикла». Стихотворение, сделавшее его знаменитым – «Еду ли ночью по улице тёмной…» (1847), уже содержит в себе портрет сильной, отчаянной женщины, самостоятельно выбирающей себе нелёгкую судьбу и во многом ведущей за собой мужчину. Этот женский тип властно войдёт в творчество поэта на многие годы. Знаменитая «величавая славянка» из поэмы «Мороз Красный нос», благородная гордячка Трубецкая из «Русских женщин», Матрёна Тимофеевна из «Кому на Руси…» – силой духа и властностью напоминают смуглую инфернальницу интимных откровений Некрасова.
Некрасов впустил в русскую поэзию горькую «прозу любви» и рассказал о себе и возлюбленной столько «стыдных» подробностей, что порой был не в состоянии публиковать стихи под своим именем. Таковы убийственные «Слёзы и нервы» (1861), повествующие о расчётливой женской истерике и о тихой ненависти охладевшего мужа. Стихотворение, что и говорить, сильное, как бы устремленное в наш <?раскованный» век. Но тем-то и прекрасен «панаевский цикл», что у него всё-таки светлый финал.
Соединив судьбу с молодой, преданной женщиной, Некрасов за три года до смерти напишет изумительные по композиционному совершенству и глубоко печальные «Три элегии» (1874), в которых прощание с капризной смуглянкой молодости всё ещё переживается как трагедия. А на смертном одре вспомнит о давнем стихотворении 1856 г. и переделает его в совершенно «достоевские» «Горящие письма».
«Панаевский цикл» гораздо шире пространства реальных отношений Некрасова и Панаевой. Он обогатил русскую любовную лирику психологическими парадоксами и великолепно используемой поэтикой фрагмента, когда за скупыми строчками стиха читатель без труда воспроизводит все не до конца названные обстоятельства, когда сюжет стихотворения одинаково свободно размыкается как в прошлое, так и в будущее. Это умение затем виртуозно будет использовано А.А. Ахматовой.
Значительны и прекрасны стихи Некрасова, посвящённые русской женщине вообще. Их главная особенность – какая-то проникновенная нравственная чистота. «Когда из мрака заблужденья…» (1845) – полный любви и преданности монолог, обращённый к падшей женщине. В знаменитых «Тройке» (1846) и «В полном разгаре страда деревенская…» (1862) звучат сочувственные и ласковые отеческие интонации: «Вкусны ли, милая, слёзы солёные/ С кислым кваском пополам?..». В предсмертных стихах к жене – одна неподдельная забота о ней, благодарность и мужество: «3<и>не» («Двести уж дней…»,1876); «3<и>не» («Пододвинь перо, бумагу, книги!…», 1876). Даже тогда, когда внимание его обращается к развратной женщине («Княгиня» (1856), «Убогая и нарядная» (1857), «Ни стыда, ни состраданья…» (1876), он, осуждая её за цинизм и бесчестие, остаётся всё же в рамках человеческой этики.
Лирика Некрасова предварила многие открытия Серебряного века. Так, предсмертный сборник «Последние песни» (1877) по своей целостности, тематическому единству и настроению предвосхитил продуманную архитектонику стихотворных книг начала XX в. Одна из тем сборника – воплощение предсмертных мук в поэзии – случай достаточно редкий в мировой литературе. Поэт словно перетекал в свои стихи и духовно, и физически. Пытка плоти, борения духа, последние встречи с Музой… Через несколько месяцев его не стало…
Поэзия Некрасова всегда тяготела к эпосу. Так что возникновение у него крупной формы следует считать закономерным. Им написано одиннадцать поэм, очень разных по объёму. Первая его поэма «Саша» (1855) состоит из четырёх главок. Некрасов предпринял в ней попытку нарисовать героя времени Льва Агарина – увлекающегося и рыхлого одновременно – и проанализировать степень его влияния на восприимчивое молодое сознание Саши. Поэма написана четырёхстопным дактилем, распределённым двустишиями. Для русских поэм этот размер был ещё непривычным. Некрасов и здесь шёл впереди.
Поэма «О погоде» (ч. 1 – 1859; ч. 2 – 1865) – своеобразная «физиология Петербурга» в стихах. Судя по датам, складывалась она нелегко. В ней ощутимо отсутствие цельности. Эпизоды из жизни городских улиц изображены чаще всего с оттенком горькой иронии. Так или иначе в них затронуто большинство тем Достоевского: скорбная жизнь и не менее скорбная смерть бедного чиновника (глава «Утренняя прогулка»); немотивированная жестокость человека (эпизод избиения беззащитной лошади из главы «До сумерек»); ад большого города («Сумерки»). В целом Некрасов попытался применить здесь излюбленный им принцип «панорамной композиции» (B.C. Баевский) со сквозным героем-рассказчиком, но подлинные удачи на этой стезе ждали его впереди.
Небольшая поэма «Коробейники» (1861) с её знаменитым зачином «Ой, полна, полна коробушка…» есть не что иное, как гениальная стилизация под произведения народных сказителей. Всё – от начала (посвящение «другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды…)» до трагической развязки – пронизано здесь народным речевым колоритом. Реальная история об убийстве лесником двух удачливых торговцев рассказана весёлым, упругим стихом и воспринимается, несмотря на трагизм, как-то легко. Таково чисто стилистическое обаяние необычных некрасовских хореев (к первому и третьему стиху каждого катрена добавлен один безударный слог, и получается дактилическое окончание).
«Мороз Красный нос» (1863) – самая трагическая поэма Некрасова Сюжет её целиком сосредоточен на ситуации смерти. Даже когда автор уходит в сторону от главных событий, скорбная подсветка остаётся. Это подчёркнуто и в посвящении «Сестре», заканчивающемся словами: «Здесь одни только камни не плачут…»
Начало поэмы стремительно. Экспозиция фактически занимает всего пять четверостиший первой части («Смерть крестьянина»). Дано две картины: старуха с гробом на дровнях (главка I), тихие рыдания жены, шьющей саван (II). И скорбная тональность уже задана. Далее она будет только усиливаться. Все эпизоды первой части так или иначе посвящены моменту смерти: горе родителей (I, VI,VII), скорбь Дарьи (II,V), портрет усопшего (VIII), плач по нему всей семьи (IX), прощание соседей (X), рассказ об оставшемся без хозяина савраске (XI), болезнь и смерть Прокла (XII), дорога на кладбище (XIII), погребение (XIV), холодная осиротевшая изба (XV).
И только две главки этой части вроде бы говорят о другом. Они призваны включить частный случай крестьянской трагедии в общенародную судьбу. «Три тяжкие доли» «женщины русской земли» (III) напрямую связываются с крепостничеством. Но это, пожалуй, единственный шаг в сторону социальности. Роковая смерть кормильца выводит рассказ за пределы каких-либо идейных толкований, потому что смерть страшнее любой несправедливости, любого рабства. Даже гимн любезной сердцу автора «величавой славянке» (IV) по контрасту картин довольства только усиливает бездну горя, в которую повержена «уснувшего Прокла жена».
Во второй части поэмы внимание автора в основном сконцентрировано на передаче психологического состояния женщины после смерти мужа. Её мысль кружит в сфере неосуществлённых вариантов судьбы, несбывшегося счастья, а душу точит нестерпимая боль. Вся вторая часть построена на этом качании маятника из радужного мира мечты в страшное настоящее. Эпизод со сказочным Морозом совпадает с этой поэтикой фантазий. Мороз-искуситель, Мороз-убийца несёт сладостное забытье: «Какой бы ценой ни досталось / Забвенье крестьянке моей, / Что нужды? Она улыбалась. / Жалеть мы не будем о ней».
Поэма «Мороз Красный нос» была данью чистой поэзии с элементом фантастической призрачности. Но даже здесь Некрасов обратил читателя в сторону мужицкой беды, пропев хвалу всем труженикам русской земли.
В начале 1870-х Некрасов создаёт две поэмы о судьбах декабристов. Первая из них, «Дедушка» (1870), посвящена возвращению старого декабриста из ссылки. Прототипом героя, возможно, был С.Г. Волконский.
Любознательный и добрый мальчик Саша, внук декабриста, растёт в атмосфере тайны. Где был дедушка раньше? Чем занимался? Почему с таким глубоким уважением все относятся к нему? Лейтмотивом поэмы звучит мотив: «Вырастешь, Саша, узнаешь».
Несмотря на откровенный дидактизм, поэма воспринимается очень светло. Она словно согрета изнутри детским искренним взглядом, наполнена евангельскими реминисценциями. Эта доверчивая детская любовь вполне оправдывает неприкрытую идеализацию образа декабриста. Голос автора часто переплетается с Сашиными эмоциями: «Строен, высокого роста,/ Но как младенец глядит,/ Как-то апостольски просто,/ Ровно всегда говорит…» Это соединение мужества, благородства и смирения обаятельно. Некрасов спешит убедить читателя в идее преемственности. Пленённый образом деда, Саша, по мысли автора, продолжит его дело.
Во второй поэме, «Русские женщины» (1871–1872), дело декабристов видится сквозь призму страданий их жён. Некрасову удалось показать, что главной движущей силой этих людей было не отрицание, а сострадание и любовь. Подвиг жён затмевает здесь политику. Сама историческая подсветка напоминает о том, что «дело прочно, когда под ним струится кровь». Если в первой части («Княгиня Трубецкая») больше вызова, презрения к царизму со всеми его запугивающими трюками (см. разговор
Трубецкой с губернатором), то вторая («Княгиня М.Н. Волконская») согрета поэтикой семейных воспоминаний. Волконская обращается к внукам, и глубоко интимные подробности, мотивы поступков в её рассказе освещаются мудро и простодушно. Название поэмы ориентирует читателя на особый уровень прочтения. Жертвенность и готовность разделить горькую судьбу мужа – это то духовное ядро, которое потенциально содержится в каждой русской женщине. Некрасов сознательно смыкает судьбу своих героинь с народной. «Народ! я бодрее с тобою несла/ Моё непосильное бремя», – скажет Волконская. Но поэт подчеркнёт здесь и обратный процесс: духовное влияние декабристок распространялось с одинаковой силой как на людей света, так и на другие слои общества. Эта поэма Некрасова силой лирического воздействия надолго укрепила в русском сознании необыкновенно высокий этический идеал.
«Современники» (1875). Едва ли какая другая некрасовская поэма так актуальна в наши дни, как эта. Посвящённая развенчанию корыстолюбивых циников из чиновничьего и предпринимательского сословия, она словно бы написана в начале 1990-х. Текст поэмы чаще всего неизвестен широкому кругу читателей. Между тем крылатая фраза «Бывали хуже времена, / Но не было подлей» «вылетела» именно из ее первого четверостишия. И разве она устарела?
Некрасов выбирает сюжет, позволивший осветить целый пласт общества. Первая часть («Юбиляры и триумфаторы») разоблачает знатных сановников, вторая («Герои времени») – крупных капиталистических воротил. Хронотоп поэмы вроде бы весьма ограничен. Сквозной герой, наблюдательный и взыскательный интеллигент, бродит по залам престижного трактора и слушает «спичи», разговоры и споры сильных мира сего. Поэтика «Современников» определила её принципиальную фрагментарность.
Причём построены эти фрагменты каждый раз по-новому. Автор может только штрихообразно набросать портрет (таков «юбиляр-администратор» из залы № 1: «…древен, весь шитьём залит, / Две звезды…»). Или дать развёрнутый образ оратора (колоритен и нарочито укрупнён «колосс по брюху» князь Иван из запы № 3). В некоторых случаях рассказчик пользуется характеристиками иного рода. Например, в самой маленькой по объёму главке (зала № 4) использован своеобразный приём наложения. Оратор обращается к сенатскому завсегдатаю:
«(…)Всегда ли ты служил добру? Всегда ли к истине стремился?..» Позвольте-с! — Я посторонился И дал дорогу осетру.При минимуме средств поэт сказал об очень многом. Осётр, столь бесцеремонно потеснивший рассказчика, плохо совмещается с жертвенным сенатским аскетизмом. И уже неважно, каков был ответ на пафосные вопросы оратора (банкет триумфаторов – не место для разоблачений). Подсказка сработала безошибочно: произошёл эффект узнавания. Современный литературный гурман непременно вспомнит о чеховской и булгаковской осетрине «с душком». Душок есть и здесь. Правда, немного иной. Не случайно рассказ о зале № 7, где пируют профессиональные литераторы, начинается с детали: «Из залы новой / Мертвечиной понесло…»
Эта главка выполнена в стиле убийственного памфлета на псевдонаучные изыскания пишущей братии, стремящейся делать сенсации на пустом месте. Механизм создания дутой литературной репутации воспроизведён максимально точно и ёмко. И 130 лет спустя, в эпоху постмодернистского беспредела, этот механизм работает без сбоев. А ведь поэт ещё тогда назвал словоблудие собратьев по перу «пиром гробовскрывателей»…
В «Современниках» Некрасов подчас откровенно публицистичен. Некоторые его стихи предвосхищают послереволюционный язык плаката. Недаром восхищался ими Маяковский (в особенности портретом князя Ивана). Совершенно в духе нынешней морали звучат рассуждения одного из ключевых героев второй части – «Зацепы-столпа»:
Подождите! Прогресс продвигается, И движенью не видно конца, Что сегодня постыдным считается, Удостоится завтра венца…Некрасов, вероятно, и не предполагал, насколько это пророчество окажется верным…
В композиционном плане всё это «собранье пёстрых глав» объединяет общее структурное звено: в каждой из них есть прямая речь (тост, спич). Она делает поэму драматургичной. Некрасов, по-видимому, воспринимал юбилейный банкет как некий род лицедейства. (Грубая лесть ведь тоже может подаваться в изящной упаковке.) Поэтому жанр второй части «Современников» он определил как трагикомедию.
Некрасов – мастер эффектных финалов. Он умеет бросить в предмет своего презрения по-лермонтовски железный стих, «облитый горечью и злостью!» Но здесь уступил место, так сказать, правде факта. И даже не поставил многоточия. «Современники» перешагивают из 70-х годов XIX в. прямо в век XXI. Велик соблазн растащить эту поэму иа «тьму низких истин» и поговорок, но современный читатель, увы, не так восприимчив. А есть в этой поэме многое из того, что делает её произведением не только мастерским, актуальным, но и глубоко литературным, если выявить в ней мотивы, характерные для русской классики. Там и тут мы видим то гоголевского Чичикова, то купцов Островского, то мечущихся героев Достоевского, то предвестие судьбы горьковских Артамоновых.
Закатная поэма Некрасова, по верному замечанию А. А. Илюшина, «лишена того целебного источника, прикосновение к которому всегда отрадно». В ней нет народа. Действие поэмы так и не выходит за пределы душной залы. Произошло это, вероятно, потому, что поэт параллельно не прекращал работы над главным произведением своей жизни.
Крестьянская эпопея «Кому на Руси жить хорошо» была начата после реформы 1861 г. Некрасов работал над ней до самой смерти, но так и не успел завершить. Уже после кончины поэта издатели его наследия расставили её части в общеизвестном ныне порядке. Первое, что поражает в эпопее, – это размах. Сюжет её должен был охватить все слои общества, причём любое явление здесь оценивается с крестьянской точки зрения. Некрасов по-своему использует богатейшие традиции устного народного творчества. Сказочный пролог, поговорки, песни, прибаутки – всё это работает на главный вопрос, поставленный в названии. По мере движения сюжета он из социального превращается в философский.
Панорамная композиция даёт Некрасову возможность рисовать и массовые сцены, где он с жадностью вслушивается в «народную молву» («Сельская ярмонка», «Пьяная ночь»), и наблюдает отдельные судьбы, несущие в себе типичные черты своих социальных групп. Семь правдоискателей с самого начала воплощают коллективный портрет крестьянства. Но у каждого из них есть и свой характер. Например, Лука, сторонник поповского счастья, «похож на мельницу», «упрям, речист и глуп». Для Некрасова важно, что истину пошли искать не самые разумные, не самые образованные крестьяне, а представители массы. И он постоянно подчёркивает глубину их потребности в верном ответе: «Заботушка» о правде их «из домов повыжила, / С работой раздружила», «отбила от еды». Они решили «дело спорное / По разуму, по-божески, / На чести повести».
Основные звенья сюжета вроде бы намечены в повторяющемся зачине: «Роман сказал: помещику. / Демьян сказал: чиновнику…» и т. п. Но жизнь сразу вносит свои коррективы в любую схему. Достаточно быстро крестьяне понимают, что счастье не в сытости и достатке, а в чём-то ином. Три составляющие земного счастья приводит совестливый, мудрый поп: «Покой, богатство, честь». Если два последних ещё можно увидеть среди имущих слоёв, то первый компонент в некрасовской поэме оказывается недостижимым. Вся пореформенная Русь лишена покоя: «Порвалась цепь великая, / Порвалась, расскочилася: / Одним концом по барину, / Другим по мужику!..»
Барское «счастье» представлено на примере Оболта-Оболдуева и князя Утятина. В первом случае крестьяне видят неистребимую помещичью спесь и тоску по прежней власти, во втором – «камедь» и бросающиеся в глаза черты вырождения. Если рассказ попа вызывает у них сочувствие, то истории помещиков – только повод для иронии. Жизнь верхов показана в проекции на мужицкий мир, и поэтому даже из повествования о власть имущих мы больше узнаём о крестьянах. Так в главе «Последыш» можно выявить несколько побочных линий: бурмистра Власа, добровольного шута Клима, холопа по призванию – Ипата и непокорного, надорвавшегося от непосильной роли Агапа.
Всё пространство поэмы густо населено. Иногда персонаж не успевает получить даже имени, но обрывки его судьбы вплетаются в панораму народной жизни. Таково виртуозное изображение «дороги стоголосой» из главы «Пьяная ночь». Некрасов воспроизводит обрывки разговоров, подслушанных странниками, и словесный коллаж складывается в картину «счастия мужицкого», «дырявого с заплатами, горбатого с мозолями…».
А небольшая глава под названием «Странники и богомольцы» даёт пёстрый срез Святой Руси. Некрасов рассказывает об отношении крестьян к нищим (иногда бессовестным попрошайкам): «… в народной совести / Уставилось решение, / Что больше тут злосчастия, / Чем лжи, – им подают». Приводятся примеры откровенного обмана в местах, менее всего для этого подходящих (похотливый «старец» якобы учил деревенских девиц церковному пению: «Он петь-то их не выучил, / А перепортил всех»). Следом идёт рассказ о пугающем небесными карами «старообряде» Кропильникове, угодившем в участок за «анафемство». И тут же упоминаются праведники: посадская вдова Евфросиньюшка в холерные года, «как Божия посланница», «хоронит, лечит, возится / С больными. Чуть не молятся / Крестьянки на неё». Божий человек Иона Ляпушкин старается выбрать для ночлега самую бедную избу, так как, благодаря усердию его почитательниц «чашей полною… становится она».
В неподкупные уста Ионушки вкладывается страшная притча «О двух великих грешниках», где отпущение грехов бывшему разбойнику Кудеяру напрямую связано с убийством жестокого пана Глуховского. Идея неминуемого возмездия подкрепляется здесь мистическим антуражем. История, что и говорить, впечатляющая, но по духу противоположная христианству. Некрасов сознательно осуществляет подмену православных ценностей на революционные: праведник вроде бы рассказывает о глубоком покаянии, но единственный плод этого процесса – убийство угнетателя. Зло побеждается злом, и каковы последствия этой стратегии, поэт, вероятно, не задумывался. Неслучайно эффектная концовка этой притчи как бы зависает в воздухе. Поэт искусно переключает внимание читателя на житейские обстоятельства. Потрясённое молчание слушателей прерывает сердитый крик прасола: «Эй вы, тетери сонные!/ Паром, живей, па-ром!» – / «…Пожди! Про Кудеяра-то…» – / «Паром! Па-ром! Пар-ром!» Что было с Кудеяром? Что стало с крестьянами пана Глуховского? На это ответил не Некрасов, а жизнь полвека спустя.
Всеобъемлющая любовь к народу не загораживает от Некрасова его низменных черт. Он действительно знал русского мужика, как мало кто другой. Пьянство, лень, врождённое холопство, безнравственность – всё это видит наблюдательный интеллигентский Гомер:
– Эй, парень, парень глупенькой, Оборванной, паршивенькой, Эй, полюби меня! Меня, простоволосую, Хмельную бабу старую, Зааа-паааа-чканную! ~«Запачканность» может быть не только внешняя. Староста Глеб из главы «Крестьянский грех» запятнал себя предательством: будучи подкупленным наследником имения, он не объявил последней воли покойного барина о свободе для восьми тысяч крепостных. «Всё прощает Бог, а Иудин грех/ не прощается», – таково заключение Игнатия Прохорова, рассказчика этой истории.
Вряд ли правы те, кто считал, что Некрасов идеализировал народ. Скорее он всем сердцем настраивался на те его черты, которые внушали надежду. Это трудолюбие, чувство собственного достоинства, мужество, душевная щедрость. На таких людях он с удовольствием замедлял рассказ. К ним относится, например, народный резонёр Яким Нагой. В своей обличительной речи о причинах пьянства он ярок, убедителен, красноречив: «Нет меры хмелю русскому. / А горе наше меряли?/ Работе мера есть?» Себя он аттестует так: «Он до смерти работает, / До полусмерти пьёт». (Курсив автора). В его характере есть чудиика: спасаясь от пожара, он вытащил не скопленные за всю жизнь целковые, а примитивные «картиночки», купленные для сына. Эта наивная тяга к прекрасному мила сердцу автора. (В XX в. нечто подобное разглядит в деревенском жителе В. Шукшин. У его «чудиков» есть свои литературные предшественники.)
История Якима отражается и в рассказе о Ермиле Гирине, типе крестьянского праведника. Если Яким когда-то «угодил в тюрьму» за тяжбу с купцом, то Гирин в поединке с Алтынниковым был поддержан всем миром и одержал победу. Его нравственная природа столь тверда, что единственная его ошибка (спасение брата от рекрутчины ценой другого человека) едва не закончилась самоубийством. Некрасов убеждён, что рано или поздно совестливый человек вынужден вступить в оппозицию к власти. Судьба Ермильх заканчивается тем, что «в остроге он сидит».
И если у Ермилы испытания тюрьмой только начались, то для «богатыря святорусского» Савелия они уже миновали. «Клеймёный, да не раб!..» – вот его присказка. Убийство немца Фогеля он не рассматривает как преступление, скорее считает, что его руками было осуществлено возмездие. Но и ему, несмирившемуся бунтарю, дано испытать тяжкие муки раскаяния. Невольная вина за смерть ребёнка коренным образом изменяет его. Теперь он трезво оценивает своё состояние после каторги: «Окаменел я, внученька, / Лютее зверя был». «Зиму бессменную» в его душе растопил Дёмушка. Гибель малыша он воспринимает как кару небесную за собственную нераскаянность: «И я же, по грехам моим, / Сгубил дитя невинное…». Ему дано было вкусить и сладость бунта, и горечь покаяния.
Подробно и вдумчиво рассказывает о себе Матрёна Тимофеевна. Её историю исследователи называют самой фольклорной – так много в ней народных песен, причитаний, плачей. Её судьба вбирает в себя долю матери, жены, солдатки, сироты, но материнство в русской женщине подчиняет себе все другие её социальные роли.
Так кто же счастлив в поэме? Некрасов дарит это состояние сыну сельского дьячка Грише Добросклонову. Гриша – будущий «народный заступник», но главное – он поэт. Причём поэт, напрямую связанный со своими слушателями. Его стихи любимы народом, а сам он преисполнен восторгом вдохновения. Песня «Русь», с её потрясающей энергией стиха, придаёт незавершённой поэме законченный вид: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка-Русь!» Есть в песне и мощный образ поднимающейся «рати… неисчислимой». Но, думается, не гибельная волна возмущения делает Гришу счастливым, а сам процесс закрепляемой в слове мечты: «Звуки лучезарные гимна благородного – /Пел он воплощение счастия народного». Есть песня, есть и счастье. Некрасов знал об этом как никто другой…
Со временем незавершённость и непрояснённость композиции «Кому на Руси…», её «открытость во все стороны» стали восприниматься как важнейшие структурные особенности поэмы. Её «текучесть, творимость, бесконечность, изменчивость» B.C. Баевский назвал «свойствами, соответствующими свойствам самой жизни». А это признак многих шедевров мировой литературы. До сих пор некрасовская эпопея воспринимается как живой сгусток народного быта и бытия, вписанный в культуру России любящей рукой Мастера.
Некрасов – поэт долга и чувства, поэт «болеющей и рыдающей России». Замечательны финальные слова некрасовского «силуэта» в книге Ю. Айхенвальда: «Обыкновенно после Некрасова идёшь дальше в своём художественном развитии, и идёшь в другую сторону, – но русский юноша, русский отрок именно у него получали когда-то первые неизгладимые заветы честной мысли и гражданского чувства. (…)…отделив плевелы от его полновесной пшеницы, русский интеллигент близко знает и любит его, тоже поэта-интеллигента, с его сомнениями и нецелостностью».
Знает и любит… Это сказано сто лет назад. Кто же сотрёт пыль с некрасовской лиры в наши дни?..
Литература
Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. М., 1994.
Бухштаб Б. Некрасов. Л., 1989.
Баевский B.C. История русской поэзии 1730–1980. М., 1996.
Илюшин А.А. Поэзия Некрасова. М., 1998.
Скатов Н.Н. Некрасов. М., 1994. ЖЗЛ.
Чуковский КМ. Мастерство Некрасова. М, 1971.
Эйхенбаум Б.М. Некрасов // О прозе. О поэзии. Л., 1986.
Л.А. Мей (1822–1862)
«Мей – один из таких поэтов, во внешних качествах таланта которых нет ни малейшей возможности иметь хоть какое-либо сомнение. В самом деле, редко можно встретить в поэте такое богатство фантазии, такую силу, красоту выражения», – писал в статье «Русская изящная литература в 1852 г.» А.А. Григорьев. В то время, когда писалась эта статья с такой восторженной эстетической оценкой, Лев Александрович Мей, «обрусевший полунемец» (И.А. Ильин), уже почти достиг зенита в своем поэтическом развитии. Воспитанник Царскосельского лицея, который Мей окончил в 1841 г., получив от лицеистов звание преемника Пушкина, становится затем чиновником в канцелярии Московского генерал-губернатора. Однако гораздо больше сил и энергии Мей отдавал служению своей Музе, чем служебным делам. Ни в московский период жизни и творчества, ни в петербургский (уехал в Петербург в 1853 г.) поэт так и не добился успехов на служебном поприще. Но зато Муза никогда не покидала его, щедро одарив теми вдохновляющими «ласками», о которых Мей поведал в стихотворении 1856 г. «Муза»:
Видел однажды я музу: она, над художником юным Нежно склонившись, венчала счастливца и миртом В жарком лобзаньи устами к устам молодым припадала, Перси лилейные крепко к высокой груди прижимала. Видел я ласки пермесской богини другому, Видел – и прочь от счастливой четы отошел я ревниво… Видел в другой раз я музу: в объятья маститого старца Пала она в целомудренном страстном порыве, В вещие очи любимца смотрелась она ненаглядно, Кудри седые безмолвно кропила слезами, Руки, из праха создавшие дива искусства, лобзала… Видел я ласки пермесской богини другому — Видел – и пал перед ней на колена е восторге.В этой поэтической аллегории, осуществлённой пластичным гекзаметром (Мей был поистине кудесником стихотворной формы), передаётся «восторг» поэтического вдохновения. Муза у Мея – это символ вдохновения и романтического поэтического искусства.
Вдохновение становится источником той творческой силы, которая в свободном полете фантазии создает прекрасные произведения, возносящиеся над обыденной жизнью. Именно таким образом в поэтике Мея воплощается романтический мотив «двоемирия», ещё с большей отчётливостью обозначенный в «Галатее» – программном стихотворении 1858 г. Здесь опять нам слышна музыкальная торжественность гекзаметра. Этой метрической формой с некоторыми её изменениями Мей овладел безупречно, потому что его романтическая лирика вобрала в себя эстетические традиции «античного мира» (цикл «Из античного мира», переводы «песен» Анакреона и «Волшебницы» Феокрита). Античный мир с его космической гармонией органично вошел в романтической мир Мея, и завораживающий гекзаметр «Галатеи» – версификационный результат этого художественного породнения.
Образ Галатеи относится к культовым во всём романтическом искусстве. В поэтике Мея Муза и Галатея олицетворяют тот мир гармонии и красоты, который оппозиционно противопоставлен земному миру. «Святое вдохновение», в поэтическом слове воплощённое, открывает путь в гармонический мир:
Но, полон святым вдохновением, Он обращался с молением К чудной, незримой Красе: «Вижу тебя, богоданная, вижу и чую душою; Жизнь и природа красны мне одною тобою… Облик бессмертья провижу я в смутных чертах…» И перед нею, своей вдохновенною свыше идеею, Пигмалион пал во прах…Кроме традиционной романтической «оппозиции», здесь резко очерчен ещё один характерный для лирики Мея мотив – молитвенное обращение к красоте, которая для него – высшая духовно-эстетическая ценность, поэтому и творчество как источник красоты становится «бессмертным»:
Вестницей воли богов предстою я теперь пред тобою, Жизнь на земле – сотворённому смертной рукою: Творческой силе – бессмертье у нас в небесах!Таким образом, вдохновение и творчество в поэтическом мире Мея живут на правах определяющих художественных категорий. Эти категории всегда предстают в сиянии красоты, лирический образ которой в поэтике Мея находится рядом с мотивом любви. Любовь у него тоже источник красоты:
Не рассказать – что делалось со мною. Не описать волшебной красоты… С весенним солнцем, с розовой зарею, С слезой небес, упавшей на цветы, С лучом луны, с вечернею звездою В моих мечтах слились её черты… И помню только светлое виденье — Мой идеал, – отраду и мученье.Перед нами одиннадцатая октава из небольшого цикла Мея «Октавы». Всего в цикле пятнадцать октав. Только вместо двенадцатой октавы – многоточие, обозначающее символическое пространство. Мей поступил здесь в манере Тютчева: самое сокровенное выразил через молчание. Из символического пространства в торжественном молчании вырастает образ пылкой любви Мея.
Знаменательно, что октавный цикл (он посвящен сестре жены поэта Е.Г. Полянской) находится совсем рядом с другим лирическим циклом, в котором обожаемая героиня – Софья Полянская, на ней поэт женится в 1850 г. И лирическое творчество Мея откликнулось на художественную закономерность поэзии 1850– 1870-х годов (Тютчев, Фет, А. Толстой) – стремление к стихийной циклизации. Из этой художественной стихии рождались «неавторские» циклы, каким станет «Полянский», а «Октавы» (1844.) превратятся в сопутствующий цикл. Главное связующее звено между ними – девятичастные «Октавы», обращенные теперь к Софье Полянской и построенные в форме воображаемого разговора с лирической героиней. Этим «Октавам» предшествуют такие стихотворения: «Когда ты, склонясь над роялью…» (1844), «Не знаю, отчего так грустно мне при ней?» (1844), «Беги её» (1844). Затем последуют «Канун 184… г.», «О ты, чьё имя мрёт на трепетных устах…» (начало 1850-х годов), «Друг мой добрый! Пойдём мы с тобой на балкон…» (1860). И «Русалка» (1850–1856), одно из лучших стихотворений Мея, посвящённое жене, также входит в «Полянский» цикл.
Как во всех циклах подобного рода, в «Полянском» цикле есть прочная автобиографическая основа. Но она всё же подчинена общей устремлённости меевского творчества, жаждущего слияния с «чистейшей красой». Отсюда и существенная особенность его внутренней организации: лирическая героиня, подобно Галатее, появляется только для безудержно-страстного поклонения и восхищения. И только едва ощутимыми намёками возникает то, что напоминает «денисьевский» цикл Тютчева, – почти романная коллизия с выдвижением на передний план образа лирической героини. Вполне естественно то, что центральное место в лирическом цикле Мея займёт стихотворение «О ты, чьё имя мрёт на трепетных устах…»:
О ты, чьё имя мрёт на трепетных устах, Чьи электрически-ореховые косы Трещат и искрятся, скользя из рук впотьмах, Ты, душечка моя, ответь мне на вопросы Не на вопросы, нет, а только на вопрос: Скажи мне, отчего у сердца моего Я сердце услыхал, не слыша своего?Любовь для Мея – это уход от современного мира в обитель ласкающих грёз и красоты. В своём, так и не усвоенном читателем-современником, художественном изяществе он был поистине одинок. Меевское стихотворение 1858 г. «Арашка» (притча о попугае) вполне можно воспринять как метафору одиночества романтического поэта, развитие которой завершается печальной фразой: «Всё мертвецы, а были люди встарь». Вот это трагическое ощущение заставляло Мея всё дальше и дальше уходить в прошлое, что стало ещё одной причиной его активного интереса к русскому фольклору, традиции которого осваивались им с опорой на художественный опыт А. А. Дельвига («Русские песни»), А.В. Кольцова и А.А. Григорьева, которому Мей в знак дружбы посвятил стихотворение «Огоньки». Этому же способствовало творческое общение с А.Н. Островским и славянофилами (с 1848 по 1853 г. Мей входил в «молодую редакцию» журнала «Москвитянин»), Пленённый народной поэзией, Мей на основе былинного стиха создает героические образы Евпатия Коловрата («Песня про боярина Евпатия Коловрата») и Александра Невского («Александр Невский»), а на основе песенного стиха – такие лирические песни, как «Ох вы, годы мои, годы торопливые…», «Что ты, зорька, что, рожденница желанная…», «Ты житье ль моё…», «Как вечор мне, молодёшеньке…»
Поиски гармонии, красоты и идеального бытия в далёком прошлом привели Мея не только в античный, но и в библейский мир. По этой причине в его поэтике образовалась сфера антологической лирики и возник цикл стихотворений, в которых впечатляюще воплощены «библейские мотивы»: «Отойди от меня, сатана!», «Давиду-Иеремии», «Юдифь», «Подражание восточным», «Псалом Давида на единоборство с Голиафом», «Эндорская прорицательница», «Притча пророка Нафана», «Еврейские песни» (поэтическое переложение «Песни песней» царя Соломона), «Пустынный ключ. Моисеевых книг – исход», «Отроковица», «Сампсон».
Особое место в поэтическом творчестве Мея занимают исторические драмы «Царская невеста» (1849) и «Псковитянка» (1860). Написанные пятистопным ямбом, они продолжали традиции русской стихотворной драматургии, прежде всего «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, и стали важнейшим прологом дальнейшего историко-поэтического проникновения в XVI в., в личность Ивана Грозного, внутренний мир человека того «грозового» времени со всем буйством страстей и сердечными муками любви. Романтическая поэтика драм, позволившая органично соединить историзм и лиризм с музыкой стиха, вдохновила Н.А. Римского-Корсакова на создание опер «Царская невеста» и «Псковитянка».
Литература
Фридлендер Г.М. Л.А. Мей // Л.А. Мей. Избранные произведения. Л„1962.
Бухмейер К.К. Л.А. Мей // Л.А.Мей. Избранные произведения. Л., 1972.
Гаспаров МЛ., Осповат АЛ. Мей Лев Александрович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.
Корнилов С.И. Мей Лев Александрович // Русские писатели. XIX век: Биобиблиографический словарь. 2-е изд., дораб. Т. 2. М., 1996.
И.С. Никитин (1824–1861)
Выдающимся и скромнейшим, по признанию многих, поэтом некрасовского, демократического направления в литературе, искренним певцом скорби народной был Иван Саввич Никитин.
Никитин прожил короткую жизнь, полную неблагодарного труда, лишений, обид, физических страданий. «Мне доставались нелегко / Моей души больные звуки…», – писал поэт о себе. Родился он в Воронеже в мещанской семье и почти не отлучался из родного города. Отец владел свечным заводом и лавкой, отличался крутым нравом (был известным кулачным бойцом), пьянствовал, кроткая мать страдала от его домашней деспотии. Иван был единственным ребенком в семье. Грамоте мальчик учился у сапожника, затем обучался в духовном училище, где увлёкся книгами, и в духовной семинарии. Колоритные картины отупляющего семинарского уклада позднее он нарисует в повести «Дневник семинариста». Однако именно к этому периоду относятся увлечение Белинским и первые стихотворные опыты. Отчисленный из семинарии по «малоуспешности» (из-за смерти матери и запоев отца он пропускал занятия), молодой человек не имел более перспектив продолжить образование. Нужно было зарабатывать хлеб насущный.
Никитин торгует грошовыми свечками вразнос, работает в лавке отца, затем становится «дворником» (содержателем постоялого двора), более десяти лет трудится практически день и ночь, лично вникая во все хозяйственные дела. «А утомившись порядочно за день, – читаем в его письме, – в сумерках я зажигаю свечу, читаю какой-нибудь журнал, берусь за Шиллера <…>, покамест зарябит в глазах». «В моей грустной действительности единственное для меня утешение, – пишет он в другом письме, – книги и природа». Поэт не сразу обретает собственный голос. Первые стихи Никитина подражательны: в них чувствуются интонации М.Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова.
Дебют И.С. Никитина в печати состоялся публикацией стихотворения «Русь» (1853). «Начать мощной и широкой «Русью» мог только поэт большого общественного дыхания», – пишет исследователь творчества Никитина В. И. Кузнецов.
Под большим шатром Голубых небес — Вижу – даль степей Зеленеется. <…> Широко ты, Русь, По лицу земли В красе царственной Развернулася!Автор «Руси», как говорится, вдруг проснулся знаменитым и оказался причастным к обществу Н.й. Второва, изучающему историю, этнографию, фольклор Воронежского края. Сам Николай Иванович Второв стал на долгие годы его близким другом и литературным наставником. В кружке Никитин знакомится и с Де-Пуле, своим будущим биографом. Члены «второвского кружка» воспринимали его как самородка, преемника своего земляка Кольцова. Поэт упорно занимается самообразованием, изучает немецкий и французский, чтобы читать зарубежную поэзию в подлиннике. «Не знаю, – читаем в его письме, – какая непостижимая сила влечет меня к искусству…»
В 1856 г. будущий воронежский губернатор, историк граф Д.Н. Толстой публикует сборник Никитина «Стихотворения», который отправляется членам императорской семьи и вызывает большой резонанс в критике. Однако подорванное здоровье, хронические недуги приносят продолжительные физические страдания, отсюда скорбные интонации никитинской лирики. И мрачный мещанский быт, и внутреннее одиночество продолжают угнетать поэта даже тогда, когда его уже знала вся читающая Россия.
«Низкая природа», «грязная действительность» начинают осознаваться Никитиным как понятия эстетически значимые. В сферу поэзии он включает повседневный быт и нравы крепостных крестьян, бедного городского люда, судьбу отдельного человека из народа. Мечта «о социальной гармонии, о счастье и благе человека станет лейтмотивом всего творчества Никитина» (Л.А. Плоткин). При этом он творчески обращается к опыту Н.А. Некрасова. Лично познакомиться поэтам не удалось, но известно, что Некрасов, вначале холодно отнесшийся к стихотворным опытам начинающего поэта, затем через посредников передавал ему «убедительнейшую просьбу» печататься в «Современнике», заранее соглашаясь на все условия, что, увы, не осуществилось.
Излюбленный круг тем Никитина связан с драмой повседневности (нищета, насильственный брак, измена, потеря кормильца, детей и т. п.), его герои – страдальцы, что нашло воплощение в формах стихотворного рассказа («Рассказ крестьянки», «Рассказ моего знакомого», «Портной» и др.) и песни («Ссора», «Измена», «Бобыль», «Песня бобыля», «Пахарь», «Тоска» и др.) – Поэта трогает судьба брошенного ребенка, бесприютная старость бедняка, участь нищего с сумой, дворового («Жена ямщика», «Нищий», «Пряха», «Старый слуга» и др.). Однако его герой не просит о помощи, не унижается, поэт пишет о способности русского человека встречать невзгоды лицом к лицу:
Такова моя отрада, Так свой век я коротаю: Тяжело ль – молчать мне надо, Полюблю ль – любовь скрываю. «Пахарь»Впервые в русской литературе (до Некрасова) изображается жизнь бурлаков («Бурлак»), и даже в тяжелом бурлацком быту Никитин видит красоту, волю, молодецкий размах:
Ретивое забьётся, и вспыхнешь огнем! Осень, холод – не надобна шуба! Сядешь в лодку – гуляй! Размахнёшься веслом, Силой с бурей помериться любо!С Никитиным в поэзию приходит тема простой русской семьи, немудрёного быта, появляются образы босоногих крестьянских детишек, бедных кротких старичков, нарисованные без сентиментальности, но с искренним сочувствием:
Бел как лунь, на лбу морщины, С испитым лицом. Много видел он кручины На веку своём. «Дедушка»«Контраст былого и будущего, старого и молодого – контрапункт социально-художественного видения поэта», – утверждает В.И. Кузнецов. В ряде произведений воспроизводятся народные верования, обычаи («Неудачная присуха»), даны детальные этнографические описания («Купец на пчельнике», «Ночлег извозчиков», «Лесник и его внук»). По мнению С. Городецкого, это единичные в русской поэзии образцы идиллии, в них чувствуется благостное приятие русской действительности, и «в этой солнечной любви бесследно растворяются все угловатости характеров, вся неказистость быта».
Произведения Никитина по стиховой природе далеки от фольклорно-песенной традиции (поэт использует трехсложные размеры, передающие разговорную интонацию), но с народным творчеством тесно связаны их образность, поэтическая лексика, фразеология, синтаксис. Автор «Руси» не стремится имитировать фольклор, однако под его пером возникает гармоничный синтез традиций книжной и устной поэзии. Таков, например, необыкновенно ёмкий символ сокола со связанными крыльями:
На старом кургане, в широкой степи, Прикованный сокол сидит на цепи, Сидит он уж тысячу лет, Всё нет ему воли, всё нет! «Хозяин»По мысли Н.Н. Скатова, поэт ищет такие подходы к народному творчеству, «которые позволяли бы сохранять самостоятельность лирического голоса, не давали бы ему раствориться полностью в стихии народной поэзии».
Некоторые песни Никитина фольклоризовались, самая известная из них – «Ехал из ярмарки ухарь-купец..(1858). Песня не имеет конкретного фольклорного источника, однако опирается на традиции народной крестьянской песни. Фольклорная версия, естественно, более лаконична, и самое заметное отличие: о падении девушки в никитинском оригинале говорится завуалированно, в народной переделке – грубовато-откровенно:
По всей деревне славушка пошла: Машкина дочка на зорьке пришла. Машкина дочка на зорьке пришла, Полный подол серебра принесла.Песню в зрелой лирике Никитина почти вытесняет стихотворная новелла, бытовая картинка, рассказ человека из народа о себе, порой чересчур многословный, подробный. При всей «объективности» этих произведений в них звучит глубоко личностная интонация, чужое несчастье поэт воспринимает через призму своего опыта. Лирический герой его произведений – простолюдин, приобщившийся к книжной культуре, страдающий от изнурительного труда, больной телом и душой, несчастливый в любви, одинокий.
Никитин сознательно противопоставляет свое творчество «чистому искусству». «Будь ты проклято, праздное слово!» – вырывается у него гневное восклицание. Совпадающее по ритму с известным произведением А. Фета «Шёпот, робкое дыханье…» стихотворение «Ночлег в деревней, по мнению ряда исследователей, может быть понято как своеобразная пародия на маститого сторонника «искусства для искусства»:
Душный воздух, дым лучины, Под ногами сор, Сор на лавках, паутины По углам узор; Закоптелые полати, Чёрствый хлеб, вода, Кашель пряхи, плач дитяти… О, нужда, нужда!Высшее поэтическое достижение Никитина – пейзажная лирика. Сам поэт писал о природе: «Она никогда мне не изменяла, всегда оставалась одинаковою её божественная, вечная красота». Но природа у него не идиллически красивая, для пейзажей характерны выразительность, пластичность деталей, конкретность, задушевность поэтического чувства («Тихо ночь ложится», «Зимняя ночь в деревне», «Утро», «Встреча зимы», «В темной чаще замолк соловей…», «Поездка на хутор», «Ярко звезд мерцанье…» и др.)– «Та даже расстановка слов, тот выбор их, которыми руководствуется невольно только художник, знающий природу всем существом своим», – подметил в поэзии Никитина И.А. Бунин. Природа и человек неразрывно связаны, природа служит человеку «колыбелью и вместе могилой». Природа – «наставник» и «друг». Лирический герой делится с природой раздумьями, дружески обращаясь к ней: «Здравствуй, гостья-зима!», «Здравствуй, солнце да утро веселое!», «Полно, степь моя, спать беспробудно…». Между тем в ранней лирике Никитина природе как воплощению прекрасного и благостного в мире противостоят обыденные драмы, разыгрывающиеся в обществе, страдания людей, с которыми не хочет мириться душа поэта:
Лишь во мраке ночи Горе и разврат Не смыкают очи, В тишине не спят. «Тихо ночь ложится…»У зрелого Никитина природа обретает самоценность. Изобразительные эпитеты, яркие метафоры, олицетворения создают живописную, праздничную картину, подчеркивают истинную красоту среднерусского пейзажа, скрытую от равнодушных глаз:
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, За морями ночлег свой покинуло, На поля, на луга, на макушки ракит Золотыми потоками хлынуло. «Утро»Немногочисленны, но удачны опыты Никитина в жанре поэмы. Картины быта и нравов, социальных контрастов большого провинциального города предстают в поэме «Кулак» (1854–1857). Главный герой поэмы Лукич – мелкий базарный перекупщик, мошенник и домашний тиран – тем не менее фигура трагическая. Многими чертами персонаж напоминает отца поэта. Никитин пишет о пагубном влиянии жизненных обстоятельств на формирование человека, подчеркивает типичность Лукича и его судьбы. Колоритны образы «хозяев жизни», хищников, дельцов. С большой теплотой и сочувствием даны положительные герои, лишённые естественного человеческого счастья – жена Лукича Арина, дочь Саша, её возлюбленный Вася.
Сильный человек, бросающий вызов обстоятельствам, выведен в поэме «Тарас» (1860), первой поэме о странствующих мужиках-правдоискателях. Характерная черта главного героя – чувство человеческого достоинства, он не удовлетворен своей крестьянской судьбой, бессмысленным трудом и отправляется в путь на поиски счастья. Правда, счастливой доли Тарас так и не находит и погибает, спасая тонущего человека.
В 1859 г. И.С. Никитин оставляет постоялый двор, открывает в Воронеже книжный магазин и библиотеку при нём, предполагая в качестве книготорговца служить просвещению общества. Он увольняется из мещанского сословия и приписывается к купеческому. Ему хотелось, по его словам, «отдохнуть наконец от пошлых, полупьяных гостей, звона рюмок, полуночных криков…». Однако надеждам поэта не дано было осуществиться.
В поэзии Никитина усиливается публицистическое начало, появляются настроения гражданской скорби, негодования («Лампадка», «Тяжкий крест несем мы, братья…» и др.). В то же время он продолжает создавать «крестьянские» стихи в фольклорно-песенном духе («Соха», «Ах ты, бедность горемычная…», «Бесталанная доля»). С 1858 г. идёт его работа над единственным прозаическим произведением – автобиографической повестью «Дневник семинариста» (1860), предвосхищающей «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского.
Летом 1860 г. поэт впервые в жизни посещает Москву и Петербург, занимаясь, впрочем, исключительно книжной коммерцией. Вернувшись в Воронеж, он выступает учредителем воскресной школы и Общества распространения грамотности. В последний год жизни Никитина взаимная любовь наконец-то мелькнула «улыбкою прощальной»: он ведет переписку с дочерью отставного генерала Натальей Матвеевой, ей посвящаются стихи. Этот роман, ставший одной из самых светлых страниц жизни поэта, так и остался неоконченным. После очередной простуды обостряется болезнь. Поэт отказывается от помощи возлюбленной, готовой пренебречь приличиями и приехать ухаживать за ним. В последние месяцы жизни он страшно одинок. С горькой иронией рассуждает его уставший от жизни лирический герой в одной из последних песен:
Плотно сырою землею придаются, Только одним человеком убавится… Убыль его никому не больна, Память о нем никому не ну ясна!.. «Вырыта заступом яма глубокая…»И.А. Бунин писал об И.С. Никитине в статье «Памяти сильного человека»: «Он в числе тех великих, кем создан своеобразный склад русской литературы, её свежесть, её великая в простоте художественность, её сильный простой язык, её реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные её представители – люди, крепко связанные со своей почвой, со своею землею, получающие от неё свою мощь и крепость». Лев Толстой, говоря о Никитине, выражал надежду, что «с течением времени его будут ценить всё более и более». А С. Городецкий назвал судьбу и поэзию Никитина грустной недопетой песней…
Литература
Никитин И.С. Полное собрание стихотворений/Предисл. Н.И. Рыленкова; вступ. ст. и прим. Л.А. Плоткина. М.; Л., 1965 (БПбс).
Никитин И.С. Сочинения / Вступ. ст. О.Г. Ласунского; прим. Л.А. Плоткина. М., 1980.
Тонков В.А. И.С. Никитин. Очерк жизни и творчества. М., 1968.
Кузнецов В.И. Нетленные строки. Воронеж, 1984.
Скатов Н.Н. Некрасов: Современники и продолжатели. Очерки. М., 1986. С. 23–39.
Драматургия 50-70-х годов
Русскую драматургию периода 1850—1870-х годов справедливо называют драматургией времени Островского. Безусловно, талант такого масштаба, каким обладал основоположник русского национального репертуарного театра А.Н. Островский, во многом определил направление развития отечественной драмы 2-й половины XX в. Другие драматурги оказались в тени его имени, и, конечно, все они в той или иной степени испытали на себе плодотворное влияние его художественных открытий.
Как известно, в начале 1850-х годов А.Н. Островский сблизился с молодой редакцией журнала «Москвитянин», поэтому и соответствующий период его творчества принято называть «москвитянским». Почти одновременно с Островским в редакцию «Москвитянина» пришел начинающий литератор, театральный критик Алексей Антипович Потехин (1829–1908). Именно под влиянием Островского молодой автор обратился к драматургии: в 1854 г. создал первую свою драму «Суд людской – не Божий», за которой вскоре последовали и две другие – «Шуба овечья – душа человечья» (1854) и «Чужое добро впрок нейдёт» (1855).
Уже критики того времени, в частности А. А Григорьев, заявили о том, что потехинский цикл пьес является лишь копией, подражанием «москвитянским» пьесам Островского. Безусловно, такие суждения имели под собой серьезные основания: общий материал и тема художественного исследования – размышления о русском национальном характере, интерес к семейной проблематике, тема власти денег, стилистическая близость к фольклорным источникам (обилие народных песен, обрядов, пословиц, широкое употребление местных говоров и крестьянского просторечия), наконец, тяготение к яркой сценической форме. Однако у Потехина стремление к созданию эффектных сценических положений, как правило, оборачивается нагнетанием мелодраматизма, чего Островскому всегда удавалось счастливо избегать.
В конце 1850-х и 1860-е годы А.А. Потехии создает цикл так называемых тенденциозных драм – «Мишура** (1858), «Новейший оракул» (1859), «Отрезанный ломоть» (1865), «Виноватая» (1868), «Вакантное место» (1869), «Рыцари нашего времени» («В мутной воде», 1869). Мастерство Потехина-драматурга в этот период уже заметно возросло. Автор сосредоточен здесь прежде всего на социально-нравственной проблематике. В его пьесах сочетаются острозлободневные для того времени темы (угнетенное положение женщины в семье и обществе, всевозможные злоупотребления в чиновничьем мире, власть сословных предрассудков) и вечные для русской драматургии конфликты – противостояния честного, передового ума и хитрости («Мишура», «Вакантное место»), «отцов» и «детей» («Отрезанный ломоть»),
В 1870-е годы А.А. Потехин создает в основном прозаические произведения и пишет только одну пьесу – «Выгодное предприятие» (1878), которая отличается динамизмом развития действия с явно выраженным комедийным элементом. Помимо влияния Островского, здесь вполне ощутима связь с гоголевской традицией: Потехин мастерски вписывает гоголевские сюжетные коллизии и характеры в российскую действительность 1870-х годов.
Несомненным и самобытным талантом отмечено творчество и другого драматурга, современника Островского – Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Признанный классиком русской драматургии он стал известен прежде всего как автор трех пьес, которые по сей день не сходят с подмостков отечественных театров, – комедии «Свадьба Кречинского» (1854), драмы «Дело» (1861) и комедии-шутки «Смерть Тарелкина» (1869). Несмотря на личное знакомство с Н.В. Гоголем, а впоследствии с Л.Н. Толстым, Н.А. Некрасовым, П.В. Анненковым и А.В. Дружининым, в литературной среде и в самом литературном процессе своей эпохи А.В. Сухово-Кобылин всегда держался особняком. «Для писателей и того времени, и позднейших десятилетий он был как бы невидимкой, некоторым иксом», – вспоминал П.Д. Боборыкин. Столь же своеобразен, ни на кого не похож и сам творческий почерк драматурга, отмеченный, с одной стороны, глубоко трагическим восприятием мира, а с другой – яркой сатирической эксцентрикой, не вполне понятой современниками, но восхитившей его потомков. Так, В.Э. Мейерхольд в 1917 г. поставил на сцене всю трилогию А.В. Сухово-Кобылина, а Блок заметил, что этот необычный драматург соединил в своем творчестве Островского с Лермонтовым.
Человек в жестоком столкновении с безжалостной государственной машиной – так, пожалуй, можно определить главную тему, объединяющую все три пьесы. Возникновение, развитие и закономерный трагический итог одного «дела» составляют сюжет трилогии. В формальном построении пьес, как отмечает А.И. Журавлева, «чувствуется влияние прекрасно знакомого Сухово-Кобылину французского театра (изобретательное построение занимательной интриги, применение некоторых традиционных сюжетных мотивов, использование системы амплуа, блестящие диалоги). Однако эта «форма» заполняется полнокровно реалистическими картинами современной писателю русской жизни». Особенно яркими, полнокровными, убедительными вышли из-под пера драматурга именно «отрицательные» персонажи трилогии: игрок по призванию и убеждению, блестящий светский авантюрист Кречинский; циничный пройдоха и шулер, а во второй пьесе в результате выигрыша сфабрикованного против Муромских «дела» уже квартальный надзиратель Расплюев; ловкий делец, хозяин и распорядитель присвоенных им «бешеных денег» Варравин. Именно они – беззастенчивые интриганы, одержимые жаждой власти и наживы, получившие к тому же широкие государственные полномочия – всегда и неизбежно обыгрывают у Сухово-Кобылина героев, сохранивших представления о чести и человеческом достоинстве (Лидия, Муромский, Нелькин и др.).
Сам автор трилогии, уголовное дело которого по обвинению в убийстве тянулось долгих семь лет, не понаслышке знал о произволе и взяточничестве российских чиновииков. Его трилогия, действительно, была написана со знанием «дела» и являла собой, по признанию А.В. Сухово-Кобылина, не «Плод Досуга» и не «Поделку литературного Ремесла», а «в полной действительности сущее, из самой реальнейшей жизни с кровью вырванное дело».
Литература
Лотман Л.M. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. М.; Л., 1961.
Абрамкин В.М., Кононов НМ. Жизнь и творчество А. В. Сухово-Кобылина. Л., 1956.
Рудницкий К.Л. А.В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
А.Н. Островский (1823–1886)
Жизненный путь Александра Николаевича Островского не был отмечен яркими, выделяющимися, драматичными событиями. Он не стрелялся на дуэлях, как Пушкин и Лермонтов, не переживал ожидания казни и не отбывал каторгу, как Достоевский, и последние годы его жизни не были ознаменованы трагическим разрывом с домом и семьей, как у Толстого. Можно сказать, что Островский прожил внешне очень спокойную жизнь, однако «одна, но пламенная страсть» была и у него. Этой страстью был русский театр, которому он служил верой и правдой прежде всего как драматург, автор пятидесяти оригинальных пьес, переводчик Шекспира, Гольдони, Сервантеса, по существу, создатель репертуара русского национального театра.
Помимо таланта драматургического, Островский, безусловно, был наделен свыше на удивление гармоничным мировосприятием, вечным стремлением созидать и строить, не отвлекаясь от главного своего призвания. Современники драматурга вспоминали, что жил и писал он всегда не спеша, вдумчиво, основательно. Даже почерк у Островского был крупным, четким, для литератора поразительно разборчивым. «Чуждый всяческих интриг и зависти, – вспоминает хорошо знавший Островского современник, – и забавляясь театральными сплетнями как веселым развлечением в досужие часы и в приятельской компании, Островский верил своему призванию столь твердо, что на нападки предпочитал отвечать действием, а не словами. (…) Самолично же он поспешил ответить на клевету пятью новыми пьесами… составляющими гордость отечественной литературы и украшение сцены».
Никогда не отличала Островского и «охота к перемене мест» – в сущности, вся жизнь его была связана с Москвой, которую он любил и зная. Он открыл для русской литературы один из самых живописных уголков столицы – родное Замоскворечье. Здесь и по сей день сохранился дом драматурга. Какими были эти места при его жизни, легко представить себе, читая воспоминания друзей драматурга: «Огибая церковь Иоанна Предтечи и делая длинное и кривое колено, Серебрянический переулок приводит на поперечную улицу. Прямо против устья переулка стоял неказистый деревянный дом обычного московского пошиба. Обшит он был тёсом и покрашен тёмною коричневою краской; размерами небольшой, в пять окон. С улицы он казался одноэтажным, так как второй этаж глядел окнами на свой и соседний двор. Дом стоял на самом низу, у подошвы горки, и начинал собою ряд других домов такого же узенького, но на этот раз прямого переулка, примыкающего на верхушке к церкви Николы в Воробине».
Естественно, что и творческий путь драматурга начался в Москве: здесь он стал знаменитым после выхода в свет в 1850 г. пьесы «Банкрот». Взлёт Островского на вершину литературного признания был стремительным и блестящим, однако ему предшествовали годы ученичества (сначала в 1-й Московской гимназии, затем на юридическом факультете Московского университета), работа в Московском совестном и Московском коммерческом судах, первая счастливая женитьба.
Началом своей профессиональной литературной деятельности сам Островский считал пьесу «Семейная картина», которую он с успехом прочитал в доме профессора С.П. Шевырева. К этому же времени относятся и прозаические «Записки замоскворецкого жителя». А вот следующей пьесой Островского и была практически сразу признанная классической комедия «Банкрот», впоследствии названная автором «Свои люди – сочтёмся!». Виднейшие литераторы и критики были единодушны в восторженных оценках молодого драматурга.
«Читал ли ты комедию или, лучше, трагедию Островского «Свои люди – сочтёмся» и которой настоящее название «Банкрут»? – восклицает в письме В. Одоевский. – Пора бы вывести на свежую воду самый развращённый духом класс людей. Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, просочённой всякой гнилью, то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я поставил нумер четвёртый».
«Успех «Своих людей» был огромный, небывалый, – вторит ему А.В. Дружинин. – Самые робкие и холодные из ценителей открыто сознавались, что молодой московский писатель с первого шага обогнал всех в то время трудившихся русских литераторов, за исключением Гоголя. Но и самое исключение это ещё ничего не доказывало. Между «Ревизором» Гоголя и комедией новой не было той непроходимой бездны, которая, например, отделяла «Мёртвые души» от лучшего из литературных произведений, написанных на Руси после поэмы Гоголя. Ни один из русских писателей, самых знаменитейших, не начинал своего поприща так, как Островский его начал».
Таким образом, имя Островского сразу было поставлено в один ряд с именами Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. И хотя молодой драматург следовал определенным традициям своих предшественников, его «Банкрут» явно отличался «лица необщим выраженьем». И дело не только в том, что «Колумб Замоскворечья» открыл для русской литературы ещё мало тогда освоенную ею купеческую среду. Своеобразие художественного мира драматургии Островского заключается, прежде всего, в его особой поэтической тональности. Менее всего перед нами драматург-комедиограф, более всего драматург-поэт, исследователь и певец русского национального характера. Самые разнообразные национальные типы населяют пьесы Островского, на протяжении всего творческого пути его занимали хитросплетения их судеб, стихийные и тщательно спланированные поступки, подчас непредсказуемые извивы их психологии. С пьесы «Свои люди – сочтёмся!» и ведет свое начало театр Островского. Уже в этой первой пьесе молодого драматурга критика справедливо усмотрела не просто интригу, построенную на обмане купца старой формации преуспевшим «нуворишем», а отзвуки и отсветы вечного шекспировского сюжета о предательстве отца вероломными дочерьми. «Купеческим королем Лиром» первым назвал Самсона Силыча Большова московский критик Н.П. Некрасов в 1859 г. Современные исследователи также отмечают весьма характерную особенность творческой манеры Островского – «его склонность обыгрывать, переосмыслять – а часто и комически снижать известный литературный сюжет или какой-то важный, серьезный мотив предшествующей литературы».
Поэтический дар Островского не только связывает сюжеты его пьес с вечными сюжетами мировой литературы, но и диктует драматургу свои собственные, прежде всего отличные от гоголевских, композиционные законы, по которым строятся его драмы. В отличие от создателя стремительной завязки «Ревизора», Островский отдает явное предпочтение неспешной, развернутой экспозиции, чтобы зритель или читатель постепенно погружались в мир пьесы, прочувствовали настроения героев и сложившиеся между ними отношения, ощутили, наконец, своеобразную мелодику их московского купеческого говора.
В комедии «Свои люди – сочтёмся!» в полном согласии с названием пьесы открывается мир «своих» людей, ибо все его обитатели живут по одним и тем же, общим для всех, нравственным и житейским установлениям. Стать в этом мире в полном смысле слова «своим», т. е. равным, можно только при наличии денег, семьи и соблюдении законов по-особому понимаемой, но все же традиционно именуемой христианской, веры. Каждый из героев комедии проходит путь обретения этих трех основ, на которых от века строится жизнь «своих» людей. Примечательно, что автор показывает героев на разных ступенях этой своеобразной купеческой лестницы.
Например, мальчик Тишка – слуга в доме Большова находится ещё только в самом начале пути, на первой ступеньке: подбирает забытые целковые, копит чаевые за выполнение разных полусекретных поручений, выигрывает в стуколку свои гроши. Таким же был путь в «свои» люди и хозяина дома, торговавшего когда-то пирожками с лотка. И хотя Тишка лишь в начале «Большова пути», есть уверенность, что он этот путь осилит.
Свой путь на вершину лестницы совершает на глазах у зрителя приказчик Подхалюзин. Сначала он попросту поворовывает хозяйские денежки; затем, заслужив доверие Большова, становится его первым помощником в афере с банкротством:. Обретает Подхалюзин и вполне благопристойное семейное счастье – получает руку хозяйской дочери Липочки. Что касается веры, то и здесь у Подхалюзина всё в порядке. Беззастенчиво обманувший своего хозяина приказчик грешником себя отнюдь не считает, заявляя, что «против хорошего человека у всякого совесть есть, а коли он сам других обманывает, так какая же тут совесть!»
Вообще, как отмечает Т.В. Москвина, «Свои люди – сочтемся!» – пьеса, рекордная по числу упоминаний Бога, Христа, христианства. Бог упоминается 69 раз. (Для сравнения: «Бедность не порок» – 16, «Гроза» – 45, «Снегурочка» – 18, «Без вины виноватые» – 20). Понятия, царящие в доме Большова относительно христианства, вполне проясняются репликой Фоминищны, осуждающей некоего благородного жениха:«… христианства-то никакого нет: ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печёт». Чуть больше знает Аграфена Кондратьевна: «…по христианскому закону всякого накормить следует», но и в этой фразе Христос как-то неумолимо привязан к пище.
Христианство, совмещенное с баней и пирогами, удобно разместилось в прочном отлаженном быте, где на вопрос, как жизнь, непременно отвечают: «Слава Создателю!» Поэтому напрасно униженный и обворованный тестем и дочерью Большов взывает: «Знаешь, Лазарь, Иуда – ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем… А что ему за это было?» Осознание неправедности прожитой жизни сорвавшегося с самой вершины лестницы «своих» людей Большова, безусловно, вызывает определённое сочувствие у читателя и зрителя. Однако ответ на вопрос, им заданный: «Что за это будет Лазарю Подхалюзину?» – в пьесе вполне очевиден: с течением времени явится новый молодой, сильный хищник – тот же Тишка – и история «своих» людей повторится.
В «Банкруте», безусловно, нет героя, который был бы способен разорвать порочный круг «своих» людей, попытаться построить жизнь на иных нравственных началах. Затем в пьесах Островского такие герои будут появляться с завидным постоянством: правда, не столько герои (пожалуй, наиболее яркой фигурой будет Жадов из «Доходного места»), сколько героини.
Здесь необходимо отметить совершенно особую роль женских образов в пьесах Островского. Будучи национальным русским драматургом, как никто чувствуя специфику национального сознания и исторического развития, он, безусловно, понимал, сколь важная роль испокон веку принадлежит в русском обществе и русской истории женщинам. Не случайно женские образы являются центральными в большинстве пьес драматурга. Любаша («Бедность не порок»), Параша («Горячее сердце»), Катерина («Гроза»), Аксюша («Лес»), Лариса Огудалова («Бесприданница»), Снегурочка и Купава («Снегурочка»), Юлия Тугина («Последняя жертва»), Негина («Таланты и поклонники»), Отрадина («Без вины виноватые») – любимые героини Островского, самые поэтичные образы, рождённые его творческой фантазией и наблюдениями над русской действительностью. А рядом с ними – не столь светлые, но не менее самобытные и яркие женские характеры, сильные и властные натуры: Липочка («Свои люди – сочтёмся!»), Кабаниха («Гроза»), Мамаева (На всякого мудреца довольно простоты»), Глафира («Волки и овцы»), Гурмыжская («Лес»),
В свое время Ю. Тынянов остроумно заметил, что комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», по существу, «о власти женщин в мужском обществе». Перечисленные выше героини Островского и из первого, и из второго ряда очень хорошо знают цену этому «мужскому обществу». Героини с «горячим сердцем» не встречают здесь мужчин, достойных их романтически-возвышенных чувств и устремлений. Натуры же хитрые и властные стремятся утвердить своё преимущество всеми доступными им способами, и, как правило, это им вполне удаётся. Однако и тем, кто страдает от мужского безволия, и тем, кто безволие умело использует, одинаково не на кого опереться в российском «мужском обществе» со всеми его «Домостроями».
Следующий период творчества драматурга исследователи традиционно называют «московитянским» периодом. Однако, говоря о творческом пути Островского, современные исследователи отмечают прежде всего его удивительную цельность и гармоничность: «После «Банкрота» он сразу предстал автором, совершенно сложившимся, чем и удивил современников. И нет, по сути, «московитянского» Островского и Островского «Современника» и «Отечественных записок». <…> Внутри мира Островского идет своя борьба и движение. <…> Но самый мир и мировоззрение Островского предстают эпически выверенными и целостными практически с самого начала».
В «московитянский» период (1850-е годы) Островский создает целый цикл пьес, где действие также сосредоточено в мире «своих» людей, есть «свои» старшие и младшие – и по возрасту, и по положению, «свои» тираны и жертвы, «свои» насмешники и поэты. «Бедность не порок», «Воспитанница», «Доходное место», «Не в свои сани не садись», «В чужом пиру похмелье», «Не так живи, как хочется» и др. давно и прочно вошли в репертуар русского театра. Но, пожалуй, по сей день среди пьес этого периода особой любовью читателей, зрителей, режиссеров, актеров пользуется бальзаминовская трилогия, открывшаяся в 1857 г. пьесой «Праздничный сон – до обеда» и завершённая в 1861 г. комедиями «Свои собаки грызутся – чужая не приставай!» и «За чем пойдёшь, то и найдёшь, или Женитьба Бальзаминова».
Эта трилогия заслуживает особого внимания хотя бы уже потому, что являет собой единственный в творчестве Островского пример «пьесы с продолжением», со сквозным героем, к судьбе которого, однажды обратившись, драматург счёл необходимым вернуться и сделал это, по всему видно, с удовольствием. Он действительно обаятелен – этот Миша Бальзаминов, эдакая вариация сказочного Иванушки-дурачка с цветочной фамилией. И если до Островского в русской драматургии был вариант «горя от ума», то с появлением Бальзаминова родился вариант «счастья от глупости». Однако как у Грибоедова с выяснением того, что собственно есть «ум», все решалось не совсем однозначно, то и с «глупостью» Бальзаминова дело обстоит тоже не просто.
Как и герой русских сказок, Миша Бальзаминов самозабвенно и наивно отправляется на поиски невесты, а, по существу, на поиски счастья, стремится к осуществлению сказочной мечты о земном рае, который ведь может оказаться и совсем рядом, например, в Китай-городе, явившемся вдруг во сне Бальзаминовой-матушке. Видимо, детскую веру героя в то, что счастье рядом, стоит только выйти за ворота, можно счесть и глупостью, однако делать такой вывод совсем не хочется. Ведь в трилогии Островского не «дуракам везет» – удача здесь улыбается герою наивному, простодушному, безобидному, никому не желающему зла, а, напротив, мечтающему осчастливить всех бедных и невезучих, издать такой указ, по которому богатый должен жениться на бедной (вот тогда и наступит по Москве да и по всей Руси благолепие и благоденствие).
Как и подобает сказочному герою, Миша трижды испытывает судьбу (или, может статься, судьба испытывает его) и обретает наконец то счастье, которого искал – богатую невесту – вдову Белотелову, опять же в полном согласии с названием последней части «бальзаминовской» трилогии: «За чем пойдёшь – то и найдёшь». Собственно, весь гармонично-поэтический мир драматургии Островского и строится именно по этому закону: здесь каждый получает – и победитель, и неудачник – именно то, чего заслуживает.
Произведением, венчающим дореформенный период творчества драматурга, справедливо считается драма «Гроза» (1859). Автор вновь показывает мир «своих» людей – патриархальный мир провинциального Калинова, тесный круг его обитателей с давно и строго закреплённым за каждым положением: самовластная Кабанова, самодур Дикой, самовольные Кудряш и Варвара, самоучка Кулигин. И жизнь в Калинове течет сама по себе, по своим собственным законам. Может быть, и есть где-то, если верить страннице Феклуше, «суетный» город Москва, где «бегает народ взад да вперед неизвестно зачем». Есть и вовсе такие страны, «где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят». Только про такие места что и говорить: «У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а но ихнему всё напротив». И ничто и никто, казалось бы, не в состоянии нарушить мерное течение «праведной» калиновской жизни. Однако именно здесь и разразилась настоящая гроза. В строго очерченный круг «своих* людей попадает неведомо откуда странная, ни на кого не похожая Катерина.
Здесь прямо-таки напрашивается параллель с «весенней сказкой» Островского «Снегурочка», которая будет написана позже, в 1873 г. На первый взгляд может показаться, что между калиновским миром и царством берендеев нет ничего общего. Берендеи близки к природе, не знают зла и обмана, как не знает его сама природа. Но ведь и Калинов стоит на красивейшем волжском берегу, на который пятьдесят лет каждый день будешь глядеть и не наглядишься. Калиновцы, как и берендеи, твердо убеждены, что живут они в обетованной земле: «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить!» И только когда в этот мир пытается войти существо иной природы – тогда и открывается его несовершенство, тогда и случается гроза.
Тот факт, что главная героиня «весенней сказки» – Снегурочка – есть существо иной, отличной от человеческой природы, не требует доказательств и предопределено самим сказочным сюжетом. Но в «Грозе» с первого появления Катерины драматург всячески подчеркивает её особость – инакомыслие, инакостремление, инакодействие. Катерина попала в Калинов из родительского дома, который, по её рассказам, больше похож на рай – иной, неземной мир: «Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдём с маменькой в церковь, все и странницы – у нас полон дом был странниц да богомолок. А придём из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!» Не случайно этот мир героини, в отличие от Калинова, не имеет у Островского никакого наименования. Где он располагался – на земле или на небе? О «небесной» природе Катерины напоминает и странно-недоуменное для земного человека восклицание: «Отчего люди не летают!» И само имя её – «вечно чистая», и её сохранившаяся, быть может, от «небесного прошлого» способность слышать «голоса» иного мира: «А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют».
Как и Снегурочка, Катерина – существо, возжаждавшее земного счастья, земной любви. И в этом случае и для той, и для другой героини возможны лишь два пути: первый – утратить свою особость, стать вполне земным созданием, довольствоваться тайными встречами с избранником, как довольствуется ими Варвара; а второй – покинуть этот земной мир, но сохранить свою неземную природу. Поначалу обе героини пытаются следовать первому пути, но такой выбор ломает самую их душу. Появление Снегурочки раз и навсегда нарушает гармонию царства берендеев, появление Катерины – прочный, казалось бы, уклад жизни города Калинова.
Важно также отметить, что для Катерины, как ни странно, не имеет принципиального значения, кто именно является её избранником. Конечно, выбор её нельзя назвать случайным: Борис, как и сама героиня, не принадлежит вполне калиновскому миру – он здесь недолгий гость, он всё же отличен от местных обитателей – и Тихона, и того же Кудряша. Однако (и этот факт неоднократно отмечался исследователями) драматург не стал углублять его характер, он явно не слишком занимает автора. Интереснее Островскому само чувство Катерины, то, как земная любовь меняет её состояние, мироощущение и в конце концов приводит к гибели.
Свою любовь к Борису Катерина изначально осознает как чувство сильное, затягивающее в омут, влекущее, но греховное. Для неё следование этому чувству – безусловный путь вниз, явное «приземление» её ангельской природы. «Люблю я очень с детьми разговаривать – ангелы ведь это, – размышляет Катерина перед появлением Варвары с заветным ключом от калитки. – Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка». Поэтому первый порыв героини – бросить ключ от калитки в реку, вниз, куда в финале пьесы бросится она сама. Земная любовь, проникая в подсознание героини, меняет даже природу её снов. Сама она в начале пьесы рассказывает Варваре о том, какие сны видела она в родительском доме: «Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху». А затем с грустью признается: «И теперь иногда снится, да редко, да и не то. […] Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шёпот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведёт меня куда-то, и я иду за ним, иду…»
Не в райский сад из детских снов, а в глухие, путаные «сады земных наслаждений» приводит Катерину ее страсть. Поэтому гневом свыше, гневом небесным представляется героине разразившаяся над Калиновым и над ней гроза. И если Снегурочка, так и не познавшая земных страстей, легким облачком возносится ввысь, то Катерине суждено броситься вниз с высокого волжского обрыва и, может быть, стать русалкой, как, по народным поверьям, и происходит с наложившими на себя руки молодыми девушками.
Одной из отличительных особенностей дарования Островского всегда было соседство и переплетение высокого лиризма и яркой комедийности, что определяет логику его творческого пути и в пореформенный период. В 1860-е годы он обращается к исторической драме, разделяя общий интерес русской культуры этого периода к прошлому (исторические хроники «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», 1862; «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», 1867; «Тушино», 1867; историко-бытовые комедии «Воевода», 1865; «Комик XVII столетия», 1873; психологическая драма «Василиса Мелентъева», написанная в соавторстве с С.А. Гедеоновым, 1868). Однако рядом с пьесами, обращающимися к Смутному времени в истории России, в 1860—1870-е годы из-под пера Островского появляются яркие сатирические комедии: «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Бешеные деньги» (1870), «Лег.» (1871), «Волки и овцы» (1875) Эти пьесы, считает А.И. Журавлева, объединяет то, что «они остросовременны по материалу и полны злободневных намеков, в них сложная, богато разработанная фабула, часто включающая авантюрные моменты, их отличает смелое обращение к условности, художественная гиперболизация, использование традиционных приемов театральной техники (амплуа, техника ведения интриги, использование элементов водевильного комизма)».
Противопоставление «ума» и «простоты» – тема, по-сказочному ярко прозвучавшая в бальзаминовском цикле, оборачивается в комедии «На всякого мудреца довольно простоты» отнюдь не сказочной, а довольно неприглядной житейской стороной. Егор Дмитрия Глумов, как и многие герои комедий Островского, начинает путь в «свои» люди – к высокому общественному положению и к деньгам. Он, безусловно, энергичен, «остёр, умён, красноречив», но в отличие от грибоедовского героя, еще и, по его собственному признанию, «зол и завистлив». Не в пример Чацкому он не желает тратить свои силы и способности на обличение или осмеяние глупых людей: «Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеры не составишь – карьеру составляют и дело делают в Петербурге, а здесь только говорят. Но и здесь можно добиться теплого места и богатой невесты – с меня и довольно. Чем в люди выходят? Не всё делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. И чтоб в этой обширной говорильне я не имел успеха! Не может быть! Я сумею подделаться и к тузам и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать – им надо льстить грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха».
Используя найденную формулу успеха, действуя энергично, решительно и даже не слишком тонко, Глумов идет к заветной цели буквально семимильными шагами. Грубо льстит богатому дядюшке Нилу Федосеичу Мамаеву, ухаживает за его женой – стареющей светской львицей Клеопатрой Львовной, с одинаковым успехом и мастерством пишет «серьезный прожект» консервативного толка для Крутицкого и статьи в либеральном духе для Городулина. Прислуживаться Глумову, хоть, может быть, поначалу и тошно, но необходимо. И вот уже ум, талант, острое перо – все пускает Егор Дмитрич на продажу. Благо, что покупатели находятся, оказывают ему покровительство и даже подходящая невеста для московского Растиньяка уже найдена. В финале комедии в столь удачно складывающуюся судьбу Глумова вмешивается досадная случайность: Клеопатре Львовне Мамаевой попадается на глаза его заветный дневник, «летопись людской пошлости», куда герой сбрасывает «всю желчь, которая будет накипать в душе». В последней сцене комедии раздосадованный Глумов бросает в лицо собравшимся покровителям язвительные насмешки, но этот поступок отнюдь не становится крахом его блестяще начатой карьеры. Дело в том, что Глумов уже признан «своим», т. е. лишенным прекраснодушных иллюзий, практичным и циничным скептиком, готовым ради денег и чина на любую подлость, на любой обман. Поэтому «свои люди» и «прощают» главного героя:
«Крутицкий. А ведь он все-таки, господа, что ни говори, деловой человек. Наказать его надо; но, я полагаю, через несколько времени можно его опять приласкать.
Городулин. Непременно.
Мамаев. Я согласен.
Мамаева. Уж это я возьму на себя».
Таким образом, у читателя и зрителя не остается сомнений, что «деловой» человек Егор Глумов прочно и основательно закрепился в мире таких же «деловых» людей. Все эти Мамаевы, Городулины и Крутицкие не глупее главного героя и отлично понимают, что нет таких обид, которые нельзя забыть ради выгоды, памятуя известное фамусовское: «Ну как не порадеть родному человечку!» Круговая порука «своих» всегда оказывается сильнее чьей-то задетой гордости или чувства собственного достоинства.
Комедиантский дар помог Егору Глумову добиться успеха в мире «своих» людей. В пьесе «Лес» на «актеров» и «комедиантов» разделяет действующих лиц один из ее главных героев – провинциальный трагик Геннадий Несчастливцев. Покидая усадьбу Гурмыжской, он гордо отвечает на презрительную реплику хозяйки: «Комедианты? Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты – вы. Мы коли любим, так ссоримся или дерёмся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы». Действительно, в пьесе «Лес» прежде всего актеры – Геннадий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев – выпадают из мира «своих» людей с его волчьими, «лесными» законами.
«Ведь мы к сценическому искусству едва ли не самый способнейший в мире народ», ~ писал Островский. Создатель русского национального театра просто не мог не обратить внимания на судьбу русского актерства, которому и суждено было воплощать на сцене созданные им образы. Пьесы «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые» – яркое свидетельство авторского интереса и сочувствия горестной судьбе русского провинциального актёра. С неизменным состраданием, но и с определенной долей иронии подходит драматург к созданию актёрских характеров во всех своих произведениях. И «Лес» не является здесь исключением.
И Несчастливцев, и Счастливцев уже при первом появлении в комедии раскрываются перед нами как личности многогранные. Автор замечает, что у Аркашки Счастливцева на плече «узел в цветном платке», а в этом узле, как выясняется, «библиотека» из «тридцати пьес с нотами». «И всё это ты стяжал?» – со свойственной ему высокопарностью вопрошает приятеля Несчастливцев. «И за грех не считаю, – парирует Аркашка, – жалованье задерживают». Здесь примечательно всё: и сам факт воровства, и то, что именно стяжал бедный актёр, и то, почему он это сделал. Всего несколькими репликами, несколькими штрихами Островский мастерски создает характер и судьбу своего незадачливого героя: конечно, Счастливцев нечист на руку, может украсть «во спасение», но, с другой стороны, украденные пьесы представляют для актера не материальный, а профессиональный интерес. В комментариях к собранию сочинений Островского
В.Я. Лакшин отмечает: «Аркашка: битый, униженный, насквозь земной, привыкший ценить мирские блага вплоть до жалкого прихлебательства и всё же сохранивший в этом своём ничтожестве обаяние простоты и здравого смысла, а к тому же еще и какой-то актёрский кодекс чести». Сюда нужно добавить: и искрометный юмор. Часто отвечает он на реплики Несчастливцева шуткой, иногда пустяковой и легковесной, а иногда и с горьким подтекстом.
Для Счастливцева сцена и жизнь – вещи несовместимые. Он практически не играет в жизни, разве только каламбурит по многолетней своей привычке к комизму. Иное дело – Несчастливцев, в котором человек и актёр неразделимы: иногда он пускается на сознательную игру, представляясь в поместье Гурмыжской богатым полковником, а чаще играет почти бессознательно, как бы забывая, что он не на сцене, что он не герой Шекспира или Шиллера, а только бедный провинциальный трагик. Именно он приносит с собой в этот «лес» для «своих» людей всё богатство высоких романтических драм, роли в которых стали для него непроизвольным выражением собственной человеческой сущности и отношения к жизни. Эстетика театра, которому он служит, определена в пьесе самим Несчастливцевым: «Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли ты, Аркашка, какую актрису мне нужно? Душа мне, братец, нужна, жизнь, огонь… Бросится женщина в омут головой от любви – вот актриса. Да чтоб я сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута, тогда поверю».
Исследователи творчества Островского неоднократно отмечали, что для поэтики «Леса» чрезвычайно существенны литературные переклички и ассоциации. Но, пожалуй, самое большое количество таких ассоциаций вызывает именно сцена встречи Счастливцева и Несчастливцева. Парность двух героев, двух сценических амплуа – комика и трагика – существует, наверное, столько, сколько существует театр, начиная с комедии дель арте. Сам Счастливцев называет себя Сганарелем, сразу вызывая в памяти читателя мольеровские комедии. И, наконец, уже в современной Островскому критике было отмечено сближение Несчастливцева и Счастливцева со знаменитыми героями «Дон Кихота». Параллели между актерами из «Леса» и персонажами романа Сервантеса проводил, как известно, и В.Э. Мейерхольд.
«В этом актере есть что-то рыцарское, донкихотское, – комментирует В.Я. Лакшин. – Его возвышенная риторика иной раз смешна, театральна, а поступки порой напоминают бой с ветряными мельницами – пусть! Зато чистота, благородство его побуждений ставят его на высокий человеческий пьедестал. […] И конечно, как пересмешничающая тень, как комические обертоны трагического баса, как Санчо Панса при своем Дон Кихоте, вьется рядом с ним Ар кашка».
Литературоведы, анализируя композицию «Леса», не раз отмечали, что во второе действие Островский выделил всего лишь две сцены: объяснение Петра и Аксюши и встречу Счастливцева и Несчастливцева, тем самым подчеркивая особую значимость этих двух явлений. И действительно, без этой встречи художественное пространство пьесы как бы сузилось, ограничилось бы рамками усадьбы. Но автор превращает его поистине в пространство всероссийское; «От Вологды до Керчи и от Керчи до Вологды». Бродячая актёрская каста в лице Аркашки и Геннадия Демьяныча, исходившая Россию вдоль и поперек, необходима здесь Островскому, потому что эти скитальцы – люди с собственными нравственными принципами, которые никак не согласуются с принципами «своих» людей. Они видят ценность не в деньгах и вещах. Для них устроенность, сытость, покой невозможны, о чем свидетельствует рассказ Счастливцева о недолгом его житье-бытье у родных. Артистизм их натур вечно требует новых впечатлений, сильных чувств, забавных и печальных приключений.
Поэтому именно актеры, придя в усадьбу Пеньки, становятся главными действующими лицами «Леса». Несчатливцеву суждено здесь спасти несчастных влюбленных, произнести в финале свой самый лучший в жизни монолог и восторжествовать с помощью своего высокого искусства над жалким житейским комедиантством гурмыжских и булановых, над «миром сов и филинов», над миром, где «всё в порядке».
«Этой пьесой начинается новый сорт моих произведений», – писал Островский о созданной им в 1879 г. драме «Бесприданница». Действительно, последний период творчества драматурга связан прежде всего с формированием нового для русского театра жанра психологической драмы. От психологических пьес предшествующего периода, среди которых, безусловно, необходимо отметить пьесу «Пучина» (1866), жанр которой самим автором был определён как «сцены из московской жизни», Островский пришёл к созданию таких шедевров, как «Бесприданница», «Последняя жертва» (1878), «Таланты и поклонники» (1882), «Без вины виноватые» (1884).
От произведений Островского этого периода уже виден переход к поэтике Чехова. Великий мастер предвосхищал многие позднейшие открытия русского и мирового театра, размышляя о будущем развитии драмы: «Многие условные правила исчезли, исчезнут и еще некоторые. Теперь драматические произведения есть не что иное, как драматизированная жизнь». Нельзя не увидеть в этих словах прямую перекличку с известным чеховским высказыванием: «Требуют, чтобы были герой, героиня, сценические эффекты. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене… Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни».
Не случайно, видимо, именно поздние пьесы Островского оказались столь востребованы современным театром. Особенно актуальной, созвучной нынешнему времени стала «Последняя жертва»: в разных вариантах, иногда под разными наименованиями эта пьеса идет одновременно в пяти столичных театрах. Причины такого всплеска популярности вполне объяснимы: это мастерски выстроенная интрига, глубокая разработка характеров, яркая сценичность и, конечно же, проблематика, вновь ставшая остро актуальной.
Герои поздних драм Островского воспринимают жизнь как торг, игру, лотерею. Здесь главные героини не столько противопоставлены своему окружению, сколько являются его частью, живут по тем же самым безжалостным законам. Ни Ларису Огудалову, ни Юлию– Тугину, ни даже Негину уже нельзя назвать, как Катерину, существами иной природы – они плоть от плоти этого мира, где всё покупается и всё продается. Ни одна из героинь не может гордо сказать: «Я в торги не вступаю!» Каждая из них по-своему участвует в жизненной лотерее, где, если повезет, можно выиграть состояние, положение, беспечное существование. Только любовь здесь выиграть нельзя, в особенности, если ты бесприданница. Вспомним, с каким негодованием упрекает героиня «Последней жертвы» Ирина Львовна, промотавшегося Дульчина в том, что тот посмел претендовать на её «африканскую страсть». «Страсть», как и красота, и талант в этом мире тоже своих денег стоят. Даже яркая, незаурядная женщина, как понимает Лариса Огудалова, превращается здесь в дорогую вещь. Кнуров и Вожеватов в «Бесприданнице» разыгрывают эту вещь в орлянку, а в «Последней жертве» Флор Федулыч Прибытков – тоже удачливый коммерсант, ловко управляющийся с любыми делами, в том числе и любовными, – расчетливо и спокойно ссужает деньгами несчастную Юлию Тугину, наперёд зная: как только молодую женщину бросит в пух и прах проигравшийся любовник, она будет вынуждена принять его предложение и выйти замуж.
Пьесы «Последняя жертва», «Таланты и поклонники» завершаются, как это и прежде бывало у Островского, «милосердными» финалами. Исключение составляет лишь «Бесприданница», завершающаяся гибелью главной героини. Внешне вполне благополучно устраивают свою судьбу Негина, Юлия Тугина и тот же Дульчин. Но какой грустью веет от этого благополучия, как много потеряно героями в погоне за столь примитивно понятым счастьем…
В наши дни великий русский драматург вновь оказался самым современным и самым репертуарным автором. «Только при сценическом исполнении драматический вымысел автора получает вполне доконченную форму и производит то моральное действие, достижение которого автор поставил себе целью», – писал Островский. Основой его творчества всегда оставался серьезный нравственный стержень, позволяющий ему отличать дурное от хорошего, правду от лжи, маску от сути и называть вещи своими именами. Однако огромный нравственный потенциал драматургических произведений Островского никогда не перегружал пьесы дидактикой. Драматург не столько судит, сколько стремится понять и сохранить для своих героев надежду на духовное прозрение, движение души в сторону добра. С полным правом А.Н. Островский мог бы повторить пушкинские строки: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…» Добро, любовь, вечная человеческая надежда на счастье звучат в каждой из более чем сорока написанных драматургом пьес. Творчество А.Н. Островского – одновременно основа и вершина русской драмы, в них есть опора на незыблемые традиции и вечное стремление к обновлению, неоспоримые духовные ценности и всегда современное их звучание.
Литература
Лотман Л.М. А.Н. Островский и драматургия его времени. М.; Л., 1961.
Холодов Е.Г. Драматург на все времена. М., 1973.
Штейн АЛ. Мастер русской драмы. М., 1973.
Лакшин В.Я. Александр Николаевич Островский. М., 1976.
Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. М., 1974.
Журавлева А.И. А.Н. Островский – комедиограф. М., 1981.
Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Театр А.Н. Островского. М., 1986.
Лакшин В.Я. Театр Островского. М., 1986.

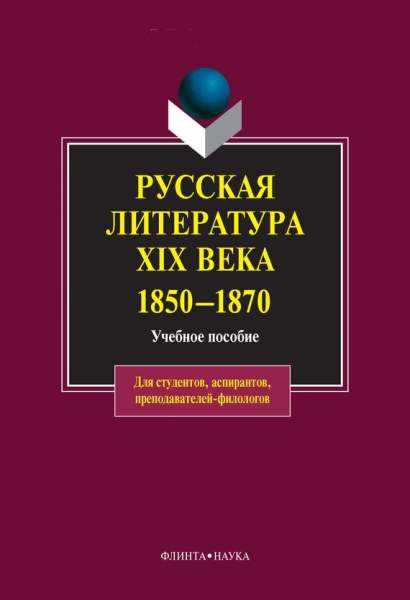
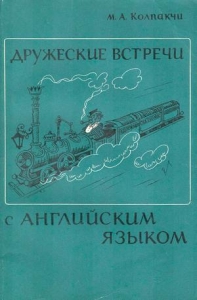



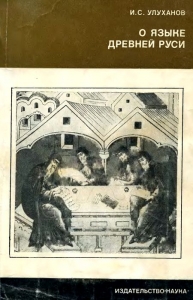
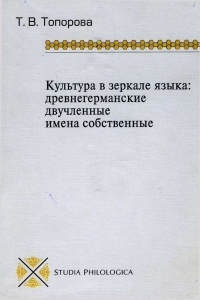
Комментарии к книге «Русская литература XIX века. 1850-1870: учебное пособие», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев