Сергей Иванович Романовский Великие геологические открытия (Издание 2-е, перераб. и дополн.)
От редактора
Со дня выхода первого издания этой книги (рецензенты д-р геол.-минер. наук А.И. Айнемер и академик РАН Д.В. Рундквист) прошло восемь лет. Писалась же она, на что указывает автор в своем «Вводном слове», вообще более 10 лет назад.
В чем же отличие нынешнего издания от уже опубликованной книги?
Первое издание вышло в серии «Очерки по истории геологических знаний», что не могло не сказаться и на тексте, да и на форме подачи материала. Кроме того, в этом издании из текста сознательно убрана «политика», которая в 1988 – 1989 годах была воздухом, которым мы все дышали. Надышались, слава богу! Наконец, во втором издании автор существенно переработал страницы, касающиеся оценки вклада М.В. Ломоносова в русскую науку, в частности в геологию. Внесены также значительные коррективы в историю создания биосферной концепции В.И. Вернадского.
Мне, как директору ВСЕГЕИ, приятно сознавать, что в институте не утрачен вкус к написанию классической геологической литературы. Наряду с фундаментальными работами, над которыми с успехом трудится коллектив института, продолжают выходить книги научно-популярные, да и научно-биографические (я имею в виду переиздание научной биографии академика А.П. Карпинского, имя которого носит наш институт. Над ней также работает С.И. Романовский).
И в заключение хочется отметить еще одно несомненное достоинство предлагаемой книги. Она написана одним из лучших знатоков истории геологической науки, к тому же написана доступно, простым, хорошим русским языком, на что несомненно обратит внимание читатель.
О.В. Петров
Январь, 2004 г.
Предисловие ко второму изданию
Со дня выхода первого издания этой книги прошло семь лет. Писалась же она вообще более 10 лет назад. Воды с тех пор утекло много, а главное – книги той уже давно нет. Она быстро разошлась, получила хорошую «прессу» и пришло время познакомить читателя с ее новой версией.
В чем ее отличие от уже опубликованной книги?
Во-первых, первое издание книги вышло в серии «Очерки по истории геологических знаний», что не могло не сказаться и на тексте, да и на форме подачи материала. Книга, хотя и задумывалась как научно-популярная, была оформлена по строгим канонам монографических изданий. Теперь же, как нас учили, мы постараемся добиться единства формы и содержания книги. Одним из элементов подобного единства станут графические иллюстрации, отсутствовавшие в первом издании. Они сделают предельно наглядными описываемые идеи.
Во-вторых, из текста сознательно убрана «политика», которая в 1988 – 1989 годах была воздухом, которым мы все дышали. Надышались, слава Богу!
В-третьих, существенно переработаны страницы, касающиеся оценки вклада М.В. Ломоносова в русскую науку, в частности в геологию. Также автор внес значительные коррективы в историю создания биосферной концепции В.И. Вернадского.
Хочется поблагодарить дирекцию ВСЕГЕИ за финансовую поддержку переиздания «Великих геологических открытий».
И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим… [1] Книга Екклесиаста, 1Вводное слово
В 1985 г. издательство «Мир» опубликовало книгу «Великие геологические споры». Ее автор, английский профессор Энтони Хэллем, был хорошо известен русскому читателю – разные издательства уже печатали в свое время его книги по юрскому периоду, цикличности осадконакопления, фациальному анализу геологических разрезов.
«Великие геологические споры» я прочел взахлеб, что называется на одном дыхании, хотя книгу Хэллема научно-популярной (в нашем понимании) назвать трудно. И все же, повторяю, читалась она как увлекательный историко-научный детектив. К тому же в ней прямо-таки светилась раскованная мысль автора.
Эта небольшая по объему книжка не на одного меня произвела сильное впечатление. В ряде специализированных книжных магазинов Ленинграда читатели оставили заявку-пожелание – увидеть поскорее книгу под названием «Великие геологические открытия», т.е. своеобразный парафраз на тему Хэллема. В науке споры и открытия неразъемны, как сиамские близнецы. Я был приятно удивлен, когда это пожелание читателей было переадресовано мне.
Признаюсь: я давно интересуюсь как раз теми геологическими вопросами, которые и можно без всякой натяжки трактовать как великие геологические открытия. По многим из них уже неоднократно писал собственные статьи и очерки. Поэтому предложение написать научно-популярную книгу на тему основополагающих завоеваний геологической мысли сразу и с большим удовольствием принял. Через год две объемистые папки с подобранным мною материалом к такой книге лежали на столе, и я с нетерпением ждал результатов прохождения заявки по ступеням книгоиздательской бюрократической лестницы.
В период вынужденного ожидания неоднократно менялись план и композиционная структура книги, добавлялся новый и браковался старый материал. Наконец в 1990 г. выкристаллизовался именно тот вариант книги, который и отдаю на суд читателя.
Поэт Петр Андреевич Вяземский (1792-1878) заметил как-то, что так же как художнику нелепо подбирать сюжет картины, ориентируясь только на размер имеющейся у него рамы, так и недопустимо «писать историю», угодную официальной сегодня точке зрения на этот предмет. А только так творились у нас и собственно историческая наука, и история естественных наук, и, конечно же, история науки геологической. Значит, и официальный взгляд на то, что мы называем в этой книге «великими геологическими открытиями», был, разумеется, односторонним.
Время написания книги (1989-1990 гг.) совпало с годами активной перестройки в жизни нашего общества. Это читатель должен почувствовать. По крайней мере, автор надеется, что избавление от идеологических шор и ложнопатриотических пут даст возможность непредвзято описать сложный многовековой путь покорения высот геологической науки, не пытаясь втиснуть его в заранее подготовленную ограничительную раму.
Наконец, традиционное: бóльшую часть портретов, публикуемых в книге, я получил в Секторе истории геологии, находившимся до марта 1991 г. в Геологическом институте АН СССР [1], за что выражаю искреннюю признательность его заведующему Юрию Яковлевичу Соловьеву.
Кроме того, рукопись прочли и сделали много полезных замечаний И.И. Абрамович, А.И. Айнемер, Ю.Р. Беккер, Л.И. Красный, А.В. Лапо, Н.В. Межеловский, Б.М. Михайлов, Е.В. Плющев, Д.В. Рундквист.
Хочу отдать должное высокому профессионализму и таланту Людмилы Григорьевны Ермолаевой – литературного редактора СПб отделения издательства «Недра».
Наконец, особая роль в издании этой книги – Татьяны Михайловны Барабановой. Она, несмотря на тяготы сегодняшнего времени, взяла на себя основную заботу: довести рукопись до читателя.
Всем – большое спасибо!
Февраль 1995 г.
Об открытиях, а также немного о психологии и истории Порассуждаем
О геологии
Геология – наука молодая, несмотря на то что полезные ископаемые человечество добывает уже многие тысячелетия. Однако самостоятельной наукой она стала только тогда, когда были сформулированы ее первые принципы и обобщения, когда были открыты первые собственно геологические законы. Случилось это всего три столетия тому назад. Именно тогда люди, искавшие руду (в России их называли «рудознатцами»), стали обращать внимание не только на свойства горных пород, но и задумываться над тем, как и когда эти породы могли образоваться; почему в одних случаях они слагают целые пласты, тянущиеся на сотни километров, в других – залегают в виде толстой лепешки, как бы выброшенной на Землю из гигантской сковороды, в-третьих – торчат, как частокол, ограждающий владения рачительного хозяина.
Одним словом, пращуры наши стали вопрошать Природу. Она, разумеется, молчала до поры, зато предоставляла неограниченную возможность наблюдать, изучать, сопоставлять.
Геология – наука безумно сложная. Пожалуй, самая сложная из всех наук так называемого естественного цикла. Если непосвященному человеку не просто показать любую из гор, но и рассказать о том, как она устроена, то первой его реакцией наверняка будет недоумение: как могло случиться, что на пространстве всего в несколько сот квадратных километров на разных высотах от уровня моря залегают горные породы, образовавшиеся и миллиард, и миллион, и даже «какую-нибудь» тысячу лет назад; они смяты в складки, раздроблены, прорезаны ущельями. Такое впечатление, что Творец, прогневавшись на что-то, взял да и высыпал все это в беспорядке на грешную Землю. А теперь разбирайтесь: когда это случилось, почему и как? Геологи и пытаются разобраться. Пока получается не то чтобы очень, но все же они кое-что уже разгадали.
Твердо поняли главное: основная сложность, препятствующая установлению истины, – это время. Оно столь длительно (несколько миллиардов лет), что становится чуть ли не материальной субстанцией, носителем некоей собственно геологической сущности (хотя, признаюсь, что не люблю это слово – «сущность»). Меня всегда учили, что любое явление, любой объект имеет свою, свойственную только ему сущность, наука и призвана ее познать. Разгадает она эту единственную сущность, значит, выполнит свое предназначение. Не разгадает – это, мол, временные трудности. Ученые чего-то недопоняли, шли не тем путем. Но, если «верной дорогой» пойдут, то…
Потом я понял, что такой взгляд на науку – весьма примитивная, надуманная трансформация диалектики. Сколько вреда она принесла прежде всего нашей отечественной науке, в том числе, разумеется, геологии! Об этом стоило бы написать отдельную книгу.
Пока же порассуждаем немного о времени.
Есть понятия, которые человеческий разум способен осмыслить лишь логически. Образно их представить или, попросту говоря, вообразить – невозможно. Попробуйте, к примеру, нарисовать себе образ бесконечной Вселенной или, если желаете, – конечной. Не получится. (Не отсюда ли, кстати, подсознательная вера в сверхъестественный Разум, творивший с Природой то, что мы постичь не в силах?) А легко ли представить антивещество? Нуль-пространство?
Понятие о времени ставить в один ряд с только что названными даже как-то неловко. «Подумаешь, время», – скажет любой читатель и по-своему будет прав. Действительно, это сколь обыденная, столь и научная категория. И неизвестно, кто больше знает о времени – домохозяйка или ученый-физик.
Однако мы делаем акцент не на знании, а на представлении. Физик, имеющий дело с объектами микромира, с легкостью оперирует такими цифрами, как 10-6 или 10-14 сек (время жизни так называемых квазистабильных элементарных частиц), но способен ли он вообразить себе такую временнýю малость? Уверен, что нет.
А вот историку, спрессовывающему время в столетия, или археологу, оперирующему тысячелетиями, можно поверить, если они будут утверждать, что чувствуют, легко себе представляют эти отрезки времени. Почему? Да потому только, что такие временны'е отрезки соизмеримы с масштабами человеческой жизни и реальными последействиями этой жизни. Поэтому происходит как бы образное видение времени, ибо протекающие сегодня события и имевшие место когда-то сопоставимы – по скорости, масштабу или чему-либо еще. Это не суть важно.
А как быть с миллионами лет, с временными интервалами вполне привычными для геолога? Или, тем паче, с сотнями миллионов лет? возможно ли образно представить себе такое дление времени? С какими привычными нам земными эталонами соотнести такую величину? Подобных эталонов, разумеется, нет, а следовательно, и представить себе такие временные рубежи невозможно. Попробуем обосновать этот тезис с цифрами в руках.
Жизнь на Земле существует около 3,6 млрд. лет. Человек как биологический вид начал заселять Землю около 2 млн. лет назад. Всего! А отдельный человек как познающая природу Личность здравствует (по самым оптимистическим меркам, облегчающим к тому же расчеты) около ста лет.
Теперь переведем все эти данные в привычную размерность суток. Для этого вспомним обычные школьные пропорции. Пусть 3,6 млрд. лет как бы составляют одни сутки. Тогда человечество, даже если к нему причислить австралопитеков, живет на Земле всего 0,0006 сут, или 0,0144 часа, или 0,864 мин, или, наконец, 51,84 сек. Не забудем, речь пока шла о времени бытия всего рода человеческого. А что такое какая-то сотня лет? На выбранной нами временной оси ей будет соответствовать… 0,003 сек. Разве может человек, посетив этот прекраснейший из миров на 0,003 сек, непосредственно, так сказать в собственном ощущении, понять, что могло случиться на Земле за целые сутки? Разумеется, нет.
Используем и другую образную аналогию. Соотнесем возраст Земли с одним астрономическим годом и посмотрим, каким дням, часам, минутам и секундам этого календаря соответствуют некоторые события, имевшие место за 4 млрд. лет истории Земли. Для наглядности заметим, что одним суткам такого условного года соответствуют 12,6 млн. лет, а одному часу – 525 тыс. лет.
Итак, Земля образовалась 1 января, а 28 марта появились первые бактерии, т.е. зародилась биосфера. 12 декабря – это время расцвета динозавров, а уже 26 декабря они внезапно и навсегда исчезают. Всего за один день до Нового года, 31 декабря в 1 час ночи появляется общий предок обезьяны и человека, а в 17 час 30 мин по Земле зашагали первые австралопитеки. С 18 час 16 мин можно было встретить уже людей, а за 6 мин до полуночи объявились неандертальцы. Оставалось всего 4 сек старого года, когда на Голгофе распяли Христа [2].
Теперь, вероятно, легче себе представить, чтó значит для геолога время, с какими временными масштабами он имеет дело и насколько характерен «сегодняшний день» для суждения о прошлом. Иначе ведь человек не может. Все познается в сравнении. Поэтому всегда надо знать, с чем можно соотнести процессы былых геологических эпох.
Из-за невообразимо длительной геологической истории проистекают и все познавательные проблемы науки. Ведь за 3,6 млрд. лет не только произошли такие события, аналоги которых в сегодняшней жизни отсутствуют, но было и то, от чего остались лишь жалкие крохи, какие-то намеки, позволяющие судить о масштабах былых геологических катаклизмов весьма опосредованно. К тому же, говоря о «сегодняшней жизни», я имею в виду не «сегодня» в прямом смысле слова и даже не жизнь одного человека (мы ей отмерили сто лет), а продолжительность научного познания мира, во всяком случае, со времени древнеегипетской цивилизации. Но даже эти тысячелетия, как в известной песне, – лишь «миг между прошлым и будущим».
К тому же не будем забывать и того, что человек живет во времени и оставляет, разумеется, разные следы своей жизни. Геолог же всегда решает как бы обратную задачу. Он имеет дело только с этими «следами» и по ним восстанавливает жизнь, т.е. всю цепь протекших на Земле событий. Причем, чем древнее событие, тем меньше этих самых следов. Да и искажены они сильно более молодыми событиями. А как отличить, что – раньше, а что – позже? Это тоже далеко не всегда просто, и часто (увы!) задачка сия решается неоднозначно, т.е. недоказательно.
Популяризаторы геологической науки еще в прошлом столетии сравнивали историю Земли с книгой, которую читает специалист. Книга эта, однако, обладает рядом особенностей: в ней сохранились далеко не все страницы, а оставшиеся порваны и измяты, причем зачастую так, что и шрифт практически не просматривается. Там же, где удается его различить, вдруг оказывается, что разные страницы этой книги писаны на разных языках, часть из которых, кстати, давно мертва, как латынь например. Пусть читатель не думает, что все это – нагромождение надуманных страстей. Отнюдь! Именно такую книгу и читает геолог, и, надо признать, бывает, что и о смысле древних текстов догадывается верно.
В 1919 г., сидя за рабочим столом в нетопленой квартире (шла первая перестройка в стране), академик Алексей Петрович Павлов (1854-1929) размышлял о роли времени в истории, археологии и геологии. И даже он, геолог по образованию и, что немаловажно, по стилю мышления, с «трепетным восторгом» замирал перед временнóй пропастью, разверзавшейся перед его обостренным голодом воображением. Он прекрасно понимал, что с позиций прошедшей Вечности сегодняшний лик Земли – лишь моментальный снимок в бесконечной череде невообразимых перемен, далеко превосходящих плоды самой изощренной фантазии.
Человек здесь, заносит на бумагу Павлов, «со всею его жизнью, с его мерами и понятиями совершенно исчезает, как ничтожнейшая пылинка мироздания, здесь близок предел его познавательной способности, здесь река его жизни вливается в океан жизни космической».
Конечно, чтобы у геолога не закружилась голова, когда он заглядывает в бездонную пропасть времени, мало обладать смелым воображением, раскованным и гибким умом, надо прежде всего иметь глубокую и разностороннюю философско-мировоззренческую культуру, не зашоренную никакими идеологическими «-измами». В противном случае ученый неизбежно превращается в начетчика, способного лишь раболепно взирать на портреты своих бородатых классиков, уже осмеливавшихся спускаться во «временнýю преисподнюю», цепко охранять чистоту их «учений» и с искренней озлобленностью глядеть на инакомыслящих. Разумеется, при этом будет излишней роскошью забота о расширении собственной познавательной культуры. Зачем? Ведь чем меньше человек знает, тем его знания прочнее, непоколебимее, почвы для сомнений у него практически не остается.
Речь, к счастью, не о подобных деятелях. Что о них говорить, если они принципиально не способны оплодотворить знание, т.е. сделать в науке то, что называют открытием – крупным, значительным, а иногда и великим. Героями нашей книги будут ученые, для которых «свободная научная мысль» – решающая, преобразующая мир сила. Так говорил Владимир Иванович Вернадский в 1922 г. Мысль эта не устарела и через 80 лет. Не устареет, разумеется, никогда. По крайней мере, пока жив род человеческий.
Итак, «великие геологические открытия». Какие именно из революционных новаций в науке относить к этой категории? И что вообще следует понимать под открытием в науке? Как они осуществляются? Как к ним относятся коллеги, общество? Эти и многие другие вопросы нам еще предстоит обсудить. При этом самым трудным будет сделать это убедительно и интересно для геологов. Не удивляйтесь. Неспециалиста и увлечь проще, и убедить в своей правоте легче. А вот коллег-геологов заразить своей верой будет очень непросто. «Человек мыслит словом», как сказал один мудрец. Значит, задача наша сводится к тому, чтобы облечь нужные мысли в нужные слова. Попробуем.
И еще. Открытия в геологии делались не в одночасье и, как правило, не одним человеком. Поэтому историю любого из открытий придется давать на достаточно обширном историческом фоне.
Известно, что в старости человек лучше помнит то, что было в далеком детстве, и с трудом вспоминает события, случившиеся с ним накануне. Это естественный физиологический ход старения организма. А вот когда нас сознательно воспитывали так, что мы не знали ни историю своего рода, ни подлинную историю своей родины, ни скособоченную официальной идеологией историю своей науки, – это противоестественно. С этого и начинается нравственная и интеллектуальная деградация. Ученый, не ведающий терний, которые сумела преодолеть его наука, неизбежно превращается в догматика. А догматики, как известно, не только сами открытий не делают, но и жизнь кладут на плаху, лишь бы открытий не делал никто. Зато именно догматикам-ученикам мы обязаны возведением в ранг «учений» наследия их учителей.
О логике познания
Вот что в самом начале XIX столетия писал Жорж Кювье (1769-1832): «Нас поражает мощь человеческого ума, которым он измерил движение небесных тел, казалось бы навсегда скрытое природой от нашего взора; гений и наука переступали границы пространства; наблюдения, истолкованные разумом, сняли завесу с механизма мира. Разве не послужило бы также к славе человека, если бы он сумел переступить границы времени и раскрыть путем наблюдений историю мира и смену событий, которые предшествовали появлению человеческого рода?» Все это, конечно, так. Перед мощью разума ученого человечество будет преклоняться до тех пор, пока существует разум. А последняя фраза Кювье непосредственно касается предмета нашего интереса.
Можно много спорить по поводу генезиса науки, – почему появилась потребность познания мира: было ли это вызвано сугубо прагматическими причинами, связанными со способами существования человечества, либо имманентными свойствами ума. Вероятно, это спор неразрешимый. Поэтому бездоказательному «почему?» предпочтем более обоснованное «как?» и аргументированное «когда?».
Наука, по всей вероятности, началась тогда, когда от искреннего «удивления» (Платон) окружающей Природой человек перешел к ее целенаправленному изучению, когда на первые вполне осмысленные вопросы он стал получать правдоподобные ответы, позволявшие ему соединить воедино обретенное знание и повседневные потребности жизни. Человеческий разум пытался объяснить бесконечное разнообразие окружающего Мира (на ранних стадиях развития науки такие попытки выглядели вполне убедительными), подсознательно восторгаясь непостижимостью его творения: ведь КТО-ТО или ЧТО-ТО когда-то создали ЭТО!
Альберт Эйнштейн (1879-1955) однажды сказал своему ассистенту Эрнесту Штраусу: «Что меня действительно интересует, так это то, мог ли Бог создать Мир по-другому».
– Почему бы и нет,- рискнем ответить гению. – На то он и Бог.
Пытаться проследить самые-самые истоки науки также невозможно, как, двигаясь вверх по течению полноводной реки, добраться до самой первой капли воды, ее питающей. И тем не менее применительно к геологии мы такую попытку сделаем, поскольку, с одной стороны, в сравнении с другими дисциплинами естественнонаучного цикла возраст ее, можно сказать, младенческий – всего 200-300 лет; а с другой, история научных открытий – это и есть эволюция и развитие науки. Поэтому сама тема книги заставляет углубиться в историю геологической науки.
В.И. Вернадский в 1912 г. совершенно точно ответил на вопрос: почему каждое новое поколение ученых (точнее, должно писать!) историю своей науки заново. Казалось бы, чего проще: написал обстоятельный фолиант, вбирающий все достижения геологической мысли за прошедшие века, а далее – только добавляй в него новые достижения и открытия.
Но нет. Так не бывает. Каждое новое открытие в науке – это как бы увеличение яркости своеобразного «прожектора знаний», с его помощью удается разглядеть то, что ранее было незаметно. Известные до того факты предстают перед исследователями своими новыми гранями, а вместе с тем и все здание науки становится более освещенным. Поэтому история науки – это бесконечная и вечная книга. Конца она не имеет.
Однако есть в этой книге одна тема, наиболее для нее характерная. Имеется в виду история собственно научных открытий. Дело в том, что если для самой науки прежде всего важно – чтó сделано, то для истории науки важно и то, как это сделано. То есть необходимо знать все обстоятельства, сопутствующие открытию, а также личность творца.
«Наука движется живыми людьми», – писал известный востоковед академик Игнатий Юлианович Крачковский (1883-1951). Эта простая истина оказывается зачастую наиболее сложной преградой на пути воссоздания хода развития отдельных звеньев науки, ибо ученые очень часто не оставляют никаких побочных следов, кроме самого открытия. Эти же второстепенные, казалось бы, обстоятельства являются наиболее важными для историка науки. Без них история науки теряет не только специфический аромат, но зачастую и смысл. Поскольку история науки кроме логики научной мысли поверяется еще и психологической мотивацией творчества ученых, то драма идей, пронизывающая науку, неизбежно должна просматриваться через жизненные коллизии их авторов.
О научных открытиях
Существует красивая легенда: Аристотель, мол, не смог открыть причину морских приливов и в отчаянии кончил жизнь самоубийством. Похожие мотивы вынудили Эмпедокла кинуться в жерло вулкана. Суть этих легенд в одном – свершения в науке доступны не просто гениям, но гениям-подвижникам, преданным до конца научной Истине. Они ради Истины жертвуют и жизненными благами, и даже самой жизнью.
Складывается жизнь у разных ученых, конечно, неодинаково. Одни отстаивают Истину на костре инквизиции (Джордано Бруно); другие в своем доме имеют несколько кабинетов для научных занятий и, работая поочередно в каждом из них, обогащают науку новыми открытиями (Жорж Кювье); третьи, став гордостью нации, удостаиваются чести положить голову на плаху, когда народ берет власть в свои руки и заявляет устами своих вождей, что революция не нуждается в ученых (Антуан Лавуазье, Николай Вавилов и многие, многие другие).
Все, что мы знаем сегодня об устройстве окружающего нас мира, когда-то кем-то было открыто. Были открыты отдельные объекты макро- и микромира, были объяснены явления природы, были открыты, наконец, законы, управляющие материей. Все это мы прекрасно знаем еще со школьной скамьи.
Мы знаем, что наш великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) в 1869 г. обосновал периодический закон химических элементов, а в 1875 г. на его основе француз Лекок де Буободран (1838-1912) открыл предсказанный Менделеевым экаалюминий и назвал его галлием. Через 6 лет, в 1881 г., швед Ларс Нильсон (1840-1899) открыл скандий, также предсказанный Менделеевым как экабор; в 1886 г. немец Клеменс Винклер (1838-1904) открыл германий – «экасилиций», по Менделееву.
Еще в XVII веке Иоганн Кеплер (1571-1630) установил законы движения планет, а через два столетия Урбен Жан Жозеф Леверье (1811-1877), анализируя аномалии движения планеты Уран, как принято в таких случаях говорить, «на кончике математического пера» открыл новую планету Нептун.
Перечень подобных открытий можно продолжать и продолжать. Но это слишком уведет нас в сторону. Однако об одном неожиданном свойстве научного творчества все же сказать следует.
Ясно, конечно, что ученый садится за стол или встает к прибору не затем, чтобы сделать открытие. Он работает. Открытия же зачастую случаются совсем неожиданно, когда ученый и не ждет ничего такого. Не ясно? Попробуем проиллюстрировать эту мысль.
Кеплер пытался найти общий подход к вычислению объема пивных бочек. Такой подход он нашел, но как бы между прочим родились при этом и основы теории бесконечно малых. В XVIII веке Даниил Бернулли (1700-1782) размышлял над математическим обоснованием игр в карты и кости. Обоснование это изучается до сих пор как начала теории вероятностей. В конце XIX века Софья Ковалевская (1850-1891) составляла уравнения, описывающие вращение детского волчка, а создала не устаревшую до сего дня теорию вращения твердого тела. Георг Кантор (1845-1918), восхищаясь гармонией Святой Троицы, на бумагу занес основы теории множеств. И так далее…
Сделаем попытку обобщить сказанное. Не будем давать никакого определения, но все же попробуем просто понять – чтó такое открытие в науке. Я думаю, мы не очень сильно ошибемся, если скажем, что открытием можно считать установление нового, ранее неизвестного науке явления. Открытие, разумеется, как говорят математики, доставляет ученым новое знание о Природе.
Что это за знание, как его классифицировать, какие преобразования и трансформацию старого оно влечет, – все это вопросы особого свойства. Они интересны, спору нет. Но более – для науковедов. Мы же, как требует того избранный нами жанр, просто поясним свою мысль.
На самом деле, в одних случаях новое знание доставляют просто новые факты. Эта ситуация наиболее типична для геологии. В других случаях новое рождается как некое эмпирическое обобщение из ранее известных фактов (концепция биосферы Вернадского); в третьих – новым будет только более высокая ступень абстрагирования – самостоятельная теория (теория платформ).
А можно сказать и иначе, более кратко. Часто открытие – это конечный результат деятельности. Но не менее часто – это процесс.
Если мы не будем спорить с тем, что открытие – это и новое явление природы, и новая ступень обобщения известных фактов, и даже новые мировоззренческие (методологические) принципы изучения Природы, то следуя дальше, должны признать, что наука – это не просто кладовая знаний, наука – это, конечно, системное знание. У каждой науки существуют свои, только ей свойственные преобразователи новых фактов и нового знания, укладывающие их в русло данной науки.
Если какое-либо открытие – это заурядный факт (таких большинство), то он просто ложится на дно науки и делает его менее вязким; бывают и такие, которые размывают берега; случаются (но крайне редко) открытия, дающие новые протоки (так рождаются сопредельные науки). Чем наука совершеннее, чем она более развита, тем ее преобразователи действуют жестче. Так, в математике достаточно одного опровергающего примера, чтобы теория перестала существовать. В геологии же такое невозможно в принципе. Почему? Скоро станет понятно.
Итак, мера системности знания зависит от теоретического совершенства науки. Чтобы напустить еще больше тумана, можно, используя известный журналистский прием, с пафосом вопросить:
– И все же, «теоретическое совершенство или совершенство теории»?
Вопрос на самом деле ясен: у науки теоретическая компонента не может быть развитой, если в арсенал науки не включены самостоятельные теории. А вот как они строятся, как соотносятся с фактами, – вопрос отдельный. И чем менее совершенна (в теоретическом отношении) наука, тем более сложными, запутанными являются ее отношения с теоретическим знанием.
Попробуем, к примеру, связать воедино некоторые сентенции выдающихся естествоиспытателей прошлого.
«Факты без теории – не наука», – заявлял химик Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886). «Разумеется, – как бы вел с ним диалог через десятилетия физиолог Иван Петрович Павлов (1849-1936). – Но если нет в голове идей, то не увидишь и фактов». Справедливо? Разумеется. Но только от справедливости этой практически никакого проку, ибо в условиях замкнутого круга, в который мы попали не без помощи ценных указаний ученых, бесполезно доискиваться, чтó непременно первично – факты для теории или идея для фактов. Такого рода дискуссии изначально обречены. Мы ими заниматься не будем.
Более разумно признать, что в каждый период развития науки (и геологии, в частности) необходимы теории, синтезирующие отдельные факты, дающие им удовлетворительное истолкование и определяющие перспективы дальнейшего прогресса теории. Однако существует и предел совершенствования любой теории. Неизбежно наступает момент, когда на смену ей появляется новая теоретическая конструкция, а старая становится достоянием историков. Это нормальный ход науки. Другого, как говорится, не дано.
При этом, анализируя становление науки в исторической ретроспективе, не только можно, но и необходимо критически оценивать бывшие некогда на вооружении (никак, извините, не избавится от подобных милитаристских словосочетаний) теории, ибо в противном случае будет не ясна причина их последующей отбраковки. Но никогда не следует принижать значение творцов этих теорий. Величие ученых определяется уже тем, что на каком-то историческом этапе именно их теории определяли стержень развития науки и именно эти теории, а благодаря им и их авторы навечно забронировали себе подобающее место в истории знаний.
Никто, думаю, не будет оспаривать величие Птолемея, геоцентрическая теория которого просуществовала более 1000 лет и затем была оставлена наукой, как ложная. А вот «величие» Трофима Денисовича Лысенко (1898-1976) в эту схему, к счастью, не вписывается, поскольку его теоретические изыски, хотя и были признаны на некоторое время истинными, но эта «истинность» была скорее приказной. Это был дурно пахнущий фиговый листок, прикрывавший беспомощные потуги авторитарного политиканства. И такое случается в истории науки.
История научных открытий всегда драматична и эмоциональна. Она неизбежно, как говорил известный историк науки Борис Григорьевич Кузнецов, включает память об ушедших мыслителях.
И все же надо вернуться к уже затронутому вопросу о способах установления истинности теории. Ясно ведь, что далеко не каждая из них получает права гражданства даже на момент создания. И хотя здесь случаются, как говорят математики, ошибки второго рода, когда коллеги отвергают истинную теорию в угоду ложной, но нас в данном случае интересует сама схема принятия решения.
Чем руководствуются ученые? Ведь «сомневаться во всем, верить всему – писал великий французский математик Анри Пуанкаре – два решения, одинаково удобные: и то и другое избавляет… от необходимости размышлять».
Выделим два подхода к оценке достоинств предлагаемой теории. Первый нацелен на ее подтверждение фактами (верификация теории, от латинского слова verificatio, что означает удостоверение в подлинности), второй – на ее опровержение теми же фактами (фальсификация теории). Первый путь (его еще называют индуктивным) наиболее популярен среди наименее развитых в теоретическом отношении наук. Геология, к сожалению, в их числе. Разработана даже методологическая база такой оценки. Ее называют «принципом эмпирической непротиворечивости». Согласно этому принципу теорию надо признавать до тех пор, пока ей не противоречит ни один из известных фактов. Чувствуете шаткость позиции? Раз «не противоречит», значит, казалось бы, надо знать и меру этой непротиворечивости, да и правила соотнесения теории и фактов, т.е. по возможности независимые от теории принципы их интерпретации. Но всего этого, разумеется, нет, ибо в противном случае у нас не было бы оснований так унижать геологию, считая ее в теоретическом отношении наукой слаборазвитой.
Геологи всегда шли в разработке собственных теорий «от фактов», хотя, как считают некоторые (Александр Александрович Любищев, например), не из фактов, как из кирпичиков, складывается теория, а только на основе теории факты укладываются в определенную систему.
Допустим. Но откуда тогда берется эта мифическая теория, как она строится, если факты для нее вторичны? Пусть над этими вопросами ломают головы методологи.
Крайняя неразвитость в теоретическом отношении геологической науки приводит к тому, что ученые начинают бояться любых теоретических построений, они перестают «измышлять гипотезы» и фокусируют свою мысль на обдумывании исходных фактов, ни на шаг не отступая в сторону.
В повседневности мы привыкли слышать расхожее: в споре рождается истина (замечу в скобках, повторяя мысль одного остряка, что чаще все же рождаются плохие отношения). Некоторые ученые полагают, что истина – это как бы центр тяжести крайностей, т.е. нескольких противоречащих друг другу гипотез. В этом что-то есть, если гипотез много. Но если их всего две и утверждают они противоположное, то, как точно заметил еще Иоганн Вольфганг Гёте, между ними лежит не истина, а проблема. Если же эти гипотезы – не продукт чистой дедукции, а просто они по-разному интерпретируют факты, то следует не отвергать одну из них, а искать новое природное явление, которое, вероятнее всего, и не давало возможности свести концы воедино. Это уже подход развитых естественных наук (физики, например). В геологии он только начинает культивироваться.
И все же любопытно, почему даже такие выдающиеся умы, как Вернадский, твердо верили в то, что прогресс науки – только в выявлении устойчивых эмпирических обобщений, которые не должны заключать никаких гипотез, а тем более – экстраполяций. Ответить на этот вопрос несложно, если не забывать, на каком уровне находилась в то время теоретическая мысль в описательном естествознании, сколь глубоко знал Вернадский историю науки, а, следовательно, мог понять масштаб сделанных учеными ошибок и знал цену, заплаченную за авантюризм в познании.
На самом деле, еще в 1839 г. профессор Института корпуса горных инженеров (так в то время назывался Петербургский Горный институт) Дмитрий Иванович Соколов (1788-1852) написал в своем трехтомном руководстве для студентов-геологов: «страсть к теориям сделала много вреда науке геологической». Прочтя это, современный ученый недоуменно пожмет плечами:
– Зачем вспоминать разные глупости полуторавековой давности?
Но в том-то и дело, что это совсем не глупости. «Теории», владевшие умами геологов начала XIX столетия, действительно принесли науке больше вреда, чем пользы. Достаточно вспомнить нескончаемые беспочвенные и бесплодные баталии «нептунистов», утверждавших, что вся природа – из воды, и «плутонистов», отдававших приоритет творения огню.
Здесь сказалось общее правило: чем меньше фактов, тем легче их обобщать (это естественно) и тем неудержимее тянет свести это обобщение к какой-то единственной первопричине (это неестественно). Именно об этом, вероятнее всего, рассуждал Соколов и был абсолютно прав. И по этой же причине у академика Вернадского развилась своеобразная интеллектуальная аллергия на гипотетическое знание. Он его категорически не принимал.
Однако эмпирическое обобщение (в чистом виде) не дает возможности сделать рывок в познании, открыть принципиально новое явление и дать ему всестороннее истолкование. Когда мы будем обсуждать проблемы биосферы, открытие которой связано главным образом с именем Вернадского, то убедимся, что и он не выдержал до конца «принцип эмпиризма». Рафинированная методология хороша до тех пор, пока парит над наукой. Но как только она погружается в проблемы науки, то полностью растворяется в них и о ней просто не вспоминают.
Заключим эти рассуждения о принципах эмпирической непротиворечивости и эмпиризма словами одного из самых методологически грамотных геологов XIX столетия, российского провинциала, мыслящего, однако, «европейски» (слова Вернадского), Николая Алексеевича Головкинского. Еще в 1868 г. он писал, что геолог имеет дело с таким невероятным разнообразием объектов и ситуаций, что вынужден как-то группировать предметы своего анализа, классифицировать их.
«Таким образом, – заключает Головкинский, – делая первый шаг к изучению, мы уже вносим субъективный произвол во взаимные отношения предметов и не должны забывать, что эта субъективность входит постоянным множителем во все комбинации, какие мы сделаем из нашего материала. Сходство и различие – понятия совершенно относительные… Оценить признаки по их важности и подвести достаточно верный итог нельзя по отсутствию прочных критериев; оттого группировка форм – дело очень и очень условное… Но беда не в этом… беда в том, что, сортируя по признакам, бесспорно, более важным, пытаясь приблизиться в этой группировке к истинным отношениям предметов, мы упускаем из виду, что попытка не есть достижение, предположение не есть факт: увлекаясь гипотезой, вносящей в природу удобный для нас систематический порядок, мы часто смотрим на нашу искусственную, условную группировку, как на истинные отношения классифицируемых предметов, как на выражение их генетической связи» (курсив Головкинского. – С.Р.).
Теперь, думаю, понятна подоплека пренебрежительного отношения многих геологов к разного рода гипотезам, теориям и экстраполяциям. И в то же время (в этом и состоит один из ядовитейших парадоксов познания) без них невозможны крупные открытия в науке. Несколько перефразировав Александра Ивановича Герцена, можно сказать, что кораллы умирают, не подозревая, что жизнь свою они прожили ради прогресса рифа.
О реакции на открытия
Как же воспринимаются открытия в науке? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что почти всегда без радостного энтузиазма. Причем, чем крупнее открытие, тем сложнее его влияние на дальнейший прогресс науки. Причин здесь множество. Одни из них очевидны, другие – не очень. Некоторые мы попытаемся здесь изложить.
Сейчас на слуху у науковедов и историков науки ставший весьма популярным термин «парадигма», несколько десятилетий тому назад запущенный в научный оборот интересным американским ученым (не геологом) Томасом Куном. Термин очень быстро стал популярным в научном мире. Это также интересный феномен, имеющий простое, на мой взгляд, объяснение. Когда кто-то находит удачное словесное оформление явлению, в общем-то давно известному ученым, то эта новация возражений не вызывает. Более того, она встречается с пониманием, поскольку вносит видимость ясности и единообразия в толкование предмета исследований учеными разных стран.
Теперь более конкретно о предложении Куна. Специалисты по истории науки давно заметили, что наука развивается неравномерно во времени: есть отдельные импульсы более интенсивного прорыва в неизвестность (их всегда называли научными революциями); бóльшую же часть времени наука наращивает новое знание эволюционным путем. Так вот, всегда существует некая ключевая идея, только в редких случаях отчетливо формулируемая учеными, которая определяет направленность развития науки, ее тренд. Кун и выделил этот своеобразный инвариант, назвав его парадигмой.
Теперь ясно, что парадигма – это идейное знамя эволюционных отрезков развития науки. Революционный скачок в развитии, таким образом, означает смену идейного знамени, т.е. парадигмы. Мысль о парадигме не очень глубокая, но слово красивое. Поэтому по возможности будем им пользоваться.
В истории геологии парадигма менялась лишь единожды [3]. Это произошло на протяжении нескольких десятилетий XX века, когда геологи признали не просто движение материков (мобилизм), а существование двух принципиально разных процессов: наращивания и горизонтального перемещения земной коры (спрединг) и ее поглощения и переработки (субдукция). Так родился «новый взгляд на Землю», составивший концептуальное ядро современной геологической науки. Если раньше допускались только вертикальные колебательные движения земной коры, то теперь к ним добавились и громадные горизонтальные смещения. Это, конечно, полностью трансформировало представление геологов о познавательных возможностях своей науки.
Можно считать, что с появлением эволюционной теории Чарльза Дарвина в 1859 г. произошла смена парадигмы в биологии. Рождение квантовой теории привело к смене физической парадигмы. А даже такое величайшее из открытий, как периодический закон химических элементов, парадигму науки не пошатнул. Не дрогнула и парадигма физики, когда была открыта радиоактивность, хотя в некрологе Пьеру Кюри, опубликованном в английском журнале «Nature», предлагалось от времени появления первой статьи Кюри о радиоактивности вести новое летоисчисление.
Многие ученые, правда, к этому понятию предъявляют менее жесткие требования и не скупятся на число научных революций в физике, химии, биологии и, разумеется, геологии.
Нас будут интересовать не столько сами геологические революции (тем более, что мы выделили всего одну), а то, чтó за ними следует, т.е. психологически самый интересный этап – этап восприятия открытия, время его активного влияния и на структуру науки, и на научный климат. Этот этап можно назвать этапом гражданской войны.
На самом деле, новое знание взрывает годами складывавшееся здание науки. Сторонников нового пока мало. Приверженцев же старых истин – большинство. Это, как правило, влиятельные силы, занимающие ключевые посты в науке, кафедры в университетах, лаборатории в академических институтах. У них, чаще всего, уже нет ни сил, ни желания осваивать новое, ибо они прекрасно понимают, что на их жизнь хватит и старых истин. Истины эти – источник их благополучия и авторитета. Поэтому смешно было бы ждать от них радостных возгласов по поводу сделанного их коллегой открытия. Они с бóльшим удовольствием признают его шарлатаном, выгонят с работы, чем дадут «добро» на оформление им авторского свидетельства.
Стало непременной традицией приводить по этому поводу слова Макса Планка, величайшего немецкого физика. Он писал, что новое пробивает себе дорогу не тем, что удается переубедить противников, и они признают, что встали наконец на путь истинный, а скорее другим путем – просто противники нового постепенно вымирают, а для подросшего поколения эта истина уже не нова, они ее усвоили еще с университетской скамьи.
Еще более наглядно, как мне кажется, проблему восприятия нового в науке иллюстрирует такой образ. Представим себе прыжки на батуте. Этот спортивный снаряд пусть олицетворяет старое, привычное, прочное научное знание. Все новое поэтому он энергично от себя отбрасывает. Однако, как ни старается батут отринуть от себя новое (после многочисленных кульбитов) оно вновь и вновь таранит его. Процесс этот весьма длительный и продолжается до тех пор, пока батут – старое знание – не выйдет из строя.
Английский геолог Чарльз Лайель, которого мы многажды будем вспоминать в этой книжке, любил повторять, что при открытии новых истин всегда говорят: «это неправда». Затем проходит время, к новому привыкают, и благодарные коллеги радостно оповещают мир, что это, мол, им давным-давно известно.
Если еще раз вспомнить, что развитие науки – это не прекращающаяся ни на один день жестокая, кровопролитная гражданская война, ведущаяся по поводу каждого крупного открытия, то в ней легко прослеживаются определенные периоды:
первый период – замалчивание нового (автор бьется о глухую стену самодостаточности);
второй период – ожесточенная критика (автор утомил ученую братию, и она дружно решает указать ему его место);
третий период – частичное признание истинности (автор с фактами в руках наконец-то сломил сопротивление противника);
четвертый период – принижение сделанного (автору доказывают, что это все давно известно).
Не отсюда ли расхожее: новое – это давно забытое старое.
Вильгельм Оствальд (1853-1932), выдающийся немецкий химик, заметил с грустным юмором, что именно в преддверии четвертого этапа ученому лучше всего умереть: противники, как правило, уступают покойному авторитет (это благородно, по-христиански). Случается, правда, что потом вдруг обнаруживается нечто новое, неопровержимое, и приоритет отнимается. Ну что ж, для настоящих ученых истина всегда дороже. Не так ли?
Еще один фактор неприятия нового в науке – это время. Говоря проще, наука в среднем должна дозреть до понимания нового. Если новое знание открывается в этом смысле вовремя, то оно, как правило, быстро и легко воспринимается. Но чудес не бывает. Коли так произошло, то это может означать только одно – сделанное открытие не очень значительное, оно не затрагивает коренных интересов науки, а лишь добавляет еще один кирпич в ее стену.
Крупное фундаментальное открытие всегда резко опережает основной фронт развития науки. Именно по этой причине его и не понимают и не принимают.
Маленький пример. Когда в начале 60-х годов геологический мир заговорил о тектонике литосферных плит, то становящиеся ее сторонниками прекрасно сознавали, что принятие этой теории автоматически означает забвение (почти полное) всего того знания о строении и динамике земной коры, которое геологическая наука накопила за последние сто лет своего существования. Не каждый, согласитесь, решится бросить все и стать «ничем», хотя еще совсем недавно был «всем». По этой именно причине даже в наши дни еще очень активны ее противники. Ее стройные ряды особенно многочисленны в бывшей первой стране «развитого социализма», где для иерархов административной пирамиды (я имею в виду научную) личные амбиции всегда стояли на первом плане. К тому же, что хорошо известно, советская наука была экономически безответственна, т.е. существовала сама по себе в необозримой сети академических и отраслевых институтов, которые были связаны с производством только посредством липовых отчетов о внедрении полученных научных разработок. Уже само словцо из типично советского новояза «внедрение» говорит о том, что в системе «наука – практика» все было поставлено с ног на голову.
Да и сама организация науки, т.е. запутанное соподчинение степеней, званий и чинов, что опять же больше всего развито у нас, как нельзя лучше приспособлена для полного неприятия великих открытий. Это вполне понятно и, если уместно так сказать, естественно, ибо большой чиновник от науки, обремененный к тому же академическим званием, никогда, ни под каким видом не допустит инакомыслия в своей вотчине, ибо он прекрасно понимает: чем более «крамольные» мысли высказываются снизу, тем быстрее они достигнут вершины этой иерархической пирамиды и тем сложнее ему будет удержать свои позиции, а тем самым отстоять результаты собственного многолетнего труда.
Чтобы избежать этого или, точнее говоря, оттянуть неизбежное, бюрократизированная наука придумала много проверенных способов. Наиболее укоренившийся – это элитарные группировки вокруг «корифея», легально процветающие как «научные школы». Любой член такой группировки охраняется именем ее лидера. Тот же способствует публикации научных работ, защите диссертаций и получению должностей. Глава школы при этом неизбежно трансформируется в жреца. Посему научные теории он уже не разрабатывает, предпочитая им «учения». Учениям надо слепо следовать. Развивать, а тем более критиковать их, разумеется, не положено.
Ясно, что если открытие, тем более крупное, сделано другой научной школой, то все остальные школы будут ему активно противиться. Если же случилось невероятное и открытие в науке сделал ученый-одиночка, не принадлежащий ни к одной из школ, то его начнут бить и слева и справа. Ему надо обладать большим мужеством и устойчивой психикой, чтобы выдержать войну за Истину.
Итак, открытия в науке делают ученые, наделенные не только могучим интеллектом творца, но и являющиеся к тому же Личностями, способными идти к своему Олимпу, не взирая ни на какие преграды. Именно поэтому историков науки всегда интересовали живые портреты ее творцов; появилась даже своеобразная дисциплина – биографика. Ее задачей является разработка научных биографий великих ученых прошлого.
О приоритете открытия
Казалось бы, в чем тут проблема? Кто открытие сделал, тот и является его автором. Дата публикации всегда известна. Поэтому не составляет, казалось бы, труда и проследить, кто же первым осуществил решительный прорыв в неизвестное. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Тем более, если проблему формулировать не широко, «за всю науку», а ограничиться только геологией и еще более конкретно – теми открытиями, которые будут обсуждаться в нашей книжке.
Заметим, кстати, что даже в такой достаточно строгой науке, как физика, не всегда легко установить приоритет и дату конкретного открытия. Так, открытие электрона связывают с именами Питера Зеемана (1865-1943), Хендрика Лоренца (1853-1928), но большинство физиков пальму первенства все же отдают Джозефу Джону Томсону (1824-1907). Дата открытия также поэтому растянулась на пять лет – с 1894 по 1899 г.
Крылатый афоризм Луи Делоне: «наука быстро, очень быстро становится анонимной» – с течением времени окажется, по всей вероятности, бесспорным. И не потому, что наука движется теперь коллективным разумом (такое вообще невозможно), а в связи с тем, что крупные, действительно величайшие открытия, меняющие парадигму науки, случаются крайне редко. Частные же новации проходят транзитом и анонимно не просто потому, что представляют «мелочь» большой науки (в таком деле мелочей не бывает), а чаще по другой причине – идеи «висят в воздухе» и потому практически одновременно осеняют многих. Поди, найди здесь единственного, а главное первого, автора.
Академик Александр Петрович Карпинский любил повторять (мысль эта в разных вариациях встречается в нескольких его сочинениях): «Чужие идеи не очень редко ассимилируются, конечно бессознательно, как свои собственные. В этом большой практической беды нет, так как идеи не пропадают, а вопросы приоритета большой цены не имеют».
Попробуем понять, что же конкретно имел в виду академик. Ну, во-первых, когда «чужие идеи», пусть и бессознательно, но все же воспринимаются как «свои собственные», это все же наводит на размышления… От такого «бессознательного» заимствования зачастую случаются вполне сознательные нравственно-этические беды. А, во-вторых, трудно также принять за принцип полное обезличивание науки, успокаивая себя тем, что «идеи не пропадают». К таким мыслям Карпинский пришел в 20-30-х годах, когда идеологическая пропаганда большевизма поразила метастазами даже такие выдающиеся умы.
С другой стороны, феномен подсознательного плагиата, когда ученый искренне убежден в собственном авторстве излагаемых им идей, имеет и понятное психологическое обоснование. На самом деле, если ученый черпает идеи не из наблюдений, не из эксперимента, а они рождаются у него в результате сложных ассоциативных связей при чтении научных трактатов своих коллег, то очень трудно, даже практически невозможно, установить первородство идеи, тем более, тем более если речь идет не столько о сути проблемы, сколько о ее словесном, терминологическом, оформлении. Интенсивно работающая мысль ученого перемалывает непрерывно поступающую информацию, и по прошествии какого-то времени, когда прочитаны и другие источники и когда «старые» идеи пришли в некое зацепление с новыми и причудливо с ними переплелись, на свет может действительно родиться нечто новое и оригинальное. Установить, что здесь чужое, а что свое, практически невозможно.
Примерно так известный толкователь творчества Вернадского московский историк науки Игорь Михайлович Забелин (1927-1986) объяснял тот факт, что некоторые мысли, воспринимавшиеся Вернадским как свои собственные, на самом деле были им заимствованы при штудировании работ предшественников. «Очевидно, в плане психологии творчества, – пишет Забелин, – мы в данном случае имеем дело не с контролируемой фиксацией подсознанием узнанного, прочитанного, которое впоследствии может не ассоциироваться с первоисточником и даже субъективно восприниматься как свое собственное».
Теперь о главном, – о вопросах приоритета. Действительно ли, как писал Карпинский, они «большой цены не имеют» или все же следует в ряде случаев знать автора и воздавать ему должное. При этом надо, конечно, понимать, приоритет чего, собственно говоря, обосновывается: мыслей, идей или развитой на их базе теории?
Заметим, кстати, что проблема приоритета наиболее остро всегда стояла в тех науках, где нет ни точного знания, ни строгих критериев оценки сделанного. Именно такой наукой до недавнего времени была геология. Если речь идет о теоретических представлениях, лежащих в основе решения многих практически важных задач, то вопрос о приоритете введения этого знания в науку становится действительно важным и одновременно очень трудно разрешимым. Мы неизбежно станем участниками сцены из гоголевского «Ревизора» и будем, подобно Бобчинскому и Добчинскому, бесконечно выяснять, кто же первым сказал: «Э!…»
Разумеется, в науке важно, кто именно первым высказал ту или иную мысль. Но сама по себе мысль (какой бы прозорливой она ни была) несет в себе не само знание, а лишь возможность его получения. Новое же знание, его «положительное приращение», как любил писать Михаил Васильевич Ломоносов, добывается только посредством разработки новых научных методов и построения новых теорий. Поэтому действительным автором может и должен считаться не тот, кто первым высказал ту или иную идею (к тому же и установить этот факт чаще всего невозможно), а только тот, кто развил идею, доведя ее до уровня законченной теории или научного метода.
Так, идеи эволюции высказывались задолго до Дарвина, но именно его – и по праву – считают основоположником эволюционной теории. Идеи актуализма были известны ученым чуть ли не со времен античности, но не зря их связывают прежде всего с именем Лайеля, поскольку именно этот великий англичанин довел стародавние мысли до стройного и целостного метода познания геологического прошлого. То же касается и идей биосферы, высказанных в разных странах задолго до Вернадского. Но сегодня никому и в голову не придет оспаривать его авторство концепции биосферы. Впрочем, об этом мы еще успеем поговорить.
Когда что-то, где-то, кем-то переоткрывается, – справедливо заметил уже упоминавшийся нами Забелин, – то для ученого это, разумеется, большая личная драма, иногда трагедия; для истории же науки – не более чем проходной эпизод, который время иногда превращает в фарс.
Оглянемся назад
XVII век
Слава Богу, история у геологии не длинная – всего три столетия. Для науки это не возраст. Но и за это время сделано немало – от теологических верований в сотворение Мира до современной спутниковой дистанционной съемки Земли. За этот же срок осуществлены те великие открытия, коими геология по праву гордится.
Чтобы лучше понять их суть и значение в общей системе знаний о Земле, необходимо, хотя бы бегло, обрисовать тот историко-научный фон, на котором шло развитие и самой геологической науки, и наук ей сопредельных. Важно также знать и мировоззренческие ориентиры, указывавшие ученым основные направления и схемы познания геологического прошлого. Поэтому попытаемся нескольким штрихами нарисовать картину развития естествознания, в основном описательного, за последние три столетия. Она, разумеется, неисчерпывающая, более того, не претендует даже на то, чтобы именоваться «кратким историко-научным очерком». Это просто отражение в нашем сознании тех событий, которые произошли в науке за этот срок и которые удалось рассмотреть при беглом взгляде в историческое зеркало.
По единодушному мнению всех историков науки, XVII столетие в определенном смысле переломное в развитии естествознания. Более того, именно в этот отрезок времени, как писал Вернадский, произошла революционная ломка практически всех основ естественных наук. В XVII веке родилась современная наука, и вот уже три столетия она является реальной «исторической силой».
Что же произошло? Неужели люди, жившие в XVII веке, внезапно поумнели? Нет, конечно. Тогда что же?
Скорее всего, произошло то, что и случается всегда, когда людям позволяют относительно вольно дышать и сравнительно безнаказанно думать. Именно в этом столетии был несколько ослаблен гнет церковного тоталитаризма, раскрашенного к тому же в черно-белые тона мракобесия. Конечно, так было не во всем мире, а только в Европе, и притом католической. В те годы именно здесь тлели основные очаги науки.
Вспомним. Католики учредили Суд Святой инквизиции еще в XIII веке. Чтобы привлечь человека к такому суду, было достаточно порочащих его слухов. Члены инквизиционных трибуналов обладали правом личной неприкосновенности; они находились в непосредственной зависимости только от самого Папы.
В 1540 г. утверждается Орден иезуитов, монополизировавший теологический взгляд на устройство мира. Инакомыслию была объявлена война, а люди, осмеливавшиеся смотреть на мир глазами, не замутненными церковными догмами, были причислены к еретикам. С ними стали поступать как с преступившими закон веры. Сам же институт веры был заменен аппаратом подавления мысли. В 1542 г. в Риме создается Центральный трибунал Святой инквизиции, отправивший на костер многих ученых: Джордано Бруно, Луцилио Ванини и др. Особенно свирепствовала инквизиция в Испании, где ее идеология полностью срослась с королевской (светской) властью. Там только в течение одного XV века было предано аутодафе свыше 10 тыс. человек. В 1559 г. католическая церковь составляет первый в истории «Индекс запрещенных книг». Книги эти изымаются у владельцев и публично сжигаются на кострах.
Шабаш средневекового догматизма продолжался почти четыре столетия. И хотя даже в эту мрачную ночь на небосводе культуры появлялись отдельные яркие звезды (Леонарде да Винчи, Георг Агрикола и др.), погоды они не делали. Наука в целом практически прекратила существование.
Когда же в начале XVII столетия натиск инквизиционных трибуналов был ослаблен, хотя сама инквизиция продолжала действовать, это не замедлило сказаться на быстром развитии практически всех наук. Выражаясь современным языком, произошел информационный взрыв, благодаря которому и биология, и физика, и механика, и, наконец, геология сделали гигантский рывок вперед.
Именно в это столетие наука обрела и принцип эмпиризма Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), и очень глубокую философию познания, рожденную гениальным умом Рене Декарта (1596- 1650). В 1637 г. Декарт опубликовал свой знаменитый трактат «Рассуждение о методе». В познании Декарт (в противоположность Бэкону) решающую роль отводил дедукции, т. е. умению изыскивать постулаты («интуиции») и выстраивать на их основе логически безупречную цепь доказательств. Причем он полагал, что должен существовать некий общий метод такого рода познания. Надо только найти его. В этом он видел предназначение науки.
Декарт разработал даже требования, коим этот метод должен удовлетворять; как бы сказали математики, – необходимые и достаточные условия. К ним он отнес, во-первых, истинность «интуиций», легко проверяемых и не подвергаемых сомнению; во-вторых, обязательное расчленение исходной проблемы на ряд взаимосвязанных частных задач; в-третьих, последовательное решение задач – от простой к сложной, по принципу – от известного к неизвестному; и, в-четвертых, безупречную логику рассуждений.
Блестящий по ясности мысли подход! Если он подкупает и сегодня, можно представить себе, какое впечатление философия Декарта («картезианство») оказала на его современников, еще не освободившихся от влияния самодостаточного невежества официальной науки. Картезианство ясно просматривается даже в первом научном трактате по геологии, автореферате Николауса Стенона 1669 г. В сугубо описательном сочинении датского натуралиста появляются характерные разве что для математики, «аксиомы». Впрочем, о них – чуть ниже.
Любопытно также следующее. В своем «Рассуждении…» Декарт делал упор на математические приемы доказательств. Причем он полагал, что если упомянутые нами четыре требования к “методу” будут выполнены, то можно с математической строгостью получить решение любой задачи, кажущейся исследователю сугубо описательной.
Под влиянием философии Декарта естествознание находилось весь XVIII век и практически весь век XIX. Даже в нашем столетии некоторые ученые не избежали соблазна путем сведения сложной проблемы к совокупности частных задач и дальнейшей их формализации, т. е. посредством их переложения на язык математики, добиться безупречно строгого решения. Хотя прямо «картезианцами» теперь никто себя не называет. Переросли эту методологию. Стесняются.
А ведь даже великие умы поддавались соблазну всеобщей математизации естествознания. Так, Даниил Бернулли, Жан Лерон Д'Аламбер серьезно думали перевести описательное естествознание, прежде всего физиологию и медицину, на язык точных наук. Любопытно, что когда за это брались сами натуралисты, ничего путного не получалось. Когда же подключались серьезные математики, то это также не приносило нового естественного знания, зато появлялись глубокие научные результаты в самой математике. Даниил Бернулли, в частности, работал над теорией движения мускулов и теорией кровообращения. Их он не создал. Зато вывел базовые уравнения современной механики.
Под обаяние логики Декарта подпал и Вернадский. В 1886 г. он писал: «Давно пора подвести под математические выражения – строгие, ясные и изящные – реакции и формы земной коры, земной поверхности; так подвести, чтобы из одного, немногих принципов выходило многое. Но для этого надо много и долго еще учиться. Будем”. Не правда ли, это чистое, ничем не замутненное картезианство?
И в наше время, в начале 60-х годов XX века, новосибирские ученые, занявшиеся математизацией геологии (Ю. А. Воронин, Э.А. Еганов, Ю. А. Косыгин и др.) и вставшие на путь ее «глобальной формализации», вне всякого сомнения, были последователями Декарта. Однако и эта попытка, увы, ни к чему не привела. Да и пожелание Вернадского не было услышано.
В чем же дело? Почему уже три столетия естествоиспытатели, скорее всего, не читая самого Декарта, тем не менее верой и правдой служат его философской доктрине, идут по пути, им указанному, хотя путь этот чаще всего никуда не приводит. Не правда ли, это напоминает аллегорию древнекитайского философа Конфуция (551-479 г. до Р. X.) с черной кошкой, которую надо непременно найти в темной комнате, где ее просто нет.
Разгадка этого многовекового интеллектуального гипноза заключается, как мне кажется, в том, что Декарт нашел удачный инвариант научного познания мира. Если бы мы вдруг решились изложить этот инвариант сейчас как оригинальный, нас бы просто осмеяли, – настолько он прост и самоочевиден. Но тогда шел XVII век, причем перед ним был век XVI, когда за любые рассуждения, и уже тем более о научном методе, можно было поплатиться жизнью на костре священной инквизиции. Так что для того времени это было откровением.
Ну а кто и теперь откажется свести к простым и изящным зависимостям все многообразие окружающего нас мира? Вот и бьются наши современники, пытаясь найти однозначное соответствие между невероятной сложностью природных объектов и строгим аналитическим языком математики. В частных случаях это удается. Чаще – нет. Но и это не беда. Ведь наука складывается только из частностей.
XVII столетие – это, однако, не только Рене Декарт…
Великий англичанин Уильям Гарвей (1578-1657) известен в основном как автор открытия системы кровообращения у высших животных и человека. Но мы его вспомнили по другой причине. В 1657 г. он опубликовал свои наблюдения над условиями зарождения животных и растений. Загадка жизни – вот что занимало ум Гарвея. Его принцип: omne animal ex ovo («всякое животное – от яйца») – развил в 1668 г. флорентийский академик Франческо Реди (1626-1698). Он считал, что биогенез – это единственная форма зарождения живого. Omne vivum e vivo («все живое – от живого») вошло в историю науки как «принцип Реди». Это «первое научное достижение, которое позволяет нам научно подойти к загадке жизни», – так оценил вклад Реди в науку Вернадский.
В науке все взаимосвязано. Не решив загадок жизни, невозможно было бы подойти и к проблемам эволюции, а они-то самым тесным образом связаны с историей Земли. Насчитывает она около 4 млрд. лет. И не было в ее истории ни одного безжизненного (абиотического) периода. Это вывод Вернадского.
И все же, где то зерно, с которого начинается куча? Мы привыкли думать, что минеральное царство первично, а растительное и животное – вторично; что догеологический период существования планеты был безжизненным, а жизнь появилась «потом». Над тем, как это случилось, бились многие ученые умы, но нельзя сказать, что вопрос исчерпан. Если допускать первичность одного по отношению к другому, то это другое, т. e. жизнь, на каком-то этапе развития планеты должна была чудесным образом как бы самозародиться или не менее чудесным образом должна быть занесена на крохотную Землю из бесконечного Космоса. Впоследствии даже появилась теория мировых семян жизни – панспермия.
Не все, вероятно, с этим согласятся, но мне кажется, что в этой проблеме мы подходим к той неуловимой грани познания, за которой эксперимент и логика должны вежливо и с достоинством уступить свое место Вере. Ибо разум современного человека постичь подобные проблемы не в состоянии.
Теперь о главном, ради чего мы совершили затянувшуюся экскурсию в XVII столетие, – о зарождении геологии как науки.
Народная мудрость гласит, что умная голова не родит глупых мыслей. Однако чтобы мысли ученых стали достоянием науки, они все же должны опираться на факты. Фактов же в распоряжении естествоиспытателей XVII века практически не было. Упорно работавшая мысль ученых, поэтому явно опережала факты, а не раскрепощенное от теологических воззрений воспитание не давало возможности даже таким выдающимся умам, как Рене Декарт, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Джон Вудворд, нарисовать в своих «Теориях Земли» картину, которая хотя бы на самую малость была «умнее» актов творения Мира, изложенных в Библии. В этих сочинениях есть все атрибуты теологического взгляда на мир: и всемирный потоп, и поэтапные акты творения, и т. п. От идей средневековой схоластики избавиться было очень и очень непросто.
Работа же, которую мы собираемся описать, выгодно отличается от упомянутых «Теорий Земли» своей приземленностью и предельной конкретностью. В ней излагались факты и на их основе уже делались обобщения. И это, конечно, было самым ценным. Ну а то, что обобщения эти интересны нам и сегодня, заслуга гения их автора.
Итак, в поле нашего зрения автореферат (так он сам его назвал) диссертации датского ученого Николауса Стенона (Стено), по другой транскрипции Нильса Стенсена, «О твердом, естественно содержащемся в твердом». При жизни автора он был напечатан трижды: во Флоренции в 1669 г., в Лейдене в 1679 г. (оба раза на латыни) и в Лондоне в 1671 г. на английском. Затем, как это часто случается в науке, работу Стенона более чем на сто лет просто забыли. В 1831 г. ее опубликовали в Париже. И всё.
Второе рождение труд Стенона обрел уже в нашем столетии. Его издавали в Дании (1907 г.), Германии (1922 г.), Италии (1928 г.) и, наконец, в бывшем СССР (1957 г.).
Несколько слов об авторе первого истинно научного (по самым строгим меркам) трактата по геологии. Родился Стенон в 1638 г. 18 лет отроду он поступает в Копенгагенский университет, желая получить медицинское образование. Затем продолжает учебу в Амстердаме. Однако на почве не совсем сейчас понятных конфликтов о научном приоритете Стенон был вынужден бросить учебу и перебраться в Лейден, где ему удалось благополучно защитить диссертацию по анатомии. Кстати, и в эту науку он привнес новое знание, открыв околоушный проток слюнной железы и установив функции слезного аппарата.
В 1664 г. ученый возвращается в Копенгаген и, продолжая свои занятия анатомией, дает чуть ли не первое в мире описание структуры деятельности сердца как чисто мышечного органа. Но и эти открытия не позволили Стенону занять профессорскую кафедру в копенгагенском «Доме анатомии», и он вновь меняет «вид на жительство». На сей раз Стенон переезжает в Париж и начинает изучать анатомию мозга. Проработав всего год, он уезжает в Италию, во Флоренцию, и становится придворным врачом Великого герцога Тосканского Фердинанда II Медичи.
Такое бурное начало научной карьеры Стенона позволяет предположить, что природа наделила этого датчанина не только выдающимися способностями ученого, но и весьма независимым, а возможно, и неуживчивым характером. Это к тому, что забвение научных открытий, о чем мы уже писали, часто происходит не только оттого, что современники не в состоянии их оценить, но и по причине крайне «неудобного» нрава их автора. Не исключено, что в случае с геологической работой Стенона решающую роль сыграли оба эти обстоятельства.
Итак, Стенон во Флоренции. Вероятно, семейство Великого герцога Тосканского отличалось отменным здоровьем, ибо у Стенона вдруг появилась возможность путешествовать в окрестностях Флоренции и заниматься тем, что на языке современной науки называется геологической съемкой. Одним словом, и в науке у Стенона вдруг крутой разворот. Трудно даже такое представить – от анатомии к геологии. Притом, заметим, без специального образования.
Но и эти занятия увлекли Стенона лишь на год-полтора. В 1657 г. он переходит на службу в католическую церковь и, по словам хорошо его знавшего Лейбница, из великого ученого становится «посредственным богословом». В 1672 г. умирает Фердинанд II, и Стенон возвращается в Копенгаген, к датскому Двору на должность «королевского анатома».
Вероятно, наше предположение о характере Стенона все же не лишено оснований, ибо в Дании он долго не задерживается. Причиной отъезда на сей раз послужили его столкновения на религиозной почве с протестантами. Стенон возвращается во Флоренцию, где его ждет место воспитателя наследника престола. 48 лет отроду в 1686 г. Стенон умирает.
Такая вот сравнительно короткая жизнь. Заметим, кстати, что геологией Стенон занимался любительски. Геология не стала его профессией, и потратил он на эти занятия всего один, от силы два полевых сезона. Даром же наблюдателя он безусловно был наделен от Бога, в противном случае не смог бы сделать столько открытий в анатомии. Столь же сильной была и логика его рассуждений, развитая не без влияния уже известного нам трактата Декарта. Иначе Стенон не смог бы из столь кратких по времени и небогатых по материалу геологических наблюдений сделать обобщения, обессмертившие его имя. Наконец, он безусловно знал себе цену и мог сам по достоинству оценить значение своих геологических обобщений, поскольку решился (именно – решился!), не будучи профессионалом, представить свой дилетантский труд в качестве диссертации. Стенон написал реферат, как и было принято в те годы, на латыни. Однако не известные нам обстоятельства не позволили Стенону развить реферат и написать саму диссертацию. Так и остались в истории науки эти скромные по объему и великие по силе мысли тезисы одного из основоположников геологической науки.
В популярной книжке не место заниматься подробным анализом тезисов Стенона. Но читатель должен все же знать, чтó такое открыл датский ученый, вынуждающее меня даже через 300 лет относить его сочинение к самой замечательной работе по геологии XVII века.
Краткий ответ прост: Стенон открыл основные закономерности образования слоев горных пород и обосновал правила их возрастного взаимоотношения. А это (если читатель хотя бы немного знает геологическую терминологию) дает право величать Стенона основоположником и седиментологии (науки об условиях образования осадочных пород), и стратиграфии (науки о возрасте геологических тел). Если же вспомнить, что тезисы Стенона явились первой в мире научной работой по геологии, то, вероятно, не будет большой натяжкой, если мы назовем его родоначальником (лучше все же – одним из родоначальников) геологии в целом.
В коллективной монографии по истории геологии, опубликованной в 1973 г., можно прочесть, что «идеи и метод Стенона – последователя Декарта – намного опередили общий уровень развития естественных наук его времени и поэтому далеко не сразу нашли отклик в работах других исследователей”.
Экскурсировал Стенон в итальянской провинции Тоскана, между реками Тибр и Арно. Отложения там преимущественно осадочного происхождения, поэтому они имеют форму слоистого залегания, однако почти всегда смяты в складки. Стенон верно понял, что первоначально (во время отложения) слои имели горизонтальное залегание, а складчатую форму им придали последующие процессы; какие именно, Стенон, конечно, сказать не мог.
Надо отметить, что факт этот был настолько нов и необычен, что даже крупные геологи конца XVIII столетия, такие, к примеру, как Абраам Готлоб Вернер (1750-1817), искренне полагали, что уж коли слои в обнажении «не лежат, а стоят вертикально», то таковыми они были всегда.
Стенон же, не зная ни законов гидравлики (они еще не были открыты), ни законов движения земной коры (о них и вовсе не ведали), писал в своих тезисах, что горизонтальное залегание слоев объясняется тем, что осадок, находящийся первоначально в смеси с жидкостью, «под влиянием собственной тяжести отделится от этой жидкости, а ее движения придадут этому веществу ровную поверхность». И далее (почти за 200 лет до открытия закона Стокса): «Если в одном и том же месте вещество слоев неодинаково…, то из этого следует, что самые тяжелые осаждаются сначала, а самые легкие потом”.
Наконец, наиболее важное его открытие в области седиментологии: «во время образования какого-либо слоя лежащее наверху его вещество было целиком жидким, и, следовательно, при образовании самого нижнего слоя ни одного из верхних слоев еще не существовало». Это фундаментальное открытие не поколеблено до сих пор.
Правда, в 1868 г. наш соотечественник, замечательный русский геолог XIX столетия, Головкинский сделал шаг вперед в сравнении с тем, куда продвинул науку об осадочных породах Стенон. Если датчанин считал, что морское дно, на котором последовательно накапливались зерна осадка, было неподвижным, и потому именно слои, сменяя друг друга по составу, откладывались один за другим, образуя в разрезе своеобразный слоеный пирог, то русский допустил перемещение (миграцию) береговой линии моря под действием вертикальных колебательных движений земной коры. Схему слоеобразования Головкинского, заимствованную из его докторской диссертации «О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна», мы приводим на рис. 1.
При опускании дна объем водной чаши увеличивался, и море как бы наступало на сушу. Геологи этот процесс называют трансгрессией. При подъеме дна море отступало (регрессия). Раз так, то и осадки, покрывающие дно, должны были неизбежно перемещаться вслед за береговой линией. Отсюда и вытекала формулировка фундаментального закона, открытого Головкинским: то, что мы видим в разрезе вертикально напластованным, должно являться нам в той же последовательности и в горизонтальном направлении. Соответственно по чередованию пород в разрезе можно судить о былой зональности осадков в бассейне, где они накапливались.
Поясним это на примере, всем понятном. Бывавшие на Черноморском побережье могли наблюдать, что пляжи там (где они сохранились) покрыты галькой, далее в море (на очень небольшой глубине) она сменяется песком, еще дальше от берега песок замещается илом, часто известковым. Это, разумеется, самая общая, сильно усредненная зональность в распределении осадков.
Так вот, Головкинский утверждал, что если морское дно подвижно (в геологическом смысле времени, разумеется) и испытывает колебательные движения, то при опускании дна береговая линия будет наступать и «съедать» сушу; при этом на песок ляжет ил, на гальку – песок. Они-то и образуют слои осадочных пород.
Теперь разберемся. Стенон, как мы помним, постулировал, что при образовании «самого нижнего слоя ни одного из верхних слоев еще не существовало».
– Нет! – как бы возражал ему через века Головкинский. – Верхние слои уже были, но они, как бы это сказать, еще не находились в разрезе, а располагались лишь на горизонтальной плоскости, причем в определенной последовательности. Эта последовательность затем и воспроизводилась при продолжающемся накоплении осадков. Как меха у баяна: сначала растянуты, а затем сведены в гофрированную гармошку.
Итак, Головкинский опроверг Стенона? Нет. Уточнил и дополнил. В чем дополнил, мы уже разобрались. А чем же уточнил?
Представим себе, что в произвольной точке морского берега, у уреза воды мы мысленно поместили систему координат: одна ее ось направлена вдоль берега, т. е. проходит через литологически однотипные отложения, а вторая ось направлена в сторону моря, т. е. пересекает все типы донных осадков. Система эта будет, разумеется, перемещаться вместе с береговой линией. Так вот, в каждый конкретный момент времени изохрона (линия равного времени, если можно так выразиться) будет также пересекать всю последовательность осадков, которые мы отметили. По прошествии же длительного геологического времени (это нетрудно себе представить), когда гармошка осадков сомкнется и образуется осадочный разрез, то, «следя» от разреза к разрезу любой из слоев, мы неизбежно пересекаем линии равного времени, т. е. этот слой должен считаться разновременным.
Головкинский так удивился этому своему выводу, что посчитал его парадоксальным. Вот как он его сформулировал: «Общепринятое убеждение в последовательности образования последовательно друг на друга налегающих слоев – наверно» (курсив Головкинского. – С. Р.).
Здесь, конечно, никакого парадокса нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить градиент возрастного скольжения в пределах одного слоя с разницей во времени образования смежных слоев, поскольку первое, что приходит в голову при знакомстве с теорией Головкинского, – ее кажущееся противоречие принципу Стенона: верхние слои могут оказаться древнее нижних. Как разрешается этот кажущийся парадокс, любознательный читатель может узнать, прочитав нужные страницы в моей книге о Головкинском.
Итак, мы добрались до главного, о чем уже вскользь упоминали,- до «принципа Стенона». Так он именуется в современной стратиграфии. Принцип этот выводится как следствие первой из трех сформулированных Стеноном «аксиом». Перевод с латыни этой аксиомы следующий: «…если твердое тело со всех сторон окружено другим твердым телом, то… первым затвердело то, которое при взаимном соприкосновении дает отпечаток особенности своей поверхности па поверхности другого».
Эта «аксиома» и стала основным, базовым, принципом стратиграфии, принципом возрастного соотношения слоев. Этот принцип гласит, что если слои залегают горизонтально и это залегание первично (например, слои не перевернуты, что бывает очень часто), то из каждой пары слоев первым образовался слой подстилающий (он старший), а вслед за ним – слой покрывающий (он младший).
Подытожим. Коли закон, открытый Стеноном в 1669 г., верой и правдой служит геологической науке уже более трех столетий, то, вероятно, это самая лучшая его аттестация, не требующая себе в подмогу ни звучных эпитетов, ни дополнительного привлечения мнения ученых авторитетов.
XVIII ВЕК
Удивительно, но факт. Казалось бы, мы приближаемся к современности на целое столетие, но позитивного знания в геологической науке почти не прибавляется. Ничего, даже отдаленно напоминающего по глубине проработки труд Стенона, «осьмнадцатое» столетие нам не представит. Зато натуралисты (их еще рано называть геологами) усиленно продолжали размышлять о вечных проблемах бытия Земли (я уже отмечал, что именно в XVIII веке наиболее популярными были разнообразные «Теории Земли»).
Фактов практически не было. Как устроен любой из районов Земли, ученые еще не знали, но обобщения (разумеется, дедуктивные) они рождали глобальные, всеземные. И хотя зачастую отдельные мысли оказывались новаторскими, даже провидческими, но это были именно мысли, не подкрепленные ни конкретным научным анализом, ни опорой на факты, а потому они так и остались в истории науки «мыслями», а не научными результатами.
Вот выборочная хронология наиболее существенных идей и сочинений ученых XVIII столетия.
В 1715 г. немецкий естествоиспытатель Якоб Мелле (1659-1743) публикует свое полуфантастическое сочинение под странно звучащим (для современного читателя) названием «Теллиамед». В нем он «убедительно доказывает», что Земля приближается к Солнцу (до этого не мог додуматься даже Птолемей, живший почти на полтора тысячелетия раньше), поэтому, мол, вода на Земле испаряется. Вулканы же продолжают разогревать планету изнутри.
Любопытно, что когда естественнонаучное исследование опиралось не на факты, а на фантазию автора, то даже гениальные ученые, такие, например, как Готфрид Вильгельм Лейбниц (1546-1716), не были способны возвысить мысль над теологической доктриной. Так, в 1749 г., уже после смерти Лейбница, на латинском языке публикуется его труд «Протогея» (Protogаеа), т. е. «Первоземля». В нем, разумеется, признается и акт божественного творения Земли, и Всемирный потоп, следы которого, по Лейбницу, это фауна, которую находят высоко в горах. Однако он понимал, что факты – это фундамент естественнонаучного здания, поэтому «авторитету Плиния», не сомневаясь, противопоставил «тщательные наблюдения Стено».
В Англии в середине XVIII столетия даже процветала школа так называемых «библейских» геологов. Для них сомнений не было: вся окружающая природа есть акт творения. Самопроизвольно – без Высшего участия – ни горы, ни моря, ни лес, ни пустыни, ни все твари, Землю населяющие, возникнуть не могли.
В 1735 г. великий швед Карл Линней (1707-1778) в своем фундаментальном творении «Система природы» (Systema naturae) сделал очень интересную попытку систематизации растительного и минерального царств. Классификацию горных пород он неоднократно впоследствии уточнял. Была она все же не очень удачной даже для того времени. Почти через 50 лет, в 1783 г., Петербургская академия наук учредила специальную премию за разработку системы классификации горных пород.
В 1746 г. малоизвестный французский ученый Жан Этьен Гуттар (1715-1786) высказывает идею геологического картирования. Сейчас геологическая карта – главный инструмент и итог познания земной коры. Так что историческая память оказалась весьма благосклонной к Гуттару, и имя его не провалилось в одну из многочисленных дыр забвения.
Восемнадцатый век (мы, само собой, ограничиваемся только геологией) – это век великих идей, великих замыслов, великих творений, но не великих открытий.
В 1749 г. 42-летний француз Жорж Луи Леклер граф де Бюффон (1707-1788) приступает к главному труду своей жизни – к 36-томной «Естественной истории», последний том которой Бюффон закончил в 1788 г. Подумать только: в течение 39 лет написать 36 томов! И нет оснований считать, что этот свой труд Бюффон завершил, ибо в 1788 г. – в год публикации 36-го тома он скончался.
Первый том своей «Естественной истории» Бюффон называет «Теория Земли» (1749 г.). Подобных «теорий», как уже было сказано, в XVIII столетии создано немало. Однако глубокого следа в науке они не оставили по той простой причине, что наука еще не располагала достаточной фактической базой для их создания. Мысль, как это нередко случается, летела намного впереди фактов и часто поэтому уводила в сторону.
Для Бюффона, безусловного сторонника эмпирического начала науки, такое рассуждение, как может показаться, не подходит. В целом, да. И особенно его эмпиризм нагляден в завершающих пяти томах книжной эпопеи. Они посвящены истории минералов. Общие закономерности он пытается здесь выводить только из фактов; иного – не признает.
Главное – наблюдения, через частное – к общему. Всеобщие законы природы должны выводиться только из фактов. Получается, если следовать строго индуктивному методу, что каждый факт – это новая ступень в познании; что, поднимаясь по этим ступеням, мы приобретаем все более общие знания о природе, а на самом верху этой своеобразной винтовой лестницы нас ждут глобальные обобщения, всеобщие законы природы. Вероятно, природа все же более глубока, чем разработанные нами схемы познания, ибо «всеобщие законы природы» для естествоиспытателя остаются столь же недостижимыми, как асимптота для математической функции, как горизонт для путника, как коммунизм для человеческого сообщества…
Заметим еще, что хотя наши историки науки и считают этот гигантский труд Бюффона одним из замечательных памятников эпохи Просвещения, тем не менее, полагают, что в целом он более описательный, чем аналитический; это, мол, нечто промежуточное между наукой и художественной прозой. Оценка, я 6ы сказал, странная, ибо в традициях французской научной прозы XVIII – начала XIX веков был как раз легкий и красивый слог, живой и образный язык. Так же, кстати, писал и Кювье – великий продолжатель великого Бюффона. Понятно, что за внешней легкостью и изяществом слога мысль как бы маскируется, ей также невольно придается оттенок некоторой поверхностности Но это только при невнимательном чтении.
Все смешалось и переплелось на раннем, донаучном этаперазвития геологии. Еще не было фактов, не было поэтому иобосновываемых ими воззрений. Были лишь прозорливые, чаще же абсурдные суждения и мысли отдельных провидцев, которые теперь излишне рьяные историки науки пытаются выдавать и за теории, и даже за учения, В отсутствие достаточного числа, как выражались в XIX веке, «положительно известных явлений», ученые-натуралисты и философы, размышлявшие о «сотворении мира», писали о Земле в целом, строили внешне красивые, но ничем не обоснованные теории.
Так, Бюффон в «Теории Земли» изложил свои космогонические воззрения. Однако рассуждения его на эту тему оказались не столь интересными, как выводы, опирающиеся на конкретные наблюдения, – о длительной истории Земли, о неизменности хода геологических процессов, об исчезновении в процессе развития целых групп фауны. Поэтому космогонические взгляды Бюффона были быстро забыты.
Зато его современнику, великому немецкому философу Иммануилу Канту (1724-1804) в этом смысле повезло больше: его теория возникновения планетной системы оказалась весьма живучей и популярной. Опубликовал Кант ее в 1755 г. во «Всеобщей естественной истории и теории неба». В истории науки она прочно закрепилась под названием «космогоническая теория Канта-Лапласа». И. В. Круть заметил, что «соавтор» Канта французский математик и астроном Пьер Симон Лаплас (1749-1827) свой вариант космогонии создал лишь в 1796 г. С легкой же руки Германа Гельмгольца (1821-1894) эти два имени уже более ста лет неразлучны, хотя космогония Канта – «холодная», а Лапласа – «горячая». Бывает и такое.
Одним из самых содержательных геологических сочинений середины XVIII века с полным правом можно считать труд нашего соотечественника Ломоносова «О слоях земных». Вернадский в своих «Очерках по истории современного научного мировоззрения» резонно заключил, что русская геологическая мысль включилась в мировую работу с XVIII столетия. Безусловно он имел в виду Ломоносова.
Этот труд основоположника «нашей» науки столько раз прочитывали преданными псевдопатриотическими глазами, столько раз видели за отдельными точно предугаданными мыслями фундамент самостоятельных ответвлений геологических дисциплин, что, право, как это ни покажется парадоксальным, раскрыть еще раз работу Михайлы Васильевича «О слоях земных» и прочесть ее, но по возможности трезво и не впадая в раж основоположничества, было и трудно и интересно.
Итак, «О слоях земных».
Однако чуть-чуть притормозим и расскажем подробнее о личности Ломоносова – все же он общепризнанный родоначальник всей российской науки, а, следовательно, и геологии.
Правда, нельзя забывать такой факт: наука в России начиналась не с высшего образования, а сразу с казенного учреждения – Академии наук, которая была организована тогда (1725 г.), когда ни один русский ученый даже теоретически не мог быть ее членом. Так что первый состав «российских ученых» был целиком «импортным» и основы нашей национальной науки закладывали Д. Бернулли, Л. Эйлер, Г. Миллер, Хр. Гольдбах, Ж. Делиль и др.
Но признать это, – значит унизить «национальную гордость великороссов». Поэтому, отдавая дань названным ученым, наши историки предпочитают омолодить российскую науку на 20 лет с тем, чтобы с начальной точкой отсчета совместить не швейцарцев, немцев и французов, а «природного россиянина» М.В. Ломоносова. Русской науке надо было с кого-то начаться. Более подходящей фигуры, чем Ломоносов, для подобной бухгалтерии не найти.
Феномен Ломоносова в том, что он, оставшись лишь в истории науки, создавший труды, «не оказавшие, – по мнению академика Вернадского – прямого влияния на ход развития знания», которые «были скоро забыты и только в нашем столетии обратили на себя внимание уже с исторической точки зрения», тем не менее до сих пор почитается как великий ученый, родоначальник русской науки.
Главное, что сделал Ломоносов для русской науки, – показал всему миру ее громадный творческий потенциал, который при благоприятных социально-экономических и политических условиях мог одарить мировую науку многими выдающимися достижениями. К тому же масштаб личности ученого был столь несоразмерен с остальными русскими его собратьями по науке, что невольно создается впечатление, – вынь Ломоносова из русской науки XVIII столетия, и заметных фигур не останется, начало ее летоисчисления отодвинется еще лет на сто.
Когда наука (та же геология) начинается «с чистого листа», то все сделанное становится новым, а поскольку Ломоносов был наделен не только недюжинным талантом, но и неукротимым темпераментом, да и ненасытным аппетитом, то он накинулся на всю науку сразу и действительно многое сделал первым. Так что невспаханное поле русской науки того времени дало возможность Ломоносову стать первым русским разработчиком многих проблем физики, химии, геологии. Он и остался первым, но только в истории нашей национальной науки.
Не будем забывать и о том, что в годы работы Ломоносова, как заметил академик Д.С. Лихачев, «культура Древней Руси сменялась культурой нового времени». Характерной особенностью культуры Древней Руси являлось то, что она не знала естественнонаучной истории, а обладала лишь некоторыми православными традициями гуманитарного знания. Эти традиции Ломоносов развивать не стал. Зато именно с него началось специфическое вúдение естественнонаучной картины мира, ибо, повторяю, ранее естествознание не занимало русские умы.
Работал Ломоносов истово. За свою сравнительно короткую жизнь (54 года) он оставил громадное творческое наследие. Лишь то, что сохранилось, а это далеко не все им сделанное, еле уместилось в 11 толстенных академических томах его сочинений [4].
В данной книжке пересказывать биографию Ломоносова смысла не имеет. О нем написано больше, чем о любом другом русском ученом. Поэтому ограничимся лишь основными вехами его жизни.
Ломоносову шел двадцатый год, когда он сел за парту с детьми, чтобы постигать азы систематического образования в Славяно-греко-латинской академии. Учился он там с 1731 по 1735 г. Затем с января по сентябрь 1736 г. он числился студентом в Петербургской Академии наук на «академическом коште». С октября 1736 г. по июнь 1741 г. Ломоносов продолжил учебу в Германии. Академия наук отправила его за границу для овладения специальностью горного инженера. Три года он обучался в Марбургском университете. Выдающийся немецкий ученый Хр. Вольф писал, что среди учившихся у него русских студентов Ломоносов – «самая светлая голова». Он посещал рудники в Саксонии, экскурсировал как геолог по Германии, много читал и размышлял. По возвращении на родину Ломоносов выполнил поставленную перед ним задачу. Причем – и это важно отметить – занятие геологией не было для него принудительным, он действительно заинтересовался земными проблемами, бывшими в прямом смысле слова terra incognita.
В Германии он женился на Елизавете-Христине Цильх и 8 июня 1741 г. вернулся в Петербург, в Академию наук. Здесь он приступил под руководством профессора И. Аммана к изучению «естественной истории».
В это время на российском престоле царствовала Елизавета Петровна. Это была типично русская барыня, которая каждую мысль, каждое государственное решение, по выражению историка В.П. Наумова, «вынашивала как беременность». Одно стало несомненно: она активно поощряла все русское.
И это не ускользнуло от внимания руководства Академии наук. Не без учета этих соображений (что подметил еще историограф Академии П.П. Пекарский) Академия в 1745 г. пустила в свою среду строптивого и, как бы мы сказали сегодня, предельно некоммуникабельного Ломоносова.
Главное, что отличало Ломоносова и неизменно помогало ему добиваться поставленных целей, – его несомненная искренность во всем. Прежде всего это касается науки. Она была для него единственным смыслом жизни. Он прекрасно знал себе цену, и его подчас просто бесило окружавшее его академическое чиновничество…
Вернемся, однако, к геологии.
Мы знаем уже, что в середине XVIII века геологической науки еще не существовало. И хотя уже были известны идеи актуализма (Леонардо да Винчи), был сформулирован первый основополагающий принцип стратиграфии (Николаус Стено) и даже высказаны первые робкие соображения о дрейфе материков (Фрэнсис Бэкон) – науки о Земле еще не было. Ее основы во второй половине XVIII века только закладывались трудами Д. Геттона, А.-Г. Вернера, Г.-Х. Фюкселя, П.-С. Палласа, И.-Г. Лемана, М.В. Ломоносова и других ученых. В 1761 г. Фюксель дал ей название «геогнозия», и она стала преподаваться в ряде европейских университетов как особая научная дисциплина.
Фактического материала практически никакого не было, зато «Теории Земли» публиковались одна за другой. Мы уже вспоминали такие «теории» Канта, Геттона, Бюффона. Вот еще одна. Немецкий натуралист Вернер в книге «Новая теория образования Земли» (1791 г.) развил свои «полупоэтические, полуневежественные» (так их обозвал хорошо нам знакомый Николай Головкинский) воззрения на строение земной коры.
По Вернеру, земная кора состоит из 4 всемирных формаций, опоясывающих земной шар. Образовались они последовательно из хаотических вод первородного океана. Если почитать историко-научные экскурсы Ч. Лайеля (1830 г.), А.П. Павлова (1920 г.), то подобных теоретических откровений можно найти немало.
Как к ним относиться сейчас? С одной стороны, сегодня, конечно, они выглядят псевдонаучными, от них даже попахивает средневековым мракобесием. Но, с другой – это вершины геологической науки того времени. Ее творцы, а мы упомянули только самые громкие имена, своими размышлениями, суждениями и идеями не столько обогащали ее фактическую базу, сколько опережали ее.
Таков вкратце научный фон, который мог питать мысли Ломоносова-геолога. Если же вспомнить, что при его обрисовке мы сознательно вышли за хронологические рамки жизни ученого, то фон этот должен выглядеть еще более скудным. Тем более можно лишь удивляться, как при почти полном отсутствии фактической базы Ломоносов смог сформулировать ряд идей, которые и сегодня не выглядят такими уж архаичными.
В геологических работах Ломоносова «наиболее важны высказанные им взгляды, идеи и гипотезы». Так считал Вернадский. И мы будем исходить из того же.
Работ, посвященных началам геологии, у Ломоносова немного. В 1742 г. он написал «Первые основания металлургии, или рудных дел», в 1745 г. создал каталог минералогической коллекции Академии наук, в 1757 г. по-латыни и по-русски опубликовал свою академическую речь «Слово о рождении металлов от трясения Земли» и, наконец, в 1763 г. напечатал наиболее известную статью «О слоях земных». Ее он поместил в качестве второго приложения в переиздаваемые «Первые основания металлургии…».
Здесь мы сталкиваемся с одним достаточно любопытным парадоксом. Дело в том, что, как мы знаем, Ломоносова Академия наук готовила к работе геолога-натуралиста. 27 января 1749 г. в письме к историку Василию Никитичу Татищеву (1686-1750) Ломоносов писал: «Главное мое дело есть горная наука, для которой я был нарочно в Саксонию посылан, также физика и химия много времени требуют». И, несмотря на это, работ по геологии у Ломоносова очень мало. Причем собственно геологические его идеи содержатся всего в двух статьях, да и те, строго говоря, являются не научными, а научно-популярными. Чем это можно объяснить?
Однозначный ответ на этот вопрос, конечно, дать трудно, но высказать свои соображения необходимо. Мне представляется, что решающую роль здесь сыграли три фактора: почти полное отсутствие фактического материала, на базе которого можно было бы решать конкретные геологические проблемы, чисто физический склад ума ученого, не позволявший ему без эксперимента, т. е. без проверки фактами, браться за разработку какого-либо геологического вопроса; и, наконец, ненасытный научный аппетит Ломоносова, не оставлявший времени на дотошные и длительные исследования. Размышлял же над этими проблемами он всю жизнь (не работал, а именно – размышлял). Итогом этих раздумий ученого и стала его научно-популярная статья «О слоях земных», опубликованная им всего за два года до смерти, т. е. уже после выполнения его известных работ по физике и химии.
Научное исследование должно обосновываться и проверяться фактами, – в этом Ломоносов был убежден твердо, а вот в популярной статье вполне позволительно было просто поделиться с читателем своими идеями и мыслями. Так он и сделал.
Заметим, кстати, что вторая его геологическая работа по форме была также популярной. Написана она под впечатлением катастрофического лиссабонского землетрясения 1755 г., ввергшего в священный ужас все население Европы и потрясшего ученых-естествоиспытателей.
Уже в 1757 г. на Общем собрании Академии наук Ломоносов выступил с речью, полное название которой звучит так: «Слово о рождении металлов от трясения Земли, на торжественный праздник Тезоименитства Ея Императорского Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны самодержицы Всероссийския в публичном собрании Императорской Академии наук сентября 6 дня 1757 года говоренное коллежским советником и профессором Михайлом Ломоносовым».
Лиссабонское землетрясение перечеркнуло господствовавшее в то время представление о твердой, незыблемой и вечно неизменной земле. Именно это «трясение Земли» направило мысль Ломоносова-натуралиста на то, что лик планеты изменяется во времени; следовательно она должна иметь свою историю. Он, как физик, прекрасно понимал, что любые физические явления на Земле, вне зависимости от масштаба протекают во времени и также во времени изменяются. Отсюда его вывод об изменении характера процессов во времени, т.е. геологической истории планеты. Подобные рассуждения и идеи были не столько созвучны науке его времени, сколько значительно опережали ее. И еще раз заметим, что и в данном случае мы имеем дело не с законченным исследованием ученого, а с логической цепью его раздумий о последствиях «трясения Земли».
И еще один немаловажный факт (вспомним критику «научной прозы» Бюффона): обе геологические статьи Ломоносова написаны сочным образным русским языком, к которому, конечно, надо привыкнуть -как-никак XVIII век, но впоследствии это окупается тем истинным удовольствием, которое получаешь от чтения работ Ломоносова. Чего стоит, например, описание условий образования янтаря, которое ведется от лица некогда «живых тварей», навечно прилипших к древесной смоле.
И все же главная ценность геологических раздумий Ломоносова – методологическая. Он прекрасно понимал, что проникнуть в недра Земли можно не «руками и оком», а путем косвенным. Что это означает? Необходимо для этого «странствовать размышлениями в преисподней, проникать рассуждением сквозь тесные расселины, и вечною ночью помраченные вещи и деяния выводить на солнечную ясность». Красиво, не так ли?
В статье «О слоях земных» Ломоносов высказывается практически по всем вопросам, интересовавшим современную ему геологическую науку. Он, разумеется, не был бы Ломоносовым, если бы пересказывал чужие суждения. По каждой проблеме взгляды у него свои, оригинальные и часто существенно опережавшие тогдашние знания.
Это, к сожалению, оказалось козырной картой в руках наших лжепатриотов, кои в эпоху искусственного огораживания отечественного сада науки приоритетными столбами упорно видели в статье Ломоносова то, чего попросту в ней не было. Это грустная, но прелюбопытная страница истории нашей отечественной науки [5].
Наиболее разительный пример касается отношения Ломоносова к проблеме перемещения материков, даже о существовании которой – можно уверенно утверждать – он не подозревал. Академик Лев Семенович Берг (1876-1950) допустил в этой связи следующий пассаж. В 1947 г. он публикует статью «Некоторые соображения о теории перемещения материков», доказывая, разумеется, ее полную «несостоятельность», как лишенную к тому же «физического обоснования». Вероятно, на него большое впечатление произвела статья 1946 г. Николая Сергеевича Шатского «Гипотеза Вегенера и геосинклинали», выражавшая точку зрения официальной науки на измышления буржуазного ученого. Однако в том же номере журнала «Известия Всесоюзного географического общества» Берг печатает и небольшую заметку «Ломоносов и гипотеза о перемещении материков». Здесь он уже доказывает, что великий наш самородок был активным сторонником «несостоятельной» гипотезы, разработанной к тому же через 150 лет после его смерти. Как советский академик это сделал? А вот как.
Берг находит нужное ему место в статье Ломоносова «О слоях земных». Это § 163. Ломоносов пытается объяснить здесь находки костей слонов (мамонтов) в северных широтах и связывает это с изменением климатических зон на Земле. Указывая на то, что в «северных краях в древние веки великие жары бывали», он пишет далее, что «иные полагают бывшие главные земного шара превращения, коими великие оного части перенесены с места на место, чрезвычайным насильством внутреннего подземного действия». Это и есть «мобилистские идеи» Ломоносова, по Бергу. Однако если в этом достаточно туманном высказывании и усмотреть горизонтальные перемещения континентов по земному шару (мобилизм), то уж никак нельзя связывать эти взгляды с именем Ломоносова. Он в этом вопросе своего мнения не высказал. Приведенная цитата начинается словами: «иные полагают». А далее следует: «другие приписывают» изменения климата «нечувствительному наклонению всего земного глобуса, который во многие веки переменяет расстояние еклиптики от полюса».
Еще один пример предвзятого прочтения статьи Ломоносова «О слоях земных». Прочтя § 98 этой статьи, Д. М. Трошин в 1952 г., ничтоже сумняшеся, «доказал», что Ломоносов и Дарвина, оказывается, опередил, развив идеи направленной эволюции органической природы от форм низших к высшим, от простого к сложному. Между тем § 98 очень примечателен. Не заключая того, что в нем прочел Трошин, этот параграф содержит своеобразное методологическое credo ученого, его суммарный взгляд на подход к изучению геологической истории нашей планеты. Приведем § 98 целиком. Он, на наш взгляд, самое ценное в статье Ломоносова 1763 г. – его своеобразном геологическом завещании.
«§ 98. К сему приступая, должно положить надежные основания и правила, на чем бы утвердиться непоколебимо. И, во-первых, твердо помнить должно, что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим; но великие происходили в нем перемены, что показывает История и древняя География, с нынешнею снесенная, и случающиеся в наши веки перемены земной поверхности. Когда и главные величайшие тела мира, планеты, и самые неподвижные звезды изменяются, теряются в небе, показываются вновь; то в рассуждении оных малого нашего шара земного малейшие частицы, то есть горы (ужасные в наших глазах громады) могут ли от перемен быть свободны? И так напрасно многие думают, что все, как видим, с начала Творцом создано; будто не токмо горы, долы и воды, но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом; и потому-де не надобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара земного, а особливо искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: Бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин».
В этом небольшом отрывке, как видим, – целый кладезь мыслей. Их с невероятной для того уровня развития геологической науки прозорливостью высказал наш великий ученый. Здесь и безусловная его уверенность в вечной изменяемости геологической истории, и представление о методе изучения («снесения») этих изменений, и мысль о необходимости познания причин геологических явлений и механизмов, этими явлениями управляющих.
И все это, надо отметить, было высказано в рамках науки, не просто не признанной, но по существу не обозначенной хотя бы контурно, не имеющей даже устоявшегося названия.
Академик Александр Леонидович Яншин (1911-1999) провел специальный исторический экскурс, выясняя происхождение названия науки о Земле. Он установил, что одним из первых термин «геология» в современном значении этого слова употребил норвежский ученый М. П. Эшольт. Было это в 1657 г. Затем английские естествоиспытатели Джон Рей (1692 г.), Джон Вудворд (1695 г.) и Роберт Гук (1705 г.), а также швейцарский ученый Иоганн Якоб Шейхцер (1705 г.) использовали тот же термин при описании последствий «Всемирного потопа». При этом правда, был неясен смысл, какой они в этот термин вкладывали.
Во второй половине XVIII века немецкие натуралисты и среди них Георг Христиан Фюксель (1722-1773) включились в весьма популярные в то время терминологические диспуты. Фюкселю, в частности, не нравилось расплывчатое толкование греческого слова «логос» – мысль, разум. Он предложил заменить его на более, как ему казалось, определенное: «гнозия», что в переводе с греческого означает, в частности, познание. Таким образом, с конца 60-х годов XVIII века наука о Земле стала называться геогнозией. Когда же термин этот стал популяризировать в своих сочинениях Вернер, самая колоритная фигура на геологическом небосклоне того времени, он стал практически общепринятым. По крайней мере, в Германии и России. В Англии, Франции и Италии ему все же предпочитали более привычное слово «геология». В США термин «геогнозия» не употреблялся вовсе. Вернер, надо сказать, понимал под «геогнозией» часть «всеобщей минералогии», заведомо сужая и, по сути, девальвируя значимость изучения истории Земли.
В конце XVIII столетия кроме терминологических споров науку начали сотрясать бесконечные и крайне резкие концептуальные дискуссии, не только не принесшие пользы геологии, но затормозившие ее развитие на несколько десятилетий. Речь идет о знаменитых дебатах между «плутонистами» и «нептунистами».
В 1785 г. шотландец Джеймс Геттон (Хаттон) изложил свое видение того, как образовались горные породы, повторив при этом представления Гераклита (~500 лет до Р. X.), а, скорее всего, еще более ранних мыслителей. Геттон полагал, что все виды горных пород являются порождением огнедышащих земных недр. Отсюда и название теории по имени Плутона – в древнегреческой мифологии владыки подземного мира и царства мертвых. Одним словом, по Геттону, все горные породы: и гранит, и мрамор, и известняк, и базальт, и песчаник – образовались в результате действия «огня».
Через два года, в 1787 г., немецкий профессор Абраам Готлоб Вернер высказал другую идею на этот счет, также всеобщую, а значит, абсурдную. Она тоже, кстати, была известна со времени жизни Фалеса (конец VII-начало VI века до Р. X.). Горные породы, по Всрнеру, образовались в Мировом океане, вода которого изначально была и не водой вовсе, а некоей хаотической жидкостью (menstruum); из нее-то последовательно и осели на дно морское все известные нам горные породы. Вода очистилась и перестала быть menstruum'ом. Такая, вот, теория. Название она получила по имени древнегреческого бога морей Нептуна.
Сейчас это, конечно, звучит дико, но в то время мировое научное сообщество на самом деле уверовало в одну из крайностей и с яростью просвещенного фанатизма ее отстаивало. Ученые не работали, а спорили. Это тот редкий случай в истории науки, когда дискуссия не только не привела к научному открытию, но просто отвлекла ученых от их прямых занятий. Слава Богу, что сами авторы этих воззрений не посчитали их за вершины собственной научной карьеры и продолжали упорно трудиться.
В 1795 г. Геттон (кстати говоря, фермер, закончивший три университета – Эдинбургский, Лейденский и Сорбонну, но профессионально как геолог так и не работавший) опубликовал в Эдинбурге свой вариант «Теории Земли». Она оказалась последней по времени публикации среди аналогичных «теорий», вобрала в себя все достижения науки того времени, оплодотворенные недюжинным талантом ее создателя. В своей теории Геттон главное внимание уделил не космогоническим воззрениям, а геологическому прошлому Земли и прежде всего путям его познания. Мы еще вспомним эту работу Геттона в следующей главе при детальном обсуждении первого из великих геологических открытий.
Если еще раз вернуться к Ломоносову, то нельзя не отметить, что значительно важнее для нас не конкретные научные результаты, которые он получил, в частности, при рассмотрении геологической проблематики, а заложенные именно им традиции самого подхода к научному творчеству, они во многом стали определяющими для развития русской науки. Тем более что господствовавший у нас почти до конца XX столетия тоталитаризм как нельзя лучше способствовал их укоренению и развитию. Как это ни странно, работы самого Ломоносова тут ни при чем. Просто и в этом сказалась его гениальная прозорливость: он заложил именно тот базис сугубо русского подхода к науке, который более всего корреспондировал с отношением к науке Российского государства.
Кумиром Ломоносова, как известно, был Петр Великий. И не зря. Натуры они родственные во многом. И роднило их прежде всего нетерпение, а потому торопливость, жажда объять своей неуемной энергией всё, отсюда столь полярные начинания и даже разбросанность, отсюда же неравноценность сделанного.
Мысль Ломоносова постоянно летела впереди фактов, а его всепроникающая интуиция позволяла делать довольно точные обобщения по единичным экспериментам. На проверку и перепроверку опытов у не было ни времени, ни желания. Он спешил!
Да, Ломоносов больше размышлял, чем экспериментировал. Тут в общем-то нет ничего удивительного, если вспомнить его учебную подготовку в Славяно-греко-латинской академии и дальнейшую учебу в Германии, где он постигал азы геологической науки прежде всего и не получил необходимых навыков культуры физического эксперимента, да и математических знания также. К тому же не будем забывать, что и в Европе того времени экспериментальная технология естественных наук только зарождалась. Не было ни опыта, ни традиций.
Вне сомнения, у Ломоносова хватило бы дарований, займись он только физикой, химией или геологией, навсегда связать свое имя с конкретным научным открытием в одной из этих наук. Но он занимался сразу всем, а потому, ничего не открыв конкретно, он до многого самостоятельно додумался и многое «угадал» (В.И. Вернадский). Но догадки, какими бы прозорливыми они ни были, еще не доказательства. Такие «догадливые» чаще выводят на верную тропу усердных экспериментаторов, и те аргументировано вписывают свое имя в историю науки, навсегда связав его с чем-то конкретным.
Вероятно, надо заметить следующее обстоятельство, ранее почему-то ускользавшее от внимания исследователей. Дело в том, что Россия не выстрадала свою науку, она ее получила в готовом виде, причем западноевропейского образца. Поэтому традиции европейской науки оказались лицом к лицу с привычным для русского человека целостным, идущим от православных традиций, миросозерцанием. Мир для русского человека всегда был един и неделим, да и себя он ему не противопоставлял.
Отсюда и желание обобщенной, «приближенной к жизни» постановке научных проблем, стремление понять мир в его единстве. Западные же ученые завезли в начале XVIII века в Россию принципиально иной взгляд на мир и на науку. Задачи они ставили конкретные и доводили их до конца, работу делали педантично, с мелочной дотошностью устраняя любые неясности, ценили факты, наблюдения и с неохотой пускались в рассуждения вокруг них.
Таким образом, в лице Ломоносова русская наука противопоставила европейской свой подход к естественнонаучному творчеству: всеохватность проблематики, отчетливую неприязнь к специализации, ведущей к узколобости, взаимоотчуждению ученых и, как итог, к оторванности науки от потребностей жизни.
Подобные традиции оказались весьма живучи в русской науке. Уже в 40-х годах XIX века А.И. Герцен в своих философско-науковедческих работах «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» доказывал, что современная наука – всего лишь промежуточная стадия подлинной науки, поэтому тратить силы и время на ее изучение не стоит; вот придет подлинная наука, тогда, мол, и надо заняться ею вплотную. Она будет более совершенной, а, следовательно, и более доступной для широкой публики.
Одним словом, русской душе противны мелочность и частности, ей хочется и науку развивать скачками и революционными потрясениями. Между тем только последовательное эволюционное развитие ведет к подлинно революционным прорывам в неизведанное, а нетерпеливость и опережающие толчки приводят к тому, что история как бы ускользает и вместо революционных рывков наука скатывается на обочину прогресса.
Подобное уже случалось дважды: в XVII столетии, когда родилась современная наука, мысль в России еще не проснулась, и наука обошла нас стороной; да и в начале XX века, когда произошло рождение новейшего естествознания, его колыбелью вновь оказалась Западная Европа, Россия осталась как бы и не при чем.
Причин тому много. Основной, конечно, была изначальная отчужденность научного социума от экономической системы и его жесткая зависимость от системы политической. Подобное «российское своеобразие» и вынуждало ученых искать для русской науки свой особый путь; все, что было привычным для европейских научных традиций, в России приживалось с большим трудом и обидным запаздыванием. А вокруг очевидных для любого европейца вопросов у нас велись нескончаемые споры, возносившиеся до глубокомысленных философских обобщений.
XIX ВЕК
Дальнейший ретроспективный экскурс в историю геологической науки сделаем более сжатым, поскольку все основные открытия, коим, собственно говоря, и посвящена наша книга, датируются как раз двумя последними столетиями. Коснемся лишь самого главного.
Начнем с того положительного, что все же нес в себе диспут «плутонистов» и «нептуннстов». Несмотря на абсурдные притязания каждой из концепций на истину, их авторы пытались объяснить происхождение геологических объектов только с помощью «естественных деятелей», не прибегая к божественному началу. Именно с этого времени наука о Земле начинает хотя и неспешными, но зато выверенными шагами продвигаться к Истине опираясь только на прочный фундамент фактов и поверяя ими любые теоретические конструкции.
Если, образно говоря, натуралисты XVIII столетия мыслили как бы «за факты», то геологи XIX века попали в невольный плен к фактам, а это неизбежно сковывало мысль, ибо увязать воедино разрозненную и все нараставшую лавину первичных данных было очень и очень непросто. Создалась ситуация, когда эмпирия явно поглотила мысль. Качели познания качнулись в противоположную крайность.
Химик Александр Михайлович Бутлеров так оценил эту своеобразную ситуацию: «Масса новых наблюдений…, теория не успевает перерабатывать их и остается позади фактического развития науки… В рамку старых привычных теорий эти факты не укладываются».
Требовался гений большого ученого, который был бы в состоянии поднять мысль над Монбланом фактов. Оттуда – сверху – эта громада покажется уже не такой бесформенной, ибо в хорошей теории фактам всегда найдется подобающее место.
Именно так двумя великими англичанами создавались фундаментальные творения естествознания XIX века: «Основы геологии» Чарльза Лайеля и «Происхождение видов путем естественного отбора» Чарльза Дарвина (1809-1882). С ними связана подлинная революция в научном мышлении.
Не упустить бы и другие вехи…
В 1808 г. французы Жорж Кювье и Александр Броньяр (1770-1847) пришли к выводу исключительной важности: каждый слой включает в себя те виды фауны, которые в точности соответствуют времени его образования. Логически здесь все просто, даже примитивно: если ракушки были некогда живыми организмами, то время их жизни является теми биологическими часами, по которым можно следить за историей развития Земли.
Но дело в том, что в геологии главное – не логика понятий, а логика вещей, на что намекал еще Вернадский. Необходимо фактами доказывать даже то, что иному провидцу кажется очевидным. Только тогда наука возьмет это новое знание себе в помощники. А кстати, и эта очевидная мысль французов не так безобидна, как казалась многим (да и теперь еще кажется!), ибо, уверовав в ее непогрешимость, геологи невольно стали подменять историю Земли историей Жизни. А это все же не одно и то же.
В 1812 г., когда Наполеон двинул свои войска на Россию, Жорж Кювье в тиши парижского кабинета создавал свой замечательный труд «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара». На русский язык его перевели еще раз в 1937 г., и создается впечатление, что с той лишь целью, чтобы обрушить на него весь арсенал доводов марксистской философии, – ведь Кювье в своей работе проповедовал катастрофы как основную движущую силу развития. Мыслимо ли такое? Оказалось, что применительно к Земле – вполне. Сегодня сочинение Кювье читается с превеликим интересом, а вот писания его оппонентов – со стыдом и грустью…
В 1838 г. швейцарец Аманц Гресли (1814-1865) вводит фундаментальное понятие о фациях, т. е. об облике горных пород. Разные фации – разные обстановки породообразования. Впрочем, Гресли не определил (как это положено в науке) вводимое им понятие, а лишь объяснил его смысл, да так нечетко, что геологи до сих пор ломают полемические копья, доказывая друг другу, будто именно он единственно верно толкует классика.
Знаменателен и 1873 год. Американец Джеймс Дуайт Дэна в том году впервые использовал термин «геосинклиналь». Это было крупнейшим эмпирическим обобщением, исправно прослужившим науке добрую сотню лет. Да и в наши дни некоторые геологи полагают, что теория геосинклиналей еще далеко себя не исчерпала.
Последние два десятилетия XIX века можно назвать «временем Зюсса». В 1883-1909 гг. австриец Эдуард Зюсс публикует трехтомный «Лик Земли» – капитальную сводку, уникальность которой не только в чрезвычайной насыщенности фактами, но и в том, что в ней Зюсс щедро рассыпал идеи, ряд из которых только в наши дни начали давать обильные всходы. Жаль, что книгу эту так и не удосужились перевести на русский язык. Нашим геологическим предкам, возможно, это и не требовалось, поскольку их воспитание позволяло им читать на двух-трех европейских языках. А как быть так называемым простым советским, да и постсоветским ученым, читающим «со словарем»? Точнее, только улавливающим смысл прочитанного?
Читатель, конечно, догадался, что я ограничился лишь теми событиями, которые явились базовыми для ряда великих открытий. Поэтому сейчас я их только обозначил.
Где, когда и кто крестил геологию?
Споры о том, когда же родилась геология как самостоятельная и вполне независимая наука и кто был ее родителем, время от времени вспыхивают в историко-научной литературе. Но споры эти, надо признать, носят скорее ритуальный характер. Историки не расталкивают локтями оппонентов, а вежливо пытаются разместить на пьедестале и своего героя. При этом каждая цивилизованная держава претендует на своего отечественного основоположника. Это непременно…
Факты на самом деле любопытные. Да и закономерность при этом намечается интересная.
Счет ведется с XVII века, и ученые века XVIII и даже отчасти XIX почти единодушно основателем геологической науки считали Стенона. Участники II Международного геологического конгресса (Италия, Болонья, 1881 г.) посетили гробницу Стенона под сводами церкви San-Lorenzo, поклонились праху гениального датчанина. В 1883 г. от их имени и на их средства на могиле Стенона установили мраморную доску. На ней были начертаны по-латыни слова: Vir inter geologos et anatomicos praestannissimus, указывающие просвещенным, что здесь покоится основатель геологии и один из величайших анатомов всех времен.
Когда же геология начала набирать силу, вклад Стенона стал казаться незначительным, а его открытие – просто тривиальным. Поэтому, отдавая ему дань, тем не менее имя его потихоньку стали уводить в тень. Даже Вернадский, признавая, что как наука геология началась именно в XVII столетии и своим рождением обязана Стенону, однако уточнял: современная геология все же ведет свою родословную от Геттона.
Наряду со Стеноном некоторые историки науки называют также имена Гука, Рея, Лейбница и некоторых других мыслителей конца XVII – начала XVIII века. Число претендентов на родительские права геологии стало достаточно большим. Это французы Бюффон и Кювье, итальянец Антонио Моро, русский Ломоносов, шотландец Геттон, немец Вернер. Последний претендент был, надо сказать, наиболее популярным. Александр Гумбольдт (1769-1859) признавал за ним полные права основоположника, а Ф. Доннеман называл его даже «Линнеем геологии». Так же считал и К. Гуммель (1889-1945). Да и у Кювье никаких сомнений на сей счет не было: с Вернера, «с него и только с него будет датироваться положительная геология в той ее части, которая касается минеральной природы слоев».
Корифеи всегда знают истинную цену – и свою, и других. Кювье, отдавая дань Вернеру, оставил за ним право быть основоположником только того раздела геологии, который изучает «минеральную природу слоев». Но ведь есть еще и фауна и временнáя датировка геологических событий. Тут Вернер поотстал, тут права переходят к Кювье. И это, надо признать, вполне справедливо.
В 1830 г. выходит из печати первый том «Основ геологии» Лайеля. Уже в первой главе этого тома, окидывая беглым взглядом достижения своих предшественников, Лайель замечает, что «даже во времена Вернера, или в конце восемнадцатого столетия, на геологию смотрели не иначе, как на второстепенный отдел минералогии». Думаете, такая оценка случайна? Отнюдь. Лайель, и никто другой, дал первый и притом полный обзор геологической науки того времени. И не простой обзор, а приводящий в итоге к единственной (как тогда казалось) методологии познания геологического прошлого – к униформизму. Было бы наивно думать, что Лайель не понимал того, что совершил в науке. Его преданный ученик Чарльз Дарвин писал в своей «Автобиографии»: «Геологическая наука бесконечно обязана Лайелю, больше, я думаю, чем кому-либо другому на свете». Имел Дарвин право на столь восторженную оценку? Безусловно. Так же, впрочем, как и другие ученые, называвшие иные имена.
Итак, попробуем суммировать ответы на поставленные нами вопросы: где, когда и кто крестил геологию? Оказалось, что это было во многих странах: во Франции, Дании, Англии, Германии, Италии, Швейцарии и России. Да и крестины затянулись почти на полтора столетия – с середины XVII века до конца XVIII. А восприемников у младенца было даже больше, чем того требует ритуал. Имена их мы с почтением помянули.
Так что же, ввяжемся в дискуссию и будем доказывать право своего Ломоносова быть единственным крестным геологии? Упаси нас. Боже! Более бессмысленное и праздное занятие трудно себе представить.
Остановимся на тезисе сколь банальном, столь и верном. Геология родилась не в одночасье. Ее рождение не могло быть ознаменовано публикацией единственного труда, пусть и конгениального. А потому все ученые, стоявшие у колыбели геологии, по праву могут считать себя ее крестными. Один из них заложил в фундамент геологии один камень, другой – два, третий – более крупный блок. Но кто сейчас будет заниматься их обмерами, да и зачем это нужно?
Главное заключается в том, что в интервале с 1669 по 1830г. было завершено строительство «нулевого цикла» будущего здания геологической науки. Какова будет его архитектура, ученые начала XIX столетия еще не знали. Знали они лишь одно – возведение здания будет вечным долгостроем (как сказали бы мы сегодня). И в этом были правы.
Строительство продолжается…
Вверх по лестнице, ведущей в прошлое
Суть первого великого открытия
Геологи, как хорошо известно, занимаются изучением истории Земли, т. е. восстановлением механизма и последовательности тех событий, которые проходили десятки и сотни миллионов лет назад. При этом они поступают примерно так же, как некогда делали сельские киномеханики по просьбе эмоциональных зрителей: крутили ручку кинопроектора в обратном направлении, и эпизоды шли вспять – любимый герой воскресал, старик снова становился молодым, влюбленные не расставались. Точно так же перед мысленным взором геолога проходят, сменяя друг друга, бесконечной чередой события, многие из которых никогда более в истории Земли не повторялись.
Да, но наука – это не просто мысленное созерцание минувших эпох, это опирающаяся на факты технология реставрации геологического прошлого. А как это делать и можно ли вообще добиться при этом положительных результатов? Это ключевой вопрос мировоззренческой платформы геологов. Только получив на него удовлетворительный ответ, ученые смогли наконец от «полуфантастических и полуневежественных» (мы уже вспоминали эти слова Головкинского) конструкций перейти к построению гипотез и теорий, обоснованных фактами.
Итак, преобразование общеизвестного философского тезиса о принципиальной познаваемости окружающего нас мира в конкретные методологически выверенные подходы к изучению геологической истории и составляет суть первого великого геологического открытия. У него нет единственного автора, да и схем реставрации геологического прошлого предостаточно.
В разное время геологи объединялись под знаменами «униформитарианизма» (униформизма), актуализма, эволюционизма, катастрофизма и, наконец, актуалистического катастрофизма. Все эти лагери, как и положено, непримиримо враждовали друг с другом. Однако прошедшие года в значительной мере обесцветили их идейные знамена, и стало хорошо видно, что у них много общего. К тому же природа никак не желала принадлежать кому-либо одному из них. Она оказалась и глубже и разнообразнее, чем это представлялось ранним естествоиспытателям и продолжает казаться даже в наши дни некоторым методологически стерильным геологам, признающим лишь те знания, которые были почерпнуты ими на вузовских лекциях в 30-, 40- и 50-х годах.
Актуализм – это производная латинского слова actual, что означает «настоящий, действенный». Это слово более нейтрально, чем любое другое, и потому мы, когда речь пойдет об общих проблемах реставрации геологической истории, будем употреблять именно его. Кратко суть актуализма можно сформулировать так: для познания прошлого достаточно знать те процессы, которые протекают сегодня.
Не будет, вероятно, большой натяжкой утверждение, что актуалистическое мировоззрение произвело такую же революцию в умах геологов, какую в свое время в умонастроениях физиков и астрономов осуществила теория Коперника, дерзнувшего поднять руку на общепринятую тогда (XVI век) геоцентрическую доктрину Птолемея, прослужившую науке более десяти столетий.
О научной революции говорят тогда, когда знание входит в видимое противоречие с чувственным восприятием природы. Ведь ясно видно, что Солнце всходит на востоке и заходит на западе, что Земля стоит на месте, а Солнце как бы гуляет вокруг нее. Так было «от века». Люди это видели, и люди этому верили. И вдруг какой-то еретик, какой-то Коперник смеет утверждать обратное. Даже ученые не сразу поверили ему, а поверившие поплатились жизнью. Джордано Бруно на костер инквизиции пошел за пропаганду теории Коперника. И все же она победила. Это было подлинной революцией в науке.
Вернемся к нашим проблемам. Целые поколения естествоиспытателей наблюдают Землю и видят, что никаких заметных перемен на ней не происходит: горы остаются на месте (если, конечно, их не срывает ковш экскаватора, что случилось с горой Магнитной на Урале), реки текут в том же направлении (пока их не повернут вспять “преобразователи природы”), морские волны продолжают плескаться там же, где плескались тысячелетия назад (если на то побережье не придут «строители светлого будущего» и не избавят человечество от лишнего морского бассейна).
Представим себе такую ситуацию. Человек смотрит на часовую стрелку своего хронометра несколько секунд. Стрелка для него будет неподвижной (так он видит). Если он будет созерцать ее несколько часов, то все равно не проследит ее смещения, хотя стрелка явно изменит свое положение. Движение ее настолько медленное и плавное, что человеческому глазу недоступно. Вывод: чтобы заметить смещение стрелки, надо смотреть на нее через какие-то промежутки времени; однако и в этом случае мы сможем зафиксировать лишь ее разные положения, а как она движется, мы не увидим.
Пример этот иллюстрирует одну мысль: геологам пришлось принять не столько очевидное, сколько противоречащее очевидности. Потому – и революция в познании. Потому и многообразие методологических схем реставрации геологической истории, ибо мы видим перемены, но не знаем, как они происходили – эволюционно или скачками; реализуется ли в природе направленное развитие неорганического мира или эволюция характерна лишь для биологических видов.
Попробуем изложить все последовательно. Тем более что и история самого этого открытия, и его последующие методологические перетрактовки весьма интересны, поучительны и порой драматичны. Наука крайне болезненно переживает даже любое фактологическое открытие, а уж ломка мировоззрения воспринимается как подлинная трагедия. По этой именно причине копья вокруг актуализма ломаются по сей день.
Эхо отгремевших бурь (от Пифагора до Геттона)
Давно известно историкам, что человеческая цивилизация развивается волнообразно: за периодом бурного расцвета культуры и науки следует период практически полного интеллектуального мрака, когда общество погружается во тьму единознания и безразличия. Причин тому множество. О них уже многократно писали и спорили. Я коснулся этого феномена только с одной целью: показать, что все важнейшие идеи, относящиеся к мировоззренческой платформе естествоиспытателей, были известны с глубокой древности. По крайней мере, за пять веков до Р. X., если ограничиться европейской цивилизацией, обратить свой взор на древнюю Элладу и познакомиться с рассуждениями великого Пифагора Самосского (ок. 570 – ок. 500 до Р. X.).
Знаменит он не только своей теоремой, которую русские школьники уже многие годы формулируют на свой лад, но весьма образно: «пифагоровы штаны на все стороны равны». Пифагор был весьма вдумчивым и пытливым натуралистом, глубоким и разносторонним ученым-мыслителем. После двадцатилетнего пребывания в Египте он разработал свое понимание миропорядка; изложил, в частности, перечень и обоснование всех важнейших причин явлений, ныне действующих на планете и изменяющих ее лик. Он уже был убежден в том, что в мире ничто не исчезает бесследно, но лишь преобразуется и изменяет свои формы.
Овидий (43 до Р. X.- 17 по Р. X.), древнеримский поэт, автор цикла поэм «Метаморфозы», посетивший этот мир через пять столетий после Пифагора, настолько был увлечен его «системой», что излагал ее с той естественной мерой почтительности, с которой относятся только к плодоносящим научным идеям.
По Овидию, Пифагор утверждал, что земля превращалась в море, а море затем возвращалось на землю; что болота оборачивались сухой землей, а земля в свою очередь покрывалась стоячими водами; что во время землетрясений многие водные источники иссякали, зато появлялись новые; что острова могли ранее соединяться с материком благодаря росту дельт и отложению осадков, а полуострова, напротив, отделялись от материка и делались островами. Пифагор уже знал, что находимые в известняках красивые ракушки были некогда живыми обитателями морских глубин.
Другой древнегреческий мыслитель Аристотель (384-322 до Р. X.) жил через 200 лет после Пифагора. Он также был убежден, что все изменяется с течением времени, и именно с этих позиций трактовал развитие Земли. Вот его слова, кстати не содержащие ничего нового в сравнении с «системой» Пифагора (мы их воспроизводим по Лайелю): «Распределение суши и моря в некоторых странах не всегда остается одинаково. Часто море является там, где была суша, и снова является суша, где было море; и есть повод думать, что такие изменения совершаются по известным законам и в известный период времени».
Пойдем дальше. Страбон (64/63 до Р. X.-23/24 по Р. X.), современник Христа, автор многотомной «Географии», созданной им в результате многолетних странствований по Греции, Малой Азии, Италии и Египту, отчетливо понимал то, что стало недоступно для некоторых профессоров начала XIX столетия. Давайте сравним два высказывания и поразмышляем (про себя) о неисповедимости путей познания.
Итак, Страбон пытался осмыслить трудный вопрос: как попали раковины в породы, залегающие высоко в горах. И пришел к выводу: земля, что вмещает эти ракушки, не находится на этих высотах изначально, а «одна и та же местность иногда подымается, а иногда оседает, а потому и море одновременно то прибывает, то убывает».
Профессор Петербургского Горного института Д. И. Соколов в 1839 г. думал иначе. Он учил студентов тому, что в составе гор не могут быть осадочные породы, ибо они слишком высоко залегают над морем. «Уже одно высокое иногда положение их в горных кряжах нимало не согласно с таковым происхождением их. Надо бы, по крайней мере, удвоить воду в морях, чтобы она могла достигать когда-либо до этой высоты».
Страбон мыслил прозорливее русского профессора. Да что, Страбон. Соколов, разумеется, читал труды Ломоносова. Но и их затмили догмы плутонизма.
Подытожим. Древнегреческие мыслители прекрасно представляли вечную изменяемость лика Земли, и этот вывод они делали на основе наблюдений над ходом современных процессов: течением рек, работой ветра и морских волн, землетрясениями и извержениями вулканов. Однако древняя история нашей планеты была для них, по выражению Лайеля, «закрытой книгой». Более того, они «даже не подозревали ее существования». И все же первый шаг (а это всегда очень важно) на пути к открытию был сделан.
Затем, как мы уже отметили, за волной мощного взлета наук во времена античности наступает длительный период сумеречных потемок, когда мысль едва теплилась, когда знаний о Земле не только не прибавлялось, но были прочно забыты достижения древнегреческой цивилизации. Наступил период средневековья – эпоха схоластов, эпоха религиозного абсолютизма, эпоха интеллектуальной деградации. Вплоть до XVII века в науках о Земле преобладает убежденное в своей правоте невежество.
И лишь отдельные проблески мысли напоминали уверенность древних: пока мысль жива, жива и наука. Наука, похороненная церковной властью, которой она была не нужна, тем не менее не задохнулась. Хотя, строго говоря, науки в тот период просто не могло существовать. Надо было обладать гением Коперника, фанатичной преданностью Истине Джордано Бруно, многогранным дарованием и мудростью Леонардо да Винчи, чтобы их мысль все же пробила затхлую атмосферу тех лет и была услышана и современниками и потомками.
Леонардо да Винчи (1452-1519) скорее всего не знал сочинений ни Страбона, ни тем более Пифагора. Наука о Земле вновь начиналась как бы с чистого листа. И тем не менее мысль Леонардо продвинула интересующее нас открытие еще на один шаг вперед: он не просто признал вечную изменяемость земной поверхности, но предположил, что происходящие на наших глазах перемены могут служить надежным познавательным средством перемен древних.
Современник великого Леонардо итальянский ученый Джироламо Фракасторо (1478-1553) был, вероятно, одним из первых (после древних греков), кто не только предположил, что все ископаемые раковины принадлежали некогда живым организмам, но и считал, что эти организмы жили и размножались «в тех местах, где теперь находятся их остатки».
Это – не надо забывать – была эпоха схоластики. Простая красивая мысль для схоласта отвратительна. Его воздух, его стихия – это логически строго доказанные абсурд и нелепость. Виртуозы схоластической риторики могли убедительно (без кавычек) доказать (в кавычках) любую глупость. В этом и заключалось «искусство науки». В такой атмосфере вывод Фракасторо был, разумеется, дружно осмеян и прочно забыт почти на 200 лет.
Следующий шаг на пути постижения актуалистической методологии познания прошлого сделал французский натуралист Бюффон. И смысл этого шага заключался в обосновании представлений о геологическом времени. Сделал Бюффон это в своей «Теории Земли» (1749). Если раньше ученые уже осознали тот факт, что постичь прошлое можно посредством наблюдения за современными процессами, то Бюффон продемонстрировал, что «настоящее» с «прошлым» соединяет временной интервал в 74 832 года.
Не надо смеяться над такой точностью. Она опиралась на представления о строении Земли, коими располагала наука во времена Бюффона. Тогда были уверены, что Земля практически насквозь железная, изначально горячая, т. е. расплавленная. А дальше – арифметика. Температуру на поверхности Земли можно было измерить непосредственно, а, зная время остывания расплавленного железного слитка, легко было оценить и время существования Земли. А вот как Бюффон догадался, что жизнь на Земле возникла 38949 лет назад и исчезнет через 93291 год, не знаю.
Сейчас эти цифры, конечно, верх наивности. Но тогда это было гигантским достижением. Ведь по церковным догматам Земля возникла всего 6000 лет назад. Французские деятели церкви обрушились на Бюффона за эту крамолу, его осудила даже Сорбонна, и он в 1751 г. отрекся от своих идей. Все это происходило во времена французских энциклопедистов Вольтера и Дидро, в период увлечения Екатериной II идеями французских мыслителей, в том числе и Бюффона. (Заметим в скобках, что, к нашему стыду, из 36 томов «Всеобщей и частной естественной истории» Бюффона на русский язык переведено всего 10. Сделано это было по указанию Екатерины II. С тех пор его сочинения на русский язык не переводились.)
Итак, введенное Бюффоном представление о геологическом времени, с одной стороны, и признание актуалистического принципа познания прошлого – с другой, автоматически привело его к идее направленного развития Земли. Обосновал Бюффон ее в своих «Эпохах Природы» (1778). Поиск общего принципа построения естественных классификаций вывел Бюффона к эволюционным идеям. С их помощью он ввел в естествознание принцип историзма. А это, по признанию Вернадского, достижение капитальное.
Бюффон был крупнейшим мыслителем и великим тружеником. Может быть, по этой причине ему чуть больше повезло с признанием, чем его современникам, независимо высказывавшим сходные мысли. Голландский профессор Р. Хойкас весьма точно подметил, что отношение некоторых ученых к принципу актуализма как к «древнему предрассудку» свидетельствует ио том, в частности, что в конце XVIII столетия этот принцип уже не считался чем-то новым. Более того, в то время идея актуализма что называется, висела в воздухе и оставалось буквально протянуть руку, чтобы сделать ее собственным достоянием. Раньше других это сделал шотландский юрист, врач, фермер и геолог Геттон, уже многократно нами упоминавшийся.
Теперь пришло время поговорить о его достижениях более подробно. Геологией Геттон занялся поздно, когда ему минуло 42 года. Однако возраст не притупил свежести восприятия окружающей природы. Экскурсируя по родной Шотландии, Геттон, конечно, не делал попыток разобраться в ее геологическом устройстве; просто наблюдая обнажения пород по берегам рек и в обрывах на морском побережье, он предавался размышлениям о вечности бытия Земли. Его сочинения были отчетливо методологическими, мировоззренческими. Собственно геологических результатов, таких, к примеру, как у Стенона в XVII веке или у его современника Вернера, сочинения Геттона не содержали.
Хотя, надо признать, рассуждения Геттона были и достаточно конкретными. Он первым обосновал тезис о крайней медленности геологических процессов и о неограниченности геологического времени какой-либо определенной длительностью. Вернадский этот вывод шотландского ученого отнес к разряду крупнейших эмпирических обобщений и дал ему собственную афористичную формулировку: в геологии мы не видим ни начала, ни конца. Безусловно, идеи Геттона были дальнейшим развитием взглядов Бюффона, исчислившего длительность геологического времени с точностью до года.
Я надеюсь, что читатель не забыл еще об одной геологической новации Геттона – его идее о созидательной силе подземного огня, получившей название «плутонизма». Свои взгляды на этот предмет Геттон изложил в 1785 г. в докладе с трибуны Эдинбургского королевского общества. Назывался он так: «Теория Земли, или исследование закономерностей, проявленных в создании, разрушении и восстановлении суши на земном шаре». В докладе этом еще много было чисто теологической аргументации, хотя сама теория, по признанию нашего современника, английского профессора Хэллема, была «ошеломляюще оригинальной». Текст доклада Геттон опубликовал в 1788 г.
Слушатели Геттона были, однако, не столь восторженны. Более того, некоторые его современники обрушились на высказанные идеи с яростью и даже озлобленностью. Ричард Кирван (1733-1812) – химик и минералог в 1793 г. публикует статью, где резко и едко высмеивает взгляды Геттона за то, что тот осмелился отойти от «буквальной веры в акт божественного творения».
Приходится отметить следующее. Мысли Геттона были сколь глубоки, столь и путаны. Излагал он их длинно, коряво, с большим количеством ненужных отступлений. Уже этого было достаточно, чтобы навлечь на себя критику нетерпеливого и строгого читателя.
Кирван читал упорно, но по мере чтения раздражение его нарастало. Писал же он явно лучше Геттона. По этой, вероятно, причине статья Кирвана привлекла к себе большее внимание, чем сочинение Геттона. Хэллем полагает, что кроме насмешек в адрес Геттона было в статье Кирвана и дело: Геттон в своих путаных рассуждениях явно проглядел историчность развития, что было известно еще Бюффону.
Более спокойным и серьезным критиком взглядов Геттона был Жан Андре де Люк (1727-1817), считающийся одним из основателей физической геологии. Самым серьезным его аргументом против теории Геттона было признание таких сил, действовавших в далеком геологическом прошлом, которые «сегодня» мы наблюдать не можем. Де Люк, таким образом, покусился на актуализм в геттоновской трактовке.
Геттон, конечно, не остался равнодушен к критике и засел за капитальное обоснование своих взглядов. Так появилась его знаменитая трехтомная «Теория Земли». Первые два тома были опубликованы еще при жизни Геттона в 1795 г. Третий же том автор, по всей вероятности, не торопился нести в типографию. Его обнаружили через сто лет и по решению Лондонского геологического общества напечатали в 1899 г.
Хэллем, проштудировавший «великий труд» Геттона, отмечает, что впечатления на геологическую общественность он не произвел. Эту книгу невозможно было читать из-за невероятного многословия, невразумительности и сухости стиля, крайней рыхлости структуры.
Однако Геттону везло не только с научными противниками, но и с друзьями. Один из них, Джон Плейфер (1748-1819), математик по образованию, обиделся на несправедливые нападки, коим подвергся «труд жизни» друга, и… решил изложить его по-своему, т. е. более кратко, более вразумительно и более логично. Ему, математику, к тому же хорошо владеющему пером, это ничего не стоило.
Так появились «Иллюстрации теории Геттона». Наука, приобретшая Джеймса Геттона, коего Вернадский ставил даже выше Лайеля, должна поклониться Плейферу, ибо он не только переформулировал взгляды своего друга, но, фильтруя их сквозь строгую логику математика, неизбежно излагал эти взгляды по-своему. Поэтому дотошные историки науки должны бы соотнести тексты Геттона и Плейфера, прежде чем категорично отводить последнему скромную роль популяризатора чужих идей.
Что же предложил Геттон в плане методологии познания прошлого? Как он понимал актуализм? Вот что для нас наиболее важно. «Допуская, что природные процессы протекают непрерывно и равномерно, – писал Геттон, – мы получаем возможность с полной определенностью заключить, что для того, чтобы на Земле произошли те или иные события, результаты которых мы наблюдаем, обязательно требуется определенное и притом достаточно длительное время…».
Итак, главное, по Геттону, – это длительность непрерывно протекающих геологических процессов.
И еще. В 1795 г. он писал: «Я принимаю вещи такими, каковы они сейчас, и отсюда делаю вывод о том, какими они были когда-то». А это уже в чистом виде принцип актуализма: настоящее – это ключ к познанию прошлого. Поэтому, если ограничиться идейными указаниями, то Вернадский был вправе считать именно Геттона основоположником актуалистической методологии познания прошлого. Но в том-то и дело, что для науки идея – главное, но не все. Наука – это не просто знание, это – система знаний. А такой системы Геттон не создал.
Сделал это все же Чарльз Лайель. Вот как он оценил вклад в науку своего великого предшественника: «Отличительная черта геттоновской теории состояла… в устранении всех причин, по мнению его, не принадлежавших к настоящему порядку природы. Но Геттон ни на шаг не опередил Гука, Моро и Распа в указании того, каким образом законы, ныне управляющие подземными движениями, могли бы вызвать геологические изменения, если допустить для этого достаточный период времени».
Лайель, как видим, точно подметил главный недостаток концепции Геттона: мало было указать на то, что ныне действуют те же процессы, что и в прошлом, мало было отметить неограниченную длительность геологического времени, надо было связать эти два обобщения, показав, что именно геологическое время является основной созидательной «силой», не будучи при этом даже материальной субстанцией. Геттон этого не сделал.
В 1802 г. в Париже была опубликована небольшая книжка Жана Батиста Ламарка (1744-1829) «Гидрогеология». Он, как и Геттон, полагал, что время для природы неограниченно. С помощью времени можно было объяснить любой геологический процесс, ибо у природы времени всегда предостаточно. И на Ламарка геологическое время действовало, как видим, гипнотически.
И вот пришел Лайель
Чарлз Лайель также не собирался посвятить свою жизнь геологии. Учился он на юриста, но после нескольких лет адвокатской практики порвал с юриспруденцией и в 34 года полностью переключился на геологию.
15 января 1829 г. юрист Лайель пишет геологу Роберту (Родерику) Мурчисону (1792-1871), делясь с ним главной идеей своих «Основ геологии» (книгу эту он начал писать, еще будучи адвокатом): принципы, кои лягут в основу книги, «сводятся ни много, ни мало к утверждению, что начиная с древнейших времен, в которые может проникать наш взор, и до наших дней не существовало иных причин, кроме тех, которые действуют сейчас, и что энергия их проявления никогда сильно не отличалась от той, которую они обнаруживают в наши дни».
Как видим, актуализм – идейное знамя, под которым Лайель устремился на штурм вершин геологической науки. Он его выбрал сознательно, он уверовал в него твердо, и ему, как адвокату, оставалось только использовать весь арсенал имевшихся в его распоряжении доводов и красноречие профессионального юриста, чтобы убедить присяжных в своей правоте. Надо признать, что это ему удалось блестяще.
Первый том «Основ геологии» (Principles of Geology) вышел в 1830 г., второй и третий – в последующие три года. Эта книга была первым в мире руководством по геологии в целом. Она составила (без преувеличения) эпоху в науках о Земле и до сего дня активно цитируется и изучается геологами, хотя, разумеется, многое с тех пор переменилось – и в воззрениях и тем более в их обосновании.
Идейная основа актуалистической концепции Лайеля, без сомнения, геттоновская. Ее он практически не изменил. Более того, он вооружился лишь ее частью, той, где постулировалась неизменность хода геологических процессов прошлого. Но сам Геттон шел дальше, допуская рост интенсивности их протекания в отдельные геологические периоды и даже катастрофические изменения лика Земли. Лайель это проигнорировал, поскольку выстроенная им цепь аргументации не допускала ни отклонений, ни исключений.
Давайте обратимся к первоисточнику. Не будем при этом выхватывать из текста отдельные, действительно глубокие и провидческие мысли, а обратим внимание лишь на обоснование Лайелем его актуалистического мировоззрения, трансформированного (в чем он был твердо убежден) в конкретный метод познания прошлого.
Лайель настолько виртуозно владел «логикой слов» (если можно так выразиться), что его рассуждения завораживающе действуют даже на нас, знающих куда больше Лайеля. Его главный постулат: сегодня действуют те же природные силы, что действовали и всегда, причем с той же интенсивностью, но зато крайне долго, – дает ему возможность за счет длительного, но разнообразного по влиянию воздействия природных агентов на разные объекты объяснить все наблюдаемые особенности строения Земли. В это он уверовал сам и вынудил поверить геологов.
Как рассуждал Лайель? Положим, геологу надо объяснить, как образовались ископаемые угли. Сегодня ведь он не наблюдает этот процесс. А чтобы объяснение было убедительным, надо всю гамму факторов, влияющих на образование углей, разложить на отдельные компоненты и выделить среди них такие, для которых можно с уверенностью указать на их современных родственников (гомологов). Одним из таких факторов, по Лайелю, являются ископаемые папоротники, находимые в углях. А далее остается рассуждать по аналогии: «Это преобладание папоротников указывает на влажный, постоянный и умеренный климат и на отсутствие всякого сильного холода; ибо таковы условия, которые в настоящее время оказываются самыми благоприятными для этого семейства растений». Дальше – еще проще: по папоротнику судим и о климате, а также о месте угленакопления и, не имея в то время других фактов, на этом останавливаемся. Просто, логично и убедительно.
Не желая ни на шаг отступать от принятых им постулатов, Лайель был вынужден отказаться от направленного развития органических форм, от эволюции видов. Он видел (в музеях прежде всего) богатейшие коллекции фауны, видел, что в современных (или близких к ним по возрасту) отложениях находятся кости млекопитающих, а в древних породах их нет.
«Пока нет, – поправлял Лайель. – В палеозойских осадках останки млекопитающих просто пока не найдены». И в этом был непоколебим.
«Если мы выводим заключение о скудости флоры или фауны какого-нибудь данного периода в далеком прошлом, основанное на малочисленности ископаемых, встречающихся в древних горных породах, – писал Лайель, – то не должны забывать, что передача нам полных или систематических сведений о первобытной истории древнего мира, очевидно, не входила в план природы». Правда, наука в такой аргументации, как говорится, и не ночевала. Это выдержка из красивой адвокатской речи.
Раз Лайель не признавал эволюцию органического мира ни в первом издании своей книги 1830 г., ни в девятом издании 1865 г., когда уже была опубликована великая теория Дарвина, созданная, кстати, не без влияния труда Лайеля (такие вот парадоксы), то, конечно, о каких-либо направленных переменах в мире неорганическом у Лайеля и речи быть не могло. «Уверенность в однообразном течении природы» – научное credo сэра Чарльза.
Отсюда и вынужденное отрицание того, что многие геологи его времени знали безусловно, например, оледенения Северного полушария в четвертичное время. Отрицал потому только, что строго следовал букве закона (своим постулатам) и не имел права признавать явление, следов которого в современности он не находил. Громадные же валуны, в изобилии встречающиеся на равнинах Северного полушария, трактовались им, вслед за Леопольдом фон Бухом (1774-1853), как следствие «напряженности водяных сил». Столь же неуклюже, дабы не отступить от исходных посылок, объясняет Лайель и крайне длительное образование горных цепей за счет медленных и плавных колебательных движений, хотя он знал теорию быстрого роста гор французского геолога Леонса Эли де Бомона (1798-1874). Но она противоречила посылкам Лайеля и потому была им раскритикована.
Давайте все же послушаем самого Лайеля и приведем достаточно обширную выдержку из его труда. Она даст наглядное представление о том, как же Лайель мыслил анализировать процессы геологического прошлого.
«Произошел ли какой-либо перерыв с начала самых отдаленных времен в однообразной системе изменения в органическом и неорганическом мире. К этому рассмотрению побудило нас рассуждение о том, какое сильное влияние на успехи геологии оказало предположение, что будто бы между причинами, произведшими первобытные перевороты на земном шаре, и причинами, ежедневно действующими теперь, существует слабая аналогия по роду и еще более слабая по степени… Ранние геологи… с полною свободой предавались своему воображению, отгадывая то, что могло быть, а, не исследуя то, что есть; другими словами, они терялись в догадках, каков мог быть ход природы в отдаленных периодах, и не изучали, каков он в их собственное время.
Им казалось логичнее рассуждать о возможностях прошедшего, чем настоятельно изучать сущность настоящего. Изобретая теории под влиянием таких положений, они вовсе не хотели знать, насколько согласуются эти теории с повседневными явлениями в природе. Напротив, права каждой новой гипотезы на вероятность как будто бы увеличивались по мере того, как причины, на которых она основывалась, представляли по своему роду и по своей силе больший контраст с причинами ныне действующими.
Ни одно учение так не потворствовало беспечности и так сильно не притупляло острое лезвие любопытства, как это предположение о разногласии прошлых и существующих причин изменения. Оно породило состояние умов в высшей степени неблагоприятное для чистосердечного усвоения важности тех малых, но безостановочных изменений, которым подвергается каждая часть земной поверхности и которые беспрестанно изменяют состояние живущих на ней обитателей… Геология (говорили начинающему. – С. Р.) никогда не может подняться на степень точной науки; большинство явлений должно навсегда остаться необъяснимым, или они только отчасти могут быть истолкованы остроумными предположениями. Говорили также, что таинственность, облекавшая эту науку, составляет одну из главных ее прелестей, ибо предоставляет фантазии полный разгул на беспредельном поприще умозрения.
На нашей стороне теперь, – заключает свой вывод Лайель, – по крайней мере, то преимущество, дознанное из опыта, что этот противоположный метод (изучение медленных постепенных изменений. – С. Р.) всегда ставит геологов на дорогу, ведущую прямо к истине, и предлагает воззрения, хотя на первый раз несовершенные, однако же подлежащие улучшению и окончательному усвоению по общему согласию».
Да простит мне читатель столь длинную цитату. Но кто, как ни автор, защитит свою позицию, к тому же если он – профессиональный адвокат.
Трудно, очень трудно было современникам Лайеля сохранить скептический настрой, когда автор столь убедителен в рассуждениях и столь красив в форме их выражения. Ясно, что Лайелю ничего не стоило покорить умы своих современников, тем более что они не были пресыщены информацией. А что касается подходов к конкретному анализу процессов геологического прошлого, то из геттоновского актуализма они не выводились, а из постулатов катастрофистов – тем более. А у Лайеля все так просто: наблюдай, изучай современные процессы, учитывая при этом неограниченное воздействие на результат бесконечного числа малых, но непрерывно действующих причин. Этого, по Лайелю, достаточно, чтобы объяснить все геологические феномены.
Итак, чем же вооружил геологическую науку Лайель? Что он привнес в актуалистическую методологию познания в сравнении со своими предшественниками?
Во-первых, как уже отмечалось, идею актуализма Лайель превратил в системную методологию получения знаний о геологическом прошлом, т. е. разработал стройный подход к изучению Земли. Для времени, когда наука еще не освободилась окончательно от теологических доктрин, доказать принципиальную познаваемость геологического прошлого было громадным достижением геологической науки и лично Чарльза Лайеля.
Во-вторых, если Бюффон первым указал на длительность геологического времени, если Геттон еще более усилил этот тезис, посчитав, что у геологического времени нет ни начала, ни конца, то Лайель использовал эти чисто методологические посылки в конкретном геологическом анализе. Раз, согласно теории Лайеля, время – это решающая преобразующая лик Земли «сила», то теперь геология не просто стала исторической наукой, но смогла разрабатывать даже физические модели отдельных, поддающихся строгому анализу процессов. А это, согласитесь, немало.
В-третьих, Лайель не дал геологии конкретного метода познания (метода актуализма), хотя многие историки науки, прежде всего почему-то наши советские, именно в этом и видели его основную заслугу перед наукой. Он сделал больше, коренным образом трансформировав мировоззренческую платформу геологов, вооружив их концепцией, главная ценность которой, по справедливому заключению английского профессора Хэллема, эвристическая.
Нельзя сказать, чтобы идеологию, которую защищал своим трудом Лайель, приняли все его коллеги-геологи. И главное, что их сразу не устроило, касалось как раз ее стержневой идейной опоры – веры в неизменность сил природы, в однообразие и равномерную монотонность протекания геологических процессов.
Немецкий геолог Карл Бернгард фон Котта (1808-1879) еще в 1839 г. указал на эволюционно необратимое развитие геологических процессов во времени. Однако и Котта не сумел убедить в своей правоте геологов, о чем он с сожалением писал через 30 лет, в 1867 г.
В том же году на русский язык была переведена книга очень глубокого английского философа Пэджа «Философия геологии». Он писал, в частности, и о лайелевской трактовке актуализма. Признавая учение «…об однообразии проявления сил природы, мы должны, однако, помнить, что имеем дело с миром явлений, в котором… есть и прогресс. Результаты физических изменений одной эпохи никогда не повторятся в последующей… Воздух, суша, вода, так как действия их постоянно одинаковы,… производят сходные результаты, но никогда не производят они результатов тождественных… Колеса вертятся всегда одинаково, но в то же время они движутся вперед».
На уровне диалектики, думаю, и Лайель знал и принимал древнее, демокритовское: нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Но он не видел никаких реальных перемен в течение геологических процессов, а потому не мог принять эволюцию неорганического мира на веру. К тому же, когда к 40-м годам XIX века были выделены практически все основные геохронологические периоды последних 570 млн. лет геологической истории (фанерозой – эра явной жизни) и стало видно, что интенсивность геологических процессов не обнаруживает явной корреляции с геологическим возрастом, то выяснилось, почему Лайель так безоговорочно уверовал в правоту своей теории (ведь издания его книги продолжались) и почему его доктрина собрала под свои знамена так много приверженцев.
Единственное, что конечно же нельзя было класть на одну чашу весов, это равное безразличие Лайеля к эволюции как неорганического мира, так и органического. Если первое не вызвало чувствительного удара по его взглядам, то пренебрежение к эволюции живой природы подорвало веру в актуализм у многих естествоиспытателей.
Самое поразительное заключается в том, что Лайеля критиковали почти все его современники: одни за то, что он не сделал ничего особенного, – ведь актуализм как средство познания прошлого был известен задолго до «Основ геологии»; другие – потому, что природа не ложится в прокрустово ложе актуалистической доктрины; третьи (их большинство) – за неучет изменяемости геологических процессов во времени.
И только один ученый был преданным последователем Лайеля, даже его поклонником, никогда не изменявшим взглядам Лайеля. Имя этого ученого Чарльз Дарвин. Он же, кстати, заложил под лайелевский актуализм мину громадной разрушительной силы. Но об этом мы поговорим отдельно.
Д ве крайности
Не будем напускать тумана: две крайности в понимании мира геологической наукой – это актуализм и катастрофизм. Катастрофизм первым уже в XVII веке прочно утвердился на полке натуралистов и философов. В наши дни, уже в ином, разумеется, обличье, он вновь стал в центре внимания не только методологов геологической науки, но и действующих ученых-геологов, правда, уже под другим названием.
На самой заре геологии, когда у нее не было никаких познавательных возможностей, кроме неограниченных ресурсов «чистого разума» катастрофизм являлся единственным шансом естествоиспытателей. Действительно, как еще они могли истолковать Всемирный потоп; страшные извержения вулканов, в одно мгновение уносившие тысячи жизней; землетрясения, когда внезапно разверзшаяся земля поглощала целые города, как ни проявлением Божественной силы, карающей человека за грехи его. Наука, сама того не желая, погрузилась во мрак иррационального ужаса.
И вдруг Бюффон, Геттон, Лайель, как добрые волшебники убаюкали естествознание «рациональным оптимизмом», несшим в себе зародыш нового самообмана. Процитируем Александра Гангнуса. Он очень хорошо сказал по этому поводу: «Природе навязывалась не менее искусственная, чем роль коварного пугала, роль некоего гаранта непрерывного благополучия. Все идет, мол, своим чередом, по строгим законам прогресса, вперед и выше. Любая неожиданность, катастрофа – вне закона, она сродни дьяволу, который, как известно, не существует».
Опыт человечества, как известно, это своеобразный аккумулятор катастроф: революций, войн, стихийных бедствий. Но он не принимался в расчет, а «заставлял нас как бы еще судорожней держаться за смутную идею безответственного оптимизма. Родился тип нового Панглоса: все к лучшему в этом лучшем из миров». Не правда ли, знакомая мелодия…
Попробуем теперь спокойно во всем разобраться.
Природа необычайно многообразна, история ее бесконечна, а жизнь человеческая слишком коротка, чтобы строить иллюзии относительно единственно возможных схем геологического познания. Это – утопия. Но человек, пусть и наделенный недюжинным интеллектом, устроен так, что рожденную им познавательную конструкцию будет непременно считать единственно верной; все, что было до нее, он низвергает; все, что ей противопоставляется, отрицает. Так утопия авторитетом ее творца становится на некоторое время реальностью.
Мы на собственном опыте знаем, что в политике утопию и реальность соединяют кровь, насилие, гражданская война; в науке таким лжемостом всегда оказываются многочисленные «учения», очень популярные именно у нас, где даже люди науки как будто нуждаются больше в догматах, чем в гибкой методологии познания. Когда инакомыслящие вынужденно замолкают, «учения» как бы естественным путем становятся на какое-то время господствующей доктриной.
Эти общие глубокомысленные сентенции пусть будут своеобразной преамбулой исторического экскурса, где расскажем (разумеется, очень кратко), что все же подвигнуло геологов к катастрофизму.
Прежде всего, что означает сие антинаучное слово? Человечество знает многочисленные примеры стихийных бедствий: ураганы, бури, смерчи, засухи, затяжные дожди, землетрясения, цунами, извержения вулканов, селевые потоки и т. д. Для рода человеческого проявление любого из них – это беда, часто трагедия целого народа. Но это – не катастрофы в геологическом смысле слова, ибо они не меняют общий лик Земли, характерный для данного отрезка времени.
Что же тогда можно назвать в качестве примеров геологических катастроф? Это материковые оледенения, трансгрессии и регрессии моря, появление астроблем – метеоритных кратеров, вызванное падением на Землю пришельцев из космоса крупных размеров. Были метеориты таких габаритов, что их падение изменяло даже климат на планете, а это влекло за собой вымирание целых групп фауны.
На рис. 2, который мы заимствовали из работы американского геолога Н.Д. Ньюэлла, наглядно продемонстрировано к чему может привести типично геологическая катастрофа: на границе мела и палеогена (~ 65 млн лет назад) полностью вымерли динозавры, надолго прервалось развитие рифовых кораллов. И хотя причины этой катастрофы трактуются по-разному, связывая ее и с падением космического пришельца громадных размеров, и с полным осушением внутренних морей в маастрихте вследствие обширной регрессии, приведшей, в частности, к смене умеренного морского климата суровым континентальным, вывод несомненен: в этот краткий (с геологических позиций) миг произошла биотическая революция. А мы знаем, чтобы не лежало в ее основе, она всегда – катастрофа.
Что же стало ясно? То, что от стихийных бедствий катастрофы отличаются не только пространственным, но и временным масштабом: геологические катастрофы чаще более растянуты во времени, хотя в сравнении с обычным ходом геологических процессов (по Лайелю, например) катастрофы реализуются мгновенно. Потому они и катастрофы.
Но это, так сказать, примеры материальных носителей катастроф. Нас же интересуют не столько механизмы проявления катастроф, сколько методологические схемы познания прошлого, для которых любые крупные изменения лика Земли суть катастрофы. Отсюда и название – катастрофизм.
Энтони Хэллем заключает с едкой иронией, что катастрофизм – это не что иное, как «миропонимание, уходящее корнями в спекулятивные космогонические представления Бернета, Уистона и Вудворда на рубеже XVII-XVIII веков, что, без сомнения, и было одной из главных причин того, что катастрофисты более позднего периода постоянно служили мишенью для насмешек». Смеялись, конечно, сторонники лайелевского актуализма.
Сейчас можно с равной мерой иронии относиться к аргументации и ранних катастрофистов и ранних униформистов. Вот как, к примеру, рассуждал в 1791 г. Деодат Доломье (1750-1801). Землю покрывал первобытный океан, из него медленно, в течение «тысячи веков», осаждались первичные породы. Затем случилась внезапная мировая катастрофа «необыкновенной мощности». Ей обязаны своим рождением первичные горы. Далее – небольшой отдых, после чего – новая катастрофа. Образовались «перенесенные слои», их появление сопровождали периодические сильные наводнения.
Если удержаться от дружелюбного интеллигентского сарказма, то станет ясной главная познавательная идея катастрофистов: природа много времени на свои дела не тратит. Запомним этот вывод. В конце XVIII века его были вынуждены сделать из-за полного отсутствия фактов и, как следствие этого, познавательной беспомощности науки. Теперь мы этот вывод подтверждаем, имея на руках множество бесспорных доказательств.
Конечно, ранние катастрофисты ничего вразумительного об условиях образования известных им объектов: гор, вулканов, морей, слоев, складок, разрывов – сказать не могли. Поэтому их слова более напоминают ритуальные заклинания, чем научную аргументацию. Легче было кивать на неисповедимость путей Господних, на апокалипсический конец Света, чем изучать долгий путь, по которому шла и развивалась Природа. Примерно такие мысли внушал своим студентам Ламарк в 1800 г., высмеивая интеллектуальную беспомощность катастрофистов.
Вечная схватка идеологий!
В лагере катастрофистов между тем были такие зубры, как Леопольд фон Бух, разработавший оригинальную гипотезу кратеров поднятия; Леонс Эли де Бомон, автор гипотезы контракционного сжатия земной коры; Луи Агассис (1807-1873), считавший, что жизнь на Земле эпизодически прерывается обрушением таинственного «земного свода»; Александр Броньяр, который по фауне мелового возраста, найденной им на высоте 2000 м в Савойских Альпах, в 1821 г. сделал вывод, что горы молоды и образовались за очень краткий период времени; Альсид Д'Орбиньи (1802-1857), в 1849 г. обосновавший 27-кратное повторение «актов творения» вслед за каждым геологическим переворотом, это он признавал за факт, а проникнуть в «сверхчеловеческую тайну, этот факт окружающую», даже не пытался.
В России последователями школы катастрофистов были Петр Симон Паллас (1741-1811); Эдуард Иванович (Карл Эдуард) Эйхвальд (1795-1876), по крайней мере, в 20-х годах XIX века; Степан Семенович Куторга (1805-1861); Герман Вильгельмович Абих (1806-1886) и некоторые другие.
Главой же школы катастрофистов и в России и в Европе заслуженно считался Жорж Кювье. Его идейное лидерство никем не оспаривалось.
Кювье был не только и не столько геологом, сколько биологом и палеонтологом. В 1812 г. он публикует капитальный четырехтомный труд «Исследования об ископаемых костях». Затем продолжает над ним работать и к 1828 г. доводит число томов до семи, а в 1836г. вышло посмертное издание этого фундаментального труда уже в десяти томах. Нас все это интересует потому, что уже к первому изданию 1812 г. в качестве своеобразного введения в тему Кювье публикует самостоятельное сочинение «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара». В России его заметили, оценили и в 1840 г. в Одессе опубликовали русский перевод этой небольшой книжки. В 1937 г. вышел еще один перевод с 6-го французского издания 1830 г. Им мы и воспользуемся.
Точку над i поставим сразу. По мировоззрению, по методическим приемам познания геологического прошлого Кювье был, разумеется, актуалистом. А кем он мог быть еще, если, как говорится, другого не дано. Сравнение – единственный путь изучения геологической реальности. Другое дело, что Кювье не признавал основной тезис геттоновской платформы о плавном и неизменном ходе геологических процессов. Такому неприятию были свои весьма веские причины…
Кювье вместе со своим коллегой и другом Александром Броньяром изучали последовательность напластования в Парижском бассейне, и одним из первых Кювье сосредоточил внимание не на веществе слоев, а на содержащейся в них фауне. То что фауна в каждом слое была своей, с этим Кювье свыкся быстро, но он никак не мог понять одного – если слои ложились один на другой без перерыва, как учил еще Стенон, то где же тогда переходные виды фауны? Почему «население слоев» столь различно? Полное впечатление внезапных катастроф («переворотов»), уничтожавших все старые виды фауны.
Кювье был согласен с тем, что надо хорошо знать процессы, происходящие буквально у нас на глазах, и в то же время ясно видел недостатки такого подхода. «Это тем более важный вопрос в истории Земли, – пишет он, – что долгое время полагали возможным объяснить этими ныне действующими силами предшествующие перевороты, – совершенно так, как с легкостью объясняют в политической истории прежние события, зная страсти и интриги наших дней. Мы скоро, однако, увидим, что в физической истории дело, к несчастью, обстоит не так: нить событий прервалась, ход природы изменился и ни одной из действующих сил, которыми она пользуется теперь, не было бы достаточно, чтобы произвести ее прошлую работу».
Если не принимать в расчет некоторую категоричность, то в основном это вполне здравые и сегодня слова. Кювье точно подметил, что «раковины древних слоев имеют только им свойственные формы», что в более поздних слоях они уже не появляются, тогда как раковины этих самых «поздних слоев» похожи в «родовом отношении» на население современных морей.
Ясно, что в понимании актуалистической методологии Кювье ушел даже дальше Лайеля (хотя и писал об этом значительно раньше); подход его интереснее, глубже и – я бы даже сказал – современнее. Лайель при написании своих «Основ геологии», разумеется, читал Кювье. Более того, труд Кювье, без сомнения, явился своеобразной программой действий для Лайеля, которую тот и пытался выполнить.
– Хорошо, – вправе спросить читатель, – раз Кювье точно установил факт исчезновения видов из древних слоев и появление новых видов в слоях более молодых, то чем он объясняет такое внезапное видообразование, уж не актом ли Божественного творения?
– Нет! – отвечает Кювье. – «Когда я утверждаю, что каменные пласты содержат кости многих родов, а рыхлые слои – кости многих видов, которые теперь не существуют, я не говорю, что нужно было новое творение для воспроизведения ныне существующих видов; я говорю только, что они не существовали в тех местах, где мы их видим теперь, и что они должны были прийти из других мест».
Объяснение, прямо скажем, на первый взгляд выглядит не очень убедительным. Однако, если учесть, что Кювье рассуждал только применительно к слоям Парижского бассейна, то тогда такую трактовку можно и принять, – ведь «катастрофа», уничтожившая фауну в нижележащих слоях, не обязательно была глобальной. Тогда действительно «население» того времени должно было частично сохраниться и в более поздние слои вполне могло «прийти из других мест».
Итак, что более всего различает актуалистическую и катастрофистскую ориентации в познании истории нашей планеты? Конечно, отношение к так называемому геологическому времени. Попробуем и в этом разобраться более подробно.
Лайель, как мы помним, считал геологическое время чуть ли не физически ощутимой силой в том смысле, что ничтожные воздействия, но в течение неограниченно долгого времени, суммируясь, могут привести к грандиозным геологическим трансформациям земной коры. Катастрофисты с этим были категорически не согласны. И были правы.
На самом деле, если суммируются бесконечно малые величины, то, как хорошо известно из математики, их сумма также будет величиной бесконечно малой. Это – с одной стороны. С другой – тезис прямо противоположный. Его можно почерпнуть из арсенала диалектики: переход количества в качество. Но он, мне думается, в данном случае не подходит уже хотя бы потому, что «новое качество» геологических объектов (например, преобразование первоначально горизонтально залегающих слоев в сложно построенные и поднятые на высоту 7-8 км горные вершины) невозможно объяснить суммированием ничтожных воздействий. Такое рассуждение – чистой воды дилетантизм. Здесь действуют принципиально иные силы. О них мы еще поговорим, когда будем обсуждать «новый взгляд на Землю» – великое геологическое открытие нашего времени.
О проявлении таких сил во время жизни Кювье, Бомона, Буха и других геологов начала минувшего столетия даже не догадывались. Поэтому они и назвали геологически энергоемкие процессы, за краткий миг преобразующие земную поверхность, катастрофами, переворотами, революциями. И были ближе к истине, чем рафинированные униформисты.
И все же оба подхода можно назвать крайностями весьма условно, так как актуализм – это не более чем мировоззренческая платформа геологов, он лишь фиксирует единственно конструктивный путь познания прошлого – путь сравнения; а катастрофизм – это уже дееспособная интерпретация тех реальных перемен, которые имели место в истории Земли. Если с геологическим (точнее, физическим) толкованием причин и механизма таких перемен, встречающимся у самого Кювье и у его последователей, сегодня согласиться трудно, то главное, что они дали, осталось в арсенале науки. Это взгляд на геологическую историю как на бесконечное чередование длительных периодов покоя с моментами взрывной активности геологических процессов. Осадки океанического дна – эта живая летопись геологической истории за последние 150 млн лет – подтвердили данный тезис. Кардиограмму геологического прошлого надо расшифровывать именно так.
Жорж Кювье, не зная, конечно, тех фактов, которыми располагает современная нам наука, тем не менее в логике ретросказания разбирался превосходно. И вовсе не отрицал актуализм – и как методологическую базу сравнительно-исторического метода, заложенного еще трудами Бюффона, и просто как средство сравнения современных процессов со следами событий «после последнего переворота».
Хорошо. Если актуализм понимается как некая система взглядов на прошлое Земли, как своеобразная мировоззренческая платформа геологов, то согласитесь, что мировоззрение еще не наука, на его базе должны все же создаваться какие-то конкретные методы познания или, по крайней мере, подходы к ним.
Исторически так и было. Из постулатов, легших в основу актуализма, еще в середине XVIII века Бюффон отчеканил афоризм: НАСТОЯЩЕЕ – КЛЮЧ К ПРОШЛОМУ. Формула так проста, так изящна, что даже обсуждать ее как-то неудобно. Красотой надо любоваться, а не анализировать ее. И все же рискнем.
Начнем с главного: что такое «настоящее»? Ответить на этот вопрос, вообще говоря, несложно. Это те процессы, которые мы можем наблюдать и изучать непосредственно, так сказать, щупать их собственными руками, можем ставить и проверять экспериментально любые генетические построения. То есть работать со своими объектами так, как работают физики.
Да, но сегодняшние процессы – это не объекты геологии. Геология изучает не процессы, а их следы. Геолог с молотком, компасом, радиометром и еще со множеством приборов странствует в царстве теней, он имеет дело лишь с осколками былого величия и только своей фантазией оживляет прошлое: ракушка вновь перемещается по дну морскому, складки гор распрямляются и становятся равниной, пласт угля оказывается топким зловонным болотом, а кость доисторического животного тут же оборачивается гигантским ящером, от одного вида которого кровь стынет в жилах.
Одним словом, все опять упирается в пресловутое и непреодолимое геологическое время.
На самом деле, волны перемывают песок на пляже, но это еще не геологический процесс осадочной рассортировки; галька во время шторма намывается на берег, но это все же не процесс абразии; обрушение участка берега под действием морского прибоя – еще не вполне геологический процесс деструкции побережья. И все же с некоторой долей натяжки мы можем все эти явления считать, как говорят математики, нулевым приближением к изучаемому явлению. А где найти в «настоящем» хотя бы отдаленное подобие процессов рудообразования, роста горных систем, формирования крупных тектонических структур. На такое даже изощренная фантазия геолога не решится.
Так что же, формулу Бюффона сдадим в архив науки? Не будем спешить.
Хотя надо признать, что многие ученые в этой формуле разочаровались. Канадский геолог Петер И. Гретенер считает ее не более чем откровенным высокомерием «недавно появившегося вида Homo sapiens», и, как бы насмехаясь над этой схемой, предлагает взамен бюффоновского афоризма свой: «изучение настоящего дает не ключ к прошлому, а вид на прошлое через замочную скважину». Конечно, смешно, но не более.
От бюффоновской формулы актуализма отказались и многие наши современники: Георгий Павлович Леонов (1908-1983), американские историки науки Джон Ван Кауверинг и Джон Чэллинор, а также ряд других. Они, не склонные к шуткам на столь серьезную тему, ограничились тем, что прочли бюффоновскую формулу как бы с конца. Вышло: прошлое – ключ к настоящему. Такое прочтение было названо «новым униформизмом».
Однако, не желая обидеть столь почтенных ученых, рискну заметить, что как афористичное выражение любой из схем познания прошлого их формула просто не годится, тем более – для изучения «настоящего». Другое дело, что актуалистическая идеология, как мы уже договорились, – это идеология сравнения. Но разумнее, кажется, сравнивать менее изученный объект с объектом хорошо знакомым. Поэтому легче, удобнее да и результативнее сравнивать геологические эпохи, двигаясь от более молодых к более древним.
С другой стороны, повторим еще раз: природа разнообразнее и сложнее самых вычурных познавательных схем, выдумываемых учеными. Поэтому как бессмысленно грабителю иметь один универсальный ключ на все виды квартирных запоров, если он все же хочет добиться цели, так и геологам не стоит изощряться в выборе единственной и непременно изящной формулы реставрации геологической истории. Известный американский геолог С. Д. Гулд призывает нас к «плюрализму в выборе метафор, характеризующих природные изменения». Будем считать такого рода компромисс устраивающим всех, изучающих геологическую историю.
И все же любопытно, почему решили сменить вывеску? Думаю, ученые поняли главное: то, что казалось вполне очевидным, оказалось не более чем иллюзией, имеющей мало общего с действительностью, и далеко не все в прошлом можно объяснить с позиций «ныне действующих причин». Такой гипноз познания «по аналогии» мешал ученым доискаться до возможных механизмов тех геологических процессов, прямых аналогов которых в «настоящем» не наблюдается.
К тому же – и это очень важно – Лайель за «норму» брал современное состояние Земли, а признав эволюционную теорию Дарвина, невольно стал историю Земли подменять историей жизни. От Лайеля этот грех перешел и к другим поколениям геологов. Многие из них не избавились от него по сию пору. В лайелевском актуализме, таким образом, явно наметился эволюционный тренд, что не могло не сказаться на дальнейшем углублении схем познания прошлого. Поэтому уделим этому внимание и мы.
Э волюционный подтекст актуализма
Уже упоминавшийся нами Головкинский говорил в своих вступительных лекциях в Новороссийском (теперь Одесском) университете, что хотя доктрина Лайеля признавалась геологами «разумной», они тем не менее не шли за ним. Пытаясь объяснить прошлое, геологи не обращались к изучению современных процессов, к чему призывал их английский наставник, а просто придумывали свои схемы. «Чувствовалось, что чего-то недостает, а чего именно – не догадывались», – говорил Головкинский в 1872 г.
Недоставало же конкретных методов перенесения знаний на прошлое. Сегодня мы эту методологическую процедуру называем ретросказанием. И хотя статей и книг на эту тему написаны горы, нельзя сказать, что со времен Головкинского геология сильно поумнела.
Не все, однако, были столь скептически настроены к назидательному труду Лайеля. Был у него заочный ученик и преданный поклонник, который настолько уверовал во всемогущество лайелевского актуализма, что от избытка энтузиазма вынудил в конце концов и самого Лайеля отказаться от базовых постулатов своего учения. Звали этого ученика Чарльз Дарвин. Мы обещали рассказать об этой истории.
Резонный вопрос: откуда у Дарвина, не профессионального геолога, такое глубокое понимание актуализма и такая вера в него? Думаю, частично это можно объяснить с позиций человеческой психологии. Дело в том, что, еще будучи молодым, Дарвин отправился в кругосветное плавание на «Бигле», затем он это путешествие красочно описал. (См. список источников в конце нашей книги). Среди немногих книг, которые Дарвин взял с собой, был и первый том «Основ геологии» Лайеля. Эту книгу молодой натуралист читал с захватывающим интересом.
Дарвин, как он сам впоследствии вспоминал, «придумал» к тому времени теорию образования коралловых рифов, придумал чисто умозрительно – из книг («живого рифа» он никогда не видел). Теория его тем не менее оказалась вполне разумной, и до сего дня (наряду с другими схемами) с ней знакомят на университетской скамье будущих геологов.
Что же направило чисто дедуктивные рассуждения Дарвина по верному пути? Актуализм. Будучи в Южной Америке, он уже самолично мог убедиться во влиянии колебаний уровня моря на рост рифа. А убедившись в правоте подхода, вычитанного им из книги Лайеля, Дарвин безоговорочно поверил в его могущество. Читатель-скептик может проверить точность моей трактовки, просмотрев «Автобиографию» Дарвина, хотя бы 20 ее страниц (с. 90-110).
Дарвин и впоследствии в своих конкретных исследованиях пользовался актуалистической идеологией: и при аргументации методов выведения новых пород животных в домашних условиях, и при объяснении механизма разрушения берегов под действием морского прибоя, и при обосновании связи между подъемом уровня моря и размывом ранее отложенных осадков (отсюда его тезис о неполноте геологической летописи). Даже естественный отбор Дарвин трактовал как результат длительного направленного влияния отдельных факторов среды на жизнедеятельность организма. И так далее.
Однако Дарвин не смог бы сказать своего слова в науке, если бы был только преданным и верным выразителем чужой идеи. Он был прежде всего ученым, т. е. генератором своих идей. А достижения предшественников, в том числе и актуализм Лайеля, Дарвин включил в свою «базу знаний», которой активно пользовался. Образно говоря, Чарльз Дарвин, ведя актуалистический состав, вовремя переключил стрелки и перевел его с рельсов униформизма на эволюционную магистраль. Так начался новый этап освоения актуалистического мировоззрения – первого из великих геологических открытий.
Все историки, занимавшиеся «Происхождением видов» Дарвина, единодушны в том, что на первых этапах его работы влияние Лайеля было очень заметным. Но только – на первых. Далее путь у Дарвина был свой, и Лайель не принял его теории, главным образом из-за того, что сам он был твердо убежден в неизменности видов. Затем за периодом активного неприятия Дарвина наступил этап растерянности: ведь актуалистическая идеология эволюцию отрицала, а тем не менее в каждом более молодом слое (позднее – свите) геологи обнаруживали новые виды, не похожие на своих предшественников. Так что же делать? Признать катастрофы? Нет! Лайель на это пойти не мог, это было бы полным крахом его учения.
Да и Дарвин поначалу был в полной растерянности. Он прекрасно понимал, какое впечатление произведет его теория на современников, метавшихся между бесполым актуализмом и полуфантастическим катастрофизмом; знал, как отнесется к его выводам сам сэр Чарльз (Лайель); чувствовал, что и для биологов его теория не будет рождественским подарком. А уж о церковниках и говорить нечего: покуситься на акты Божественного творения… Такое не прощается!
Дарвин не спешил с обнародованием своего открытия. Теория его была практически готова уже к 1839 г. В 1842 г. он так, для себя, на 42 страницах набросал резюме своей работы. Однако громадный материал и уже вызревшие мысли требовали выхода; в 1844 г. он расширяет первоначальный текст резюме до 230 страниц. И лишь в 1856 г. по рекомендации самого Лайеля (каков все-таки масштаб Личности!) Дарвин начал писать свое грандиозное сочинение. Написанное превысило в четыре раза объем опубликованного, да и написана была лишь часть того, что задумал Дарвин. Сам он вспоминал в «Автобиографии», что «Происхождение видов» оказалось лишь «извлечением» из собранных материалов.
Мы коснемся лишь той грани теории Дарвина, где проясняется ее связь с актуалистической методологией. Казалось бы, и у концепции Лайеля, и у эволюционной теории Дарвина есть общее – идея постепенного развития как неживой, так и живой материи. Причем если для Лайеля идея развития была в общем-то избыточной, то для Дарвина – ключевой. Сам термин «эволюция» в те годы подразумевал только постепенность, градуализм (по терминологии англоязычных авторов).
Но вот незадача. Ископаемая фауна не давала в руки Дарвина практически никаких свидетельств в пользу постепенных переходов от одного вида к другому. И это более всего его беспокоило. Он писал в «Происхождении видов»: «Почему же все геологические формации и слои не наполнены такими промежуточными звеньями? Геология определенно не позволяет увидеть никакой мелко градуированной органической цепи; это, возможно, является самым сильным возражением, какое может быть выдвинуто против моей теории…».
Руку помощи опять протянул актуализм Лайеля. Раз при поднятии земной коры (это документально в те годы было подтверждено наблюдениями в Фенноскандии) уровень моря понижается, то это ведет к увеличению глубины эрозионного вреза, и, в частности, к размыву ранее отложенных осадков. Значит, геологическая летопись не полна и, следовательно, все переходные виды, которые должны были бы существовать, оказались уничтоженными.
Неясно только, почему природа избирательно истребляла «переходные формы», как будто они ей мешали. А может, их и не было? Тогда как же шло видообразование? Задавать вопросы, как известно, легче, чем отвечать на них.
Эти недостатки в дарвиновской трактовке постепенности изменчивости как основы видообразования актуализм все же не спас. Уже в 1858 г., сразу же после первой публикации Дарвином и Альфредом Уоллесом (1823-1913) основных идей эволюционной теории, Ричард Оуэн (1804-1892), президент Британской ассоциации содействия развитию науки, совершенно справедливо заявил: «Здесь необходимо сопоставить нынешнюю изменчивость с изменчивостью вымерших форм, чтобы выяснить, допустима ли аналогия между реально наблюдаемым расселением и постулируемым эволюцией. Данные палеонтологии не позволяют провести такую аналогию».
Справедливости ради надо все же сказать, что наличие или отсутствие переходных форм в геологической летописи во многом определялось тем, какой смысл ученые вкладывали в понятие «вид». При достаточно широкой трактовке этого понятия вполне можно было обнаружить и переходные виды (вспомним проблему «пермо-карбона», которую Карпинский поставил в повестку дня стратиграфии еще в 1874 г.): при более узкой трактовке переходные виды не обнаруживались.
Более того, само понятие «переходный вид» следует, вероятно, отнести к неконструктивным. Так, скорее всего, и посчитали биологи, когда в 30-40-х годах нашего века предложили новую «синтетическую теорию» эволюции. Она дополнила теорию Дарвина данными хромосомной теории наследственности, популяционной генетики, биологической концепции вида. «Характерная черта нового синтеза, – читаем в коллективной монографии американских ученых, – полное отрицание наследования приобретенных признаков, подчеркивание постепенности эволюционного процесса, ясное понимание того, что эволюционные явления происходят на популяционном уровне, и подтверждение всеобъемлющего значения естественного отбора».
Итак, актуалистическая концепция ассимилировала эволюционные идеи. А что же сам Лайель?
Лайель уже на склоне жизни под натиском неоспоримых фактов был вынужден признать эволюционные изменения, обеспечивающие развитие всего живого на Земле, но от своей концепции не отказался. Да и сам творец эволюционной теории, как это ни странно, не утратил юношеской веры в доктрину Лайеля. В чем же дело?
Думается, дело в том, что наблюдаемые в геологических разрезах скачки в видообразовании Дарвин успокоительно отнес за счет неполноты геологической летописи и не нашел здесь никаких принципиальных огрехов актуализма. К тому же – это очень существенно – Лайель вооружил геологов не методом (его пришлось бы отбросить), не теорией (в нее пришлось бы внести такие коррективы, что она стала бы просто другой теорией), а чисто мировоззренческой доктриной, согласно которой (пусть читатель не сетует за повтор) не только признавались принципиально познаваемыми все геологические процессы, но и указывался путь такого познания – это сравнение, когда за своеобразное начало координат принимаются сведения о современных процессах. Недаром впоследствии именно на базе актуализма родились сравнительно-исторический, сравнительно-литоло-гический и ряд других схожих в методологическом отношении подходов.
Все это естественный и нормальный путь развития науки. А вот когда геологи любые видимые изменения в составе пород, в порядке чередования формаций и т. п. стали трактовать как эволюционные и с этих позиций, явно выдавая желаемое за действительное, описывать эволюцию процессов соленакопления, угленакопления, магмогенеза и т. п. – это уже противоестественная акция. «Эволюция» стала расхожим, полностью девальвированным ярлыком, который, не задумываясь, наклеивают на любые решаемые учеными историко-геологи-ческие задачи. И опять же, этим грешат более всего именно наши содержавники. Грустно…
Пошумели и довольно
В голову приходит такая ассоциация. Когда в стране назревает политический кризис, сопровождающийся усилением авторитарных амбиций, свободное, неподвластное цензуре развитие наук практически прекращается. Лозунгами и призывами полностью вытесняются смелые научные идеи. Именно в такие годы начинается пересмотр старых ценностей и наука вновь обращает свой взор на концепции, уже давно и всесторонне обмозгованные.
Так случилось и с актуализмом. В двух странах прошли в свое время бурные дискуссии на эту тему: в Германии в 30-х годах и в СССР в самом начале 50-х. Политическая ситуация и мера идеологических свобод в этих странах были схожими.
В Германии в те годы умами философов владела глубокомысленная доктрина фикционализма. Применительно к актуализму она означала следующее: разве можно переносить на прошлое «фикции», т. е. то, что нельзя воспроизводить экспериментально? Именно так аргументировал «фикционализм актуализма» К. Берингер в 1929 г. С разных позиций на актуализм ополчились в те годы многие геологи: К. Андре (1880-1959), Э. Кайзер (1871-1934) и др. Это продолжалось до тех пор, пока более важные для Германии события конца 30-х годов не отвлекли внимание ученых от методологических проблем геологической науки.
Весьма «благоприятная» для дискуссий ситуация сложилась и в СССР после окончания второй мировой войны. Разрешив все проблемы с жильем и продовольствием, вдохнув полной грудью воздух свободы, советские люди взялись за изучение проблем языкознания, которые в книге «Марксизм и вопросы языкознания» изложил И. В. Сталин, а ученые-естественники, гордые за выдающиеся достижения отечественной науки, решили дать окончательную отповедь буржуазным лженаукам: генетике, кибернетике, социологии и другим измышлениям враждебных нам идеологов полностью загнившего буржуазного общества. «Безродные космополиты», предпочитавшие Грегора Менделя Трофиму Лысенко, были пригвождены к позорному столбу и отправлены в лагеря для трудновоспитуемых. Одним словом, начался период открытых дружелюбных дискуссий.
В 1948 г. прошла дискуссия в биологии, закончившаяся разгромом генетики и уничтожением генетиков. В 1950 г. состоялась не менее знаменитая «павловская сессия» Академии наук и Академии медицинских наук, имевшая столь же печальные последствия.
Не захотели отстать и геологи. Надо было срочно выяснить «положение» в науке об осадочных породах, показать всю порочность метафизической доктрины Лайеля, не учитывающей развитие по спирали, и обратить внимание отечественных ученых на куда более плодотворный путь познания прошлого с помощью «теории развития»…
К счастью, участники литологической дискуссии 1950 – 1952 гг. после ее окончания остались дома, а не разъехались по лагерям. Им посчастливилось по той простой причине, что у литологов еще не было своего классика, чистоту учения которого надо было охранять.
Не просматривалось, кстати, и никаких особых методологических проблем. Это понимали уже в те годы. Имело место лишь соперничество за лидерство двух крупных литологов: Николая Михайловича Страхова (1900-1978) и Леонида Васильевича Пустовалова (1902-1970). У каждого была своя школа, и дискуссия шла по принципу «стенка на стенку».
Расстановка сил была такой. Страхов и его сторонники были за актуализм, точнее за рожденный на его основе сравнительно-литологический метод. Пустовалов со товарищи – против. Они-то в противовес и выдвинули мифическую «теорию развития».
Это поразительная и поучительная страница в истории науки. И хотя ничего нового дискуссия об актуализме не дала, да и дать не могла, если учесть годы, в которые она разворачивалась, все же любопытно сегодня проследить за аргументацией ее участников.
Дискуссию начал Пустовалов публикацией в 1950 г. статьи «К вопросу о положении в науке об осадочных породах». Уже само ее название, более напоминающее «информацию для органов», чем научный трактат, придало соответствующий окрас и будущей дискуссии, ибо Страхову сразу же пришлось оправдываться за то, что благодаря ему литология оказалась «в положении».
Парадокс в отрицании актуализма состоял и в том, что актуализму на словах противопоставлялась идея развития, необратимой эволюции геологических процессов. Но чтобы выявить, в чем же заключается это пресловутое развитие, надо уметь сравнивать образования разных эпох, т. е., иными словами, активно использовать в научной работе актуалистическую методологию. Таким образом, противники актуализма, пытаясь расставить своим оппонентам методологические сети, сами в них и попались.
Страхов предлагал конструктивный путь построения литологической теории. Заключался этот путь в подробном изучении современных процессов осадкообразования и в трансформации (не в механическом переносе, а именно – трансформации) полученных знаний на осадочные породы геологического прошлого. Это и есть путь сравнительной литологии, а метод познания – сравнительно-литологический.
Сам термин «сравнительная литология» ввел в науку еще в конце прошлого столетия немецкий геолог Иоганнес Вальтер (I860-1937). Затем эти идеи активно использовал академик Андрей Дмитриевич Архангельский (1879-1940). Однако наибольшее развитие они получили в трудах академика Страхова.
Страхов понимал сравнительно-литологический подход как «способ решения генетических вопросов путем органической увязки данных по современному осадконакоплению и по древним породам с выделением сходств и различий современного и древнего».
Однако обстановка в годы, когда разворачивалась дискуссия, не способствовала рождению методологических идей вне их явной связи с господствующей идеологической доктриной. Поэтому даже в содокладе «инакомыслящих» членов оргкомитета Совещания по осадочным породам, разошедшихся с остальными по вопросам актуализма, об основных теоретических установках Страхова сказано с явной оглядкой на предложенную оргкомитетом альтернативу – «теорию геологического развития».
Действительно, авторы содоклада (и в их числе Страхов) писали, что сравнительно-литологический метод «должен быть сохранен в арсенале геологической науки, но с обязательным условием учета при пользовании им необратимой эволюции осадкообразования в истории Земли и недопустимости механического переноса современных соотношений на древние эпохи».
Возникает вопрос: как можно «при пользовании» сравнительно-литологи-ческим методом учесть «необратимую эволюцию» осадконакопления, коли сама «эволюция», если и может выявиться, то только как результат сравнительно-литологического исследования? Этот порочный круг разорвать невозможно, если не отказаться от употребления слов, способных лишь затуманивать суть дела.
Пустовалов и его сторонники не очень заботились о научном обосновании своего неприятия сравнительно-литологического метода, им было достаточно философских ярлыков. Все очень изящно: метод сравнительной литологии – это современное воплощение актуализма, а метод актуализма базируется на униформистской концепции Лайеля – «метафизической и неверной». Следовательно, и сравнительно-литологический подход метафизичен, для советских ученых не годится, и лучше его отбросить.
Надо сказать, что такая логика характерна для многих геологических дискуссий и наших дней. Не определив исходные понятия, не закрепив за ними однозначно трактуемый смысл, каждый вкладывает в них свое понимание и с этих позиций обрушивается на инакомыслящих. Проку от таких дискуссий нет и быть не может. Более того, к первоисточнику (в нашем случае – к Лайелю), если и обращаются, то упор делается не на позицию автора, а на вырванные из его труда цитаты, устраивающие то одну, то другую спорящую сторону. Поэтому Лайель (да и не только он!) оборачивается двуликим Янусом: на каждого спорщика смотрит угодное ему лицо классика, и каждый ссылается на него как на свою незыблемую опору.
Однако даже противники актуализма, будучи геологами и по образованию и по способу мышления, понимали, что декларируемая ими «теория развития» без актуализма все же не обойдется. Поэтому, чтобы в своем отрицании очевидных вещей не дойти до абсурда, они предпочли войти в противоречие с собственной логикой: отказ от актуализма, мол, «не исключает необходимости всестороннего изучения современных геологических явлений, а наоборот, подчеркивает (? – С. Р.) эту необходимость».
Были ли, однако, у противников сравнительно-литологического метода содержательные основы для сомнений? Были. И весьма веские. Пустовалов, к примеру, справедливо писал, что наука об осадочных породах исходит из представлений о процессе осадочного породообразования как о «процессе развивающемся, поступательном и неповторимом, в ходе которого уничтожаются, “отмирают” старые и возникают новые, ранее не существовавшие, условия осадкообразования».
Осадочная порода – это продукт среды прежде всего. Геологическая же среда за многие сотни миллионов лет многократно коренным образом перестраивалась, и сегодняшнее состояние Земли во многих отношениях не характерно для суждений о физико-географических условиях геологического прошлого (человечество живет в период межледниковья), не говоря о том, что современный лик Земли – это лишь моментальный снимок в невообразимо длинной мультипликации геологических эпох, многие из которых по условиям «среды» действительно были уникальны и никогда более не повторялись. Достаточно вспомнить о гигантских солеродных бассейнах кембрийского времени, существовавших около 500 млн лет назад.
Поэтому актуализм и даже сравнительно-литологический метод, если их использовать по схеме прямой экстраполяции в прошлое (то, что видим сейчас, было и когда-то), не всегда могут привести к требуемым результатам. Но это вовсе не означает порочности самой идеи актуализма. Актуализм как мировоззренческая платформа геологов никогда не утратит своего значения уже хотя бы потому, что она не имеет альтернатив.
Поэтому в ходе дискуссии даже противники сравнительно-литологиче-ского подхода были вынуждены признать, что отказываются от него в основном на словах, на деле же этот подход используется и теми, кто так рьяно обрушился на сравнительную литологию с позиций идеалогизированной диалектики. И хотя Пустовалов писал, что «обширная, но неизменно неудачная практика применения сравнительно-литологического метода заставляет признать порочность его сущности», он сам и все его сторонники в своей конкретной работе без методов сравнительной литологии обойтись не могли.
В 1971 г. Страхов вспоминал, что «итог дискуссии об актуализме и сравнительно-литологическом методе оказался неожиданным для тех, кто эту дискуссию начал». И был прав.
Как принято, Пустовалов признал, что «недооценивал», а Страхов согласился с тем, что «переоценивал». Пустовалов недооценивал знание современных процессов осадконакопления для построения литологической теории, а Страхов переоценивал значение этих процессов. Процедура чисто ритуальная, ибо никто никому ничего не доказал. Каждый остался при своем мнении. Можно в этом не сомневаться.
В последующие годы разговоры вокруг актуализма велись редко и довольно вяло. В ноябре 1963 г. на собрании Геологического общества США был прочитан ряд докладов, касающихся истории, развития и возможностей актуалистической концепции. Появился ряд статей на эту тему в ГДР, СССР, Италии. Но ничего радикального в понимание актуализма привнесено не было. Нужен был свежий, принципиально новый взгляд на ход геологической истории, чтобы это отразилось и на схемах познания прошлого.
Все выше по лестнице, ведущей в прошлое
Почти два столетия ломали копья по поводу то катастрофизма, то актуализма, непременно желая доказать полезность лишь одной из этих мировоззренческих концепций. Не получилось. Казалось бы, чего проще: обе концепции объединяются и… извольте выбирать – катастрофический актуализм или актуалистический катастрофизм.
Как ни странно, но именно так и вышло. Причем не логическая простота привела к такому результату. В основе – факты.
Если для последовательного сторонника актуалистической концепции основной фактор, влияющий на ход геологических процессов, – это время, то для приверженцев теории катастроф время – лишь мерило дистанции между двумя последовательными катаклизмами, а сама история – это бесконечная череда сменяющих друг друга геологических катастроф. Современная наука все более и более склоняется ко второй точке зрения.
Давайте задумаемся над такой аналогией. Она прояснит суть разбираемого вопроса. Мы привыкли трактовать историю человеческого общества как длинную цепь войн. Но ведь любая война – это разрушение, она уничтожает и людей и достижения человеческой цивилизации. Общество же развивается и духовно мужает только благодаря культуре. Чем выше уровень духовной культуры общества, тем меньше вероятность того, что оно станет источником очередной войны. Однако Землю населяет человеческое со-общество, состоящее из множества государственных образований, находящихся на разной ступени культурного и социального развития. Эти различия (в широком смысле) и служили источником войн.
Почему же история человечества не пишется в контексте культурного прогресса, а непременно через войны? Не через созидание, а через разрушения.
Ответ простой. Потому только, что война – это всегда аномалия, катастрофа. Она всегда оставляет след, отметину; ее временные рубежи всегда ясны. Это – как шрам на гладкой коже. Он всегда бросается в глаза.
Поэтому, когда заглядываешь в бездонную пропасть истекшего времени, то само время становится фикцией, мы замечаем лишь те реликты, которые сохранила геологическая история. Эти реликты – всегда «шрамы» на земной поверхности, чаще всего – следы былых геологических катастроф.
Спрессуем мысленно всю геологическую историю в один год. Зимой выпал снег, земля замерзла, листва на деревьях исчезла, живность в лесу попряталась. Это естественное состояние природы. Затем пришла весна и от зимы не осталось и следа. За весной – лето со своими прелестями, за летом – осень. Затем эта круговерть повторяется.
Мы прекрасно изучили такой ход событий и знаем, что он закономерен. С точностью до дня нам известно, когда одно время года уступит место другому. Только в силу того, что нам твердо ясна последовательность событий, мы не принимаем их за катастрофы.
Следовательно, там, где человек обнаружил в природе определенный порядок следования событий, он даже аномальные явления не трактует как катастрофы. Их масштаб перестает играть решающую роль. (Это, разумеется, только в аспекте изучения, а не влияния на жизнь людей.) Пока же такой порядок не установлен, а он вовсе не обязан иметь место для любых явлений, каждое новое событие оказывается неожиданным, оно и воспринимается поэтому как «катастрофа».
Не это ли обстоятельство явилось причиной того, что геологи так увлекаются поиском непременно периодических источников событий, видят ритмические чередования в характере напластования пород, зональное строение рудоконтролирующих структур, циклическую смену геологических формаций в разрезе. Хочется, очень хочется видеть во всем временнóй порядок, а если он не усматривается в явном виде, непременно возникает желание истолковать чередование объектов как результат периодически повторяющейся цепи событий.
Рассуждение такое: есть временной порядок, значит, имеет место периодический характер геологических процессов, а это уже – наука со своим «режимом дня». Если нет порядка, нет и науки, а есть лишь нагромождение не упорядоченных во времени фактов, которые поэтому иначе, как «катастрофы», и называть неприлично.
С другой стороны, геолог всегда имеет дело с набором изолированных друг от друга объектов. Их упорядочение во времени означает только одно – выстраивание этих объектов в виде своеобразной очереди. Причем дискретность этой очереди всегда сохраняется. О непрерывном ходе геологических процессов, о непрерывном «воздействии» времени на геологическую историю (пусть в духе Лайеля) мы рассуждаем, лишь уверовав в эту непрерывность. То есть сначала мы допускаем непрерывность, так сказать, активной геологической истории, а затем, опираясь на это допущение как на результат научного анализа, считаем доказанным фактом развитие всей цепи геологических событий в духе лайелевского актуализма. Согласимся, что в плане логики познания прошлого здесь не все так безупречно, как кажется на первый взгляд.
Если же непрерывный ход геологической истории не постулировать, то остается только один вывод, который сделал еще в начале прошлого столетия Жорж Кювье: история Земли – это чередование геологических катастроф.
Чтобы не шокировать публику, воспитанную в духе постепенного, к тому же эволюционного развития Земли, смягчим эту формулировку: геологическая история – это чередование громадных отрезков времени относительного покоя, когда «время», образно говоря, не оставляет никаких следов, и отрезков, когда время спрессовано в геологические мгновения, но зато именно тогда и свершаются все важнейшие события, по которым мы судим о геологическом прошлом. С такими оговорками эти события и будем называть катастрофами.
Катастрофы (простите за столь ненаучный термин, конечно – события) бывают глобальными (всеземными, региональными и местными). Они стали содержательным ядром специальной, сравнительно недавно народившейся на свет новой научной дисциплины – событийной стратиграфии. Ее цель – отыскивать в геологических разрезах былых осадочных бассейнов события (шрамы), расшифровывать их природу (биотические они или абиотические), фиксировать их положение на оси геологического времени (Международной стратиграфической шкале) и на этом основании синхронизировать «события» в рамках региональной или межрегиональной корреляции. Возможную взаимоувязку причин глобальных событий иллюстрирует рис. 3, который мы заимствовали из новейшего руководства по событийной стратиграфии, изданного во ВСЕГЕИ в 2000 г.
И еще одна иллюстрация связи геологических процессов со временем. Если мы представим себе, что численность какой-либо популяции растет (или убывает) линейно, то на графике это выразится в виде прямой линии. Если же эта прямая внезапно разрывается «скачком» нашей функциональной зависимости (рис. 4), то это означает «перерыв» в монотонно протекавшем процессе, причиной которого скорее всего явилась некая катастрофа, а в разрезе она выразилась внезапным исчезновением конкретных видов фауны. А это – событие!
Чтобы судить о масштабах катастроф-событий, конечно, надо владеть своеобразной базой знаний, т. е. располагать информацией, собранной по наблюдениям за соответствующими явлениями, которые произошли на памяти человечества. В этом отношении актуалистическое мировоззрение полностью сохраняет свое значение, но поскольку изменилось отношение к трактовке последовательности событий, то правильнее всего было бы методологии геологического познания сменить терминологический костюм. Появились новые истины, надо одеть их в новые слова. Теперь будем говорить, что лестница, по которой мы поднимаемся, чтобы спуститься в прошлое, носит название актуалистического катастрофизма.
Что мы знаем о наиболее распространенных катастрофах? Не густо. И прежде всего надо сказать, что чем дальше в глубь веков мы погружаемся, тем эти катастрофы происходят реже. На самом деле, конечно, не так. Просто в памяти человечества сохраняются только самые выдающиеся события, и с течением времени они также неизбежно переоцениваются. Изменение шкалы ценностей влечет за собой укорачивание «памяти». Это также своеобразная информационная катастрофа.
Проиллюстрируем эту мысль на примере наиболее крупных землетрясений.
В XX веке их насчитывают около двадцати. Каждое сопровождалось сильными разрушениями и гибелью тысяч людей. Вот наиболее известные из них. В 1908 г. сицилийский город Мессина был превращен в руины, которые погребли более 80 тыс. человек. В 1923 г. произошло сильнейшее землетрясение с эпицентром в бухте Сагами. Пострадали города Токио и Иокогама, более 140 тыс. человек погибло и около 1 млн жителей остались без крова. В 1976 г. более 600 тыс. жизней унесло землетрясение в районе китайского города Таншань. В 1988 г. землетрясение силой 10 баллов было зафиксировано в Армении с эпицентром в городе Спитак. Оно унесло более 25 тыс. жизней. И так далее.
В XIX веке в памяти людей остались два сильных землетрясения: в 1896 г. гигантская волна накрыла приморский городок Санрику (Япония) и смыла в океан более 27 тыс. человек, разрушив около 11 тыс. зданий. Через год, в 1897 г., в индийском штате Ассам произошло самое сильное в истории человечества землетрясение, в одно мгновение изменившее рельеф местности на площади 23 тыс. квадратных километров.
XVIII век отмечен землетрясением в городе Калькутта (Индия), когда погибло более 300 тыс. человек. Было это в 1737 г. В 1755 г. произошло знаменитое лиссабонское землетрясение, полностью разрушившее столицу Португалии. Оно до глубины души взволновало нашего Ломоносова. Под его впечатлением он написал свое знаменитое «Слово о рождении металлов от трясения Земли…» В 1783 г. тряхнуло итальянскую область Калабрия, да так, что в мгновение ока погибли около 60 тыс. человек.
Наконец, известно землетрясение в XVI веке, в 1556 г., когда в китайских провинциях Ганьсу и Шэньси были погребены почти 800 тыс. человек.
Все это – трагедии человечества. Нас же интересуют в данном случае их следы, своеобразные отметины, по которым можно было бы судить об аналогичных катастрофах в доисторическое время, когда никто, кроме разве самой Природы, их не регистрировал. С этой точки зрения интересно следующее…
В 1692 г. произошло землетрясение на Ямайке, разрушившее город Порт-Ройял. В итоге земля просела на 10-15 м. Это уже геологический «шрам». Далее. В 1898 г. в результате землетрясения на Аляске, в заливе Якутат земля, напротив, поднялась на 15 м. Во время землетрясения в Сан-Франциско в 1906 г. по разлому Сан-Андреас произошло горизонтальное смещение на 7 м. Это то, что зафиксировала наука.
Катастрофы представляются страшными по разрушительной мощи, испытываемой на себе людьми. Но геологические разрезы хранят память о землетрясениях такой силы, какую и вообразить невозможно. Геологи нередко фиксируют сбросы с амплитудой смещения в десятки, сотни и даже тысячи метров. В земной коре сохраняются отметины не только землетрясений, но и извержений вулканов, цунами, ураганов, пыльных бурь и прочих подарков природы.
Однако какой бы разрушительной силы эти бедствия ни были, они все же носят локальный, реже региональный характер. Являясь катастрофой для населения какой-либо территории (сейчас для Homo sapiens прежде всего, раньше – для других видов фауны), они тем не менее не могли повлиять на эволюционную цепь развития, эта цепь не прерывалась.
Но не все виды катастроф локальны. В истории Земли за многие сотни миллионов лет случалось всякое, в частности и такие потрясения, на которые реагировала вся Земля. Это то, что современная событийная стратиграфия именует глобальными событиями.
Такого масштаба катастрофа произошла 65 млн лет назад – на границе временных рубежей, названных геологами меловым и палеогеновым периодами. Именно в этот «миг» (он был, конечно, растянут на несколько миллионов лет) выпали из эволюционного развития гигантские ящеры – динозавры. Их очень жалеют и палеонтологи, и физики, и геологи, и писатели-фантасты. Все они непременно хотят знать: что же такое погубило столь симпатичных гигантов? Гипотез было множество. О динозаврах написаны горы книг. Поэтому мы эту коллекцию пополнять не будем. Заметим лишь, что вместе с динозаврами (на суше) исчезли и многие обитатели морей: аммониты, белемниты и другие группы моллюсков, многие морские рептилии.
И все же, почему причина катастрофы представляется ныне глобальной? Потому, что несколько лет назад наши зарубежные коллеги, не то чтобы более внимательно изучающие природу, но имеющие возможность более точно анализировать результаты своих наблюдений, установили, что в геологических разрезах на территории Дании, Италии, Испании, Новой Зеландии, а также в колонках осадков из Тихого и Атлантического океанов есть слой с аномально высоким содержанием иридия (соответственно в 30 и 160 раз больше, чем обычно в осадочных породах). Ни в подстилающих, ни в перекрывающих слоях ничего подобного не фиксировалось. Значит, слой с иридием – всеземная аномалия. Дальше – больше. Временные датировки показали его возраст 65 млн лет. Связать же это в одну цепь с гибелью ящеров труда не составило. Более проблематичным оказался вопрос о природе такой аномалии. Точки зрения и на этот счет разошлись (в геологии иначе и не бывает). Одни утверждали, что это результат падения на Землю крупного астероида. Причем спорили так рьяно, будто были чудом спасшимися свидетелями этой катастрофы. Ученые из Палеонтологического института АН СССР не захотели остаться в стороне от диспута. Их позиция такова: динозавры вымерли раньше этого гипотетического астероидного удара, а иридий, мол, мог иметь и земное происхождение, например, быть продуктом вулканического извержения.
Здесь, как в капле воды, видна доказательная состоятельность любых геологических споров. Подобная аргументация мало кого убеждает.
Важнее другое. На примере слоя с иридием твердо можно убедиться только в одном, но для нас главном: любая граница в разрезе земной коры, являющаяся глобальным, региональным или даже местным временным репером, всегда есть результат некоего катастрофического события. Ряд этих событий по своему масштабу сравним с вычисленной (слава Богу, только на бумаге) «ядерной зимой». Таких «зим» в истории Земли было несколько тысяч. Что будет с человеком – господствующим биологическим видом четвертичного периода – после очередной подобной «зимы», догадаться не трудно.
И еще. Само понятие «катастрофа» для геолога отнюдь не ассоциируется всегда с мгновенным проявлением неведомых сил. Катастрофа – это когда, образно говоря, сталкиваются два или несколько процессов, протекающих одновременно, но с существенно разными скоростями. Например, часто говорят, что причиной вымирания многих групп фауны и появления в геологическом разрезе очередной резкой границы были интенсивные колебания климата. Если при очередном глобальном оледенении процесс уменьшения среднегодовой температуры более интенсивен, чем к нему могут приспособиться отдельные виды организмов, то это и служит причиной их гибели. Для них наступление ледникового периода является катастрофой.
Как катастрофы могут трактоваться и крупные регрессии моря в пермский период. Мелководные моря (самая благоприятная для жизни среда) сократились тогда с 43 % от общей площади, занятой морем, до 13 %, что привело к массовому вымиранию беспозвоночных.
Если «катастрофы» понимать так, как мы предложили, тогда легко будет смириться и с тезисом, казавшимся долгие годы еретическим, ставившим шлагбаум на пути планомерного познания плавного течения природных явлений, а именно: геологическая история – это непрерывная цепь катастроф.
Так оно и есть. Даже если не вдаваться в глубокомысленный философский анализ этой проблемы, а ограничиться напоминанием того факта, что до нас дошли лишь единичные свидетели геологической истории, плотно уложенные в виде пластов в разрез земной коры, то станет ясно, что даже события, разделенные между собой десятками и сотнями тысяч лет, будут восприниматься нами как непрерывные. Мы поясним этот очень важный тезис на примере одной крайне любопытной группы отложений – турбидитов.
Однако прежде надо сделать небольшое замечание. Оно только на первый взгляд может показаться чисто терминологическим. На самом деле речь пойдет о материализации некоей мистически-философской категории явлений, называемых «катастрофами», в результате чего одна из них вычленяется и становится вполне осязаемой, как бы трансформируясь в конкретный геологический процесс, который с успехом изучается в современных условиях. Найдена также генетически однородная группа отложений, обязанная своим образованием этому процессу.
Итак, речь пойдет о турбидитах. Турбидиты – это отложения плотностных водных потоков, т. е., если использовать образную аналогию, это подводные селевые потоки, хотя чаще всего они не переносят крупные валуны и обломки пород, а отличаются от обычного придонного течения только плотностью – их плотность всегда выше, чем плотность окружающей морской воды.
Там, где река впадает в море, как правило, есть подводная дельта. Чаще она занимает небольшую площадь, реже достигает бровки шельфа, т. е. глубин порядка 200 м. Там образуются крупные промоины – своеобразные ловушки, куда река в период паводка выносит огромные массы взвешенного осадочного материала. Продолжением подводной дельты на континентальном склоне, т. е. это уже до глубин 4000 м, являются подводные каньоны. По ним вся накопившаяся на шельфе разжиженная масса осадка эпизодически сбрасывается вниз в виде плотностного потока. Поток либо разгружается в основании континентального склона, либо (в ряде случаев) переносит взвесь еще на более низкие отметки – в глубоководные желоба.
В потоке, как легко догадаться, во взвешенном состоянии могут находиться минеральные частицы разных размеров – от первых микронов до первых сантиметров. При разгрузке они оседают на дно по закону Стокса: вначале более тяжелые, затем легкие. Поэтому образованный слой такого осадка неоднороден и по составу и по размеру слагающих его частиц. Он напоминает слоеный пирог со смазанными внутри границами. Такой слой и получил название турбидита. Это от английского термина turbidity current – мутьевой поток.
Открыли это явление в конце прошлого столетия в Женевском озере. После того как в 1929 г. в районе Большой Ньюфаундлендской банки сошедшие мутьевые потоки порвали во многих местах бронированный трансатлантический телеграфный кабель, ученые поняли, что с этим явлением надо считаться.
В 1958 г. известный голландский ученый Филипп Кюнен (1902-1976) доказал, что турбидиты – это не специфически «сегодняшний» осадок. У него есть предки в самых разных геологических периодах. Ранее эти отложения называли флишем, флишоидами, морской молассой, и по поводу их генезиса гипотезы высказывали самые фантастические.
Попробуем взглянуть на это явление с других позиций. Обычно в морях осадконакопление идет так же, как снег в морозный зимний день, иначе говоря, «частица за частицей». Тогда, если этот процесс непрерывен (что же может его прервать?), осадок на дне океана должен быть нерасслоенным. Между тем это не так. Бурение показало, что осадок имеет вполне четкие внутренние границы. Их образование можно объяснить только тем, что на этот медленный, монотонно протекающий, процесс время от времени накладывается другое, но более интенсивное по силе воздействия явление – либо активизация придонного течения, либо изменение климата, либо тектонические подвижки. Прерывистость изменения, таким образом, это реальность, а не артефакт, порожденный неполнотой геологической летописи. Одним словом, и здесь, пусть и незначительные, но все же катастрофы (события).
А что же такое тогда мутьевой поток, если взглянуть на него с точки зрения специалиста по седиментологии (науки об образовании осадков)? Никакой регулярности, а тем более периодичности в его появлении нет. Как установили недавно морские геологи по кернам скважин глубоководного бурения, заметный мутьевой поток, оставляющий след в геологической летописи слойком турбидита мощностью хотя бы 2-5 см, бывает один раз в 5-10 тыс. лет. Если же эти слойки турбидита уже легли друг на друга в разрезе, то раскрутить историю вспять, т. е. вычислить время, когда именно они образовались, невозможно. Следовательно, «катастрофичность» предопределена как бы самой природой этого явления. Такой тип осадочного процесса в 1978 г. я предложил называть инъективным седиментогенезом.
Мутьевой поток – это своеобразная инъекция осадка в зону седиментации. Осмысливание именно этого явления как явно катастрофического по способу проявления и в то же время вполне доступного для непосредственного изучения в современных обстановках, как своеобразного гомолога ряда осадочных образований геологического прошлого навело некоторых специалистов по седиментологии на мысль, что мутьевые потоки фокусируют – и притом очень удачно – оба классических взгляда на геологическую историю: актуалистический и катастрофистский. Их-то и объединили под названием «актуалистический катастрофизм». Это название весьма точно отражает суть дела, хотя мне и не очень нравится. Но ничего другого, более благозвучного, придумать пока не удалось [6].
И эту мысль о соединении актуалистического и событийного (катастрофического) взгляда на ход геологических процессов мы проиллюстрируем графически. На рис. 5 показаны три разных способа (по характеру отношения к геологическому времени) наслоения горных пород в разрезе.
Первый из них (рис. 5а), когда процесс осадконакопления развивается непрерывно во времени. Тогда в разрезе фиксируется симметрично устроенный элементарный цикл пород. Примерами таких циклов могут служить циклы угленосных и соленосных отложений.
Второй вариант (рис. 5б): процесс развивается непрерывно во времени, но образующиеся при этом последовательности пород (седиментационные циклы) устроены несимметрично, как например ленточные глины.
Третий вариант (рис. 5в) описывает дискретный (прерывный во времени) процесс циклического осадконакопления. Это означает, что осадок поступает в бассейн лишь в отдельные (очень краткие) промежутки времени. В остальное время осадки, накапливающиеся в бассейне, заметных следов в разрезе не оставляют. Именно так формируются циклы турбидитов, являя собой классический пример дискретного, или катастрофического, или, наконец, событийного седиментогенеза.
Итак, с позиций актуалистического катастрофизма геологическая летопись должна трактоваться как непрерывная цепь длительного «ленивого покоя», изредка (как часто – сказать невозможно) прерываемая взрывами активности. Этот новый современный взгляд нашел отражение и в математике: в 1975 г. Рене Том опубликовал математические основы теории катастроф. Она, разумеется, родилась совсем на другой фактологической базе, но вполне «ложится» и на интересующие нас методологические проблемы познания прошлого.
И в заключение отдадим должное двум ученым, которые первыми уловили связь двух, казалось бы, принципиально нестыкуемых методологических платформ: катастрофизма и актуализма. Это американский седиментолог Роберт X. Дотт и швейцарский геолог Джинхва Хсю.
Что? Когда? Как?
Попробуем понять то, о чем будем говорить
Что означают три вопросительных знака в названии этой главы? То, что именно этими вопросами постоянно задаются геологи. Что произошло? Когда это было? Как развивались события? Конечно, все эти вопросы, хотя и в разной мере, крайне трудны для получения доказательных ответов. Более того, в геологии вообще невозможно обосновать что-либо однозначно. И все же в ряду перечисленных вопросов ответ на центральный вопрос – когда? – желательно иметь однозначный и по возможности доказательно точный.
Таковы требования современной науки. Однако еще два столетия назад геологи не представляли, как следует маркировать свои объекты временными бирками. Когда же подход был найден, геология, наконец, состоялась как историческая наука.
Итак, самое время сказать, в чем суть второго великого геологического открытия: в обретении возможности располагать геологические объекты в строгой хронологической последовательности. Время в явном виде, т. е. точный ответ на вопрос: когда?, на первых порах не указывалось. Геологи довольствовались не абсолютным (в годах), а относительным временем типа «раньше», «позже». Но и это, согласимся, немало, если учесть, что зачастую в непосредственном соприкосновении оказываются объекты, разделенные (по времени) сотнями миллионов лет. В задачу же геолога входит не только выяснение того, какой из объектов более древний, но и установление причины такого необычного контакта.
Хотелось бы знать, как это получилось. То ли в течение столь громадного временнóго промежутка природные силы в данном месте отдыхали и никаких следов не оставили (принцип неполноты геологической летописи), то ли, напротив, здесь произошли катастрофические по своим последствиям события, начисто уничтожившие все, что природа наработала за это время. Возможно и другое (фантастическое на первый взгляд) предположение. Не было никакого перерыва, не было никакой катастрофы. Объекты же формировались каждый в своем месте и в свое время, а затем под действием каких-то сил сблизились друг с другом, да так, что более древний оказался лежащим на молодом. Механизм, кстати, очень даже реальный.
Как видим, конкретным, чисто практическим выводом из, казалось бы, сугубо мировоззренческих платформ катастрофизма и эволюционизма явился разный интерпретационный подход к временнóму ряду геологических объектов. То есть к тому, чем занимается одна из основных геологических дисциплин – стратиграфия.
В основе обсуждаемого нами открытия лежит важнейшее эмпирическое обобщение, сделанное в самом конце XVIII – начале XIX столетия натуралистами Англии, Франции, Швейцарии и Германии с незначительной разницей во времени и практически независимо. Но кому-то всегда в такой ситуации «везет» больше. Мы уже говорили об этом во вводной главе. Чаще «везет» тому, кто свое обобщение сумеет сформулировать в достаточно общей форме, к тому же подкрепит его достаточным фактическим материалом и изложит так, что выводы его станут понятны и как бы необходимы коллегам. Последнее означает, что труд выполнен вовремя. А это немаловажный для истории науки факт.
Обобщение, о котором речь, опирается на палеонтологический метод датирования геологических объектов. Он – стержень открытия. В чем его суть, мы еще успеем узнать. Пока лишь отметим, что одним из первых этот метод четко сформулировал и использовал в практической (и что очень важно) в картосоставительской работе английский землемер Уильям Смит в 1799-1805 гг. Примерно в те же годы к аналогичным выводам пришли уже знакомые нам французские естествоиспытатели Броньяр и Кювье. «Повезло» же Смиту, ибо с его именем связываются и «палеонтологический метод» и «главный принцип биостратиграфии», которые в современных учебниках чаще называют просто «принципом Смита».
Открытие это, без преувеличения, оказалось революционным для геологической науки. Наука обрела Время. Оно перестало обосновываться Библейскими притчами, а стало выводиться из анализа фауны, содержащейся в слоях горных пород. Во времена Смита, когда еще не было известно эволюционное древо органической жизни Земли, фауна не могла, конечно, указывать на исчезнувшие из геологической летописи страницы. Зато знали главное: каждый слой содержит свойственную только ему фауну. А это давало возможность не только располагать объекты в хронологической последовательности, но и сопоставлять отложения из местностей, удаленных друг от друга на многие сотни и тысячи километров.
Чтобы лучше оценить содеянное Смитом и его коллегами, посмотрим на то нагромождение научного знания и фантастических домыслов, что в XVIII столетии стало называться «геогнозией».
Когда мысль опережает факты
Я надеюсь, читатель помнит, что не кто иной, как Стенон, дал в руки геологов первый (пусть и достаточно грубый) ключ для расшифровки геологической летописи. Его закон образования слоев позволил временные отношения выводить из пространственных: раз выше, значит, моложе. Но само время как мера длительности отсюда еще не вытекало. Упорядочить объекты из разных местностей по времени их образования закон Стенона не позволял. На календаре стоял всего лишь 1669 год.
Вернадский называл XVII век переломным в истории естествознания. Именно с этого времени, как мы уже договорились, ведет начало современная наука, и в частности геология. Однако приоткрывшаяся было дверь в мир знания быстро захлопнулась, и геологическая наука вновь погрузилась в дремотную спячку.
Хорошо по этому поводу сказал Лайель: «…изучая историю геологии от конца XVII до конца XVIII столетия, он (читатель. – С. Р.) по необходимости будет занят отчетами о замедлении столько же, сколько и отчетами об успехах этой науки. Он увидит частое возобновление опровергнутых заблуждений и возврат от здравых мнений к мнениям самым нелепым. Короче сказать, очерк успехов в геологии представляет историю постоянной борьбы между новыми мнениями и древними доктринами».
Именно таким путем шла наука ко второму великому геологическому открытию. На этом пути мы выделим всего несколько вех – самые значительные.
Первая связана с именем немецкого профессора Иоганна Готлиба Лемана (1700-1767). Он был членом Берлинской академии наук, преподавал минералогию и горное дело. В 1756 г. в Берлине вышла его небольшая книжка, скорее брошюра в 1/2 печатного листа, небрежно отпечатанная, к тому же на плохой бумаге. Называлась она так: «Опыт восстановления истории флецовых гор». Написал Леман ее как результат своих полевых наблюдений в окрестностях города Гарца и в Тюрингских горах. Введенные им в описание местные названия толщ: цехштейн, медистый сланец, красный лежень – до сего дня используются геологами. Они стали интернациональными.
В 1761 г. Леман переезжает в Петербург и становится членом Петербургской академии наук, а в 1762 г. на конференции академии выступает с докладом, излагая в нем свое видение строения земной коры. Материал все тот же – его книга 1756 г. Поэтому, хотя она стала практически недоступной для ознакомления (о ней я узнал из капитального двухтомного труда Г. П. Леонова «Основы стратиграфии»), датировать стратиграфическую схему Лемана будем 1756 годом.
В научном отношении взгляды Лемана сейчас кажутся крайне примитивными. Однако они практически полностью соответствовали уровню геологической науки того времени. Леман полагал, что в истории Земли внимания заслуживают два события: Сотворение Мира и Всемирный потоп. Отсюда и членение земной коры на две группы толщ: жильные, или «первобытные горы» (они существуют на Земле от Сотворения Мира), и флецовые, или «горы второго рода» (образованы в результате Всемирного потопа). А что же в настоящее время? Сейчас, заключает Леман, образуются лишь «новейшие наносы» и вулканические породы.
В наши дни, конечно, можно сколь угодно пренебрежительно отзываться об изысканиях Лемана. Но не будем забывать главное: раз термины Лемана прочно вошли в науку, значит, его труд произвел сильное впечатление на современников. Поэтому следует не иронизировать по поводу примитивизма его умозаключений, а лишь еще раз подивиться низкому уровню геологической науки середины XVIII столетия. А также пожалеть, что несравненно более глубокое сочинение Ломоносова «О слоях земных», написанное в 1763 г., не впечатлило ученых того времени. (Кстати, замечу в скобках, что хотя мы и не имеем никаких фактических данных, все же напрашивается мысль, что свою статью Ломоносов напечатал не без влияния академического доклада Лемана, который он безусловно слышал).
Как бы то ни было, но первый шаг к стратиграфически упорядоченному членению земной коры был сделан. Шаг этот Лайель назвал «важным», а схему Лемана – «смелым обобщением».
Примерно в то же время и независимо от Лемана при изучении геологического строения гор Северной Италии свои подразделения земной коры предложил профессор минералогии и металлургии из Венеции Джованни Ардуино (1714-1795). Симптоматично, что и он все многообразие горных пород, из которых состоит земная кора, подразделил на ряд формаций (у него их пять). Значит, уже тогда ученые смутно догадывались, что история Земли этапна, что каждый из этих этапов строго индивидуализирован. А вот в чем выражается эта индивидуальность и какова хронологическая последовательность этапов,- это был основной камень преткновения. Он, однако, не устранен с пути и современных стратиграфов.
Итак, в 1760 г. Ардуино предложил такую схему: а) первичные слои (фауны в них нет); б) вторичные слои (с фауной); в) третичные слои (мергели и другие подобные осадочные образования с многочисленной фауной), г) отложения равнин (современные наносы); д) вулканические породы.
Как видим, схема Ардуино отличается от схемы Лемана только детальностью и материалом, лежащим в ее основе. В остальном они – близнецы.
Исключительную популярность имели в свое время разработки немецкого придворного врача в Рудольштадте и библиотекаря Георга Христиана Фюкселя (1722-1773). Это вдвойне заслуженно, ибо добиться признания своих сочинений непрофессионалу исключительно трудно. Тем более в такой науке, как геология, где граница между истинным знанием и домыслами всегда была размыта. А Фюксель в итоге добился! Более того, он во многом даже превзошел своих последователей и среди них такого зубра, как Абраам Готлоб Вернер. «Воззрения его, – писал в 1830 г. доброжелательный Лайель, – подходят к воззрениям ныне общепринятым гораздо ближе, чем теории, позднее распространенные Вернером и его последователями».
Познакомимся с идеями Фюкселя более подробно. Начнем с того, что он был не просто современником Лемана, но практически одновременно с ним и выполнял свои исследования в горах Тюрингии. Свое основное сочинение «История Земли и Моря, установленная по истории Тюрингских гор» Фюксель опубликовал на латыни в малораспространенном провинциальном немецком журнале. Поэтому сразу его прочли немногие. Те же, кто прочел (например, Вернер), оценить не смогли. Как часто бывает, Фюкселя «открыли» для науки, лишь проводив его в последний путь…
Между тем стратиграфические выкладки Фюкселя стоят особняком: они существенно опередили предшественников и оказались более глубокими по смыслу, чем многие новации последователей. Чем же они интересны?
Фюксель первым рассмотрел соподчиненную иерархию природных объектов: слои объединяются в залежь, а залежи – в формации (кстати, и термины эти ведут свою родословную от работы Фюкселя). Но самое главное состоит в том, что у Фюкселя формация – это не безликая единица, как то было в схеме Лемана, а вполне определенный комплекс взаимосвязанных слоев, возникших в одинаковых условиях, но различающихся тем не менее в «петрофактологическом отношении», т. е., как мы сказали бы сегодня, палеонтологически.
Фюксель допустил (и не ошибся), что каждая формация – это не результат разового наводнения, типа Всемирного потопа Лемана, а материализованный след определенного этапа истории планеты. Историю Земли, – учил Фюксель, – надо прослеживать по смене формаций, сама же смена – также не исключительный акт, а слепок процессов, имеющих место и в наши дни. Это уже не просто шаг, это гигантский рывок вперед в сравнении с полуфантастическими стратиграфическими схемами современников немецкого эскулапа.
Конец XVIII – начало XIX столетия были для геологии особым этапом. Это было время безраздельного авторитета немецкого минералога и геолога Вернера, «великого оракула геологии», как его назвал Лайель.
Крайне интересно понять, что же так привлекало к Вернеру, что заставляло не только его непосредственных учеников (среди них были такие гиганты, как Леопольд фон Бух и Александр Гумбольдт), но и просто коллег из других стран, никогда не имевших чести непосредственного общения с саксонским профессором, так уверовать в его доктрины и стать их активными разносчиками.
Вот что писал о Вернере Лайель: «Гениальность этого человека вполне заслуживала того удивления и тех чувств признательности и дружбы, которые питали к нему все ученики его, но чрезмерное влияние, оказанное им на мнения современников, повредило впоследствии успехам науки».
Вернер был профессором Фрейбергской горной школы в Саксонии. Студентов он обучал минералогии, затем еще и геогнозии. На полевые работы он ездил только в окрестности своего родного городка: описывал горные породы, условия их залегания (термин Вернера), размышлял над строением Земли. Итогом таких размышлений стала его глобальная стратиграфическая схема устройства земной коры всего земного шара. Изложил ее Вернер в 1777 г. в сочинении под названием «Краткая классификация и описание различных типов горных пород».
Рассуждения Вернера, его «полупоэтические, полуневежественные» воззрения (мы уже цитировали это высказывание Головкинского) были, скорее всего, шагом назад, по крайней мере в сравнении со схемой Фюкселя. Построения Вернера, как мы сейчас убедимся, ничуть не глубже уже известных нам рассуждении Лемана и Ардуино.
Итак, Вернер, побывав на нескольких обнажениях неподалеку от Фрайберга, решил, что его родная Саксония и вся Земля ничем принципиально не различаются. То, что видит он, должно наблюдаться и в других точках планеты. Такая экстраполяция была, конечно, необоснованной вольностью.
Во время летних экскурсирований Вернер описал вполне конкретные виды пород и их сочетания, которые он окрестил – ни много ни мало – «всемирными формациями», дал их перечень и воссоздал условия их образования. Вот как рассуждал 28-летний саксонский профессор.
Все горные породы образовались водным путем в несколько этапов. Когда-то земной шар был сплошным океаном. Но вода этого океана была необычной: в ней в растворенном или размельченном состоянии уже находились все будущие горные породы первой всемирной формации. Такую воду и водой-то назвать неловко. Это была некая «хаотическая жидкость», из которой при спаде уровня океана одновременно по всей Земле и осели горные породы.
Вернер допустил несколько этапов подъема и опускания уровня этого «океана». Однако основных эпох он выделил всего две: в первую образовались самые древние породы (первозданные); во вторую – флецовые породы. Кроме того, он отметил группу переходных пород и группу новейших (намывных) пород. Все, что образовалось за один цикл подъема и спада уровня, Вернер назвал комплексом.
(Не удержусь от замечания. По всей вероятности, срабатывает своеобразный «закон сохранения идеи». Бывает, что сама идея никудышная, зато слова, в кои она облекается, оказываются очень удачными. Кто сейчас, кроме профессиональных историков геологии, знает про идеи Вернера, Лемана и других наших предшественников. Зато термины «комплекс», «слой», «формация» знакомы любому геологу. Как живуча удачная терминология!)
Вернер был уверен в том, что его формации действительно «всемирные», что они последовательно образовались одна за другой и земной шар – не что иное, как своеобразное яйцо, в котором восемь слоев скорлупы (по числу выделенных формаций). Такая вот схема.
Оценки она заслужила разные. Г. П. Леонов полагает, что это было «очевидным шагом назад». Э. Хэллем же искренне убежден в том, что «для своего времени теория Вернера была действительно научной». А. П. Павлов не сомневался, что воззрения Вернера имели скорее отрицательное влияние и «надолго задержали прогресс науки». Свою теорию, – пишет далее Павлов, – Вернер излагал «совершенно авторитетным тоном, как будто нечто строго установленное и не допускающее сомнений». И хотя в те годы шотландец Д. Геттон прививал студентам взгляды куда более прогрессивные, и сам Геттон, и его воззрения оказались в тени непогрешимого авторитета Вернера.
В XIX столетии, когда утихли баталии между нептунистами (Вернер) и плутонистами (Геттон), когда геология начала, наконец-то, потихоньку избавляться от надуманных доктрин, когда она стала уютно располагаться на прочном постаменте из фактов, фигура Вернера сошла с активной научной арены. Имя его, если и вспоминалось, то только в обзорных лекциях, причем с иронией. Такова неумолимая логика истории. Она никого не забывает, но со временем излишняя шелуха с исторических фигур спадает и они предстают перед потомками в своем первозданном виде.
И вдруг саксонскому професору вновь «повезло». Уже в наши дни, видимо, от доброты душевной Ю.С. Салин обозначил его как основателя теоретической геологии за то только, что он-де дал человечеству «луковичную модель» Земли. Такая реанимация, к сожалению, ничего, кроме очевидного конфуза, не принесет. Надо только немного поостыть.
Фундамент готов
Когда Вернер рассуждал о своих «всемирных формациях», Кювье было только 8 лет. С идеями Вернера он познакомился уже в зрелом возрасте, и, надо сказать, доводы немецкого ученого не произвели на него должного впечатления. А вот аргументация «научной прозы» Бюффона казалась убедительной, хотя именно Кювье противопоставил «геологической вечности жизни» Бюффона свои pro et contra другого тезиса: все, в том числе и жизнь, имеет и свое начало, и свой конец.
Кювье, как хорошо известно, геологом не был.
(Правда, читатель, вероятно, уже заметил, что почти все из упомянутых нами ученых не являлись профессиональными геологами. Геология как наука еще только собиралась появиться на свет Божий. Это отнюдь не противоречит тому, о чем мы уже вели речь. Да, в XVII столетии были получены первые собственно геологические научные результаты, они пополнялись и в следующем веке. Поэтому мы справедливо посчитали именно эти два столетия временем рождения геологической науки. Но геология должна была несколько подрасти, созреть, чтобы выпускать уже собственных дипломированных специалистов. И хотя в отдельных странах, например в Германии и России, еще в 70-х годах XVIII века начали обучать горному делу, но, во-первых, это было именно «горное дело», а не геология, а, во-вторых, даже таких специалистов было слишком мало, чтобы они «делали погоду». По крайней мере, крупными научными результатами геологию продолжали обогащать талантливые самоучки.)
Итак, Кювье был биологом. Но занимался он преимущественно «ископаемыми костями». По этой части сделал он так много, науку обогатил столь значительно, что многие современные историки единодушно признают его отцом палеонтологии. Но прежде всего Жорж Кювье, как справедливо заметил Вернадский, был «одним из самых глубоких и тонких натуралистов».
Его жизнь, внешне благополучная, жизнь обласканного властями жреца науки, пережившего все ужасы Великой Французской революции, когда была разогнана Академия наук, когда сотни самых светлых умов Франции сложили свои головы на плахе, – все это не могло не развить в нем глубокий, ничем не истребимый скепсис ко всему. Он с презрением относился к любой доктрине: политической, философской и тем более научной. Он доверял только фактам и ничему более. Факты – основа его миропонимания. И если он своими руками добывал для науки действительно достойный внимания факт, он не успокаивался, пока не находил ему подобающего места в системе других фактов.
Потрясения же, настоящие исторические катастрофы: революция 1789 г., воцарение Наполеона (ровесника Кювье), реставрация монархии, крушение империи и образование республики, разгром церкви, насильственное изничтожение веры и новое ее возрождение – не могли не отразиться на его мировоззрении ученого-естествоиспытателя. Раз исторические катастрофы – обычное дело на памяти даже одного поколения, то почему бы не быть и природным катастрофам, тем более что у природы на свое развитие времени было куда больше.
Когда в Париже пала Бастилия, Кювье было 20 лет. Этот возраст в те годы считался далеко не юным. И Кювье сделал свой выбор. В 1795 г. он переезжает из Нормандии в Париж, поступает в Парижский ботанический сад и начинает заниматься сравнительной анатомией.
Материалом для этой науки служили ископаемые кости. Их Кювье добывал, описывая геологические разрезы в окрестностях Парижа. Экскурсировал там вместе со своим другом, горным инженером Александром Броньяром. Так что, строго говоря, расчленение толщ Парижского бассейна и детальное геологическое описание разрезов выполнял Броньяр, а Кювье собирал, описывал и систематизировал находимые в изучаемых слоях образцы фауны. Такой симбиоз оказался исключительным подарком судьбы и для самих молодых ученых, и для науки прежде всего.
В январе 1796 г. на заседании Французского института новый молодой его член Кювье доложил свое первое оригинальное исследование об ископаемых слонах. Он доказал, что это самостоятельный биологический вид, имеющий множество отличий от современных слонов. Следовательно, в истории Земли чередовались эпохи, в каждой из которых было свое население. Сменялись эпохи, менялось и население. Но это – вывод, реконструкция.
А что такое «эпоха»? Если не закреплять за этим словом никакого глубокого научного смысла, а обозначать им просто некий отрезок жизни Земли, то легко далее догадаться, что каждый пласт – это и есть «эпоха». В каждом новом пласте уже своя, новая фауна. Следя за сменой эпох, мы как бы просматриваем былую историю Земли. А что было раньше, что позже, на то укажет биологический хронометр – фауна.
Не правда ли, почти готовый принцип для исторической науки. Таковым он и стал, но с ним привыкли все же ассоциировать другую фамилию. Почему? Скоро узнаем.
Кювье и Броньяр многократно публиковали свои наблюдения на разрезах Парижского бассейна – и в 1808, и в 1812, и в 1822 г. (См. рис. 6). Г. П. Леонов полагает, что они дали образцовую (с оговоркой – «для своего времени») схему расчленения надмеловых отложений. Выглядит она так: 1) древняя морская формация мелового возраста; 2) первая пресноводная формация («пластичная глина», лигниты, «первые песчаники»); 3) первая морская формация («грубый известняк» с песчаниками); 4) вторая пресноводная формация («кремнистый известняк», «костеносный гипс», «пресноводные мергели»); 5) вторая морская формация («верхние морские гипсоносные мергели», «третичный песчаник и верхний морской песок», «верхний морской известняк и мергель»); 6) третья и последняя пресноводная формация («жерновой камень без раковин», «жерновой камень с раковинами», «верхний пресноводный мергель»); 7) наносная и аллювиальная формации.
Чувствуете разницу между вернеровскими «всемирными формациями» и этой схемой? Подробно описанная стратиграфия Парижского бассейна – это не просто «перекидной мостик» между надуманными абстракциями Вернера и его предшественников и конкретными наблюдениями на разрезах конкретного бассейна. Ведь и Вернер, строго говоря, не совсем «выдумал» свою схему, он также изучал разрезы родной Саксонии. Но если Вернер своим наблюдениям придал ничем не оправданную всеземную общность, то Броньяр и Кювье на это не претендовали, и не от излишней скромности. Они уже понимали бессмысленность подобных экстраполяций. Они уже знали, что в каждом бассейне откладывались свои осадки, но если это бассейны одновозрастные, то население в них должно быть сходным. И это было главным, что сделали Броньяр и Кювье.
Так что их схема – не только перекидной мостик. Это одна из первых современных местных стратиграфических схем.
Я рискну присоединить свой голос к позиции Леонова, который считал, что главный вклад в обсуждаемое нами великое геологическое открытие сделал Кювье, ибо именно он первым всесторонне обосновал значение фауны в разрезах осадочных толщ, их роль своеобразных «биогеологических часов» при датировке конкретных событий прошлого.
Однако в геологии в этой связи прочно утвердился авторитет другого ученого, англичанина Уильяма Смита. Это, кстати, очень интересный феномен, по поводу которого вполне уместно немного и порассуждать. Почему Смит, а не Кювье? Или, во всяком случае, не Кювье – Смит?
Обратимся к фактам. Однако прежде расскажем немного о самом Смите. Родился он в 1769 г. (одногодок Кювье!) в одном из фермерских домов Оксфордшира. Закончил только сельскую приходскую школу, а дальше решил стать землемером, выучившись этому делу самостоятельно. Своего Смит добился. Уже с 18 лет он работает в качестве помощника землемера в разных районах Юго-Западной Англии и, занимаясь обмером земель, составляет по существу геологическую карту местности.
С 1791 г. Смит начинает самостоятельную работу на копях Сомерсетского угольного бассейна, неподалеку от города Бат (центр графства Эйвон). Он имеет здесь уникальную возможность вести подземные геологические наблюдения. Биографы Смита считают его звездными годами период с 1793 по 1799 год, когда он вел уже целенаправленную геологическую съемку при сооружении Сомерсетского угольного канала. В окрестностях города Бат есть отчетливо расслоенные разрезы нижней юры, прямо-таки нашпигованные самой разнообразной фауной (к ракушкам Смит питал страсть с детства). А куэстовый, т. е. грядовый, рельеф позволяет прослеживать слои на многие десятки километров.
В 1775 г. Смит за два месяца просмотрел геологические разрезы в других районах – от города Бат до города Ньюкасл, т. е. прошел пешком и проехал на лошади более 900 км. Именно в этой поездке у него родилась идея составить «карту слоев» Англии и Уэльса. Она-то и стала кульминацией его карьеры, принесла ему заслуженную славу и по существу открыла собой эру геологической картографии. Карта была сделана в масштабе 1:42 420 (в 1,5 дюймах – 1 миля).
Сопоставляя сведения из обнажении в разных районах, с коими познакомился Смит, он приходит к выводу, что «каждый пласт заключает ископаемые органического происхождения, характерные именно для него, и может быть в сомнительных случаях путем их изучения установлен и отделен от другого пласта, сходного с ним, но принадлежащего другой части серии». (См. рис. 7). Как видим, это обобщение ничем по сути не отличается от заключения Кювье. И все же – Смит. Почему?
Однозначно, разумеется, ответить невозможно. Попробую обосновать лишь соображения на этот счет.
Во-первых, Смит хотя и не был профессионалом, но был все же геологом, он к своему выводу пришел во время картосоставительской работы, т. е. шел как бы «от слоя», а не наоборот. Он описывал слои, сопоставлял их, пытался прослеживать на местности те из них, что содержали однотипную фауну. Вывод свой Смит сделал в удобной и понятной геологам форме.
Во-вторых, за Кювье прочно закрепился несправедливый ярлык «катастрофиста». Смит же не касался этих глубинных проблем геологического познания и потому был как бы над методологической схваткой. Нейтралы же всегда остаются невредимыми.
В-третьих (и это, возможно, самое главное), все основные стратиграфические системы были выделены в начале XIX столетия и не где-нибудь, а именно в Англии, а значит, с помощью методы Смита. «Героический период» в истории геологии – выражение Карла Циттеля (1839-1904) – завершился созданием Международной стратиграфической шкалы, в ее составление основной вклад внесли британские геологи, верные последователи Смита.
Наконец, в-четвертых, у Смита был друг, способный популяризатор его идей Ричардсон. Может быть, это своеобразная традиция англичан: каждый великий первооткрыватель имеет своего великого интерпретатора и пропагандиста. Своей славе Геттон, например, во многом обязан Плейферу. Томаса Гексли (1825-1895) остроумные доброжелатели вообще называли «верным псом дарвинизма». Как видим, реклама и в науке – дело не последнее. Но в данном случае суть не в ней. И хотя, безусловно, Кювье более глубоко обосновал свой вывод, хотя этот вывод был у него теоретически проработан, слава досталась не ему.
Смит не вдавался в биологические дебри, он наблюдал, обобщал, делал выводы и использовал их в практической работе. Вероятно, это и оказалось решающим обстоятельством его победы в заочном историческом споре с Кювье. Хотя, надо еще раз согласиться с Леоновым, горький привкус исторической несправедливости остается.
Смит, кстати, сам даже не зафиксировал свое открытие на бумаге. За него это сделал Ричардсон. Первая стратиграфическая схема, подразделения которой были подробно охарактеризованы не только литологически, но и палеонтологически (имеются в виду изыскания Смита в окрестностях города Бат), была составлена в 1799 г. Опубликовал же ее Смит только в 1815 г.
И еще. В 1807 г. было организовано Лондонское геологическое общество, старейшее в мире. Первым крупным его начинанием явилось составление геологической карты Англии и Уэльса. Громадный вклад в се создание внес Смит. Завершили работу в 1819 г. В итоге, хотя и с разной степенью детальности, все же был изучен практически весь разрез мезо-кайнозоя Британских островов, причем изучен не по-немецки, т. е. структурно-литологически, а по-английски, т. е. и палеонтологически.
Вскоре английские геологи Уильям Конибир (1787-1857) и Джон Филлипс (1800-1874) обосновали первую общую схему стратиграфической классификации осадочных толщ Великобритании. Сделано это было в 1822 г. в «Очерке геологии Англии и Уэльса», который Леонов справедливо назвал «классичес-ким».
Итак, фундамент второго великого геологического открытия был построен. Геологи уже твердо знали, чтó надо сделать для того, чтобы изучаемые ими объекты нашли свое место в общей временнóй иерархии истории Земли. Оставалось построить и принять за эталон саму эту иерархию. Таким эталоном (точнее все же сказать, временнóй палеткой) стала Международная стратиграфическая шкала, впервые принятая за универсальный стандарт на 11-й сессии Международного геологического конгресса в Болонье в 1881 г.
Что это за шкала? Как она устроена и как ею пользоваться – это свои специфические проблемы науки. Они достаточно сложны, чтобы при беглом обзоре можно было в них разобраться. И все же коротко сказать необходимо.
Всю историю Земли поделили, как и календарный астрономической год, на ряд взаимовключающихся друг в друга отрезков времени. Наиболее крупные из них называются эонами, а отложения, их представляющие, – эонотемами. Самая древняя из эонотем – архейская. Эоны делятся на эры, эры – на периоды, периоды – на эпохи, эпохи – на века, века – на время. Это своеобразный геологический календарь. Понятно, что чем точнее требуется датировать то или иное геологическое событие, тем сложнее это сделать. Почему?
Да потому только, что в одно и то же время на Земле происходили самые разнообразные события, жили многочисленные виды фауны, а начиная с определенного рубежа – и флоры. Впоследствии большая часть «живых свидетелей» исчезла с лица Земли, а потому, чтобы обосновать датировку, необходимо отложения из данной местности сопоставить с теми, возраст которых уже обоснован. Отсюда следует главная проблема стратиграфии – корреляция разрезов. Образно говоря, необходимо из обрывков текста каменной летописи не только восстановить весь текст, но и найти в нем место утраченным страницам.
Общей теории на этот счет, к сожалению, не существует, и не только потому, что ученые до нее не додумались. Просто практические сложности, возникающие при решении любой стратиграфической задачи, перекрывают теоретические возможности науки. Поэтому, даже сделав великое открытие, т. е. научившись располагать в хронологической последовательности события далекого геологического прошлого, ученые не всегда могут им воспользоваться при обосновании так называемых местных стратиграфических схем. А ведь ясно, что только совокупность таких схем из разных районов Земли может дать относительно полное представление о том, чтó делалось на нашей планете в то или иное время.
Отсюда – кажущийся выход. Раз стратиграфия как бы обречена на теоретическое несовершенство, то, вероятно, ей должен помочь эмпирический опыт практической работы нескольких поколений геологов. Если так, то надо искать по возможности универсальные эмпирические обобщения (принципы) и, опираясь на них, решать важнейшую и универсальную геологическую задачу: датировать событие и отыскать для него единственную ячейку в геологическом календаре.
Какими принципами не может поступиться стратиграфия
Мы не будем тратить время на изыскание причин того, почему у стратиграфии столь шаткая теоретическая база. Все сразу станет на свое место, как только будут описаны ее «принципы» и прежде всего высветится тот факт, что именно эти пресловутые принципы как раз и аккумулируют объективные трудности, которые не дают возможности подвести под одну из основополагающих геологических дисциплин выверенное фактами теоретическое основание.
Познакомимся с «принципами» поближе. Правда, пусть стратиграфы не обижаются, – не всем принципам будет уделено внимание. Будут рассмотрены лишь те, которые фиксируют суммативный геологический опыт, а не декларируют применимость к природным объектам философских категорий объективности окружающего нас мира и сущностного начала геологического познания.
Многие ученые видели основное предназначение принципов в том, что они должны были сыграть роль своеобразной аксиоматической базы, из которой необходимая теория вытекла бы так же, как теорема о равенстве прямоугольных треугольников из четырех аксиом евклидовой геометрии. Именно этим методологическим казусом можно объяснить тот факт, что многие крупные наши стратиграфы тратили уйму времени на доказательство недоказуемого – они пытались обосновать выводимость принципов одного из другого.
Потом эту затею оставили. Зато нашли другую. Стратиграфы-теоретики взглянули на принципы глазами стратиграфов-практиков. При этом сразу отсеклись философские декларации (принцип объективности стратиграфических подразделений, принцип двоякого характера стратиграфических классификаций, принцип необратимости геологической и биологической эволюции и т. п.), банальные истины (принцип универсальности подразделений Международной стратиграфической шкалы, принцип неповторимости подразделений региональных стратиграфических схем и т. п.).
Как своеобразная информация к размышлению осталось около десяти принципов, которые, по крайней мере, можно было обсуждать и обосновывать, либо, напротив, отрицать их значимость в качестве теоретического фундамента науки. При этом все они так или иначе связаны с возможностями биологических часов, т. е. с тем, чтó мы оценили как основание второго великого геологического открытия. Что это за «принципы»?
Это уже знакомые нам принципы последовательности напластования (принцип Стенона), биостратиграфической параллелизации или одновозрастности геологических тел (принцип Смита). Кроме них некоторые ученые в ранг принципов склонны возводить те или иные грани геологической реальности. К их числу можно отнести принципы фациальных различий одновозрастных отложений (принцип Гресли – Реневье), неполноты геологической летописи (принцип Дарвина) и ряд других.
Однако мы уделим более или менее пристальное внимание только трем принципам стратиграфии: переходных слоев (принцип Карпинского), возрастного скольжения подразделений местных стратиграфических схем (принцип Головкинского) и, наконец, хронологической взаимозаменяемости стратиграфических признаков (принцип Мейена).
Почему именно эти принципы, а не другие?
Принцип Карпинского является тем оселком, на котором можно проверить действительное несоответствие эволюции органического мира революционным (скачкообразным) переменам в развитии Земли. Принцип Головкинского, сформулированный задолго до того, как ученые пришли к заключению о мобильном состоянии земной коры, между тем утверждает именно те факты, которые следуют из горизонтального движения плит (в частности, континентов). Понятно, что оба они «неудобны» в практической работе, ибо, если следовать принципу Карпинского, то рубежи между подразделениями Международной стратиграфической шкалы должны сами иметь фиксированную длительность, что, вообще говоря, не очень желательно. Если же следовать принципу Головкинского, то задача синхронизации разрезов (и без того крайне сложная) становится почти неразрешимой. Но это – все же сложности чисто практического свойства. Наука с ними считаться не должна.
Поясним вкратце суть этих принципов.
«Natura non facit saltum» («Природа не делает скачков») – это был любимый афоризм Линнея. Именно из этого мировоззренческого постулата родились теория постепенного видообразования Ламарка, теория униформизма Лайеля и даже эволюционная теория Дарвина. Названному постулату противопоставлялись факты резкой смены видов в разрезе, стратиграфических, тектонических и прочих «несогласий». Одним словом, тезис прямо противоположный – природа движется в своем развитии скачками. Мы знаем уже, что и тот и другой взгляд на прошлое Земли имел под собой почву.
Любопытно, что еще задолго до того, как Карпинский с фактами в руках доказал наличие в ряде разрезов так называемых «переходных форм фауны», профессор Петербургского горного института Д. И. Соколов в своем «Курсе геогнозии», – первом полноценном учебнике геологии, составленном русским ученым, – весьма точно вычислил (фактами он не располагал), что виды должны изменяться постепенно и следы этих изменений должны быть в разрезах, просто их надо уметь видеть.
Вот что он писал по этому поводу в 1839 г.: «Когда две такие формации (системы – С.Р.) произошли одна после другой без промежутка времени, то явления имеют совсем другой вид: тогда верхние пласты древнейшей формации перемежаются несколько раз с нижними пластами новейшей, минералогические и зоологические признаки каждой формации отдельно мешаются одни с другими так, что какой-нибудь минерал или какая-либо окаменелость, отличительные для одной формации, не вдруг исчезают в другой, а сперва делаются редкими – и сменяются другими минералами или окаменелостями мало-помалу… Одним словом, эти формации переходят одна в другую постепенно, и переход этот очень может затруднять определение их единства».
Это еще, конечно, далеко не «принцип переходных слоев», и не только потому, что у Соколова отсутствует его фактическое обоснование. Его рассуждения навеяны взглядами Эли де Бомона – катастрофиста по геологическому миропониманию. Катастрофистом был и Соколов. Для него формация – это совокупность пластов, образовавшихся «в промежуток времени между двумя главными переворотами». И все же его мысль о постепенном, направленном развитии фауны, пусть и всего лишь между «двумя смежными переворотами», оказалась полезной и плодотворной. Ее и развил через 35 лет Карпинский.
Вот краткая хронология постижения Карпинским идеи переходных слоев. В 1873 г., работая в Оренбургском крае между реками Белая и Урал, он выделил артинский ярус Международной стратиграфической шкалы и поместил его между карбоном и пермью. 20 ноября 1888 г. он докладывает физико-математичес-кому отделению Академии наук о законченной им монографии «Об аммонеях артинского яруса и некоторых сходных с ними каменноугольных формах». В следующем году публикует ее на немецком языке в «Мемуарах» Академии, а еще через год, в 1890 г., – на русском.
Точки над i надо поставить сразу: столь тщательное монографическое исследование артинских аммоноидей Карпинский, конечно, предпринял не для того, чтобы обосновать возраст артинских слоев (он сделал это еще в 1873 г.), а лишь затем, чтобы, проследив за эволюционной ветвью целой группы фауны, доказать на этой основе справедливость своей концепции «переходных слоев». На чем все же основан принцип Карпинского?
Отвечая кратко, – на последовательном проведении в жизнь эволюционной теории Дарвина и на непоследовательном отношении к представлению об «искусственности» геологических классификаций. Попробуем это доказать.
В биостратиграфии со времен Кювье и Смита главным отличительным признаком одной стратиграфической единицы от смежной с ней является руководящая фауна. Отсюда напрашивается простейший вывод: смена в разрезе руководящей фауны означает переход к новой группировке слоев, т. е. к иной стратиграфической единице. Теоретически это так. А практически?
Практически же все обстоит далеко не так ясно. Что считать сменой руководящей фауны? Когда она полностью исчезает из разреза, или когда появляются слои, содержащие одновременно руководящую фауну для нижележащей стратиграфической единицы и руководящую фауну для перекрывающего стратиграфического подразделения? Куда прикажете относить эти слои?
Более того, до сих пор речь шла о едином разрезе в какой-либо определенной точке геологического пространства. А если мы отступим от нее на 100 или 1000 км? Легко догадаться, что в тех местах условия накопления осадков и проживания фауны могли быть иными. Будут ли выделенные в этих разрезах стратиграфические единицы совпадать? В литологическом отношении чаще всего нет; нередко не совпадают они и в фаунистическом отношении. Но ведь надо выделять общие для всей Земля подразделения, эквивалентные в хронологическом смысле. Где искать критерии для параллелизации разрезов и для синхронизации выделенных в них стратиграфических единиц разного ранга?
Далее, еще более важный вопрос: как относиться к разработанной стратиграфической классификации, т. е. к выделенным единицам и их рубежам, – как к действительно существующим овеществленным этапам геологической истории, единым для всего земного шара, или как к искусственной группировке геологических тел, отражающей не «действительный» ход событий, а наше представление о нем?
(Очень далеко в методологические дебри завело нас второе великое геологическое открытие. Но что делать. Это тот случай, когда одно открытие повлекло за собой цепную реакцию проблем. И для каждой из них надо найти подобающее место на единой оси геологического времени. Все же речь именно о нем.)
Вот те вопросы, которые непрестанно задавали себе геологи второй половины XIX века и на часть которых отвечали, кстати, более вразумительно, чем иные современные теоретики.
Возьмем, к примеру, отношение Карпинского к переходным слоям. Ему, как он сам считал, «удалось показать, что рассматриваемые слои, отличаясь своеобразной фауной, носят переходный характер (курсив мой. – С. Р.) между отложениями каменноугольной и пермской систем, так что в строгом смысле они столько же относятся к первой, как и ко второй, представляя то звено, которое связывает на восточной окраине Европейской России типические осадки обеих названных систем». Так родилось его представление о «переходных слоях», первым прецедентом которых Карпинский называл выделенный им артинский ярус.
Уместен и такой вопрос: если стратиграфические классификации – искусственные построения, то выделение «переходных слоев» не будет ли отказом от этого в пользу «естественности»? Вне всякого сомнения.
А вот как отвечает на этот вопрос Карпинский: «Конечно, при искусственности деления на системы эти промежуточные слои, во время установления систем вовсе не известные, в различных странах с большим или меньшим произволом можно отнести то к системе вышележащей (пермь), то к нижележащей (карбон)».
Вспомним, что в стратиграфии своеобразным теоретическим базисом «естественной» классификации была теория катастроф, а для искусственных классификаций таким базисом оказалась эволюционная теория. Ясно, что эти подходы скорее не дополняют, а исключают друг друга. Поэтому не может быть компромиссов и между стратиграфическими классификациями, базирующимися на разных принципах. Именно так полагал Карпинский, и именно поэтому он пришел к концепции переходных слоев. Он справедливо замечает, что «когда были устанавливаемы различные осадочные системы, то почти во всех случаях они казались резко между собою разграниченными, без чего господствовавшая прежде гипотеза о катаклизмах, уничтожавших характерные для соответствующих периодов фауны и флоры, не могла бы иметь места.
При такой гипотезе подразделение осадочных образований на системы казалось естественным” (курсив мой. – С. Р.).
Прервем цитату и зададим вопрос: как понимать в данном контексте слово «естественный»? Однозначно – как предопределенное самой природой членение осадочной оболочки на системы. Против этого Карпинский справедливо восстает. Но можно слово «естественный» понимать и несколько пo-иному.
Предположим на минуту, что стратиграфические системы действительно резко различаются (хотя бы по фауне) и столь же резко разграничены (разумеется, в каком-то едином разрезе). Тогда с полным правом можно говорить о том, что видимые в разрезе различия систем «естественны», поскольку в природе все естественно. Но Карпинского как ученого интересуют не иллюстрации конкретными примерами этого понятия, а его научное содержание, т. е. смысл, какой можно было бы использовать в качестве методического оружия исследователя. И здесь он совершенно прав: такого смысла нет, опираться на это понятие при выделении систем нельзя.
Если системы резко разграничены, например региональным размывом, то они будут представлять собой только некие осколки систем, и оказывается неясным, где же тогда граница между ними, причем не региональная, ибо она в таком случае не имеет хронологического смысла, а глобальная, фиксирующая различия между определенными этапами геологической истории всей Земли. Этот своеобразный парадокс стратиграфии, т. е. проведение границ там, где виден перерыв, а не в непрерывных разрезах, остается не разрешенным до сих пор.
Итак, говоря проще, принцип Карпинского утверждает тот факт, что природа, переходя из одного состояния в другое, делает это не мгновенно. Время, пусть и скачкообразных, перемен должно улавливаться «переходными формами» фауны. Другими словами, как бы мы ни трактовали сам процесс видообразования, последовательная смена видов несколько смазана, она как бы скользит в течение того отрезка времени, который заявлен геологом как переходный между двумя смежными подразделениями Международной стратиграфической шкалы.
Такая (согласен, необычная) трактовка принципа Карпинского тем не менее не надуманна. Она самым тесным образом связана с другим фундаментальным положением современной стратиграфии – принципом Головкинского, или принципом возрастной миграции границ стратиграфических подразделений. Этот принцип однозначно вытекает из развитой Головкинским еще в 1868 г. теории образования слоев миграционного типа. Ее мы подробно описали в главе «Оглянемся назад». Там же было объяснено, как из теории Головкинского вытекает этот стратиграфический принцип. Теперь поясним его суть.
Понять смысл возрастного скольжения поверхностей раздела слоев проще всего из такого отвлеченного примера. Если представить, что строительство железнодорожной магистрали Москва – Владивосток началось в Москве и продолжалось последовательно вплоть до конечного пункта – Владивостока, то хотя вся магистраль является конструктивно однотипной, тем не менее ее «возраст» в разных частях различен: она постепенно «молодеет» от Москвы до Владивостока, а время строительства будет означать величину изменения возраста.
Из этого примера ясно, что скольжение возраста границ слоев или свит определяется одним ведущим фактором – процессом накопления слоев. Ясно и другое: процесс этот зависит прежде всего от внешних по отношению к бассейну осадконакопления причин, предопределяющих изменение во времени его пространственных очертаний.
Все эти рассуждения, однако, сугубо теоретические. Практически же о возрастном скольжении говорить можно лишь тогда, когда удается «поймать» временные различия по простиранию свиты. Поэтому логика стратиграфов такова: если не удается доказать разновременность объектов, то они считаются одновременными. Стратиграфы-практики предпочитают не заниматься ловлей временных различий, т. е. попросту не считаться с принципом Головкинского. Он им не нужен. Он им мешает, ибо диахронные (разновременные) границы свит существенно осложняют и без того сложную и запутанную проблему корреляции разрезов и стыковку местных стратиграфических схем. Поэтому многие стратиграфы вопреки очевидности с маниакальным упорством доказывают тезис о непременной изохронности границ свит вне зависимости от их состава и механизма образования составляющих свиты отложений.
И все же во многих районах, где стратиграфия, если можно так сказать, более ответственная, когда от принятых границ свит зависит конкретизация поисково-разведочных работ (как в Западной Сибири, например), диахронность границ подразделений местных стратиграфических схем перестала быть экзотическим исключением из правила. Скорее наоборот – изохронные границы здесь требуют специальных доказательств. По изменению видов раннемеловых аммонитов, в частности на Западно-Сибирской плите, стратиграфы доказали приращение возраста по простиранию в пределах двух-трех ярусов, т. е. до 20 млн лет. Так медленно развивалась регрессия моря.
Упорное игнорирование принципа Головкинского, ставшего по остроумному замечанию одного исследователя «неприятным открытием для геологов», – явление, конечно, временное. Стратиграфам, как говорится, просто некуда будет деться, и потому только, что этот принцип вытекает из общепринятой на сегодня наукой схемы слоеобразования. Вероятно, его пока относят к той категории принципов, которыми можно поступиться. Но это не более чем иллюзия. Если принцип Головкинского – это все же один из принципов стратиграфии, то он должен служить отправной точкой конкретных исследований, быть исходной позицией ученых, а не предметом бесчисленных и уже повторяющихся по кругу дискуссий.
Поясним все же причины появления возрастного градиента более подробно. Начнем с того, что время изменения конфигурации бассейна осадконакопления, т. е. продвижения береговой линии в глубь континента (трансгрессия) или, напротив, ее отступления (регрессия), должно быть достаточно большим. Тогда существенных перестроек фациальных зон бассейна не происходит, что и приводит к разной палеонтологической датировке литологически однотипных комплексов пород (например, свит или формаций) в удаленных друг от друга разрезах. Важно и то, чтобы скорость накопления осадков была соизмерима со скоростью изменения конфигурации бассейна; тогда в нем длительное время сохраняются неизменными физико-геологические и биологические условия. (Не правда ли, уже яснее просматривается связь между принципами Головкинского и Карпинского? Первый является своеобразной седиментологической базой второго.)
Еще более наглядно чисто седиментологический механизм возрастного скольжения можно пояснить с позиций тектоники плит (ее мы специально будем обсуждать в главе «И все-таки они движутся»), ибо для кинематики процесса не имеет значения, под влиянием каких сил смещаются в пространстве зоны накопления литологически однотипных осадков. Я понимаю, что, не пояснив сути теории тектоники плит, не очень просто ею воспользоваться, чтобы проиллюстрировать не вполне очевидное явление. Получается, что мы пытаемся понять непонятное с помощью еще более непонятного. Поэтому я попробую в данном случае, сохранив суть тектоники плит, воспользоваться этой теорией, представив ее, однако, обычными, всем понятными словами.
Вообразим себе, что мы поднимаемся вверх на эскалаторе метро. Подъем этот занимает обычно 1-2 мин. Ровно на это время мы, пока ехали к выходу, как это ни грустно, стали старше. А во время подъема мы старели постепенно, наш возраст «скользил», и те 1-2 мин, на которые мы постарели, и есть градиент (или приращение) возраста.
Этот факт, собственно говоря, и утверждает тектоника плит. Как в подземном вестибюле метро, где появляются будто бы из-под земли ступени эскалатора, так и в районе срединно-океанических хребтов уже не «будто бы», а точно из-под земли происходит наращивание океанической коры. Этот процесс приводит к раздвигу океанического дна по обе стороны от хребта. Раздвиг этот, конечно, не беспредельный. В местах, где просматриваются на глобусе темно-синие полоски воды (глубоководные желоба), эта кора вновь уходит под землю.
Конечно, пока океаническая кора движется от зоны зарождения к зоне отмирания, она постепенно покрывается все более мощной и все более стареющей толщей осадков. Их возраст, разумеется, удревняется в направлении движения плиты, а вот насколько – это зависит от скорости горизонтального перемещения океанического дна.
Рис. 4 вполне наглядно, как думается, иллюстрирует этот своеобразный осадочный конвеер. Его «платформа» I прошла под «бункером» 1 около 80 – 100 млн лет назад. На ее дне образовался слой осадков мощностью h1 (фактически это не литологический слой, а стратиграфическая единица разреза, поскольку время пребывания платформы под одним бункером порядка 10 млн лет). Под бункером 2 осадки на платформу не поступали. Это время неотложения осадков, чему в разрезе будет соответствовать стратиграфический перерыв. То же произойдет, когда платформа I окажется под бункером 5. Когда платформа I отойдет от бункера 7, в ней уже будут осадки, возраст которых 80 – 100 млн лет. В разрезе будет вскрыта полная (с двумя крупными перерывами) последовательность осадочных образований.
Ясно, что коль скоро возраст кристаллического (базальтового) ложа океанов «скользит» по мере удаления от срединно-океанического хребта, то обязан «скользить» и возраст покрывающих его осадков. Общая тенденция изменения возраста осадков по мере приближения к зоне поддвига литосферной плиты показана на рис. 9.
Теперь, думаю, не только стал понятным смысл принципа Головкинского, стала также ясной его универсальность. Просто так от него отмахнуться более не удастся. Так же, впрочем, как и от принципа Карпинского.
Почему? Потому только, что чем теснее проблемы временнóй упорядоченности геологических событий связываются с процессами, эти события породившими, тем органичнее и методы датировки событий будут выводиться из механизма исходных процессов. Поэтому и принцип Карпинского, и принцип Головкинского – это не надуманное усложнение и без того запутанных проблем стратиграфии, а необходимость, продиктованная нашим знанием хода биологических и чисто геологических часов.
Поскольку эти часы в разных районах Земли показывают, строго говоря, не одно и то же время, а хронологический эталон для геологической истории, т. е. Международная стратиграфическая шкала, является универсальной масштабной линейкой для датировки геологических событий прошлого, то проблема соотнесения подразделений местных стратиграфических схем с этой линейкой оказывается крайне непонятной.
На самом деле, принцип Карпинского утверждает, что обязаны существовать переходные слои между подразделениями Международной стратиграфической шкалы любого ранга, но… только в конкретных разрезах. Принцип Головкинского означает, что границы свиты в достаточно удаленных друг от друга разрезах должны быть диахронными. Если с позиций этих принципов, соединенных воедино, взглянуть на методологические основы Международной шкалы, то следовало бы ее существенно трансформировать, сделав границы подразделений не плоскостными, а объемными – в виде швов, имеющих неопределенную длительность (ведь масштабы скольжения границ в разных районах неодинаковы). Однако «эталон геологического времени» такого не допускает, временные рубежи в Международной шкале «плавать» не должны.
Следовательно, прежде чем соотносить местные подразделения с Международной шкалой (делается это, как легко догадаться, для установления возраста местных стратиграфических единиц), надо умудриться соединить эти два, казалось бы, взаимоисключающих подхода.
Этим целям и служит принцип так называемой хронологической взаимозаменяемости признаков (ХВП). Его предложил в 1974 г. один из самых глубоких стратиграфов последнего времени Сергей Викторович Мейен (1935-1987).
Суть принципа в следующем. Геологи привыкли считать, что чем большее число признаков объекта они учтут и чем больше при этом используют самых разнообразных методов, тем более объективное решение будет получено. Ничего наивнее такой веры нет. Добро бы еще была ясной связь (точнее, взаимосвязь) между признаками. Тогда бы они использовались с разным информационным весом, и это все же принесло бы пользу. Но и этого, конечно, нет. Слепое увеличение числа характеристик объекта чаще приводит просто к информационному шуму.
Это рассуждение имеет самое тесное отношение к стратиграфии. Ведь в любой отрезок геологической истории население планеты было весьма разнообразным, и хотя известны виды, которые жили строго отведенное им время (это так называемые руководящие виды фауны), однако наряду с ними было много и других видов – их дальних и близких соседей по эволюционному древу. Для каждого геологического периода, следовательно, характерны и просто видовое разнообразие фауны, и в то же время определенные упорядоченные последовательности видов (сукцессии). Их строят палеонтологи, и они образуют сменяющиеся во времени ряды. Комбинируя эти ряды, можно получить разные временные рубежи для одних и тех же стратиграфических подразделений.
С другой стороны, если использовать не просто большое число признаков (в частности, видов фауны), но признаков сопряженных (эмпирически выявленные сопряженные комплексы признаков Мейен предложил назвать «синдромами»), то можно как бы примирить такие понятия, как диахронность границ местного подразделения и синхронность подразделений Международной шкалы.
А почему «взаимозаменяемость»? Мейен полагал, что признаки бывают «весомыми», но «несамостоятельными». От объекта к объекту они прослеживаются с помощью менее весомых, но более самостоятельных признаков. Это и есть хронологическая взаимозаменяемость признаков.
Если эту (авторскую) трактовку принципа Мейена приблизить к проблеме временной упорядоченности геологических событий, то станет более ясной цель его использования – надо выбрать такую систему взаимосвязанных характеристик объекта, которая даст возможность без утраты его индивидуальных черт в рамках местной схемы привязать данный объект к Международной шкале по возможности однозначно.
Итак, рядом принципов стратиграфия поступиться никак не может. Одними потому, что без них не обойтись при расчленении земной коры на последовательную цепь событий (принципы Стенона и Смита), другими – поскольку без них невозможно увязать механизмы осадконакопления с темпами изменения видового разнообразия в пределах бассейна, а в конечном итоге точно датировать конкретное стратиграфическое подразделение (принципы Головкинского и Карпинского). Наконец, нельзя поступиться и принципом Мейена, поскольку без него невозможно местную изменчивость видов соотнести с неизменными эталонами Международной стратиграфической шкалы.
Все вместе эти принципы как бы задают ход геологических часов, постичь который и помогло обсуждаемое нами великое геологическое открытие. Почти за два столетия, промелькнувших со времени работ Кювье и Смита, это открытие, разумеется, претерпело сильные изменения. Основоположники биостратиграфии теперь бы не узнали своего детища. Но даже радикальные технические перемены (методы радиологического определения возраста горных пород; методы электронной микроскопии, обнаруживающие следы жизни чуть ли не на клеточном уровне в породах, возраст которых приближается к 4 млрд лет) не изменили главного, а именно, мистического преклонения геологов перед своим – геологическим – временем.
Нам поэтому не обойтись без того, чтобы не порассуждать на традиционную и очень любимую геологами тему – о Времени.
Гипноз геологического времени
Давайте договоримся: геологический процесс будем считать одновременным, если совпадают геологические датировки его начала и конца. Это определение, конечно, противоречит физической стороне явлений. И тем не менее с геологических позиций оно представляется единственно возможным. На самом деле, если представить себе протекание любого процесса в обычном физическом времени, то его начало и конец никогда не совпадут уже хотя бы потому, что мы имеем возможность точно отметить на часах начало и завершение процесса и тем самым оценить его длительность.
Отличие любого сугубо геологического процесса состоит в том, что ни палеобиологические (палеонтологические), ни даже радиологические часы не показывают собственно время его протекания; с их помощью удается лишь упорядочить события и собственно стратиграфическими методами соотнести их между собой (не без участия только что обсужденных нами принципов) и с Международной стратиграфической шкалой, или со шкалой геологического времени.
Почему «геологического»? Ничего особенно глубокомысленного за этим прилагательным не стоит. Время называют геологическим только из-за специфики его фиксации: оно, как уже отмечалось, не может быть измерено непосредственно, о нем всегда судят по косвенным характеристикам объектов. Говоря короче, время в стратиграфических классификациях является выводной характеристикой; не оно лежит в основе рассуждении о синхронности или асинхронности образования подразделений местных стратиграфических схем, а наоборот, – время как научная категория появляется лишь тогда, когда синхронность (или асинхронность) доказана иными методами, прежде всего палеонтологическими.
Во вводной главе к этой книжке я уже отметил, что невообразимая растянутость геологической истории нашей планеты создает иллюзию чуть ли не физического существования времени как некоей материальной субстанции, способной только за счет практически неограниченно длительного воздействия на объекты трансформировать их до неузнаваемости.
Попробуйте представить себе, например, такой процесс. На внешнем склоне Японского желоба с судна «Гломар Челленджер» была пробурена скважина № 436. Ее глубина составила 397,5 м, не считая, конечно, толщи воды. Глубже 360 м в разрезе скважины отмечены глины мощностью 20 м. Они не содержат никакой органики. Временнóй же интервал эти глины представляют громадный – от начала палеогена до среднего миоцена, т. е. его продолжительность 40-50 млн лет. Если поделить мощность толщи (20 м) на время ее формирования (45 млн лет), то получим хотя бы приблизительную оценку скорости осадкоиакопления. Она окажется равной 0,000044 см/год, или 0,5 мкм/год.
Как себе представить такую величину? Очень просто. В обычной городской квартире в зимние месяцы (при закрытых окнах!) такой слой пыли накапливается менее чем за неделю. Теперь понятно также, сколь свободны от терригенной взвеси глубоководные зоны океана и сколь при этом громадна созидательная роль геологического времени, способного при таких исчезающе малых скоростях осадконакопления зафиксировать в разрезе через 45 млн лет толщу глин мощностью 20 м.
Такие временные масштабы, конечно, могут смутить. Время начинает как бы гипнотизировать исследователей, и те в полусомнамбулическом состоянии пускаются в глубокомысленные философские изыски из области пространственно-временной мистики. Докапываются до релятивистских корней геологического времени. Препятствие, мешающее наконец-то разрешить все проблемы стратиграфии, видят «в движущихся часах». Обрушиваются на тех, кто по старинной наивности верит в «абсолютное ньютоновское время». Не ведая, как говорится, что творят, с помощью традиционного приема философически мыслящих натуралистов, именуемого «переодеванием старых истин в новые слова», конструируют (ни много ни мало) «метрику геологического времени в виде абстрактной модели, отражающей свойства реального времени». Спасение погрязшей в неразрешимых проблемах стратиграфии видят в том, чтобы не покорять раздельно пространство и время, а ринуться сразу в «пространственно-временной континуум» и уж там, не торопясь, изучать «ритмическую природу времени». Каково?!
Однако достаточно, а то будет трудно удержаться от оценки заковыченных перлов. Лучше уж пусть сам читатель, если у него достанет терпения дочитать до этой страницы, поразмышляет над тем, в каком направлении следует развивать методы временнóго упорядочивания геологических событий. То ли размышлять над процессами развития Земли, то ли углубиться в поиски «топологических свойств геологического времени». А впрочем, что тут долго говорить!
Каждому – свое…
Где тонко, там и гнется
Делимость земной коры
Люди, далекие от нашей науки, думают, что геологи изучают Землю в целом. Это, конечно, неверно. Геолог не в состоянии ни с помощью молотка, ни посредством глубоководных погружающихся аппаратов, ни даже в результате бурения так называемых сверхглубоких скважин заглянуть в недра планеты. Недра эти, конечно, исследуются, но опосредованно – с помощью сложных аппаратурных методов геофизики. Это, увы, уже вне компетенции геологов. Они лишь используют добытые геофизиками знания на пользу своей науке.
Тогда что же изучают сами геологи? Не будем забывать, что «геос» в переводе с греческого все же «земля». Да, геологи обследуют Землю, но только с поверхности и только ее наружную пленку – земную кору. Уже стало банальным сравнение Земли с яблоком, а земной коры – с яблочной кожурой. Причем это сравнение – не только наглядный образ, это – весьма точный образ. Сопоставим. Диаметр Земли более 13 тыс. км, а толщина коры – от 7-10 км (под океанами) до 30-70 км (под континентами).
Знания о строении земной коры добывались по крупицам долгие десятилетия. Геологи были потрясены, когда, научившись замерять элементы залегания горных пород и располагать в хронологической последовательности свои объекты, вдруг обнаружили, что в ряде мест осадочные толщи имеют гигантскую мощность (до 20 км и более), тогда как совсем, казалось бы, близко к ним почти в непосредственном соседстве мощность тех же (по возрасту) отложений, можно сказать ничтожная, – каких-то 200-400 м. В чем тут дело?
Дальше – больше. Пытливые наблюдатели, конечно, заметили сразу, как только были составлены первые приличные географические карты континентов, что горные вершины не торчат среди равнины, как египетские пирамиды в пустынной Долине Царей; такие вершины всегда спаяны друг с другом и образуют протяженные горные цепи и целые горные пояса. Например, Альпнйско-Гималайский пояс растянулся через Южную Европу и Азию на многие тысячи километров. Кроме того, горные системы (в масштабе континентов, разумеется) – это всегда узкие полосы, либо зажатые с двух сторон равнинами, либо (если горы располагаются по периферии континента, как Анды, например) как бы срезаемые с одной стороны океаном. Случайная ли это игра Природы? Так думать было бы, конечно, наивно. В природе нет ничего случайного, по крайней мере в масштабе макромира. Значит, и этот вопрос требовал разрешения.
Мы подошли к сути того открытия, которое собираемся обсуждать в этой главе. Геологи установили, что земная кора континентов не однородна ни по составу, ни по строению. Она делится (в первом приближении) на две крупные категории структур: жесткие массивные глыбы (платформы) и мобильные узкие пояса, сложенные преимущественно осадочными образованиями разного возраста. Пояса эти получили название геосинклиналей. Геосинклинали чаще всего сжаты, как в мощных тисках, платформами.
Открытие это недаром отнесено нами к категории «великих». Если попытаться кратко оценить значимость сделанного, то она заключается в том, что стали ясными принципиальные различия двух типов тектонических структур, их происхождение и развитие, а значит, и эволюция земной коры в целом как отражение процессов, происходящих в глубинных горизонтах Земли. Иными словами, данное открытие дало геологам ключ к описанию и интерпретации геологического строения конкретных районов. А эти знания для геологической науки – главное. Без них она просто не может существовать.
До этого же геологи только рассуждали о теориях Земли, а сами теории были в значительной мере надуманными. Фактов не было, следовательно, не существовало и оснований для серьезных обобщающих работ. С открытием же делимости земной коры на геосинклинали и платформы стали возможными крупные эмпирические обобщения. Не теории в строгом смысле слова, но именно обобщения. И самым впечатляющим из них был капитальный трехтомный труд австрийского геолога Эдуарда Зюсса «Лик Земли», изданный почти через 30 лет после открытия геосинклиналей.
Открытие это более ста лет подпитывало геологическую науку, было, как это часто говорят, «одним из краеугольных камней теоретической геологии». Возможно. Главное все же состоит в том, что это открытие действительно зафиксировало факты огромной важности. И несмотря на то что в настоящее время эти элементы строения земной коры интерпретируются совсем с других позиций, тем не менее открытие геосинклиналей и платформ занимает подобающее место в истории науки. В определенном смысле оно служит геологии и сегодня.
Геосинклинальный марафон
Ничего таинственного или необычного при рождении очередного геологического «учения» не было (оговорюсь: слово «учение» почему-то очень любимо именно в России; никак, вероятно, россиянину не обойтись ни без учителей, ни без учений). Просто американский геолог (правильнее все же – палеонтолог) Джеймс Холл (1811-1898) в течение четырех лет (1855- 1858 гг.) вел геологическую съемку в штате Айова и при составлении отчета о ней указал на необычное поведение мощности осадочных толщ, слагающих Аппалачи, – к западу от них мощность падала почти скачкообразно с 12 до 1 км. В 1859 г. Холл публикует статью, в которой излагает свои соображения по этому поводу. Заметим, – не просто факты, но н суждения о них. Появился предмет для разговора. Родилась новая концепция.
Что же отметил Холл? Прежде всего, что складчатые горы формируются на месте и за счет мощных толщ осадков. Такие идеи всегда являются сильными интеллектуальными раздражителями, ибо порождают массу вопросов.
На самом деле, выходит, что весь длительный отрезок времени (сотни миллионов лет палеозоя) существовал бассейн, не только интенсивно прогибавшийся, но столь же интенсивно заполнявшийся осадками. Благодаря чему такая избирательная пластичность коры? Далее, какие мистические горные вершины поставляли в этот бассейн осадочный материал в совершенно немыслимых количествах? Где располагались эти горы? И наконец, самое, возможно, трудное для понимания. Что вдруг случилось с этим бассейном, который, доверху заполнившись осадками, вдруг взял да и выгнулся в противоположную сторону, как кошка выгибает усталую от лежания спину, и, словно по мановению волшебной палочки, превратился в горную систему со складками, разрывами, сбросами и прочими непременными атрибутами структурной тектоники.
Итак, хотя сам термин «геосинклиналь» Холл не употребил, основы будущей концепции были заложены, ибо уже стало известно главное: существуют в земной коре обширные участки интенсивного и устойчивого прогибания, синхронного с накоплением осадков; впоследствии области прогибания таинственным образом трансформируются в свою противоположность – в величайшие горные системы мира. В основе обобщения Холла лежали неопровержимые факты: во-первых, мощность палеозойских толщ Аппалачей составляла более 12 км, а во-вторых, осадки были мелководные, о чем неоспоримо свидетельствовала фауна. В этом палеонтолог Холл ошибиться не мог. Ученые сейчас единодушны в том, что открытие американского геолога составило «эру в истории развития геологических наук».
Необходимо все же два слова сказать о самом Джеймсе Холле. Без преувеличения, для американской геологии он фигура такого же масштаба, как А. П. Карпинский – для русской, Э. Зюсс – для австрийской, Ганс Штилле (1876-1966) – для немецкой, Ч. Лайель – для английской. Холл – автор многотомного энциклопедического издания «Палеонтология Нью-Йорка». Он инициатор создания геологических служб в ряде американских штатов, основатель и первый президент Американского общества научного прогресса и Национальной академии наук, инициатор создания и первый президент Геологического общества Америки. За год до смерти в возрасте 86 лет Холл приезжает в Петербург на VII сессию Международного геологического конгресса, где знакомится с Карпинским и другими известными русскими геологами.
Легко понять, что столь радикальное обобщение, какое предпринял Холл, не могло оставить геологов равнодушными. В американской периодике началась дискуссия. Самой заметной в ней оказалась статья Джеймса Дуайта Дэна (1873 г.). Это действительно так, ибо уже в 1875 г. ее перевели на русский язык и опубликовали в двух номерах «Горного журнала». (Заметим в скобках, что сам факт перевода полного текста статьи – крайне редкое для того времени явление, и не потому, разумеется, что русские геологи не желали знать работ своих западных коллег, просто они получили иное воспитание и, как правило, читали на двух-трех европейских языках.) В переводе на русский название статьи Дэна выглядело неуклюже и совсем не соответствовало очень тонкому и изящному подходу ее автора к идеям Холла. А называлась она так: «О некоторых результатах земного сжимания вследствие охлаждения вместе с рассуждением о происхождении гор и свойствах внутренности Земли».
Что же дала науке эта работа одного из авторов великого геологического открытия? Образно говоря, если Холл нашел крупный алмаз, то Дэна, отшлифовав его, превратил находку в уникальный бриллиант, поместив его к тому же в изящную и дорогую оправу. Каждый сделал то, что сделал. Дэна сразу принял чрезвычайно глубокое обобщение своего коллеги. Взглянув же глазами Холла на прекрасно ему знакомые горы Аллеганской цепи, Зеленые горы и долины Коннектикута, где он проработал более 30 лет, Дэна представил историю их развития совсем в ином свете.
Область интенсивного прогибания и накопления осадков Дэна назвал геосинклиналью, а воздымание смежной территории – геоантиклиналью.
Дэна, разумеется, как и Холл, задумался над тем, отчего это земная кора вдруг оказывается столь пластичной, что может прогибаться на 10-20 км. Доводы Холла, что главная причина прогибания – это вес осадков, Дэна не убедили. Чтобы принять такой механизм, надо было допустить, что земная кора в этом конкретном районе крайне тонкая, существенно тоньше, чем в смежных областях. А с какой это стати? Для таких предположений данных не было. Значит, и доводы о весе осадков не впечатляли.
И тут Дэна пришла счастливая идея привлечь для истолкования этого феномена гипотезу контракции французского геолога Эли де Бомона. Гипотеза эта была обнародована еще в 1830 г., однако автора она не удовлетворила, и в 1852 г. он вновь обращается к ней, публикуя развернутое, но не очень убедительное объяснение механизма контракции.
Поэтому и в данном случае Дэна был вынужден взять только саму идею сжимания и сокращения поверхности земного шара при остывании (процесс контракции), но сам механизм продумал столь тщательно, изложил его настолько просто, логично и убедительно, что более чем на сто лет усыпил мысль геологов, которые никакого иного механизма глобальных тектонических процессов, кроме контракционного, не признавали.
Но и этого мало. Дэна решил, что геосинклинали образуются по краям континентов. Этот его вывод дал основание современному французскому геологу Жоржу Обуэну, автору последней, вероятно, в истории геологии монографии «Геосинклинали», считать, что Дэна хотя и не очень четко сформулировал, но все же заложил основы представлений о разрастании материковых платформ за счет океанических площадей. «Эти морщины, подобные морщинам высыхающего яблока, располагаются на местах соприкосновения материков (будущих) с дном океана». Красиво и точно сказано. Но это слова не Дэна и не Обуэна. Так писал ровно за сто лет до Обуэна Головкинский. Ни англичане, ни французы по-русски не читают. А жаль. При неполном знании начинает действовать механизм своеобразной «исторической контракции» и объективность при этом корежится до неузнаваемости.
Почти до конца XIX столетия геосинклинальную концепцию в Европе не замечали. Центром европейской геологической мысли в те годы была Вена, где жил и создавал свой монументальный «Лик Земли» Эдуард Зюсс, президент Венской академии наук, бесспорный и ни с кем не сравнимый авторитет тех лет. Трудно сказать, читал Зюсс статью Дэна 1873 г. или не читал, но ни в «Происхождении Альп» (1875 г.), ни в трехтомном «Лике Земли» (1885-1909) термин «геосинклиналь» он не использует. Между тем Зюсс также исповедовал контракционизм. Именно эта гипотеза, с одной стороны, и блестящее владение геологическим материалом, с другой – дали возможность Зюссу сделать свое капитальное эмпирическое обобщение и внести тем самым свой весомый вклад в обсуждаемое нами открытие.
Зюсс обратил внимание на тот факт, что разные участки земной коры смяты в складки и как бы вздыблены не одинаково. На одних территориях наблюдаются сильно дислоцированные, перемятые, осложненные к тому же многочисленными разрывами слои горных систем, а на других, по соседству с ними, складчатость почти целиком отсутствует. Что это может означать? Только одно – разную реакцию земной коры на контракционное сжатие. Следовательно, наряду с участками подвижными, легко сжимаемыми, существуют обширные пространства континентов жесткие, не поддающиеся процессам мощного тангенциального сжатия.
Так родилась идея о делимости земной коры на неподвижные и подвижные зоны. Так были открыты платформы – своеобразные антиподы геосинклиналей. И сделал это Зюсс в 1875 г.
Но мы пока обсуждаем геосинклинальную концепцию. Оказывается, не называя подвижные участки коры геосинклиналями, Зюсс дал убедительное объяснение избирательного воздействия на них механизма контракции. Сжатие этих зон и превращение их в сложно построенные складчатые области происходит оттого, что они зажаты между жесткими глыбами – платформами.
Правдоподобно? Безусловно. Если не задавать наивных вопросов типа: а почему между платформами обязаны существовать линейно-вытянутые пояса исключительно подвижной, легко сжимаемой и пластичной коры? Однако на глупые вопросы ученые предпочитают не отвечать.
Я упомянул о том, что геосинклинальную концепцию до конца XIX века в Европе не замечали. В целом это так. И хотя русские геологи Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902) и Франц Юльевич Левинсон-Лессинг (1861-1939) пользовались термином «геосинклиналь», но больше в иллюстративных, чем в творческих целях. А вот известный французский геолог Марсель Бертран (1847-1907), изучавший строение горных систем Европы и Северной Америки, в 1887 г. ввел представление о возрасте складчатости, выделив четыре ее глобальных этапа: гуронский, каледонский, герцинский и альпийский. Это было смелым обобщением. Этапы получили название «эпохи тектогенеза» и стали общепризнанными во всем мире. Идеи Бертрана легли в основу представления о цикличности геосинклинального процесса.
Между тем геосинклинальная концепция к концу XIX столетия, вообще говоря, и на ноги прочно не встала. Ведь в это время были известны лишь единичные факты, легшие в ее основу, да была предложена их трактовка с позиций контракционной гипотезы. И все. А что это за объект – геосинклинали, как они устроены, какова этапность развития геосинклинального процесса, как на него реагируют отдельные зоны интенсивного прогибания, на какие классы можно подразделить геосинклинали? На все эти и многие другие вопросы еще предстояло ответить.
Частично это сделал популярный французский геолог Гюстав Эмиль Ог (1861-1927). Конечно, не надо думать, что он полностью рассеял туман, висевший над геосинклинальной концепцией. Но все же сделал очень много. Некоторые историки науки даже возвели Ога в сан творца учения о геосинклиналях, оставив Холлу и Дэна скромные эпизодические роли в этом грандиозном историко-научном действе: Холл первым только обратил внимание на новый объект, а Дэна только дал ему удачное название. Думаю, что это несправедливо.
Теперь о том, что все же сделал Ог. В 1900 г. он публикует сочинение «Геосинклинали и континентальные площади», где кратко излагает основные результаты своих обобщений по геосинклинальной проблеме. И среди них – главное: горные цепи непременно образуются на месте геосинклиналей. То, что Холл, как мы помним, скромно предполагал, Ог уверенно утверждает. Что же, это – стиль. И другие свои выводы французский геолог делает столь же категорично, а некоторые из них даже формулирует просто в виде… законов.
В 1907 г. в Париже выходит в свет первый том очень популярного курса Ога «Геология». Книгу эту перевели на русский язык, и с 1914 по 1938 г. она выдержала в России семь изданий. Это само по себе говорит о многом, хотя и не может служить критерием собственно научной значимости. Достаточно сказать, что «Лик Земли» Зюсса на русский язык так и не перевели до сих пор, хотя книга эта бесспорно принадлежит к золотому фонду геологической науки.
Но сейчас «Геология» Ога интересна потому, что в ней очень подробно и обстоятельно (как и положено в учебнике) излагаются выводы ученого по проблеме геосинклиналей. Вот что Oг посчитал характерным для геосинклиналей.
Во-первых, громадные мощности осадков, формирующих разрез без заметных стратиграфических перерывов.
Во-вторых, осадки не обязательно мелководные, вполне допустимы и глубоководные образования (это уже новация в сравнении со взглядами Холла и Дэна). Ог, по всей вероятности, был активным сторонником актуалистического восприятия геологического прошлого и не мог просто так рассуждать о геосинклиналях, не имея перед глазами их современных гомологов. Поэтому он не представлял, как могут столь значительные (многие километры) мощности осадков накапливаться на мелководье, которое, мол, прогибается под их тяжестью. Это было бы чистой дедукцией. А Ог был опытным полевым геологом-наблюдателем. Поэтому он допускает иной вариант: изначально существует глубоководный бассейн, а затем он заполняется осадками. (См. рис. 10).
(Трудно сказать, что лучше: чистая дедукция Холла или иллюзорный актуализм Ога, ибо глубоководные морские ванны, конечно, в изобилии имеются на современной Земле, но их засыпание осадками также возможно только как чисто гипотетическое допущение, ведь наблюдать подобный процесс невозможно.)
Сам же Ог считал этот вывод одним из главных достижений своего «учения». И все же был глубокий смысл в подобной трактовке геосинклинального процесса, ибо Ог впервые связал скорости осадконакопления со скоростями прогибания дна бассейна и выделил три их возможных соотношения. В современных терминах мы бы их назвали: прогибание компенсированное, недокомпенсированное и перекомпенсированное осадконакоплением. Впрочем, последняя ситуация, когда осадков больше, чем емкость бассейна, надо полагать, скорее экзотическая, чем реальная. Ее Oг, вероятно, привел для полноты картины.
В-третьих, Ог утверждал, что геосинклинали – это мобильные участки земной коры, всегда как бы зажатые двумя стабильными континентальными массивами. Это, как мы знаем, точное повторение обобщения Зюсса. И… излишне категоричное, ибо при таком толковании океанам просто не остается места. Океанов действительно не было на схеме Ога.
Георгий Павлович Хомизури, специально занимавшийся историей становления геосинклинальной концепции, справедливо отметил, что если бы на схеме Ога существовал Тихий океан, то его «circumpacifique геосинклинали располагались бы по его краям, а признание существования Атлантического океана неизбежно привело бы к мысли о том, что Кордильеры и Анды расположены на краю этого континента». Ирония вполне уместная, ибо Ог, желая получить непременно однозначное, как в школьных задачках, решение, сам загнал себя в угол. Атлантический и Тихий океаны явно портили ему настроение. И думая, что таким жестом он устраняет все противоречия, автор «учения» объявляет Атлантический океан современной геосинклиналью, а Тихий – молодым новообразованием, возникшим на месте существовавшего здесь не так давно материка Пацифида. Полагаю, что Ог был значительно умнее своей придумки, ибо, заявив об этом в I томе «Геологии», впоследствии он лишь молча выслушивал насмешки по своему адресу. Жаль только, что это надолго подорвало доверие и к остальным аспектам учения Ога.
В-четвертых, складчатость в геосинклиналях возникает на заключительных стадиях их развития, утверждал Ог в полном согласии со взглядами Дэна.
В-пятых, Ог возвел в ранг закона скромное предположение Холла (что мы уже отмечали). «Теперь, – утверждал Oг, – этот закон формулируется следующим образом: горные цепи образуются на месте геосинклиналей».
В-шестых, Oг выявил, как он считал, однозначную связь между трансгрессиями на платформах и регрессиями в геосинклиналях и, конечно, сразу сформулировал ее как еще один закон: «Всякий раз, когда некоторый определенный член осадочной серии является на континентальных площадях трансгрессивным, этот же член в геосинклиналях является регрессивным, и наоборот». Получился геологический вариант закона сообщающихся сосудов, который даже активные сторонники геосинклинальной концепции, такие как Г. Штилле и академик А. Д. Архангельский, резко критиковали. Закон этот, надо сказать, – типичное дитя учения.
Впоследствии полезно потрудились, совершенствуя геосинклинальную концепцию, многие крупные геологи. Достаточно вспомнить имена немецких геологов Ганса Штилле и Сержа (Сергея Николаевича) фон Бубнова (1888-1957), американцев Вальтера Бухера (Уолтера Бачера) (1888-1965), Чарльза Шухерта (1858-1942), Амадеуса Гребо (1870-1946), австрийца Леопольда Кобера. Заметный вклад внесли и наши соотечественники: Карл Иванович Богданович (1864-1947), Андрей Дмитриевич Архангельский (1879-1940), Евгений Владимирович Милановский (1892-1940), Алексей Алексеевич Борисяк (1872-1944), Николай Сергеевич Шатский (1895-1960), Михаил Владимирович Муратов (1908-1982), Михаил Михайлович Тетяев (1882-1956), Александр Вольдемарович Пейве (1909-1985), Владимир Владимирович Белоусов (1907-1989) и многие, многие другие. Всех не перечислишь.
Теперь два слова о том, что все же было привнесено в геосинклинальную концепцию после Ога.
В 1918 г. Борисяк высказал идею о «замыкании» геосинклинали. Этим он довел до логического конца предположение Ога о разных вариантах связи скорости прогибания бассейна и скорости заполнения его осадками. По Борисяку, геосинклиналь «замыкается», когда область прогибания целиком выполняется осадками и начинается противоположный (по направленности) процесс – воздымание ранее активно проседавшей зоны. С чего бы это? Но и на этот вопрос ответа мы не найдем. Просто трудно удержаться от подобных вопросов, они помимо воли автора соскальзывают с пера.
Кроме только что упомянутого, Борисяк сделал еще один смелый вывод. Он установил, что в результате складкообразования геосинклиналь как бы по частям припаивается к сжимающим ее платформам и наращивает их. Как следствие такого механизма следовал его твердый вывод о том, что геосинклинальная стадия развития Земли отошла в прошлое. Теперь на Земле геосинклинальный процесс не идет, а потому не найдены и достоверные современные гомологи геосинклиналей прошлого. Главное здесь – заключение Борисяка о «геосинклинальной стадии развития Земли». С ним он познакомил читателей своего курса «Историческая геология», изданного в 1931 г. Получается, что нам просто не повезло: в палеозое, мезозое и даже кайнозое вовсю шел геосинклинальный процесс, а потом вдруг внезапно закончился. С чего бы это?
В 1921 г. Кобер ввел действующее поныне понятие об орогене, разделив орогенный цикл как бы на две стадии: геосинклинальную (опускание) и собственно орогенную (воздымание). Остался термин «ороген», ибо сама его трактовка почти не отличается от первоначальной идеи Холла, повторенной затем Огом.
В 1935 г. Архангельский вводит понятие «о геосинклинальной области», трактуя его более широко и раскованно как «подвижную область». В таком контексте это понятие сохраняет свой смысл по сей день, и когда мы будем использовать это удачное словосочетание, постараемся не забыть о его авторе. Он же не мог согласиться с выводами Борисяка об отсутствии в современных обстановках следов геосинклинального процесса. Если Дэна видел гомологи геосинклиналей прошлого в окраинных бассейнах атлантического типа, если Oг вообще считал океан современной геосинклиналью, то Архангельский доказывал, что островные дуги и примыкающие к ним со стороны океана глубоководные желоба – это и есть геосинклинальный процесс в действии.
Конечно, таким манером никто никому ничего не докажет. Как всегда бывает в геологии, каждый остается при своих интересах. Почему-то не пришел в голову естественный вопрос: а может, и в прошлом не было геосинклинального процесса в таком виде, как мы его толкуем? Потому-то и теряемся в догадках, куда он исчез с современного лика Земли. Это так, к слову. Укрепление «учения» между тем продолжалось.
В 1940 г. Штилле напечатал один из самых важных своих трудов «Введение в строение Америки». Потому эту работу мы назвали «важной», что в ней приведена очень удачная систематика складчатых областей (геосинклиналей) и кратонов (платформ). Удачность систематики определялась еще и звучной терминологией. Сегодня она знакома каждому геологу. Орто-, мио- и эвгеосинклинали – все эти термины принадлежат Штилле. Они – как любимая старая обувь. Пора бы заменять ее, но мы настолько к ней привыкли, настолько она нам по ноге, что мы готовы не замечать ни трещин на коже, ни стоптанности каблуков, лишь бы не разнашивать новую пару, которая еще долго будет стеснять нас.
В то же примерно время, изучая геологию Большого Кавказа, Владимир Владимирович Белоусов нашел удачный термин для обозначения трансформации режима прогибания земной коры в поднятие и назвал этот процесс инверсией. Слово красивое, спору нет. Но сам-то процесс от этого понятнее не стал, а «обнаружил» его еще Джеймс Холл.
В 1945 г. Пейве выдвигает идею о глубинных разломах земной коры. Она очень быстро завоевала популярность, и вскоре все крупномасштабные геологические карты были испещрены перекрещивающимися под разными углами линиями, обозначающими разломы коры. Сами разломы, по мнению Пейве, явились следствием энергоемких напряжений, сопровождавших геосинклинальный процесс.
Были и другие новации. Однако чувствовалось, что геосинклинальный марафон приближается к финишу. Его участники устали. Они уже не столько заботились об открытии нового, сколько о том, чтобы донести до финиша старый багаж. И многим, надо признать, это вполне удалось. Еще и сегодня этот багаж является единственным гарантом существования геосинклинального учения.
А в это время на платформах…
Сам факт делимости земной коры континентов на геосинклинали и платформы установил, напомню, в 1875 г. Зюсс. А первым, кто всерьез стал изучать строение и развитие конкретной платформы, был А. П. Карпинский. Восточно-Европейской (или Русской) платформе он посвятил ряд своих работ, которые сегодня с почтением называют классическими. Именно они стали фундаментом очередного учения, на сей раз «учения о платформах».
Карпинский еще в 1880 г. установил ярусное строение платформ: кристаллический фундамент и маломощный слабодислоцированный осадочный чехол. В 1882 г. он выявляет еще одну важнейшую эмпирическую закономерность, по поводу которой у геологов нет единого мнения по сей день. Суть в том, что в пределах тела платформы Карпинский обнаружил полосу интенсивно дислоцированных пород.
27 ноября 1882 г. на заседании Петербургского общества естествоиспытателей Карпинский делает доклад «Об образовании горных кряжей». В нем он впервые поделился с коллегами своими наблюдениями в южной части Европейской России. Оказывается, там «местности, в которых породы имеют нарушенное пластование, располагаются с известной правильностью». Такую правильность он объясняет общей причиной – «кряжеобразовательной силой». Полосу пород с «нарушенным пластованием» Карпинский и назвал «кряжевой полосой» и протянул ее от Келецко-Сандомирского кряжа до Мангышлакского Каратау. С легкой руки Зюсса, эта полоса вошла в историю науки как «линия Карпинского». Ее и сегодня не забыли геологи, изучающие юг Русской платформы.
Но самое, пожалуй, главное, что сделал Карпинский, – это предложенный им метод изучения геологического развития платформ с помощью серии палеогеографических карт. Вот как это было.
На торжественном публичном заседании Петербургской академии наук 29 декабря 1886 г. вновь избранный молодой академик (адъюнкт по геологии) Карпинский (ему только-только исполнилось 40 лет) выступает с речью «О физико-географических условиях Европейской России в минувшие геологические периоды». По оценке последующих поколений геологов, эта работа Карпинского составила целую эпоху в развитии геологической науки. Ее новизна и необычность состояли не только в масштабах (временных и пространственных) нарисованной картины, но главным образом в том, что Карпинский впервые, и весьма успешно, применил эволюционную теорию для воссоздания изменения геологических условий, построив целую серию палеогеографических карт.
Карпинский не скрывал, что нарисованная им картина – всего лишь рабочая гипотеза, правда, подкрепленная известными в то время фактами. Но он полагал, что геология уже подошла к тому рубежу, когда от накопления (порой бессистемного) фактического материала надо приступать к его обобщению, к построению на его основе схем эволюции земной коры, ибо наука начинается там, где от описания переходят к выводам, а от сбора фактов к их синтезу в рамках какой-либо рабочей гипотезы.
Вот что удалось доказать Карпинскому. Платформа имеет двухъярусное строение (этот термин французских геологов он, правда, использовал позднее, в 1919 г., при переиздании серии своих тектонических работ); на юге прослеживается «кряжевая полоса» (это открытие явилось толчком для многочисленных исследований по тектоническому осмыслению Донецкого бассейна); существует определенная связь процессов, протекающих на платформе и в смежных геосинклинальных областях.
В 1894 г. в статье «Общий характер колебаний земной коры в пределах Европейской России» Карпинский дал тектоническое обоснование выявленным им ранее закономерностям. Управляли сменой морских и континентальных условий в пределах Европейской России медленные колебательные движения земной коры, а интенсивное развитие трансгрессий или, напротив, регрессий диктовалось синхронной реакцией на эти тектонические процессы окружающих платформу геосинклиналей, в частности Уральской и Кавказской.
Карпинский пишет: «Понижения земной коры, вызывающие такое распределение бассейнов в широтном направлении, обнимают среднюю и южную части Европейской России, меридиональные понижения располагаются в ее восточной части».
Мне трудно утверждать с полной определенностью, но думаю, не исключен тот факт, что к своему закону о синхронности трансгрессий на платформах регрессиям в геосинклиналях Эмиль Ог пришел не без помощи этого капитального и, что очень важно, обстоятельно обоснованного фактическим материалом исследования Карпинского. Более того, если обратить внимание на суть подмеченной Карпинским закономерности, то следует согласиться с тем, что Ог только облек ее в нужные ему слова. И вполне вероятно, что если бы по другим платформам эти исследования были выполнены столь же обстоятельно, то вполне возможно, что и закономерность, установленная Карпинским для Восточно-Европейской платформы, подтвердилась бы и на других объектах.
Теперь полагают, что нет оснований для критики этого открытого Карпинским правила распределения трансгрессивного и регрессивного этапов развития платформ и геосинклиналей. Это сейчас. А в прошлом (об этом мы вспоминали в предыдущем разделе) закон Ога активно критиковали либо вносили в него поправки типа запаздывания трансгрессий на платформах по отношению к регрессиям в геосинклинальных областях, что установили Владимир Владимирович Белоусов и Александр Борисович Ронов.
Вклад Зюсса в развитие теории платформ был более классификационным, чем познавательным в собственном смысле слова. Зюсс был непревзойденным мастером глобальных геологических обобщений. Это – великий дар, который необходим прежде всего геологам, но природа почему-то именно геологов крайне редко им наделяет.
Зюсс ведь сам никогда не работал в России, но Русскую платформу вычленил именно он в 1885 г. В своем знаменитом «Лике Земли» Зюсс первым выделил и проанализировал четыре важнейших тектонических элемента земной коры: плиты, горсты, складчатые области и вулканические горы. Он же рассмотрел сопряженную пару структур: складчатые области (термин геосинклиналь он не использовал) и форланд, т. е. внескладчатые области (плиты).
Кроме крупных плит, таких как Русская, Сибирская, Африканская, Индийская, Зюсс выделял и небольшие плиты, расположенные в пределах крупного складчатого пояса. Это не что иное, как срединные массивы.
Позже в теорию развития платформ было внесено не так много крупных теоретических новообразований. Одним из них было предложение Штилле (его он высказал в 1920 г.) классифицировать платформы не по времени складчатости, ибо этот процесс достаточно неопределенен, а по времени консолидации фундамента. В этом был глубокий смысл, ибо платформа и становится, собственно говоря, платформой только после того, как завершилось формирование фундамента. Какие при этом происходили процессы, геологи спорят по сей день. Поэтому Штилле выбрал вполне разумную систему отсчета. По новому своему критерию он выделил Архео-, Палео-, Мезо- и Неоевропу. Так условно были названы области развития докембрийской, каледонской, варисской и альпийской консолидации.
Итак, те длительные интервалы времени, которые для геосинклиналей трактовались как циклы тектогенеза, применительно к платформам стали называться временем консолидации фундамента. В мировой геологической науке эти предложения немецкого геолога закрепились как «каноны Штилле», под коими надо понимать более или менее одновременное проявление на всей Земле крупных тектонических перестроек земной коры: эпох, фаз или циклов тектогенеза.
На этом можно и закончить. Конечно, трудами Архангельского, Шатского, Александра Николаевича Мазаровича (1886-1950), Е. В. Милановского, М.М. Тетяева, Дмитрия Васильевича Наливкина (1889-1982) и многих других ученых внесен значительный вклад в предметно-геологический анализ конкретных платформ, как древних, так и молодых. Выделены новые, ранее неизвестные структурные элементы, расположенные главным образом по периферии платформ,- краевые (окраинные) прогибы типа Приднестровского, Камско-Уфимского и др.; авлакогены, к которым относят Донецкий бассейн, Келецко-Сандомирский кряж, прогиб Угарта в Сахаре, прогиб Бенуа к северо-востоку от Гвинейского залива; выявлено также много других фактов.
Есть, правда, одно открытие, прямо касающееся теории платформ, но, к сожалению, не имеющее пока доказательного обоснования: осадочный чехол древних платформ отделен (по времени) от кристаллического фундамента громадным временным интервалом, достигающим по оценке некоторых ученых 400- 800 млн лет. С чего бы это?
Пусть над этой проблемой поломают головы читатели…
Пора и на покой
Владимир Иванович Вернадский 12 мая 1935 г. в письме к своему другу Борису Леонидовичу Личкову (1888-1966) обронил такие слова: «Вот по поводу геосинклиналей – у меня нет хорошего к ним чувства… Что с ними будет через 10 лет? А понижения, конечно, есть, и их причина геосинклиналями не объясняется».
В словах этих удивительно всё. И то, что столь еретическая мысль пришла тогда, когда ничем другим, кроме геосинклинальной концепции, геологическая наука по сути не располагала. И то, что эта мысль осенила именно советского академика в годы, когда «самая передовая в мире советская геологическая наука» вооружила промышленность, тужащуюся выполнить нереальные планы второй пятилетки, прогнозными запасами минерального сырья, запрограммированного к открытию на основе идей активно разрабатываемого геосинклинального учения. И то, наконец, что Вернадский, ничего, кроме эмпирических обобщений, в науке не признававший, усомнился в геосинклиналях, являвшихся, по мнению всех геологов, весьма удачным именно эмпирическим обобщением. В чем же тут дело?
Чтобы не пустить ответ на этот вопрос по замкнутому кругу, вероятно, следует высказать предположение столь же еретическое, какой казалась тогда и оценка Вернадского, т. е. обосновать, что геосинклинальная концепция – вовсе и не эмпирическое обобщение. Попробуем сделать это по возможности кратко.
Итак, что в этой концепции несомненно, что в ней является знанием фактическим? Прежде всего громадные мощности осадков, преимущественно мелководных. Затем – интенсивная постседиментационная тектоника, вознесшая эти отложения на высоты 5-8 км над уровнем моря. Наконец, достаточно резкий контакт этой области с окружающими ее жесткими плитами. Итак, к несомненным фактам можно отнести лишь то, что мы квалифицировали как одно из великих геологических открытий, – делимость земной коры на две категории полярных по своему строению геоструктурных единиц. Именно этим, строго говоря, и ограничивается собственно эмпирическое обобщение.
А что же сама геосинклинальная концепция (учение – так больше нравится некоторым)? Что стоит за ней? Только допущения и ничем не аргументированные экстраполяции. Касается это и рассуждении классиков учения об интенсивном прогибании земной коры, компенсированном накоплением многокилометровых толщ осадков, и внезапной смены знака тектонических движений, после чего начинается воздымание территории, только что интенсивно прогибавшейся (инверсия, по Белоусову). И так далее…
Одним словом, наука, конечно, начинается тогда, когда ученые пытаются как-то истолковать новое явление природы. Но и заканчивается наука одновременно с признанием выбранной схемы единственно верной, с превращением теории в учение, а активного подвижного знания в догмат веры. Понятно, что Вернадский-естествоиспытатель, доверявший только фактам, не пожелал выдавать желаемое за действительное. В своем же прогнозе относительно будущего «геосинклинального учения»он ошибся только в сроках, да и то ненамного.
Новый взгляд на Землю (о нем мы будем говорить в следующей главе), повлекший за собой отказ от геосинклинального учения, пришел «со дна морского». Не раскрывая пока всех карт, два слова о смене геологической парадигмы сказать все же придется. Иначе будет совсем непонятно то резкое охлаждение (для некоторых – и полный разрыв), которое наметилось у геологов в отношении геосинклинальной концепции.
Что же изменилось в представлениях ученых о строении Земли? Выяснилось прежде всего, что континентальная и океаническая земная кора различаются не только по геофизическим характеристикам и мощности. Оказалось, что океаническая кора латерально подвижна, т. е. перемещается от срединно-океаничес-ких хребтов, где она зарождается, к глубоководным желобам, где она уходит в мантию. Вместе с океанической корой перемещаются, разумеется, и осадки, успевшие накопиться за время ее путешествия. Оказалось также, что земная кора разбита на плиты. В состав плит входят и целые континенты, которые путешествуют с ними по земному шару. Бывают при этом и аварии, когда две гигантские плиты сталкиваются. На научном языке этот процесс называется коллизией. Вот тогда-то и образуются между некогда самостоятельными плитами орогенные швы, которые принимались ранее за геосинклинали.
Иной процесс __ иная трактовка. Иная трактовка – иные термины. Вот почему ученые, принявшие новую тектоническую парадигму (тектонику литосферных плит), не видят никакой необходимости возврата к этапу, наукой уже пройденному.
Но – не все. Если в большинстве западно-европейских стран, а также в США, Канаде, Австралии геосинклинальную концепцию вспоминают только в курсах по истории науки, то у нас и в этом вопросе свое особое мнение. Мир нам не указ. Наши геологи либо не сдают прочно занятые геосинклинальные позиции (пока наука экономически инфантильна, таких, разумеется, большинство), либо пытаются доказать, что обе концепции вполне могут ужиться вместе (хотя решительно ничего общего между ними нет).
Вполне в духе привитой нам с детства идеологии такое, например, высказывание: «Возрождение мобилизма и появление гипотезы,,новой глобальной тектоники”, пользующейся большой популярностью за рубежом, стало серьезным испытанием для учения о геосинклиналях, ибо крайние сторонники „новой глобальной тектоники” предлагают сдать в архив многие из существующих представлений, в том числе и геосинклйнальную теорию. Большинство советских геологов, не разделяя такой позиции, в то же время считают необходимым пересмотр многих положений в учении о геосинклиналях, выдвигая новые принципы в понимании геосинклинального процесса». Написано это было в 1974 г., но и сейчас, не сомневаюсь, многие российские геологи подпишутся под этими словами.
Итак, не все советские геологи разделяли позиции своих западных коллег и, желая во что бы то ни стало сохранить status quo, выдвигали «новые принципы». Какие именно? – спрашивать не будем. Ответа все равно не услышим.
И все же любопытно, как пытаются обосновать мирное сосуществование двух концепций или, иначе, какой спасательный круг кидают геосинклинальному учению его сторонники? Это офиолитовые комплексы в складчатых поясах континентов. Академик Пейве вполне логично обосновал, что офиолиты могут служить индикаторами океанической коры геологического прошлого. Отсюда следовал весьма странный, надо сказать, вывод. Раз офиолиты – индикаторы океанической коры, а геосинклинали начинают свое развитие именно на коре океанического типа (так ли?), то появление тектоники литосферных плит ничем не может повредить старой доброй, всеми любимой геосинклинальной концепции. Надо только, используя давно проверенный прием, переодеть ее истины в новые терминологические одежды. Этим и занялись многие наши почтенные геологи.
В геологии, как в политике, чем больше трудностей, тем сильнее оптимизм; чем безнадежнее ситуация, тем тверже вера. Академик Виктор Ефимович Хаин, например, считал, что в учении о геосинклиналях в его «классическом» виде накопилось достаточно неясных и нерешенных вопросов. Поэтому крайне своевременны и остро необходимы любые попытки обновить это учение.
А, собственно, зачем? Может быть, не тратить время на зачистку тылов, а осваивать новые идеи? Обидно, конечно, что не наши. Но что делать. В запасе ведь есть утешительный тезис об интернациональном характере науки. Хотя до слез обидно, что наша научная несостоятельность зависит не от природной бездарности ученых людей, а от продолжавшегося несколько десятилетий социально-политического маскарада, костюмы которого тщательно скрывали научно-техническую отсталость. Время же на дворе такое, что новые факты в современной геологии добываются главным образом с помощью современной техники. А ее-то и нет.
Всем этим, вероятно, и можно объяснить то упорство, с которым наши ученые держатся за старый багаж. Готовы даже из мобилистской концепции вывести все основные постулаты геосинклинального учения, искренне, вероятно, думая, что «связь учения о геосинклиналях с фиксизмом вовсе не является обязательной и неизбежной», что вообще «судьбу учения о геосинклиналях не стоит связывать с судьбой той или иной тектонической парадигмы – оно пережило не одну из них, продолжая углубляться и совершенствоваться». С последней фразой В.Е. Хаина (это его мы только что процитировали) уж вовсе согласиться нельзя, поскольку за всю историю геотектоники она пережила пока лишь одну парадигму – фиксистскую. Сейчас геотектоника начала развиваться под идеи мобилистской парадигмы. И это отнюдь не очередная гипотеза, сопоставимая с контракционной или пульсационной.
Нет. Тектоника литосферных плит – это принципиально иной подход к анализу геологической истории, это, как справедливо выразился японский геофизик Сэия Уеда, – «новый взгляд на Землю».
Итак, геосинклинальная концепция и тектоника плит вполне могли бы ужиться в одной коммунальной квартире. Но только при одном условии: если бы учение о геосинклиналях было в чистом виде эмпирическим обобщением (в чем до сих пор искренне заблуждаются геологи), а тектоника плит – теорией геодинамического плана, истолковывающей механизм геологических процессов. Но дело в том, что объекты, принимавшиеся за геосинклинали, будучи проинтерпретированными с позиций современной геодинамики, оказываются совсем не теми, за какие себя выдавали.
Так что же, время этого великого геологического открытия подошло к концу? Нет, конечно. Просто наука ушла вперед. Однако ничего полезного, что было сделано в прошлом, она не забывает. Не забыла геология и открытие второй половины прошлого века о делимости земной коры континентов на две принципиально разные геоструктурные единицы – жесткие глыбы (платформы) и подвижные складчатые пояса. Только трактовку становления и развития этих поясов как следствия самобытного геосинклинального процесса современная наука считает устаревшей. Вот и все.
И все-таки они движутся
Океан знает все
Еще на уроках географии в школе нам говорили, что две трети поверхности земного шара покрыты водами Мирового океана. И лишь по одной трети суши ученые долгое время были вынуждены судить о закономерностях устройства всей Земли. Все, что скрыто под многокилометровой толщей океанской воды, для изучения казалось недоступным.
Конечно, люди науки вправе были ожидать, что когда океан раскроет, наконец, свои карты, то многие чисто «континентальные» геологические теории будут существенно скорректированы, подправлены и дополнены. Но они не могли и предположить, что на океаническом дне (точнее даже – под ним) упрятана мина замедленного действия, которая со временем взорвет все здание добропорядочной геологической науки, взбудоражит научный мир, поселив в одних бессильную злобу, в других – апатию, в третьих – циничный скепсис. И лишь немногие с самого начала зорко подметят в этом хаосе рухнувшего здания приметы новой нарождающейся науки – логичность и физическую обоснованность теоретических построений.
Конечно, прозорливые умы и в прошлом высказывали идеи о том, что земной шар – это сложная, саморазвивающаяся система, что сегодняшний его облик с беспорядочным (на первый взгляд) нагромождением геологических структур и разномасштабных объектов – лишь моментальный статический кадр этого развития, подобный тому, какой дает внезапная остановка равномерно движущейся киноленты. Актер тогда может предстать перед зрителем в неестественной позе и с искаженным выражением лица.
Вот что, например, писал по этому поводу в середине прошлого столетия Головкинский: «Если мы отрешимся от привычного представления о мере времени и миллионы лет мысленно сократим в секунды, то земной шар явится массой, волнующейся, как кипящая жидкость, и как бы стремящейся к равномерности состава, постоянно вновь нарушаемой тем же процессом… Что касается форм,… то все они являются так же эфемерными, как пузырьки пара в кипящей жидкости».
Если развить этот удачно найденный Головкинским образ, то надо представить себе жидкость, не просто кипящую, а еще и непрерывно перемещающуюся в горизонтальном направлении, на поверхности которой к тому же плавают довольно крупные и мелкие щепки. Они при этом сталкиваются друг с другом, разворачиваются в кипящем водовороте, скрываются под водой на какое-то время…
Согласитесь, впечатляющая картина! Разумеется, если эту киноленту пустить с нормальной скоростью, то движение, видимое на глаз, исчезнет. Но сами-то процессы останутся. Их и будут изучать геологи. И изучают. В них – суть того великого открытия нашего века, к описанию которого мы собираемся приступить.
Это открытие совершило настоящую революцию в науках о Земле, и не столько потому, что с ним пришло принципиально новое знание о строении Земли, о неслыханных до того грандиозных геологических процессах, сколько по той причине, что с рождением «новой глобальной тектоники» (так окрестили поначалу новую систему взглядов о развитии Земли) в корне преобразился стиль мышления геологов. Если раньше геологи оперировали статическими категориями, а коли возникала необходимость порассуждать о геологических процессах, то рассуждения эти были чисто качественными, то теперь геология поднялась на новую ступень – она стала наукой кинематической, и время как неотъемлемая категория естественнонаучных моделей стало фигурировать «на равных» с такими привычными характеристиками статики, как линейные размеры объектов, их петрофизические признаки, химический состав и т. п.
Одним словом, в 60-х годах нашего столетия геология пережила то же, через что уже прошла астрономия во времена Николая Коперника и Галилео Галилея; математика – во времена Исаака Ньютона и Готфрида Лейбница, позднее Эвариста Галуа и Георга Кантора; физика – во времена Макса Планка и Альберта Эйнштейна; химия – во времена Роберта Бунзена и Александра Бутлерова; биология – во времена Грегора Менделя и Николая Вавилова; кибернетика – во времена Норберта Винера и Акселя Берга. Пережила и продолжает жить в период коренной ломки сложившихся научных стереотипов, т. е. в период научной революции.
Не будем забывать главное: не вырви человек у океана его сокровенные тайны, геология еще долгие годы была бы золушкой среди дисциплин естественнонаучного цикла.
И последний штрих. Как и всякая революция в науке, та, что свершилась в геологии, – интернациональна. У нее много творцов (хотя объединение таких понятий, как «революция» и «творцы», несколько двусмысленно). Это люди, представляющие страны, где сильнее развита прежде всего техническая база наук о Земле. К ним относятся США, Франция, Япония, Канада, Великобритания, Германия.
Прозорлив и мудр был наш Карпинский: геологу воистину нужна вся Земля. К счастью, мысль и истина пересекают государственные границы без виз.
От первых догадок до первой теории
В 1595 г. была опубликована карта мира. На ней впервые были нанесены все известные в то время материки. Это был выдающийся труд фламандского географа и математика Герарда Меркатора (1512-1594). С тех пор оригинальная проекция земной поверхности на плоскость в прямоугольной системе координат носит название «меркаторской».
Карта эта стала достоянием ученых XVII века. Они впервые смогли увидеть, как на нашей планете расположены континенты. Уже в 1620 г. английский философ, один из зачинателей индуктивного метода познания Фрэнсис Бэкон (1561-1626) в своем знаменитом до сих пор трактате «Новый органон» обратил внимание на крайне любопытный, с его точки зрения, факт: необычайную похожесть западного контура Африканского континента и восточного контура Американского континента. Он, индуктивист-эмпирик, не мог, разумеется, счесть этот факт случайным, своеобразной причудой природы, но для конкретных научных суждений тем более не было оснований.
Проходит более двух столетий. Наука как будто забыла о наблюдении Бэкона. И вот в 1858 г. Антонио Снайдер-Пеллигрини в своей книге «Мироздание и раскрытие его тайн» делает робкое предположение, что некогда Африка и Америка были единым континентом. Однако эту свою догадку он обосновывает с помощью целого набора доводов донаучного естествознания: всемирный потоп, акты творения по дням и т. д. Конечно, его сочинение никто из ученых всерьез не принял.
Не дремала мысль и в России. В 1877 г. никому не известный Евграф Быханов (1828-1915) уже без обиняков настаивает на перемещении материков. Но в таких делах нужны не столько настойчивость, сколько факты и логика, а фактов, к сожалению, еще не было. Геологи же привыкли сначала все ощупывать своими руками (в данном случае, конечно, фигурально). Их позицию по этому вопросу удачно выразил немецкий профессор Карл-Фридрих Науманн (1797-1873) в своем известном «Учебнике геогнозии»: «Хотя подобные географические аналогии во многих случаях могут быть весьма интересными и полезными, но по отношению к геологии им не должно придавать большого значения».
С этим заключением своего старшего коллеги не согласился Эдуард Зюсс. В уже многократно нами упоминавшемся «Лике Земли» он не только пытался обосновать причины совпадения контуров материков, но также впервые обратил внимание геологов на особую роль в строении Земли системы «дуга – желоб», выделил окраины материков тихоокеанского и атлантического типов с существенно разным характером геологических процессов, ввел представление о едином праматерике Гондваналэнд, включавшем Центральную и Южную Африку, Мадагаскар и Индостанский полуостров. Зюсс при этом исходил из общих видов позднепалеозойской фауны. В дальнейшем в этот материк стали включать также Австралию, Южную Америку и Антарктиду. Именно Зюсс назвал океан, омывавший с севера его материк Гондваналэнд, Тетисом. Все эти новации оказались весьма живучими. Термины Зюсса до сих пор используют геологи всего мира.
Первый том «Лика Земли» произвел чрезвычайно сильное впечатление на 40-летнего Карпинского. Идеи, касающиеся проблем планетарной геологии, по всей вероятности, на какое-то время сильно его увлекли, хотя голова его в те годы была занята делами сугубо практическими: он руководил составлением первой в России государственной геологической карты 10-верстного масштаба. И тем не менее дома, в редкие часы вечернего досуга, Карпинский рисовал на бумаге контуры материков, вырезал их, совмещал, искал такую их проекцию на плоскость, на которой бы стали наиболее наглядными не столько географические аналогии в их очертании, сколько общие черты их геологического строения, и прежде всего в расположении горных цепей.
Когда же такая проекция (весьма, замечу, необычная) была найдена (рис. 11), Карпинский решается вынести свои размышления на суд коллег. В 1888 г. он публикует статью «О правильности в очертании, распределении и строении континентов» на русском языке в «Горном журнале» и в том же году в «Бюллетене» Академии наук – на немецком. Оттиск этой статьи (можно в этом не сомневаться), он отправил в Вену Эдуарду Зюссу.
Зюсс высказал предположения. Карпинский уже пытался их обосновать. Но обоснование это было крайне необычным. Похоже, что и сам автор не очень поверил своим доводам, ибо в дальнейших своих трудах уже никогда он не возвращается к этой, пожалуй, самой смелой своей статье. А жаль…
Между тем это небольшое по объему сочинение Карпинского содержит мысли столь глубокие, что его без всякой натяжки можно отнести к тем немногим в мировой геологической литературе работам, которые легли в основу существенно более поздних разработок Альфреда Лотара Вегенера.
Признанный лидер отечественной истории геологической науки Владимир Владимирович Тихомиров (1915-1994) исключает тот факт, что построения Карпинского могли пройти незамеченными для западноевропейских коллег. А если так, то вполне вероятно,. что «одним из толчков, приведших А. Вегенера к формированию гипотезы дрейфа континентов, были эти высказывания А. П. Карпинского».
(Заметим в скобках, что тесть Вегенера профессор Владимир Петрович Кеппен (1846-1940) хотя и жил в Германии, но родился и вырос в России. Он был сыном академика Петербургской академии наук Петра Ивановича Кеппена (1793-1864). Так что и В. Кеппен вполне мог знать о работе Карпинского, поскольку сочинения такого характера в ту пору были большой редкостью и не могли быть не замечены заинтересованными специалистами.)
Так что же это за высказывания? Карпинский отмечает четыре особенности в расположении, распределении и строении континентов. Прежде всего это их одинаковое распределение относительно некоторой условной оси, проходящей через центр Земли. Затем сходные их очертания (в первом приближении континенты имеют форму треугольников). Кроме того, «сходные орогенические отношения континентов» и, наконец, их аналогичное геологическое строение.
«Чтобы выводы эти, – пишет тут же Карпинский, – не возбуждали никаких сомнений, потребуются еще исследования очень многих лет; наоборот, несправедливость их может быть обнаружена в ближайшем будущем, первым резко противоречащим им фактом». Вот он – принцип эмпирической непротиворечивости – в действии. Разумеется, таких «противоречащих» фактов нашлось предостаточно. Но вместо того, чтобы доискиваться до причины несоответствия фактов и теории, Карпинский в полном согласии со своими методологическими убеждениями взял да и забыл про эти теоретические изыски. Жаль…
Давайте еще чуть-чуть почитаем эту статью.
Карпинский полагал: вне зависимости от того, движутся материки или нет, сходство их очертаний просто обязано получить научно обоснованное толкование. Причем если для сторонников движения материковых глыб такое объяснение вполне очевидно, то для приверженцев постоянного положения материков (для фиксистов) подобное объяснение тем более необходимо. «С тех пор, – пишет Карпинский, – как большинство ученых пришло к убеждению в относительном постоянстве материков, данные о сходстве их должны приобретать особое значение».
Он сам делал попытки состыковать материки и пришел к точному выводу, которого придерживаются и современные геологи: «Если в очертаниях континентов действительно существует сходство, то в наибольшей степени оно должно проявляться в первоначальном их виде. Эти очертания, отличавшиеся сперва, вероятно, наибольшею правильностью, с течением геологических времен претерпели изменения, послужившие к усложнению и разнообразию береговой линии материков. Современные береговые линии, конечно, не соответствуют вполне очертанию континентов” (курсив мой. – С. Р.). Поэтому при доказательстве сходства, т. е. при совмещении материков, Карпинский в качестве их краев принимает изобаты шельфа – «те части материков, которые находятся в настоящее время под уровнем моря».
Именно внешние контуры шельфа принимали впоследствии за окраины материков Вегенер и ученый из Южной Африки Алекс Дю Тойт (1878-1948). Эдвард Буллард (1907-1980) с помощью метода наименьших квадратов в 1965 г. нашел оптимальное сочленение материков, неслучайность которого доказал выдающийся наш математик Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987).
Неслучайность совпадения контуров материков, по мнению Карпинского, должна повлечь за собой и неслучайное распределение на континентах основных геоструктурных элементов. Он разделяет мысль Зюсса: «Значительные горные кряжи представляют лишь подчиненные члены тех огромных структурных явлений, которые обнимают весь земной шар. Можно исследовать и описать положение слоев и строение каждого данного кряжа в отдельности, но нельзя дать правильного объяснения этим явлениям без отношения их к распределению горных кряжей вообще».
Доброжелательный Б. Л. Личков назвал эту работу Карпинского «изуми-тельно интересной». Она произвела на него «ошеломляющее впечатление». Но для «надлежащего понимания» идей Карпинского была, конечно, необходима соответствующая почва. Ее не было в нашем отечестве ни в период зарождения мобилизма, ни во время его возрождения в 50-х годах, нет ее по существу и сейчас. Слава Богу, что работы отдельных энтузиастов не подвергаются остракизму.
Чуть раньше работ Зюсса и Карпинского английский физик Осмонд Фишер (1817-1914) публикует книгу «Физика земной коры» (1881 г.). Его заинтересовал ряд любопытных фактов, в частности надвиги, обнаруженные в Альпах, которые он, как физик, был не в состоянии объяснить с позиций контракционной теории. Поэтому Фишер предложил свою схему строения Земли – жидкое состояние недр с отчетливо выраженными конвективными течениями; эти течения ориентированы по восходящей под океанами и по нисходящей под континентами. Конечно, спору нет, Фишер высказал гениальную по прозорливости догадку о сути мантийной конвекции, являющейся и сегодня самым убедительным аргументом при объяснении механизма перемещения плит литосферы.
Но ученых догадки не впечатляют. Чаще, напротив, раздражают, поскольку о догадках вспоминают тогда только, когда они оправдываются дальнейшим развитием науки. В тот же момент, когда эти мысли высказываются, будучи ничем, естественно, не подтвержденными, они воспринимаются специалистами как досужие домыслы, в лучшем случае как бесплодные фантазии. Поэтому и труд Фишера остался незамеченным и неоцененным. Сам же Фишер, как пишет Хэллем, оказался «парией в научном мире своего времени».
В 1910 г. американский геолог, географ и гляциолог Фрэнк Б. Тэйлор (1860-1938) опубликовал первую, вполне безупречную для своего времени, гипотезу континентального дрифта (дрейфа). Фактическим материалом, коим Тэйлор аргументировал свои построения, были подмеченные им закономерности в расположении третичных горных поясов Евразии.
И все же всеобъемлющее для своего времени истолкование этого явления дал не он, а немецкий геофизик и климатолог Вегенер. Основная его книга по этой проблеме «Образование континентов и океанов» опубликована в Германии в 1915 г. На русский язык ее перевели в 1925 г. и переиздали в 1984 г.
Вегенер выдвинул комплекс геофизических, геологических, палеонтологических и геоморфологических доказательств в пользу того, что материки перемещаются по поверхности Земли; что 200 млн лет назад существовал единый гигантский праматерик, которому Вегенер дал имя Пангея (в переводе с греческого это означает «вся Земля»); что некогда Атлантического океана не было, а Американские континенты были спаяны с Евразией и Африкой. При этом он опирался на сходство горных пород, тектонических структур, фауны и флоры по обе стороны Атлантического океана. Вегенер вспоминал, что у него было такое ощущение, будто он нашел две половинки разорванной газеты и может, наконец, прочесть заинтересовавшую его статью. Пример характерных для теории Вегенера палеогеографических реконструкций показан на рис. 12.
Он был убежден в том, что дал-таки изящное обоснование вековечной проблемы естествознания. Поэтому его искренне изумляло, что еще находились скептики, сомневавшиеся в справедливости предложенной теории. Еще в 1911 г. Вегенер писал своему тестю Владимиру Кеппену (который, вероятно, советовал ему заниматься своим прямым делом, а не пускаться в сомнительное плавание по проблеме, где он в общем-то дилетант): «Я не верю, что старым идеям осталось хотя бы 10 лет жизни».
Вегенер явно переоценил готовность науки впитывать новое знание. Процесс ассимиляции оказался и длительным, и мучительным, и отнюдь не прямым. Геологи, которых прежде всего и касалась эта невероятной смелости теория немецкого климатолога, не привыкли домысливать «за факты». Как наши предки не могли представить себе движение Земли вокруг Солнца (они видели прямо противоположное), так и геологи отказались поверить в невероятное – в движение объектов, находящихся в покое. Причем каких объектов – целых континентов!
Кто «за»? Кто «против»?
И все же справедливости ради надо сказать, что и среди геологов нашлись ученые, сразу и безоговорочно поверившие Вегенеру. Вспомним известного швейцарского геолога Эмиля Аргана (1879-1940), сделавшего на основе мобилистских идей превосходный доклад о теории покровного (чешуйчато-надвигово-го) строения Альп. Было это на XIII сессии Международного геологического конгресса в Брюсселе (1922 г.). Не забудем и американского профессора Реджиналда Олдуорта Дэли (Дейли) (1871-1957), высказавшего, кстати, разумное предположение, что Пангея не всегда была единым материком, а сформировалась в палеозое в результате коллизии ранее разобщенных континентов. Это было важным моментом теории, ибо если Вегенер полагал, что его теория начинается с раскола Пангеи около 200 млн лет назад, то аргументы Дэли были убедительным свидетельством того, что это лишь последний акт драмы, разыгрываемой с доисторических времен, т. е. с раннего докембрия.
Надо, конечно, назвать и Дю Тойта – одного из последовательных мобилистов, который, однако, внес и свою лепту в исправление теории Вегенера, – Дю Тойт не признавал Пангею, он доказывал, что были два праматерика – Гондвана и Лавразия. Активным мобилистом был также английский ученый Эдвард Б. Бейли.
Из русских геологов первой четверти нашего столетия проникся идеями Вегенера, пожалуй, только А. А. Борисяк. Остальные (и в том числе Карпинский!), в теорию Вегенера не поверили. Факт не вполне понятный, но тем не менее это так.
Борисяк в 1922 г. совершенно справедливо заметил, что теория Вегенера «в противоположность теории геосинклиналей… не столько выросла из накопляющегося материала, сколько представляет смелое умозаключение, еще ожидающее фактического обоснования». Карпинский же тремя годами ранее высказался более скептически: «Гипотеза Wegener'a о материковых перемещениях и связанных с ними явлениях не остается без серьезных возражений».
Многие видные ученые, наши современники, и в их числе Джеймс П. Кеннетт, Евгений Зейболд и другие, объясняют скепсис или даже откровенное неприятие построений Вегенера тем, что он неверно описал собственно механизм дрейфа: твердые тела (континенты), как айсберги в океане, плавают в сравнительно мягкой подкоровой среде (по базальтовой магме). Возможно, что этот довод и был убедительным оправданием постепенного охлаждения даже очень горячих поклонников теории Вегенера, не говоря уже о твердой уверенности в своей правоте изначальных скептиков и активных ее противников. Действительно, геофизики еще в 20-х годах доказали, во-первых, что дно океана жесткое, а во-вторых, что силы, привлеченные Вегенером для объяснения движения материков, слишком слабы, чтобы даже сдвинуть их с места.
Особенным авторитетом в те годы пользовался сэр Харолд Джефрис, крупнейший английский ученый, один из творцов математической геофизики. Он-то и привел расчеты, обосновывающие полную физическую несостоятельность механизма дрейфа, выдвинутого Вегенером.
Так уж устроен человек, что когда он сам не в состоянии до конца разобраться в каком-либо вопросе, то с удовольствием перекладывает это бремя на авторитет другого, тем более что этот другой обосновывает устраивающий его тезис. Было так и с «вегенеровской ересью». Узнав о расчетах Джефриса, многие геологи и геофизики с облегчением вздохнули: теперь-то они знают, почему не приемлют рассуждения немецкого климатолога. На состоявшемся в 1926 г. в Нью-Йорке Международном симпозиуме по мобилизму, на котором, кстати, присутствовали и Тэйлор и Вегенер, лишь один человек – это организатор, датчанин Ван дер Грахт симпатизировал теме собрания. Остальные были настроены скептически. Некоторые – так даже враждебно.
Был на этом симпозиуме и крупнейший в те годы специалист в области палеогеографии, пользовавшийся в своей науке не меньшим авторитетом, чем Джефрис в геофизике, американский геолог Чарлз Шухерт (1858-1942). Он, разумеется, был настроен резко враждебно к легковесным манипуляциям Вегенера. Доводы его были убедительны: да, несомненно, сходство фаун и флор очевидное. Вегенер прав. Зачем спорить с фактами? Но при чем тут, извините, дрейф? Допустите существование в прошлом двух-трех сухопутных мостов, и не потребуется никакой научной фантастики, – материки можно будет оставить в покое в прямом смысле слова. Вегенер на такие резоны действительно был в затруднении что-либо возразить.
– И почему это, – говорил Шухерт, – Пангея вдруг взяла и раскололась? А что же было с этим сверхматериком раньше?
Профессор Даремского университета, английский геолог Артур Холмс (1890-1965), активный и последовательный, надо сказать, сторонник идей Вегенера, в 1931 г. бросил им новый спасательный круг. Он продумал и тщательно описал механизм мантийной конвекции. Согласно его схеме, подкоровые зоны Земли находятся в состоянии крайне медленно развивающегося процесса термической конвекции, формирующей устойчивые в течение длительного геологического времени ячеи, по контурам которых направленность конвективных токов прямо противоположная. Согласно идее Холмса, материки не плавают по вязкой астеносфере, они передвигаются вместе с верхним слоем мантии.
Но Джефрис не оставил камня на камне и от этой теории…
Перенесемся на несколько десятилетий вперед. В 1972 г. геофизик из Кембриджа Дэн Маккензи «обнаружил» уже упоминавшуюся нами книгу Осмонда Фишера «Физика земной коры» 1889 г. (2-е ее издание) и с удивлением для себя открыл тот факт, что Фишер еще сто лет назад знал то, с чем сегодня многие продолжают спорить. И тут крайне любопытно такое психологическое наблюдение.
Внимательный читатель монографии Вегенера, конечно, обратил внимание на то, что тот ссылается в своей работе на Фишера. Конечно, Вегенер читал (и читал внимательно, можно в этом не сомневаться) его монографию, ибо книги на подобные темы в те годы были большой редкостью, но вот «подарок судьбы» – готовый механизм дрейфа, изложенный в книге Фишера, – не принял. Почему? Разные ученые, задававшиеся этим вопросом, отвечают на него по-разному. Одни считают, что Вегенер с монографией Фишера ознакомился «диагонально»; другие, что он не понял рассуждений английского физика. Я же думаю, что Вегенер не принял механизм мантийной конвекции сознательно. Он слишком дорожил своим детищем, слишком был ревнив к любому, даже косвенному, посягательству на соавторство. Успокаивало же Вегенера то, что в начале века не было решительно никаких резонов считать схему Фишера правдоподобной, по крайней мере больше похожей на истину, чем его собственная догадка: более легкие материки плавают по более плотной, но вязкой мантии.
Можно, конечно, гадать, что было бы со столь экстравагантной теорией, прими Вегенер сразу механизм, предложенный Фишером. Ведь этот механизм практически ничем не отличается и от современных его модификаций. Может быть, геология сделала бы невиданный рывок еще полстолетия назад? Возможно, что так.
А скорее всего, и это бы не спасло теорию Вегенера. Она была слишком дерзкой, чтобы ее можно было оградить от вековечного скепсиса геологов какими-либо физическими схемами. Требовался не столько физически обоснованный механизм дрейфа, сколько капитальное и всестороннее обоснование теории новыми фактами. Но таких фактов наука ни в 30-х, ни в 40-х годах добыть не могла. Привело это к тому, что доводы спорящих сторон исчерпались, дискуссия пошла «по кругу» и вскоре прекратилась. Великую естественнонаучную дедукцию немецкого ученого прочно и надолго забыли.
Над теорией мобилизма «сгустилась ночь забвения» (как написали бы в бульварных романах).
Рождение «нового взгляда на Землю»
В годы отчуждения, когда от мобилизма отвернулись практически все его бывшие сторонники, ждать появления новых аргументов в его пользу было просто не от кого. В нашей стране, к примеру, только отдельные романтики, такие как Личков, сохраняли в душе прежнюю привязанность к этой остроумной идее. Остальные геологи ее просто не знали, а те, кто все же читал Вегенера, Аргана или Дю Тойта, были ее активными противниками.
«О движении материков, – писал 21 января 1942 г. Вернадский Личкову, – я пришел теперь к решительному мнению, что лучше все эти концепции оставить в стороне». И оставили.
Возродилась теория Вегенера внезапно уже в 50-х годах. История эта сама по себе крайне интересна. Стоит поэтому остановиться на ней подробнее.
Вначале, однако, расскажем о том разделе геофизики, благодаря которому совершенно неожиданно вновь вспомнили о Вегенере и о его теории. Речь пойдет о палеомагнетизме.
То, что Землю можно трактовать как большой сферический магнит, наука знала с XVI века. Установил это врач при дворе английской королевы Елизаветы I Уильям Гильберт (1544-1603). Через некоторое время стала известной самая, пожалуй, крупная загадка этого магнита: его южный полюс расположен неподалеку от северного географического полюса Земли. (По этой именно причине северная стрелка компаса показывает на север, т. е. на самом деле на южный магнитный полюс.)
В начале нашего столетия Б. Брюннес открыл явление остаточной намагниченности некоторых горных пород. Это позволяло определять элементы земного магнетизма в далекие геологические периоды. Означает остаточная намагниченность вот что. Когда вещество горной породы остывает, то, проходя через точку плавления (точку Кюри), его магнитные компоненты приобретают ориентировку на современный им полюс. Ориентировка эта «консервируется», что и дает возможность ученым оценивать элементы магнитного поля Земли в разные отрезки геологической истории.
Чтобы решать эту задачу, надо располагать двумя вещами: теоретической базой метода и, разумеется, самим методом палеомагнитных исследований. Теория в данном случае опирается на предположение, что геомагнитное поле имеет дипольный характер, т. е. обусловлено осевым диполем в центре Земли. Если у изучаемого образца горной породы измерены элементы палеомагнитного поля (склонение и наклонение), то тем самым определено направление на палеомагнитный полюс. Ну а чтобы практически решать эту задачу, необходим специальный прибор – магнитометр.
Как только были проведены первые измерения элементов палеомагнитного поля Земли, ученые обратили внимание на один странный факт: северный и южный магнитные полюсы время от времени как бы менялись местами, т. с. через какой-то период по неизвестным причинам на месте южного магнитного полюса оказывался северный, и наоборот. Затем все повторялось.
Почему так происходит, определенно ответить трудно. Есть теория «само-возбуждающегося динамо», есть другие теории. Одним словом, это проблема большой геофизики. Походя мы ее решать не будем. Нас занимает тот факт, что именно через поиски ответов на эту загадку ученые вновь «вышли» на Вегенера.
Было это вот как. В начале 50-х годов в Лондонском университете работал известный физик, лауреат Нобелевской премии сэр Патрик М. С. Блэкетт (1897-1974). Его как физика заинтересовала причина обратной остаточной намагниченности горных пород. Эту проблему Блэкетт и начал изучать с 1952 г. Он самолично сконструировал очень точный измерительный прибор «астатический магнитометр», измерявший остаточное магнитное поле почти с теоретически возможной точностью: 10-6 гаусс (10-10 тесла).
В 1954 г. группа Блэкетта, закончив измерения остаточной намагниченности магматических пород Великобритании триасового времени, т. е. имеющих возраст 200 млн лет, обнаружила, что направление па полюс у них отличается от современного почти на 30° по долготе. Что это могло означать? Возможных трактовок, вообще говоря, было две.
Можно было допустить, что либо сместился полюс, либо Британские острова за 200 млн лет повернулись на 30°. Блэкетт недаром был физиком. Поэтому он не делал попыток объяснить непонятное с помощью еще более непонятного. Первое допущение по этой причине было сразу оставлено, а сосредоточились на втором – на смещении по часовой стрелке Британских островов. Расхождение же в наклонении объяснили тем, что 200 млн лет назад острова располагались значительно южнее. И хотя характеристики климата, наложившие свой отпечаток на осадочные породы триаса, свидетельствовали в пользу такой интерпретации, геологи ее, конечно, не приняли.
Что ж, Блэкетт понимал, что для столь радикальных суждений единичных измерений недостаточно. Поэтому в последующие годы его сотрудники отправились в Индию, Африку, Австралию, США и даже в Антарктиду. Первые же измерения палеомагнетизма базальтовых лав плоскогорья Декан в Индии повергли Блэкетта в шоковое состояние. Приходилось допустить, что 80-100 млн лет назад эта часть Азиатского континента располагалась в… Южном полушарии (если, разумеется, полюсы оставить в покое). Более же молодые образцы показывали характеристики магнитного поля, соответствующие уже Северному полушарию. Было от чего смутиться. Ведь именно так рассуждал Альфред Вегенер.
Как только Блэкетт опубликовал результаты своих измерений, в литературе развернулась страстная полемика. Геологи, да и геофизики, само собой, дружно ощетинились перьями. Особенно активен в этой дискуссии был известный геофизик из Ньюкасла Кейт Ранкорн, изучавший независимым путем ту же проблему после открытия обратной остаточной намагниченности в лавах Исландии. Он решил-таки пройти по наиболее методологически шаткому пути, т. е. обосновать расхождение в палеомагнитных данных не смещением континентальных масс, а миграцией полюса. Методику он выбрал верную. Если континенты стояли на месте (были фиксированы), а смещался магнитный полюс, то надо собрать данные палеомагнитных измерений для пород разного возраста и непременно для разных континентов, соединить точки и сравнить полученные линии. Если континенты стояли на месте, то линии эти должны совпасть. Так рассуждал Ранкорн.
И он во что бы то ни стало решил доказать справедливость своей теории. Для этого он составил схему миграции южного палеомагнитного полюса по результатам измерений на Британских островах за весь период фанерозойской истории, т. е. почти за 600 млн лет. Траектория блуждания полюса получилась сложной: в начале палеозоя он располагался на западном побережье Северной Америки, затем переместился в Южное полушарие, побывал в центре Тихого океана, в северной части Японии, в Беринговом море, наконец, сместился к северу и замер в современном положении.
Нельзя сказать, чтобы эта странная петля не насторожила Ранкорна. Он решил поставить, как говорят физики, решающий эксперимент. Для этого в полном согласии со своей методикой он с сотрудниками в 1956 г. пересекает Атлантический океан и делает замеры палеомагнетизма уже на Американском континенте, точнее в США – в штатах Аризона, Техас и др. Тамошняя геология позволяла оценить миграцию полюса за тот же отрезок времени – 600 млн лет.
Каково же было удивление и разочарование Ранкорна, когда он убедился в том, что кривые перемещения полюса хотя и были похожи, но все же не совпадали. И чем дальше (по возрасту) отстояли друг от друга точки этих кривых, тем на большее угловое расстояние расходились и сами кривые. Для самых древних точек измерения расхождение достигало 30° по долготе, что в точности соответствовало ширине Атлантического океана. Но стоило «захлопнуть» Атлантический океан, как эти кривые полностью совпадали.
Что оставалось делать? Ранкорну было, разумеется, обидно расставаться с собственной теорией, но другого выхода не было. Он признал правоту Вегенера и более того, как это часто случается с эмоциональными и одаренными натурами, стал активным сторонником его теории. Причем сторонником квалифицированным, что значительно важнее пылкости и преданности неучей.
Так в 50-х годах вновь возродилась теория мобилизма. Теперь ее стали называть неомобилизмом, ибо от первоначальной интерпретации механизма дрейфа, которой пользовался Вегенер, ничего практически не осталось. Но сохранилось главное – сама идея перемещения континентов. Профессора Токийского (Такеучи и Уеда) и Калифорнийского (Канамори) университетов отметили, что именно исследования палеомагнетизма сыграли решающую роль в драматическом возрождении теории континентального дрейфа. Кроме того, эти исследования, как мы убедились, позволили обнаружить любопытнейшие факты поведения геомагнитного поля в прошлом. Факты эти привели к тому, что в 1963 г. было открыто, наконец, явление обращений (инверсии) полярности геомагнитного поля. Так, только за последние 4,5 млн лет сменились четыре эпохи нормальной и обратной полярности. Они получили собственные имена в честь выдающихся ученых-магнитологов. Современная эпоха носит имя Брюнеса, перед ней идут эпохи Матуямы, Гаусса, Гильберта.
Ошеломившие геологический мир открытия посыпались далее как из рога изобилия. Остановимся только на важнейших из них.
Еще во время первой английской океанографической экспедиции на корвете «Челленджер» в 1876 г. было установлено, что в своей центральной части Атлантический океан почти в два раза мельче, чем по краям. Измерения, однако, были единичными, не очень совершенными. Интерпретация этого факта, прямо скажем, неожиданного для геологов, была в полном созвучии с господствовавшими в то время идеями. Решили, что под водой находится не успевшая до конца разрушиться часть бывшего «моста суши», соединявшего некогда Африку и Америку. Были, конечно, сторонники и другой версии, восходившей к древнегре-ческому мыслителю Платону, который описал некогда существовавший остров Атлантида, навсегда исчезнувший в пучинах океана.
В 30-х годах был изобретен эхолот. Это позволило приступить к составлению гипсографических профилей через океан, т. е. вести непрерывную запись глубин дна «от берега до берега». Гигантскую работу в этом плане выполнили сотрудники Ламонтской геологической обсерватории при Колумбийском университете (США) Морис Юинг (1903-1976) и Брюс Хизен (1924-1977). В их распоряжении было небольшое судно «Вима», которое непрерывно сновало через Атлантику, вычерчивая профиль за профилем. Именно этим ученым выпала честь быть авторами великого географического открытия XX века – открытия мировой системы срединно-океанических хребтов. Они опоясывают по дну океанов весь земной шар сплошной лентой. Общая ее протяженность превышает 60 тыс. км.
Сотрудница Юинга Мэри Тарп, обрабатывая на берегу данные эхолотных промеров, в 1953 г. открыла по оси срединно-океанических хребтов сравнительно узкую (30-50 км) и неглубокую (до 1 км) щель. Щель эта тянется вдоль всего хребта и имеет, как выяснилось впоследствии, вполне конкретное функциональное назначение. В частности, Морис Юинг установил, что именно к этой щели (она получила название центральной рифтовой долины) тяготеют эпицентры всех мелкофокусных землетрясений, отмеченных в районе срединно-океанических хребтов.
Сразу родилась идея. Надо закартировать по данным геофизики очаги всех землетрясений в океане, они и должны точно указать ось хребта, а затем контрольными эхолотными профилями подтвердить (или опровергнуть) это предсказание. По крайней мере, будут сэкономлены время и силы, ибо не придется ловить хребты вслепую. Так и поступили. Результаты превзошли ожидания. В короткий срок с помощью такого метода были составлены первые карты рельефа дна Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Сделали это Хизен и Тарп в 1967- 1969 гг. Современные представления о сложной морфологии дна океана дает рис. 13. Мгновенно бросается в глаза, что это далеко не плоская равнина, как думалось ранее. Рельеф дна сложный, разнообразный и абсолютно ничего общего не имеющий с рельефом суши.
Здесь надо отметить один любопытный с психологической точки зрения нюанс. Дело в том, что патриарх Ламонтской обсерватории Юинг и его сотрудники не были сторонниками теории Вегенера. Юинг, как пишет Хэллем, к мобилистским взглядам относился «неприязненно». Однако, собрав громадный фактический материал по рельефу дна всех океанов, они, сами того же желая, вооружили неоспоримыми данными своих идейных противников. Благодаря их упорному труду, стало ясно, что океанические хребты имеют принципиальные отличия от горных цепей на континентах. Факт этот, однако, поставил перед учеными целый ряд новых вопросов. Но ученые сразу поняли и то, что ключ к их разрешению, а равно и к созданию целостной теории развития Земли, лежит в глубинах Мирового океана.
Сделаем еще одно небольшое отступление. В 1934 г. голландский геофизик Феликс А. Венинг Мейнес (1887-1966) открыл в районе глубоководных океанических желобов сильные отрицательные аномалии силы тяжести. Он же обосновал происхождение желобов и островных дуг, опираясь на теорию мантийной конвекции Холмса. Через 20 лет американец Хуго Беньоф (1899-1968) установил, что к системе «дуга – желоб» приурочены наиболее глубокофокусные землетрясения (до 700 км) и что зона эта (ее назвали сейсмофокальной) наклонно погружается под континент.
Важно еще следующее. Кроме палеомагнитных и гравитационных исследований геофизики с 30-х годов делают измерения теплового потока, идущего из недр Земли. Они полагали, что тепло это генерируется энергией радиоактивного распада и должно быть пропорционально толщине земной коры: под океанами «поток тепла» должен быть значительно ниже, поскольку океаническая кора в 5-7 раз тоньше континентальной и состоит к тому же из базальтов, существенно менее радиоактивных, чем граниты.
Пионером в этом деле был известный английский геофизик сэр Эдвард Буллард. Когда в 1954 г. он со своими коллегами измерил тепловой поток на дне Тихого и Атлантического океанов, то оказалось, что эти данные противоречат теории, – тепловой поток был таким же, как на континентах. Оставалось допустить, что тепловой поток в океанах идет непосредственно из мантия. Профессор Уеда считает открытие Булларда одним из важнейших в цепочке идей, предшествовавших становлению тектоники литосферных плит, или «нового взгляда на Землю» как он сам окрестил эту революционную теорию.
Итак, наступило время первого обобщающего синтеза новой информации. Надо было связать воедино данные океанологии и геофизики с уже имевшимися теоретическими схемами строения и развития Земли. В науках о Земле, как мы условились это называть, завершился десятилетиями длившийся период эволюционного накопления знаний, произошла смена парадигмы, т. е. свершилась научная революция.
Сразу подчеркнем одну примечательную особенность этой революции. Заключается она в том, что совершили ее главным образом не геологи, а физики и геофизики. В истории геологии это, пожалуй, первый случай, когда ключевые идеи высказываются учеными иных специальностей. Разумеется, это не случайно. Есть тому вполне логичное и убедительное объяснение.
Дело в том, что геологи всегда изучали разрозненные фрагменты суши, имея дело лишь со следами (реализациями) процессов прошлого. О том, какие процессы привели к образованию конкретной ассоциации пород и какие силы смяли породы в сложную систему складок, сопровождавшуюся еще и разрывными нарушениями, можно было лишь предполагать, выдвигая описательные, ничем практически не проверяемые гипотезы. Об истории геологического развития судили прежде всего по фауне, и потому историю Земли невольно подменяли историей жизни. Глобальные обобщения, главным образом тектонические, также носили сугубо описательный характер. Я имею в виду такие геотектонические концепции, как контракционная, пульсационная и т. п. Никакими средствами проверить их было невозможно. В них можно было только верить…
Для того чтобы геология перешла на качественно новый уровень, нужны были и качественно новая информация, и принципиально иные методы ее добывания. Их-то и разработали физики и геофизики, они же первыми получили кардинально новые результаты, когда началось изучение строения Мирового океана, и они же, разумеется, высказали идеи, которые «чистым» геологам и в голову не могли прийти. Этим частично и можно объяснить тот факт, что идеи, о которых пойдет речь, первое время принимались геологами в штыки; да и сегодня геологический мир еще не единодушен в своем отношении к «новому взгляду на Землю».
В этой связи хочется поделиться собственными наблюдениями за реакцией наших геологов на смену концептуального базиса науки. Она также была разной.
Те, кто занимался геологией платформ, успокаивали себя тем, что, возможно, в геосинклинальных зонах что-то такое и происходило, требующее истолкования с новых позиций, но у них-то на платформах… все, как всегда, спокойно шло своим чередом. Специалисты по геологии докембрия тешили себя иллюзией, что информация, добытая со дна морского, касается последних 150 млн лет геологической истории. Это – пшик, краткий миг в сравнении с их докембрийскими масштабами. Возможно, в последнее время земная кора и пришла в движение, но в «их время» ничего подобного не было и быть не могло. Земная кора вела себя так, как положено. Такая вот реакция.
Так в чем же состоял первый, столь необычный, синтез информации по геологии и геофизике океанов? Отвечая кратко, – в идее спрединга, т. е. растекания, океанического дна. Автором этой идеи принято считать американского геофизика Гарри Хесса (1906-1969), в 60-х годах работавшего на геологическом факультете Принстонского университета. Начинал же он свою научную карьеру под руководством Венинга Мейнеса. Вместе они изучали гравитационные аномалии глубоководных желобов. Кто знает, возможно, в дерзком мозгу Хесса уже в те годы родилась мысль о том, что желоба маркируют в рельефе океанического дна места опускания в мантию конвективных токов. По крайней мере, когда стало известно строение срединно-океанических хребтов, когда были получены данные измерений теплового потока на океаническом дне, именно Хесс сумел связать в единое целое всю эту информацию и поведать миру в «геопоэтическом эcce» (так он сам назвал свое сочинение 1960 г.) исключительно смелую и изумительно красивую концепцию.
Суть ее, как и всякой дерзкой до гениальности идеи, удивительно проста. Хесс, а вместе с ним (и скорее всего независимо) Роберт Дитц (ему принадлежит термин «спрединг») показали, что не зря океанические хребты называются «срединными». Именно они фиксируют на океаническом дне места восходящих конвективных потоков из мантии. Вещество мантии как бы выталкивается на поверхность, оно раздвигает океаническое дно, и то, постепенно смещаясь от центра разрастания (спрединга), продвигается в направлении глубоководных желобов, где и погружается вновь в мантию (рис. 14). Цикл этот, получивший название «цикл Уилсона», длится 150-180 млн лет. Понятны теперь и назначение рифтовой долины, идущей ровно по гребню срединно-океанических хребтов, и привязка к ней очагов мелкофокусных землетрясений.
Далее последовательность открытий, предшествовавших тектонике плит, можно проследить буквально по годам.
В 1961 г. сотрудники Скриппсовского океанографического института Рональд Мейсон, Артур Д. Рафф и Виктор Вакье при обработке результатов магнитной съемки северо-восточной части Тихого океана открыли полосовые магнитные аномалии, ориентированные параллельно оси срединно-океанического хребта. Англичанин Мейсон выявил в районе развития этих аномалий системы очень крупных разломов, не только ориентированных перпендикулярно к аномалиям, но и рассекающих их, да так, что отдельные участки этой «магнитной зебры» оказывались смещенными по широте на десятки и сотни километров. Рекордное смещение было отмечено по разлому Мендосино (в районе 40° с. ш.). Здесь часть магнитной картины отъехала от своего законного места на расстояние более 1100 км.
Но самым, пожалуй, удивительным было то, что геофизики Скриппсовского института, нанеся данные магнитной съемки на карту, обнаружили симметричное чередование полос прямой и обратной намагниченности. Само это явление уже было известно (мы это отмечали), но поразило ученых то, что полосы пород океанического дна с противоположной ориентировкой магнитных диполей располагались с исключительной правильностью. Целую пригоршню загадок опять подбросил океан.
Историки науки находятся в определенном смысле в выгодном положении. Они располагаются на самом верху временнóй лестницы и с ее высоты обозревают минувшее. Помимо прочего польза от такого анализа еще и в том, что удается нарисовать достаточно цельную картину и оценить действия отдельных участников разворачивающихся событий. Так, совершенно ясно, что факты, выявленные Мейсоном, Раффом и Вакье, не могли быть не взаимосвязанными. Раз так, то и разгадывать их надо было по возможности вместе, увязав к тому же с уже известными теоретическими схемами.
Успех ждал того, кто выберет верный путь. И удивительно то, что по нужной тропе пошел не маститый профессор и даже не честолюбивый молодой ученый, а скромный студент последнего курса Кембриджского университета Фредерик Вайн. Летом 1962 г. Вайн, как бы мы сказали, проходил преддипломную практику на научно-исследовательском судне «Оуэн». Его научный руководитель Драммонд Мэтьюз поручил Вайну обработать результаты экспедиции, что тот и сделал.
А в 1963 г. в английском журнале «Природа» появилась широко известная сегодня статья Вайна и Мэтьюза о магнитных аномалиях вблизи срединно-океанического хребта. Идея Вайна была необычайно изящной: он предложил объединить теорию спрединга с инверсией магнитного поля Земли. Мы знаем уже, что базальтовые выплавки, остывая, проходят через точку Кюри (525° С) и приобретают ориентированную на полюс намагниченность. Раз произошла смена магнитной полярности, то это уже другой эпизод спрединга. Отсюда вывод: зная ширину магнитных полос, их расстояние от оси срединно-океанического хребта и возраст, можно оценить и скорость спрединга (см/год). Или, напротив, – по скорости спрединга и расстоянию от оси хребта рассчитать возраст произвольной полосы магнитной зебры.
Наконец, открытие Вайна давало ключ к прямому обоснованию спрединга. На самом деле, если спрединг океанического дна и инверсия геомагнитного поля имеют место, то полосы с разной намагниченностью обязаны дрейфовать параллельно оси хребта. Дно океана, оказывается, можно уподобить магнитофонной ленте и слушать записанную на ней музыку. Дальше – больше. Располагая данными палеомагнитной стратиграфии, стали вычислять скорости спрединга и строить карты возраста океанического дна (рис. 15). Карты эти, как и следовало ожидать, оказались с правильной полосчатостью: самые молодые полосы располагались у подножия хребта, по мере же удаления от хребта полосы старели.
Еще дальше – еще больше. В океане процессы раздвижения дна (спре-динг) и накопление осадочного чехла идут в первом приближении независимо. Осадки, сносимые с побережья или продуцируемые в самом океане, ложатся на дно. Но дно океана подвижно. Следовательно, возраст осадков, дырявым одеялом покрывающих океаническое дно, должен изменяться по тому же закону, что и возраст самого дна. Только если изменение возраста дна прослеживается по латерали, то те же закономерности возраста, касающиеся осадков, выявляются в вертикальном разрезе. Но при переходе от одного разреза к другому в направлении, перпендикулярном к срединно-океаническому хребту, возраст литологически однотипных осадков будет скользить. Те же осадки, но более удаленные от хребта, окажутся более древними. Фундаментальный закон Головкинского «работает», как видим, и в океане.
Забегая вперед, скажем, что с целью проверки эффективности комплекса методов, вытекающих из крупнейшего открытия Вайна, американский конгресс финансировал «проект века» (как еще недавно любили писать наши придворные публицисты) – бурение глубоководных скважин в океане со специально для этого построенного судна «Гломар Челленджер». Проект этот под названием JOIDES [7] начали осуществлять в 1968 г. Бурение (уже с другого судна и по несколько измененной программе) продолжается по сей день. Пробурено уже более 1000 скважин. Открытие Вайна, конечно, подтвердилось.
Линн Сайкс, геофизик из Колумбийского университета, обратил внимание на тот факт, что не все разломы, открытые Мейсоном в районе срединно-океанических хребтов, были сейсмичными. Проведя тщательный анализ поперечных разломов Атлантического срединно-океанического хребта, Сайке установил, что сейсмичность в одних системах разломов приводит лишь к разрывам сплошности, тогда как в других случаях – к смещению коры. Идею эту развил канадский профессор из Торонтского университета Тузо Уилсон, предложив в 1965 г. разломы, по которым происходит трансформация океанической коры (со смещением), назвать трансформными. Он же высказал первую конструктивную мысль о том, что вся земная кора разбита сетью разломов на жесткие плиты разных размеров, непрерывно взаимодействующие между собой. Причем характер взаимодействия плит зависит только от процессов на их границах.
Так начиналась самая драматичная научная революция за всю историю существования наук о Земле. Все ключевые идеи были высказаны. Очередь была за их синтезом.
В 1967 г. ученые из Калифорнийского университета Дэн Маккензи и Ральф Паркер дали первое полное определение тектоники плит и использовали эту теорию для решения задачи сферической геометрии трех плит, пытаясь объяснить природу тектонических структур по периферии северной части Тихого океана. Они опирались на известную теорему Эйлера о том, что оценивать перемещение тела по сфере с некоторой неподвижной точкой внутри этого тела следует как результат вращения тела вокруг оси, проходящей через эту точку (центр вращения). В 1968 г. те же по существу идеи были высказаны в статьях геофизика из Принстонского университета Джейсона Моргана (хотя обнародовал он их еще в апреле 1967 г. в докладе на ежегодной конференции Американского геофизического союза в Вашингтоне), француза Ксавье Ле Пишона, а также американцев Брайана Айзекса, Джека Оливера и Линна Сайкса. Все эти статьи в 1974 г. переведены на русский язык в сборнике «Новая глобальная тектоника».
Нарождавшаяся теория у разных авторов именовалась по-разному. Маккензи и Паркер назвали ее «теорией краеугольного камня», Айзекс с соавторами – «новой глобальной тектоникой», а Вайн и Хесс – «тектоникой плит». Прижились последние два названия.
Айзекс, Оливер и Сайкс писали: «Новая глобальная тектоника, по-видимому, способна собрать и объединить в одну унифицированную концепцию данные сейсмологии, магнитометрии, морской геологии, геохимии, гравиметрии и др. Такого рода шаг сыграл огромную роль в развитии наук о Земле, и, несомненно, он знаменует собой начало новой эры». По мнению многих ученых, именно эта процитированная мною работа, в которой впервые была дана связная интерпретация глобальных геологических явлений с позиций сейсмологии, оказала решающее влияние на геологический мир.
Геологи (в первую очередь наши соотечественники), ранее весьма скептически относившиеся к этим, как им казалось, оторванным от реальности дедуктивным упражнениям физиков и геофизиков, по мере того как факты стали подтверждать их и, более того, когда новые факты стали обнаруживаться целенаправленно в полном согласии с предсказаниями новой теории, уже не могли пренебрежительно отмахнуться от этих построений, хотя и не приняли их целиком до сегодняшнего дня.
Такой скептицизм геологов вполне понятен. Дело в том, что все без исключения факты, легшие в основу тектоники плит, добыты при изучении океана. Они оказались тесно между собой увязанными, и потому первыми поддержали новую теорию морские геологи и седиментологи, исследующие процессы накопления осадков.
Френсис Шепард писал, к примеру, что уже одного факта соответствия линейных магнитных аномалий истории инверсий геомагнитного поля, убедительно прослеженной по крайней мере на 78 млн лет в глубь геологического времени, было достаточно, чтобы «поверить в новую теорию». (Заметим в скобках, что 78 млн лет – это всего лишь 1,7 % геологической истории Земли, и геологи были вправе сомневаться в неограниченных возможностях мобилистской экстраполяции.)
Роберт Дитц задолго до получения первых результатов бурения скважин в океане высказал мысль, что «хотя идея о высокомобильном океаническом дне на первый взгляд может показаться экстравагантной, она вряд ли явится насилием над геологической историей».
Прошедшие годы показали, что Дитц был прав. Подвижное океаническое дно, перемещающееся по обе стороны от срединно-океанического хребта со скоростью 2-10 см/год, – лишь одна, хотя и важнейшая, компонента тектоники плит. К тому же данный процесс ученые могут контролировать инструментально, и потому для скепсиса просто не осталось места. Даже самые убежденные консерваторы вынуждены признать спрединг. Но старые позиции сдаются постепенно, с тяжелыми, кровопролитными боями…
Согласно новой теории, литосфера разбита на серию жестких плит, взаимное расположение которых меняется во времени. Восстановление положения этих плит в разные отрезки геологической истории (так называемые палинспастические реконструкции) осуществляется с помощью методов сферической геометрии. Особенно любознательный читатель может познакомиться с этими методами по классической монографии К. Ле Пишона, Ж. Франшто, Ж. Боннина «Тектоника плит» (1977).
Разные ученые выделяют неодинаковое число плит. Это естественно, поскольку меняется и изученность самой проблемы, а вместе с этим уточняется и число плит. Наиболее часто выделяют такие плиты: Тихоокеанскую, Северо-Американскую, Евроазиатскую, Африканскую, Южно-Американскую, Индийскую (или Индо-Австралийскую), Антарктическую, Наска и Кокос.
Это, однако, наиболее крупные плиты. Стандартная их ширина от 6 до 7 тыс. км. Тихоокеанская плита – рекордная по размерам. Она имеет протяженность 10-11 тыс. км. Многие специалисты выделяют плиты и существенно меньших размеров, вплоть до самых маленьких (десятки километров). Их называют «шолями».
Границами плит служат зоны повышенной сейсмичности, часто сопровождаемой и активным вулканизмом. Они тяготеют к гребням срединно-океанических хребтов, к системам «дуга – желоб», к трансформным разломам. Большинство очагов землетрясений располагается в литосфере на глубинах до 70 км и приурочено к приостровным (внутренним) склонам глубоководных желобов. Глубокофокусные землетрясения группируются в узких (шириной до 50 км) фокальных зонах с наклоном от 20-25 до 80°, они прослеживаются на глубинах от 200-250 до 600- 700 км.
Зона, в которой океаническая кора, согласно теории мантийной конвекции, вновь погружается в мантию, носит название субдукционной, а процесс поглощения океанической коры – субдукцией. Это наиболее сложная и дискуссионная компонента тектоники плит.
Подливать масла в огонь мы не будем. Но все же заметим, что геофизики установили: векторы скольжения в зонах субдукции указывают на движение коры в желобах, оно направлено в противоположную от океанических плит сторону. Это служит хотя и косвенным, но надежным свидетельством процесса поглощения океанической коры в зоне субдукции. Более того, профессор Уеда неоднократно подчеркивал, что сам факт возникновения глубокофокусных землетрясений свидетельствует в пользу субдукции холодных плит.
На границах плит, кстати, происходят принципиально разные геологические процессы. Различают поэтому три основных типа границ.
1. Наращивания коры (конструктивный тип). Такую границу еще называют границей раздвижения (дивергенции). Примером могут служить срединно-океанические хребты.
2. Поглощения коры (деструктивный тип). Эта граница называется еще границей схождения (конвергенции). Примеры – зоны субдукции в районе глубоководных океанических желобов.
3. Скольжения. На таких границах плиты сталкиваются под разными углами и как бы трутся друг о друга. Примеры – складчатые горные системы, в частности Альпийско-Гималайский пояс.
Геофизик Олег Георгиевич Сорохтин, один из активных разработчиков этой новой теории, указывает, что наибольшая скорость раздвижения океанического дна фиксируется в юго-восточной части Тихого океана (в районе о. Пасхи): здесь ежегодно наращивается около 18 см новой океанической коры. Австралия удаляется от Антарктиды со скоростью 7 см/год, Южная Америка от Африки – 4 см/год, Северная Америка от Европы – 2- 2,3 см/год. Индийская плита поддвигается под Азиатскую со скоростью 5 см/год. Около 6 млн лет назад полуостров Калифорния в результате активного рифтогенеза, т. е. образования трещины в земной коре с последующим интенсивным раздвигом, был почти отделен от материка. С тех пор Калифорнийский залив разрастается со скоростью 6 см/год, что существенно выше скоростей спрединга в районе Атлантического срединно-океанического хребта. Скорость раскрытия Красноморского рифта (Красного моря) значительно меньше – всего 1,5 см/год.
Вопросы есть?
Разумеется. И очень много. Иначе и быть не может. Новое, свершающееся на наших глазах открытие только начинает по-настоящему восприниматься геологами. Принципиально новые факты, составившие основу этого революционного переворота, имели для старых, давно, казалось бы, устоявшихся взглядов, последствия неоднозначные. Одни из застарелых догматов пришлось отбросить, другие переставить на новое, подобающее им место, на третьи взглянуть другими глазами.
Я постараюсь в этой связи остановиться прежде всего на той небольшой группе вопросов, которые имеют непосредственное отношение и к другим великим открытиям, о коих уже шла речь.
Итак, перед стратиграфией встал ряд проблем, на которые она, вообще говоря, уже получила ответы качественного характера, если вспомнить теорию слоеобразования Головкинского и вытекающее из нее следствие о возрастном скольжении границ подразделений местных стратиграфических схем. После того как были сформулированы в явном виде основные положения тектоники литосферных плит, прояснился главный факт: осадконакопление в океане протекает на горизонтально перемещающемся дне, а потому и тип осадков и их мощности зависят прежде всего от соотношения скоростей седиментологических и сопутствующих им тектонических процессов. Важно знать, в каких ситуациях скоростями движения плит можно пренебречь (как слишком малыми) и считать тектонический фактор своеобразным фоном, на котором протекают процессы осадконакопления, а в каких – скоростные характеристики движения плит оказывают решающее влияние на механизмы накопления осадков да и слоев осадочных пород также.
Основное теоретическое достижение тектоники, связанное со спредингом, касается предсказания глубин и возраста океанического дна в зависимости от расстояния до срединно-океанического хребта. Джон Склейтер и Жорж Франшто исходя из предположения, что океаническое дно изостатически скомпенсировано, а породы, образующиеся в месте раздвига плит, постепенно остывают и уплотняются, построили теоретическую кривую изменения глубин дна в зависимости от возраста коры. Эта кривая получила в дальнейшем блестящее подтверждение многочисленными натурными наблюдениями, как геофизическими, так и непосредственными – с помощью скважин глубоководного бурения. Результаты бурения позволили и несколько скорректировать саму кривую.
Ясно, что коль скоро возраст базальтового ложа океана «скользит» по мере удаления от срединно-океанического хребта, то обязан «скользить» и возраст покрывающих его осадков. Факт этот, ровно за сто лет до открытий тектоники плит гениально предсказанный Головкинским, побудил нас отнести принцип скольжения возраста границ местных стратиграфических подразделений к числу важнейших принципов стратиграфии. Не все, вероятно, с этим согласятся. Ну что ж, понимание значимости крупных научных открытий не ко всем приходит одновременно.
Наиболее сложной для восприятия оказалась идея деструкции земной коры в районе глубоководных желобов, т. е. процесс субдукции. Сложность же заключается в том, что при этом процессе океаническая кора погружается в мантию, а вместе с нею с лика Земли бесследно исчезают и следы тех геологических процессов, которые протекали на океаническом дне в течение 150 млн лет. В этом, согласитесь, есть что-то мистическое и примитивное одновременно.
Поэтому в задачу новой теории входила разработка прежде всего таких методов, которые бы давали в руки геологов вполне осязаемые следы этого процесса. Пусть косвенные, но непременно проверяемые. Такие методы были созданы. Они опираются на результаты количественных спектральных анализов, дающих возможность улавливать тонкие нюансы в вариации химизма магматических пород, резонно интерпретируемые как реакция состава этих пород на изменение напряжений в зоне поддвига и соответственно на изменение реологических свойств мантии. Есть целый спектр петролого-геофизических подходов к решению этой проблемы.
Я коснулся лишь немногих «болевых точек» тектоники плит. На самом деле их еще очень много. Ведь новая теория только встает на ноги. Но можно не сомневаться в главном – за нею будущее. И чем быстрее эта простая мысль проникнет в умы геологов, тем быстрее это «будущее» станет «настоящим».
Уроки биосферы
У истоков «учения»
Давайте сыграем в такую игру (ее любят ученые мужи, прогуливающиеся перед сном по дорожкам санатория): попробуем назвать «самых-самых» физиков, химиков, математиков, биологов XVII – XX столетий. По одному имени на каждое столетие. Увлекательное занятие, не так ли? А главное – содержательное. И все же… Однако, чтобы не затягивать, ограничимся только геологами. Тем более, книга наша подходит к концу, и автор надеется, что изложенного в ней материала хватит хотя бы для такой игры.
Отметим, кстати, что даже целые столетия получили свое имя. Так, Климентий Аркадьевич Тимирязев (1843-1920) назвал XVIII столетие «веком Разума», XIX – «веком Науки». Если попробовать подхватить эту эстафету, то в контексте материала этой главы XX век вполне можно назвать «веком неразумного использования науки». Об этом, в частности, мы и поведем речь. А пока вернемся к предложенной игре.
Итак, XVII век. Без сомнения, мы можем сказать: это столетие Стенона. Век XVIII уже заставляет задуматься: Вернер? Бюффон? Геттон? Вероятно, самое справедливое – оставить этот век безымянным. XIX столетие недаром называют «золотым веком». Оно подарило такое созвездие великих ученых, что, право, трудно кого-то выделить. Это и Лайель, и Мурчисон, и Дэна, и Зюсс, и Головкин-ский. Каждый имеет свой резон считаться «геологом века». Ну а подходящий к финишу XX век? Тут вне конкуренции два имени: Вегенер и Вернадский.
Причем если теория мобилизма Вегенера полностью трансформировала наше знание о строении Земли, о характере и механизме процессов геологического прошлого, то созданная Вернадским целостная концепция биосферы не только синтезировала в единое неразрывное целое все дисциплины естественнонаучного цикла, но и заставила ученых пристальнее всмотреться в ставшие привычными социально-политические доктрины, ибо от того, насколько человечество сумеет «канализировать» отходы научно-технического прогресса, в самом прямом смысле зависит его жизнь на этой планете.
И в основе всего этого сложного клубка проблем лежит введенное Вернадским понятие о живом веществе, об определяющем значении жизни в развитии геологических явлений, о все возрастающей во времени значимости вмешательства человека в протекающие на Земле процессы. Одним словом, биосфера Земли и то ее современное состояние, которое получило название «ноосферы» (сферы разума), являются ядром последнего (по времени) из цепочки великих геологических открытий.
Сделано оно было Вернадским, конечно, не на пустом месте. Многие крупные естествоиспытатели прошлого, пытавшиеся создать стройную систему представлений о развитии Земли, коими располагала наука их времени, не оставляли без внимания и «сферу жизни».
Так, еще Линней в сочинении «Приращение обитаемой Земли» (1744 г.) трактовал земную кору как продукт былой органической жизни: морские известняки имели, по Линнею, животное происхождение, ибо содержали обильные органические остатки фауны, а глины и сланцы якобы спрессовались из растительных остатков.
В 1802 г. в Париже выходит в свет «Гидрогеология» Ламарка. Конечно, к гидрогеологии в современном смысле слова она никакого отношения не имела. Скорее всего, это была дань модной в то время доктрине нептунизма. Нам, однако, важно то, что в этой своей работе, как писал впоследствии Вернадский, французский ученый вплотную подошел к концепции биосферы.
Если стать на сторону тех историков геологической науки, которые, занимаясь разными аспектами этой проблемы, пытаются различать понятие и термин «биосфера», как Н.Б. Вассоевич к примеру, то следует признать главное, что сделал Ламарк, – он обосновал понятие о биосфере, посвятив влиянию живых организмов на поверхностные образования Земли целую главу своего оригинального трактата. Суть ее ясна уже из названия: «Каково влияние живых организмов на вещества, находящиеся на поверхности земного шара и образующие покрывающую его кору, и каковы главные результаты этого влияния?».
Разумеется, во времена Ламарка еще не существовали такие науки, как геохимия, биогеохимия, но он совершенно точно описал процесс (сегодня мы назвали бы его биогеохимическим циклом), который влияет на все явления, имеющие место на поверхности планеты…
Бесконечная череда поколений некогда живых существ, отмирая, выстилает все участки поверхности земного шара, где они обитали. Процесс этот идет непрерывно.
«Все яснее становится, – пишет Ламарк, – насколько велико это влияние, если учесть, что остатки (detritus) живых существ и их продуктов беспрерывно поглощаются, деформируются и в конце концов перестают быть опознаваемыми. Что дождевые воды, которые смачивают, пропитывают, смывают [вещества] и просачиваются [вглубь], отделяют от этих остатков живых существ различные составляющие их молекулы, способствуют происходящим в них при этом изменениям, увлекают их за собой, переносят и отлагают там, куда они сливаются». И далее: «Результатом этого естественно является то, что сложные минеральные вещества всех видов, образующие внешнюю кору земного шара и встречающиеся там в виде отдельных скоплений, рудных тел, параллельных пластов и т. д., и образующие низменности, холмы, долины и горы, являются исключительно продуктами животных и растений, которые существовали на этих участках поверхности земного шара» (курсив Ламарка. – С. Р.).
Как видим, мысли, высказанные великим французским ученым, были для того времени удивительно смелыми. И все же Ламарк рассматривал двуединство понятий «организм – среда», а это не совсем то, что составило впоследствии фундамент развитой Вернадским стройной концепции. У Вернадского концепция опиралась на взаимосвязь других понятий: «жизнь» и «планета». Поэтому хотя Вернадский, со свойственной ему предельной научной честностью и благородством, отдавал заслуженную дань идеям Ламарка, все же намного ближе к нему был другой предтеча биосферной концепции – Александр Гумбольдт.
Гумбольдт впервые в истории естествознания обосновал неразрывную связь органического и неорганического мира. Для него было несомненным главное: жизнь – это планетное явление, и потому ее влияние должно сказываться в масштабах всей планеты, как в настоящем, так и в прошлом. Он даже выделил зону активного влияния жизни в особую оболочку, назвав ее «жизнесферой» (die Lebenssphäre). Сделал он это впервые в 1826 г. во втором издании своих «Картин природы», а затем вновь воспроизвел в 1845 г. в «Космосе» – главном, в определенном смысле итоговом сочинении.
Поэтому то, что термин «биосфера» ввел в науку Эдуард Зюсс, на чем настаивают все ученые, в том числе и сам Вернадский, верно лишь отчасти. Действительно, Зюсс нашел это привычное нам сегодня словосочетание (bios – жизнь, sphaira – шар). Оно, кстати сказать, полностью синонимично термину Гумбольдта, с той лишь разницей, что Зюсс образовал свой термин на греческой первооснове, а Гумбольдт – на немецкой. Однако, хотя это и оказалось чисто лингвистической коррекцией, все же надо признать, что коррекцией весьма удачной, ибо термин Гумбольдта знают только дотошные историки, а термин Зюсса знают все. Я думаю, что у Зюсса на самом деле был исключительный талант терминотворчества. И если сыграть еще в одну игру, т. е. провести заочный конкурс между учеными разных стран, чьи термины стали прочным достоянием науки, то Зюсс и здесь будет вне конкуренции.
Итак, термин «биосфера» Зюсс предложил в 1875 г. в работе «О происхождении Альп».
Вернадский не тратил времени на то, чтобы докопаться до первоисточника. Похоже, что он вообще не придавал серьезного значения тому, из-за чего уже в наши дни ломают перья ученые: кто ввел понятие «биосфера», а кто – термин «биосфера». А возможно, что и не различал эти категории вовсе.
Вот слова Вернадского: «Геолог Э. Зюсс… выделил область жизни как особую оболочку земной коры – биосферу». И далее: «Зюсс, давая понятие о биосфере, ставил ее в рамки представления о концентрических оболочках, строящих всю планету». В другой работе Вернадский писал, что Зюсс «ввел в науку представление о биосфере как особой оболочке Земли, охваченной жизнью».
Так что не будем более и мы тратить время на уяснение того, кто первым употребил слово «биосфера» как термин, кто – как понятие, а кто – просто как некое представление. Занятие это – вне рамок нашей книжки.
Интереснее другое. Первыми осмыслили новое понятие географы и геологи, ибо поначалу биосфера рассматривалась просто как одна из геосфер, а потому и географам и геологам она представлялась вполне разумным добавлением к уже вписавшимся в их дисциплины «сферам». Характер же ее воздействия на другие оболочки Земли, если и понимался некоторыми учеными, то только в самом общем, скорее мировоззренческом, чем узконаучном, плане.
Конечно, многие понятия, использованные впоследствии Вернадским в своем учении о биосфере, не были новыми. Ученые их знали. Так, представления о всюдности жизни заложили труды Александра Гумбольдта, Карла Максимовича Бэра (1792-1876), Фридриха Ратцеля (1844-1904) и других физико-географов. Да и само понятие о биосфере, как мы уже отметили, было известно науке со времен Ламарка. Ну и что?
Да, все они сделали много: каждый завез на строительную площадку свои части конструкции и аккуратно сложил их в стороне от котлована. Но для того чтобы эти конструкции стали частью здания, необходим строитель. Даже если ни одной детали он сам не завез, а только спроектировал и собрал из них здание, то, конечно, он, и только он, будет его творцом. Поэтому не совсем понятно желание некоторых историков науки хоть что-то, но непременно отнять от Вернадского и отдать его предшественникам. Зачем? Тем более, что сам ученый никогда не претендовал на авторство того, автором чего не являлся. Исследователя, более щепетильного в вопросах научной этики, чем Вернадский, трудно себе представить. Поэтому слова, которые придется процитировать, вызывают не радость от новизны узнанного, а чувство недоумения.
«Закономерно, – пишет И.М. Забелин, – что Гумбольдт должен был поставить и вопрос, в каком состоянии по отношению друг к другу находятся живые существа. Ответ был краток: “Вся органическая природа объединена общей связью”… На это обстоятельство первоначально не обратил внимание В. И. Вернадский, многие десятилетия спустя определявший живую природу как “смесь организмов”, но впоследствии “монолит жизни” стал одной из основных категорий в его миропонимании». Получается, что сначала Вернадский не обращал внимания на идею Гумбольдта, а потом спохватился, вспомнил и скорректировал свою концепцию, поменяв «смесь» на «монолит»…
Разумеется, и до Вернадского понятие о биосфере фиксировало очевидную связь живой пленки на поверхности Земли с самой этой поверхностью. Поэтому нет ничего удивительного в том„ что практически все крупные геологи и географы XIX столетия уже были знакомы с этим понятием. Но они даже не пытались раскрыть механизм этой связи.
Первым, кто дал ощутимый толчок к переосмыслению подхода к биосфере, был выдающийся русский почвовед Василий Васильевич Докучаев (1846-1903). Он сформулировал принцип мировой природной зональности, показал плодотворность комплексного (или, как бы мы сказали сегодня, системного) подхода к изучению природы. Поэтому именно Докучаева по справедливости можно считать реальным предтечей учения о биосфере Вернадского.
Докучаев обратил внимание и на то, что в мире кроме сурового закона борьбы за существование действует и иной закон, который он назвал законом содружества, любви… Не борьба может быть источником прогресса, а только гармония и любовь. Он призывал изучать все мыслимые и крайне важные системы связи между элементами единого неделимого Мира, между мертвой и живой природой, между растительным, минеральным к животным царствами, с одной стороны, и человеком – с другой.
Не будем к тому же забывать, что Докучаев был одним из любимых учителей Вернадского по Санкт-Петербургскому университету, а впоследствии его «научным руководителем» во время летних полевых экскурсирований в 1888-1891 гг. Нет ничего удивительного в том, что энергичный и эмоциональный талант Докучаева полностью завладел восприимчивой и впечатлительной душой его ученика. Да и сам Вернадский был готов к этому: стиль мышления Докучаева целиком соответствовал его собственному взгляду на природу. Так что Вернадский был благодарен своему учителю не столько за переориентацию своего строя мыслей, сколько за то, что этого делать не пришлось. Идеи же Докучаева о том, что необходимо изучать сложные взаимосвязи между мертвой и живой природой, как нельзя лучше соответствовали и собственным воззрениям молодого ученого. Не будь этого, никогда бы не удалось Вернадскому создать цельную и глубоко разработанную концепцию биосферы.
Можно сказать, и это не будет сильным преувеличением, что Вернадский работал над ней практически всю жизнь. В предисловии к «Биогеохимическим очеркам» он вспоминал: «Я столкнулся с биогеохимическими проблемами в 1891 г., когда стал читать курс минералогии в Московском университете». Было ему в ту пору всего 28 лет. А поскольку биогеохимия изучает «жизнь в аспекте атомов», то именно она стала конструктивной базой познания процессов, регулирующих сложную иерархию систем биосферы.
О сути выстроенной Вернадским концепции биосферы мы расскажем в следующих разделах этой главы. Пока же придется сказать несколько слов о том пьедестале, на который благодарные потомки ученого водрузили созданную им систему взглядов на проблемы биосферы, назвали эту систему «учением» и, уютно располагаясь у подножия этого пьедестала, в юбилейные даты поют панегирики во славу учения и его творца.
Приходится еще раз повторить, что «учения» очень популярны в описательных науках естественнонаучного цикла, у которых крайне не развита теоретическая база. Поэтому ее с успехом заменяют установки, концепции, системы воззрений корифея, занимающего, как правило, крупный административный пост в науке. «Учения» наиболее почитаемы в странах с авторитарной формой правления, где незримые иерархические пирамиды цементируют все сферы деятельности, в том числе и научной. Тогда нередки случаи, когда жрецы науки, восседающие на самой вершине пирамиды, сращиваются с государственной властью и управляют наукой по законам такой Системы…
Мы хорошо помним, как академик Лысенко творчески развил «мичурин-ское учение», сотворив на его базе собственное – «учение о стадийном развитии растений». А затем, оказавшись на посту президента ВАСХНИЛ, он всех, кто плохо учил его «учение», объявлял менделистами – морганистами, а понятливые компетентные органы с такой прекрасной подачи засылали неуча лет на 10-20, а то и на все 25 в места, где свежий воздух да здоровый физический труд способствовали крепкому усвоению самого передового в мире «учения».
Более чем достаточно было создано «учений» и в геологии: это учение о происхождении нефти, учение о формациях, учение о фациях и т. п. К большому сожалению, этот список мы вынуждены дополнить «учением» Вернадского о биосфере.
Почему так плохи именно учения? Да потому, что учения – это всегда что-то застывшее, незыблемое, завершенное, чего в принципе не должно быть в науке. Теорию можно и нужно совершенствовать, можно и нужно критиковать, необходимо развивать. А как можно совершенствовать «учение»? Само это понятие уже подразумевает совершенство, иначе бы не называлось «учением».
Поэтому, создав «учение о биосфере», а также родственное ему «учение о ноосфере», наши современники оказали Вернадскому медвежью услугу, поскольку он сам всей своей жизнью доказывал приверженность единственному источнику развития – свободной научной мысли. Поместив же выстраданную им систему взглядов на биосферу в формалин, ее тем самым изолировали от свободной научной мысли, по существу прекратив дальнейшее развитие.
Надо сказать, что сам Вернадский свои построения «учениями» никогда не называл. По крайней мере, в самих научных работах. Единственный раз этот злосчастный ярлык попался мне в дневниковой записи Вернадского 1920 г., сделанной сразу после тяжелейшего сыпняка, от которого он чудом спасся. Только этим можно объяснить ту исключительную самооценку, которую он дал себе и своим научным созданиям. Нигде больше в невероятно богатом наследии этой гениальной личности таких откровений не содержится.
Вот какую запись оставил в своем «Дневнике» Вернадский 25 февраля (9 марта) 1920 г.: «Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, и что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь – как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности. Я почувствовал в себе демона Сократа. Сейчас я сознаю, что это учение может оказать такое же влияние, как книга Дарвина, и в таком случае я, нисколько не меняясь в своей сущности, попадаю в первые ряды мировых ученых».
Конечно, оценка эта справедлива. Спору нет. Но то, что она исходит от самого Вернадского, скорее всего объясняется тем состоянием внутреннего просветления, которое человек испытывает, как бы родившись после болезни заново. В этом состоянии он полностью свободен от условностей, а «демон Сократа», т. е. глубокая убежденность в своей правоте, дает ему возможность не испытывать «нравственных комплексов» при оценке собственной значимости. Однако было бы лучше, чтобы эта запись Вернадского где-нибудь затерялась.
И все же мы в этой книжке постараемся более не употреблять слово «учение». Оно слишком скомпрометировало себя во всех областях человеческой деятельности, кроме религии, разумеется.
Бездонная книга
Когда в начале 20-х годов Вернадский читал лекции в Сорбонне, то он говорил своим слушателям, что основные идеи о биосфере оформились у него в начале века.
Действительно, начиная с 1908 г. (сначала в письмах) он вводит в свой научный оборот такие термины, как «живое вещество» и «живая материя», а с 1911 г. – «биосфера». Летом 1916 г. на Украине Вернадский начинает уже непосредственную работу над рукописью о роли живого вещества в земной коре. 9 декабря 1918 г. на одном из первых заседаний физико-математического отделения Украинской академии наук он зачитывает свою записку «Значение живого вещества в геохимии».
В 1926 г. Вернадский публикует свою главную книгу по этой теме – «Биосфера». Она неоднократно впоследствии переиздавалась – в 1960, 1967 и 1989 гг. В 1929 г. ее напечатали на французском языке в Париже. Если суммировать основные работы Вернадского по биосфере, то, не считая журнальных статей, наиболее интересные свои мысли он изложил в уже упомянутой «Биосфере», «Очерках геохимии» (1934 г.) [8], «Проблемах биогеохимии» (1934-1940гг.), «Биогеохимических очерках» (1940 г.), а также в «Химическом строении биосферы Земли и ее окружения» (1965 г.). Все вместе они и составили ту бездонную книгу, из которой вот уже более полувека естествоиспытатели всего мира черпают новые для себя идеи.
Однако, если мы сообщим читателю, что появление «Биосферы» Вернадского было встречено радостными рукоплесканиями его современников, то явно погрешим против истины. По крайней мере, на родине ученого реакция на идейные основы биосферной концепции колебалась в зависимости от идеологических установок. В 20-х годах отношение было скорее равнодушным, чем восторженным, и объясняется это тем, что наука еще не дозрела до восприятия идей ученого. Не дозрела она и в 30-х годах, но в то время уже сильно подзакрутили гайки идеологии, и на Вернадского ополчились верные слуги марксистской диалектики, без обиняков зачислившие его в лагерь идеалистов. С еще большим ожесточением ругали Вернадского в 40-х годах. Достаточно сказать, что в некрологе, опубликованном после смерти ученого в 1945 г., работы по биосфере даже не упоминались.
И лишь начиная с 60-х годов неспешно и, как всегда, с опозданием пришло признание. Небольшую монографию Вернадского «Биосфера» отнесли к крупнейшим обобщениям науки нашего времени и даже посчитали 1926 год (год ее публикации) «поворотным моментом в развитии естествознания XX века». Что ж, в России нередко так было: о Пророке (который в своем Отечестве) вспоминали только после панихиды, да и то если весь мир бил в литавры и молчать долее было вроде бы неловко.
… Расскажем более подробно об истории создания Вернадским своей главной книги. Да и о жизни ученого в первые пореволюционные годы также не удастся умолчать.
А была она отчаянно сложной. В «Хронологии», которую Вернадский регулярно вел, есть такая запись за 1928 г.: «… На необитаемом острове, без надежды поведать кому-нибудь мысли и достижения, научные открытия или творческие художественные произведения, без надежды выбраться – надо ли менять творческую работу мысли, или же надо продолжать жить, творить и работать так, как будто живешь в обществе и стремишься оставить след своей работы в максимальном ее проявлении и выражении? Я решил, что надо именно так работать».
Таким манером ученый пытался укрепить свой внутренний стержень противостояния советской тоталитарной системе, которая была устроена так, что любую свободную мысль отторгала напрочь, в ее же идеологических тисках Вернадский работать не мог в принципе. К тому времени уже была написана «Биосфера», была задумана масса других работ, о судьбе которых он знал вполне определенно: несмотря ни на что он поведает свои мысли людям, которым они будут не нужны, идеи его долгое время будут не востребованы, он станет все чаще свои сочинения складывать в стол до лучших времен. Так, кстати сказать, и случилось. Большая часть трудов Вернадского, которыми мы сегодня восхищаемся и искренне гордимся, что они «наши», на долгие годы были надежно погребены в академическом архиве.
Необходимо, кстати, отметить еще и такую грань биографии ученого. До революции его увлекали не только научные проблемы. С не меньшей страстью уже с самого начала XX столетия Вернадский отдавался общественной деятельности. Он «спасал» Россию, будучи одним из руководителей конституционно-демократической партии, партии радикальной русской интеллигенции. Когда же большевики взяли власть, то именно эта партия стала их главным идейным противником, партией «врагов народа».
Уже в конце ноября 1917 г. перед Вернадским выбор: либо как члену ЦК кадетской партии и товарищу министра Временного правительства явиться с узелком на Гороховую, где размещалась Петроградская ЧК, либо уехать в научную командировку «по состоянию здоровья и для продолжения работ по живому веществу» на Украину, поспешившую отделиться от большевистской России. Вернадский благоразумно предпочел второе.
Столь же дальновидно Вернадский уже осенью 1918 г. выходит из кадетской партии. Он понял: в России никакая идея победить не может, побеждает только тупая сила, а уж затем она обосновывает свою «историческую победу» идеей, якобы захватившей народные массы. Такую мякину Вернадский заглотить не мог. Тогда же он записывает в дневнике: «Во всей русской общественной борьбе, в революции, сказалась великая фальшь. Эта фальшь – любовь к народу».
И еще одна, чуть более поздняя его запись, но также сделанная на Украине: «Социализм неизбежно является врагом свободы, культуры свободы духа, науки». Это были старые, еще «кадетские» идеи.
В 1918 г. учреждается Украинская академия наук, и Вернадского избирают ее первым «головою», т.е. президентом. Он согласился на это, будучи уверенным, что то будет «незалежная» Академия. Но большевики думали иначе. В 1919 г. они «догнали» Вернадского в Киеве и он был вынужден бежать от них на юг. Нет, конечно, он не стал обычным беженцем. Теперь уже Украинская Академия наук «командирует» его для работ по живому веществу. В эту свою «командировку» Вернадский отправился с дочерью: сначала они шли пешком от Киева с геологическими молотками в руках, затем на лодке спустились по Днепру до Староселья на биологическую станцию. Именно там Вернадский сделал первый набросок к своей «бездонной книге».
Кстати, когда большевиков в первый раз прогнали из Киева, то открылись жуткие «расстрельные подвалы на Садовой». Именно с этого момента, как считает биограф Вернадского Г. Аксенов, вопрос о социализме, даже как об идейном течении, для Вернадского навсегда отпал. То, что нужно вбивать, писал ученый, с помощью «неслыханного, средневекового насилия над людьми, не имеет права называться идеей».
Осенью 1919 г. вместе с белыми Вернадский возвращается в Киев, но в конце ноября вынужден вновь с Добровольческой армией Деникина бежать от наседавших большевиков на юг. Маршрут такой: Полтава, Ростов, Новочеркасск, Екатеринодар (Краснодар), Новороссийск. На черноморское побережье Вернадский прибыл в канун 1920 г.
В самом начале 1920 г. Вернадский на перегруженном пароходе «Великая княгиня Ксения» перебирается в Крым, последний клочок российской земли еще не заселенный большевиками. В феврале его свалил популярный в те годы сыпной тиф, о котором мы упоминали в предыдущем разделе этой главы. Три недели он был на грани жизни. А выжив, заносит в дневник цитированные нами мысли о своем великом предназначении.
Вот как расценил эти строки Г. Аксенов: «Как тысячи искренних и живущих внутренней жизнью людей до него, углубляясь в себя, он вдруг встретился со всеми сразу, перешел в другое измерение. Он понимает теперь, что одиночество его кончилось. Он больше не отделен. Уже не сам он говорит, а как вдохновенный пророк, чувствует, что какая-то сила, демон говорит через него. Он стал частью великой могучей силы. Кончились все сомнения, страхи и неуверенность, так ясно видные в поведении окружающих. Чувство безграничной уверенности и правоты держит его. Все, что с ним происходило ранее, правильно, только он не знал этого. И отныне будет правильно, только теперь он будет знать о правде. Его несет присоединившая к себе сила».
Не правда ли, это выдержка из речи высококлассного адвоката? А Вернадский именно в те годы крайне нуждался в обосновании своей правоты. Ему было трудно творить на необитаемом острове, каковым с некоторых пор стала Советская Россия, ибо идеи, кои большевики вколачивали в жизнь, были органично несовместимы со свободной научной мыслью, а потому были глубоко чужды Вернадскому.
Перенесенный сыпняк «связал» Вернадского, он был еще слаб, чтобы куда-то двигаться, но уже достаточно здоров, чтобы начать работу. И он принимает предложение руководства Таврического университета в Симферополе и с 18 марта 1920 г. становится его сверхштатным профессором.
Однако в то время было уже прозрачно ясно, что и этот последний клочок земли скоро падет под напором красных. 20 апреля 1920 г. Вернадский заносит в дневник отчаянные слова: «Россию пропили и ее интеллигенция, и ее народ. Сейчас на поверхности вся эта сволочь – правая и левая, и безразличная… Хочется уехать скорее в Англию или Америку и отдаться всецело научной работе». На семейном совете решили: уезжать. Вернадский написал в Англию президенту Королевского общества (Академии наук), он был его иностранным членом. Ответили: ждите, вызовем…
В Ялту прибыл английский корабль «Стоунхедж», Вернадскому выделили каюту, и они уже начали паковаться, как вдруг в судьбу ученого вновь вмешался случай.!9 сентября 1920 г. умер ректор Таврического университета Гельвиг. К Вернадскому явилась депутация профессоров и, конечно, уговорила его остаться и возглавить университет. С 28 сентября он – ректор. Но ненадолго.
Как только стало ясно, что большевики со дня на день займут Крым, сын Вернадского Георгий отплыл с остатками армии Врангеля в Константинополь. После долгих колебаний Вернадский все же решил остаться: во-первых, отход с Добровольческой армией – это эмиграция, значит Россию он более не увидит, во-вторых, он – ректор и не мог поэтому бежать даже в виду очевидной опасности. И Вернадский остался в Крыму.
Уже в ноябре 1920 г. большевики приступили к «зачистке» Крыма: сняли с ректорского поста Вернадского, а на его место назначили своего сторонника физика-теоретика Я.И. Френкеля. В начале 1921 г. его сменил на ректорском посту другой активный большевик металловед А.А. Байков.
В феврале 1921 г. по ходатайству Академии наук Вернадский уезжает из Крыма в Москву. И вновь – вовремя. Через месяц в Крым прибыл наместник большевистского ЦК Г.Л. Пятаков. Его бригада зарегистрировала тех, кто либо служил Врангелю, либо сотрудничал с ним, затем вывезли всех в чисто поле и за одну ночь расстреляли. Варфоломеевская ночь – это детская шалость в сравнении с классовой ненавистью верных ленинцев.
В апреле 1921 г. Вернадский вернулся в Петроград. Знал уже твердо – эмигрировать не будет. Хоть и уехало много дельных ученых, но еще больше осталось. Здесь его ученики, здесь его книги, здесь та академическая аура, с которой он сроднился и без которой не мыслил ни жизни, ни работы, даже в «коммунистическом рабстве», как он записал в дневнике в сентябре 1921 г.
Большевизм Вернадский чувствовал как никто и, как немногие, прекрасно видел рыхлость его идейного цемента. «Большевизм держится расстройством жизни. – Записывает Вернадский. – При налаженной культурной жизни в мировом масштабе он не может существовать и так или иначе должен измениться. Это форма низшего порядка даже по сравнению с капиталистическим строем, так как она основана на порабощении человеческой личности».
С весны 1922 г. начинается Парижская одиссея Вернадского: его пригласили в Сорбонну прочесть курс лекций по геохимии в весенний семестр 1922 г. Вернадский согласился. Академия наук дала ему командировку на пять месяцев. Затем продлила ее аж до мая 1924 г.
Вернадский рассуждал трезво: он уже далеко не молод и далеко не все из задуманного выполнил. Поэтому отпущенный ему Свыше срок он обязан использовать с максимальной пользой для науки: он будет работать там, где будут лучшие условия для него. Поэтому он пишет в США, в институт Карнеги, думая создать там лабораторию живого вещества. Но ему отказали. Что делать? Эмигрировать он категорически не хочет. На жизнь русской эмиграции он понасмотрелся. Но и работать в Советской России вряд ли сможет. Поэтому Вернадский предпринимает отчаянные усилия, чтобы добиться продления командировки и успеть закончить главную книгу своей жизни еще здесь, во Франции.
Вернадский пишет непременному секретарю Академии наук С.Ф. Ольденбургу: «Я не хочу эмигрировать и рвать связь с Россией. От политики я стою совершенно в стороне… Я думаю, что решился бы проводить это дело (работу над проблемой живого вещества. – С.Р.) в России только в крайнем случае, так как условия русской современной жизни для меня после свободной жизни здесь были бы очень тяжелы».
Более Академия наук была уже не в праве продлевать командировку Вернадскому. На нее активно наседали в Наркомпросе: пусть Вернадский, наконец, определяется: кто он? – эмигрант или нет. 1 сентября 1924 г. ему направили ультиматум: или он возвращается или его будут вынуждены исключить из Академии наук, Академия не может выплачивать «содержание» эмигрантам.
Вернадский не принимает ультиматум. В ответном письме он объясняет свою позицию коллегам: он принял вызов природы, он уже почти постиг то, ради чего трудился все последние годы. У ученого всегда должен быть выбор. Если его нет, то он и в мыслях своих не сможет быть свободен, а значит и в науке ничего путного не сделает.
5 июня 1924 г. Вернадский получает «дотацию» Розенталя. Это 30000 франков, целый год спокойной работы.
Летом 1925 г. Вернадского в Париже навестили академики П.П. Лазарев и А.Ф. Иоффе. Вернадский познакомил их со своей работой. Вернувшись в Ленинград, они дали ей высочайшую оценку. Академия наук постановила: «Просить Наркомпрос сохранить за Академией право при возвращении В.И. Вернадского в Ленинград включить его вновь в число действительных членов Академии без новых выборов» [9]. В это время отмечали 200-летие Академии наук, и власти помягчали, пошли навстречу просьбе академической конференции.
Более на всех этих перипетиях задерживаться не будем. Скажем лишь, что в Ленинград Вернадский вернулся только в марте 1926 г.
Свою основную задачу он выполнил – «Биосфера» была написана!
Познакомимся теперь с размышлениями Вернадского о биосфере более обстоятельно. Начнем с главного – с методологии, т. е. попытаемся обозначить те исходные познавательные позиции, которых придерживался ученый. Отметим сразу, что позиции эти менее совершенны, чем результаты, полученные на их основе.
– Разве так бывает? – вправе спросить читатель.
– Скорее всего, нет, – придется ему ответить.
– Так в чем же дело?
– Трудно сказать. Вероятно, в том, что исходная методологическая установка ученого и сделанные им выводы были связаны весьма условно. Попробуем, однако, разобраться.
Вернадский любил повторять афоризм, приписываемый Ньютону: «гипо-тез не измышляю». Вот и в «Биосфере» почти с самого начала он предупреждает читателя, что «не делает никаких гипотез». Тот же подход и в «Проблемах биогеохимии». Вернадский пишет: «В основу биогеохимии кладутся немногие основные представления, не заключающие в себе никаких гипотез, а являющиеся точными и ясными научными понятиями». И далее: «Таким… обобщением… является… само понятие живого вещества биосферы. Живое вещество биосферы есть совокупность ее живых организмов» (курсив Вернадского – С. Р.).
Пока мы уяснили, что Вернадский опирается только на эмпирические обобщения. В чем же различие между эмпирическим обобщением и столь неуважаемой им научной гипотезой? Откроем «Биосферу». «Различие заключается в том, – сообщает ученый, – что эмпирическое обобщение опирается на факты, индуктивным путем собранные, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученного вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отношении эмпирическое обобщение не отличается от научно установленного факта: их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересует, их противоречие с ними составляет научное открытие” (курсив Вернадского. – С. Р.).
Спору нет, такой взгляд на методологию научного творчества сегодня кажется наивным. Неловко как-то ссылаться па классиков, поскольку мы и анализируем взгляды классика, но все же не грех вспомнить, что любой факт только тогда станет фактом науки, когда его осветит прожектор теории или уж во всяком случае лучик гипотезы. Иначе это и не факт даже, а просто констатация чего-то, ибо только в контексте уже известных концепций мы имеем возможность выделить это нечто и назвать фактом. Сегодня, повторяю, это азы методологии. Неужели же Вернадский, энциклопедически образованный ученый, не знал этого? Знал, разумеется. Так почему же тогда столь презрительно относился к «гипоте-зам и экстраполяциям»?
Скорее всего потому, что он работал в рамках науки, в теоретическом отношении одной из самых несовершенных. Геология тогда действительно была сплошь гипотетической, ее теоретический каркас был сплетен из шатких прутиков часто весьма уязвимых гипотез. К тому же специфика науки не давала возможности экспериментально проверять то или иное теоретическое положение. Как, к примеру, проверить справедливость механизма развития геосинклиналей или контракции земного шара? Приходилось поэтому верить или не верить этим теоретическим конструкциям. Ученый же естественник, по крайней мере в экспедиции, в лаборатории и за письменным столом, обязан мыслить не категориями веры, а категориями точного знания.
Добро бы так. Тогда бы, пусть и с ущербом для развития теоретической компоненты науки, она бы располагала точными выверенными фактами (эмпири-ческими обобщениями, по Вернадскому). Пришло бы время, и нашелся бы крупный теоретик, не столь презрительно относящийся к измышлениям гипотез, и, смотришь, эти факты заиграли бы новыми гранями, ранее неразличимыми.
Но, оказывается, для Вернадского эмпирическим обобщением служил не только факт науки, но и практически любое ее представление, пока этой наукой не объясненное. Так, в той же «Биосфере» Вернадский пишет, что «представле-ние о строении земной коры из определенных термодинамических, химических, фазовых и парагенетических оболочек является одним из типичных эмпирических обобщений». И чуть далее: «Оно сейчас не имеет объяснения».
Понятно, что Вернадский был вправе пренебрежительно относиться ко многим скоропортящимся гипотезам, рожденным в умах ученых, склонных более к рассуждениям, чем к наблюдениям. Кому, как ни ему, превосходно знавшему историю естествознания, было известно, к чему приводят незрелые умоизмышления. В своих собственных работах он старался опираться только на факты, выводить из них эмпирические обобщения и уже на их основе строить концепцию биосферы.
Но он напрасно пытался выдать желаемое за действительное, полагая, что совсем «не измышляя» никаких гипотез, т. е., говоря проще, не интерпретируя факты, он создаст то, что создавал. Чудес не бывает. Из голых фактов, не освещенных мыслью ученого, концепции не рождаются.
На самом деле, Вернадский старается убедить читателя (и себя в первую очередь), что в основу концепции биосферы он положил только «эмпирические обобщения, основанные на всей совокупности известных фактов, а не гипотезы и теория». Таких обобщений шесть.
1. В истории Земли нет следов абиогенеза.
2. Не наблюдались никогда азойные геологические эпохи. (Комментарий в скобках: известные факты позволяют это утверждать, но из них не следует, что в истории Земли не было азойных эпох.)
3. Современное живое вещество генетически связано с живым веществом прошлых эпох, и условия существования живых веществ «непрерывно были близки к современным». (Комментарий в скобках: это чистой воды теоретический вывод, а не эмпирическое обобщение.)
4. Не было резких отклонений в химическом влиянии живого вещества на окружающую среду. Средний химический состав живого вещества не изменился.
5. Не было больших изменений в количестве живого вещества. (Коммен-тарий в скобках: это не обобщение, а допущение, постулат, необходимый для будущего обобщения.)
6. Энергия, выделяемая живыми организмами, есть лучистая энергия Солнца. (Комментарий в скобках: и это, конечно, не факт, а теоретическое допущение.)
Думаю, читатель сам в состоянии разобраться, где гипотеза, где постулат, а где эмпирическое обобщение. Не в этом все же суть. Куда важнее те мысли, те ключевые идеи, которые Вернадский заложил в свою концепцию. Надо понять главное: как он трактовал биосферу. Тогда, наверное, станет ясно и то, почему это его толкование привлекает к себе пристальное внимание современных нам ученых, причем не только геологов, но и биологов, биогеохимиков, экологов и даже… политологов.
Главная отличительная особенность подхода Вернадского к этой проблеме состоит в том, что он рассматривает Природу как нечто целое и неделимое. Такой взгляд, как считает ученый, должен быть доминирующим «в научных и философских исканиях. Он ярко проявляется в том, что в наше время грани между науками стираются; мы научно работаем по проблемам, не считаясь с научными рамками». Отсюда – главная и чисто мировоззренческая и научная значимость понимания биосферы: она и часть природы и природа в целом. В этом простом утверждении – современность звучания идей Вернадского.
Конечно, Вернадский не употреблял привычные сегодня термины (они еще были не в ходу в начале 20-х годов), но если это сделать за него, то можно с уверенностью сказать, что он исповедовал при анализе биосферы системный подход: считал биосферу целостной саморазвивающейся системой. Именно в этом контексте смогла впоследствии выкристаллизоваться идея ноосферы, а уже в наше время родиться экология – этот своеобразный и вечный теперь арбитр между ноосферой и биосферой.
Следует, вероятно, сказать несколько слов о том, как же сам Вернадский трактовал биосферу. Какой смысл он вкладывал в это понятие? К сожалению (возможно, что и нет), сам Вернадский определения этого понятия не дал. Поэтому в разных его сочинениях можно найти лишь отдельные аспекты толкования биосферы. Это, конечно, дает почву для противоборства двух групп ученых. Одни стараются блюсти пуританскую чистоту понятия и ни на йоту не отходить «от Вернадского», другие вносят в понятие биосферы что-то свое, так или иначе развивающее подход классика. Мне лично более симпатичны представители второго лагеря: у них, по крайней мере, есть шанс как-то развить концепцию, а не ограничивать свои собственные размышления только толкованием первоисточников.
Вот лишь несколько высказываний Вернадского по поводу того, что такое в его понимании биосфера.
Итак, биосфера – это «особая охваченная жизнью оболочка», это «зако-номерное проявление механизма планеты, ее верхней области – земной коры». И чуть далее: «Биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию – электрическую, химическую, механическую, тепловую и т. д.». Можно заключить поэтому, что биосфера – это сфера жизни плюс живое вещество. Биосфера настолько неотъемлемая компонента Земли, что Вернадский, перефразируя Зюсса, называет биосферу «ликом планеты». И это, безусловно, так. Поскольку, как сообщает Вернадский в другой своей работе, биосфера «… выявляется как планетное явление космического характера».
Современному читателю, возможно, такие выражения покажутся несколько выспренными, тем более, что здесь они преподносятся без должного обоснования. И тем не менее у Вернадского было достаточно резонов писать именно так. Ведь он не только установил, что биосфера – это область жизни, но сделал более точное наблюдение: он доказал, что биосфера – это оболочка, в которой изменения вызываются «приходящим солнечным излучением».
Кроме того, Вернадский показал (и это одна из важных составных частей его открытия), что биосфера геологически вечна. А это чрезвычайно важно. Ведь если жизнь, т. е. живое вещество, существует с самого начала геологической истории планеты, то сама эта история (точнее, все основные процессы поверхностных зон литосферы) идет под непосредственным воздействием живого вещества.
Вернадский писал об этом так: «Появление и образование на нашей планете живой материи есть явным образом явление космического характера и это чрезвычайно ярко проявляется в отсутствии абиогенеза, т. е. в том, что в течение всей геологической истории живой организм происходит из живого же организма (вспомним знаменитый принцип Реди. – С. Р.), все организмы генетически связаны, и нигде мы не видим, чтобы солнечный луч мог захватываться и солнечная энергия превращаться в химическую вне ранее существовавшего живого организма».
Идею геологической вечности жизни Вернадский взял у Бюффона. Но если французский ученый скорее догадался об этом, то Вернадский этот тезис сумел доказать всеми средствами, коими располагала наука его времени.
Что, однако, означает «геологическая вечность» жизни? Этот фундаментальный вопрос естествознания, разумеется, нельзя разрешить с помощью логических силлогизмов. Требуются сверхточные наблюдения над проявлениями жизни на уровне микромира в удаленные геологические эпохи. Помогают и косвенные методы биогеохимии, дешифрирующие органическую природу осадочных пород протерозойского и даже архейского времени.
Вернадский подошел к этой проблеме как естествоиспытатель: он связал проблему начала жизни с «проблемой создания самой жизненной среды». И это – глубочайшая мысль ученого. Ведь непосредственные следы жизни могут и не сохраниться, но среда жизни – наличие атмо- и гидросферы и даже их состав запечатлеваются в геологических образованиях.
А вот его утверждение, что «биосфера в основных частях неизменна в течение всего геологического времени, неизменна по крайней мере с археозоя, полтора миллиарда лет назад», вызывает недоумение. Что значит это застывшее слово «неизменна»? И как так могло случиться, что после 1,5 млрд лет «неизменности» вдруг каких-то 1,5-2 млн лет назад появился главный возмутитель спокойствия биосферы – Homo sapiens, «возмущающий,- как писал Вернадский,- вековой, геологически вековой, уклад биосферы», а всего 4-5 тыс. лет назад он стал еще и решающим фактором, который все сильнее и энергичнее стремится сместить предопределенную природой равнодействующую биосферы. Какая уж тут неизменность?
Важно понять и то, что жизнь является фундаментальным свойством биосферы, а носитель жизни – живое вещество – основным «естественным телом» биосферы. Поэтому чрезвычайно важны обобщения Вернадского, касающиеся распределения жизни в биосфере. Он установил три фундаментальные характеристики этого распределения: а) всюдность, б) рассеянность, в) концентрация в самых невероятно тонких пленках биосферы.
И еще. Чисто логически можно допустить, что исходя из свойства приспособляемости жизни и совершенно невероятного ее разнообразия, которое наука только еще начинает по-настоящему постигать, и выводится принцип ее всюдности. В афористичной формулировке это утверждение Вернадского звучит так: везде что-нибудь да живет. А уже из этого афоризма выводится расширительное, и более точное, понимание биосферы: если жизнь – неотъемлемое, эмерджентное, как сказали бы кибернетики, свойство биосферы и существует она и в гидросфере, и в атмосфере, и в литосфере, то биосфера – это, конечно, не очередная сфера, окутывающая, как съемное покрывало, земной шар, а то, что объединяет эти сферы. (См. рис. 16). Поэтому Вернадский заведомо сужает суть этого понятия, когда пишет о том, что «биосфера составляет верхнюю оболочку, илигеосферу, одной из больших концентрических областей нашей планеты – земной коры».
Но если биосфера не совпадает ни с одной из концентрических оболочек Земли, то проблема ее границ (существует и такая) должна решаться в зависимости от того, как современная нам наука толкует введенное Вернадским представление о «поле существования жизни». А уже в пределах этого поля действуют три принципа распределения жизни в биосфере. Границы жизненной среды При-рода, разумеется, «знает», но тщательно скрывает их от пытливого ума ученых. Поэтому с развитием науки расширяются и границы биосферы. Сегодня они существенно раздвинулись в сравнении с теми, которые были знакомы Вернадскому.
Так, в 1926 г. Вернадский полагал, что верхний предел поля жизни обусловлен ультрафиолетовым излучением, т. е. лучистой энергией, «присутствие которой исключает жизнь», а нижний зависит от высокой температуры недр. Что касается гидросферы, то здесь, по Вернадскому, следует выделять «пленки и сгущения жизни». Чуть далее мы увидим, как эти границы расширяются. Иначе, конечно, и быть не может. Ведь если считать, что биосфера – это сфера ныне существующей жизни, то места ее проявления в 1926 г. были известны весьма приблизительно.
Разве мог Вернадский знать, что жизнь существует в любой точке Мирового океана, на любой глубине. (Рис. 17). Разве он мог знать,. что, к примеру, в районе срединно-океанических хребтов на глубине около 2000 м, в абсолютной темноте, при температуре 40 °С и давлении 200 атмосфер (20 млн паскалей) прекрасно себя чувствуют представители особой фауны гидротермалей,. так называемые вестиментиферы, похожие на обрезки пожарных шлангов длиной 1-2 м.
Какое же «поле жизни» благоприятно для этих гидротермалей? Весьма необычное. В местах их обитания идет излияние базальтовой магмы с температурой 1100-1200° С. Температура же придонного слоя океанской воды около О° С. Такие термические контрасты приводят к активным физико-химическим реакциям, сопровождающим остывание базальтовой магмы. Значительные пространства океанического дна оказываются зараженными сероводородом, а вблизи источников базальтовых излияний наблюдаются повышенные концентрации металлов.
Такую биологическую экзотику донной жизни в океане обнаружили в 1974 г. во время экспедиции НИС «Алвин» к востоку от Галапагосских островов. В настоящее время биологи выделили уже более 100 видов фауны гидротермалей.
Известны бактерии, активно размножающиеся даже при температуре выше 200 °С, а есть такие, которых не пугает и абсолютный нуль, т. е. температура, близкая к – 273° С. (Правда, это не совсем жизнь. Они существуют в состоянии анабиоза.) Если добавить, что уже выявлены бактерии в работающем ядерном реакторе, то, вероятно, можно более не обсуждать конкретные пределы биосферы. Это, повторяю, пределы «поля жизни», которое этой самой жизнью непрерывно засевается, в том числе и той, которой совсем еще недавно Природа не располагала.
Существенно теряют свой смысл и понятия, которые ученые вводили с целью конкретизации границ биосферы, в частности такие, как апобиосфера (надбиосфера), метабиосфера, мегабиосфера и др. Потому только, что биосфера – это не столько часть пространства, сколько его состояние. А оно, сохраняя в течение всей геологической истории Земли свое главное свойство – быть полем жизни, еще и видоизменялось. И абсолютно был прав Вернадский, когда доказывал, что «изменяется не лик Земли, как думал Зюсс, а лик биосферы». Изучать поэтому надо всю биосферу, не подразделяя ее на более мелкие «сферы».
Все возрастает значимость обратных связей в этой целостной динамической системе – влияния организма на среду его обитания. Мы еще успеем поговорить об этом более подробно. Это крайне важно, ибо через механизмы такого влияния вскрывается возможность физического существования на этой планете «венца творения» биосферы – рода человеческого. Пока лишь ограничимся очевидным: изучение биосферы – это, по словам академика Б.С. Соколова, «проблема многоаспектная, глобальная, космическая. Ее нельзя связать не только с какой-либо наукой, но и с каким-либо отдельным циклом наук – биологическим, геологическим, географическим, к тому же эта проблема социальная и философская». И политическая. Об этом забывать также нельзя.
Современное естествознание кроме общепознавательных проблем биосферы, пожалуй, более всего интересуют многообразные связи различных экосистем (или биогеоценозов) – этих своеобразных «квантов биосферы», как их назвал Андрей Витальевич Лапо. Почему квантов? Потому, что через пространство конкретного биогеоценоза не проходит ни одна из мыслимых границ биосферы. Это та ее неделимая часть, где процветает определенное сообщество видов – биоценоз. Это своеобразная экологическая ниша биосферы, специально приготовленная природой для данного биоценоза. Не считается поэтому за ошибку, когда такие термины, как экосистема и биогеоценоз, употребляются как синонимы.
В свою очередь мы не погрешим против истины, если определим биосферу как систему биогеоценозов. При таком подходе более рельефно выражается важнейшее свойство биосферы – ее целостность, а также становится понятно, что сохранение биосферы возможно в том и только в том случае, если ее целостность не нарушается. Ученые это знают давно, стали признавать этот факт и политики (только не всякую политическую систему устраивает подобная прозорливость).
Вопрос сейчас стоит так: защищать надо не отдельные биогеоценозы, не отдельные исчезающие виды животных и растений, а всю биосферу, ибо изъятие (читай, уничтожение) любого из биогеоценозов влечет к разрушению целостности системы биосферы со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями.
Одних заклинаний и призывов, однако, мало. Необходимо изучать законы функционирования подсистем биосферы, чтобы знать пределы ее устойчивости. Также необходимо воспитывать коллективный разум человечества, поднимать экологию социальной культуры политических сообществ, чтобы научные знания пошли на пользу, а не во вред человечеству.
Складывается такое впечатление, что в XX столетии, которое мы назвали веком неразумного использования науки, прогресс цивилизации был ориентирован на создание наиболее комфортных условий существования сегодняшним поколением и человечество не задумывалось о том, с какими жизненными параметрами оно передаст биосферу своим потомкам.
Что же уготовил нам XXI век?
Разум в биосфере
Итак, биосфера – это система биогеоценозов, а биогеоценоз – это система популяций плюс среда их обитания. Наконец, популяция – это сообщество организмов одного вида. В самом основании этой природной иерархии – более 3 млн видов животных и растений. И лишь представителей одного из них – «человека разумного» (Homo sapiens) Природа наделила особым свойством -Разумом.
Свойство это уже на начальных ступенях развития цивилизации дало человеку громадные преимущества перед другими видами. Но преимущества эти, как стало теперь ясно, имели и свою оборотную сторону. На самом деле, все прочие виды, населяющие громадную коммунальную квартиру, называемую биосферой, довольствуются тем, что уготовано им природой, и на большее не только не претендуют, но даже и не подозревают, что у природы можно еще кое-что урвать для себя. У каждого вида – свое место под солнцем (своя экологическая ниша в биосфере), а все вместе они существуют в полной биологической гармонии. Если индивид одного вида съедает индивид другого вида, то и тот и другой вид от этого только выигрывает. Так распорядилась Природа.
И лишь представители Homo, посчитав себя венцом творения, решили, что им можно все (запрещать-то некому), что они не побирушки и «милостей от природы» ждать не собираются. Они будут брать у природы то, что им нужно, а что будет с ней, природой то есть, поначалу и не задумывались вовсе. Когда же Природа дала понять «человеку разумному», что ничто в этом мире безнаказанно не проходит, за все надо платить, причем зачастую такой платой оказывается сама жизнь, человек начал осознавать, что ему следует оправдать свою видовую бирку.
Это, понятно, рассуждения сегодняшнего дня. В начале столетия настроение ученых было благодушным. Вернадскому, например, казалось, что человечество вступает в новую светлую эру своего развития, что влияние на природу коллективного разума человечества все увеличивается. По мнению ученого, этот коллективный разум стал реальной геологической силой, воздействие которой на биосферу сравнимо с масштабами других геологических процессов.
Вернадский на этом основании сделал важнейшее эмпирическое обобщение, справедливо посчитав, что ноосфера (так был назван этот интеллектуальный протуберанец биосферы) уготовила человечеству невиданную будущность…
Но только – какую? На этом мы и сосредоточим свое внимание.
Как выяснил уже многократно упоминавшийся нами Забелин, и в разработке ноосферной концепции у Вернадского были предшественники. Причем те же. Во-первых, Бюффон, считавший человека «хозяином природы» и мечтавший о «новой природе», творимой самим человеком (в таком контексте Бюффон, скорее, предтеча не концепции Вернадского, а идеологов преобразования природы сталинской эпохи). Во-вторых, Александр Гумбольдт: в конце I тома своего монументального «Космоса» он ввел понятие о «сфере разума» или «сфере интеллекта» (die Sphäre der Intelligenz). Джон Меррей (1841-1914) сферу разума Гумбольдта назвал «психосферой», что в большей мере соответствует реальным последствиям воздействия человека на природу.
Все эти понятия Вернадский впоследствии действительно использовал. Забелин же из этого делает вывод, что «творчество Вернадского, – или, точнее, те грани его творчества, которые ныне привлекают наибольшее внимание общественности, – не могут быть поняты вне контекста развития географической мысли в XIX – первой четверти XX века».
Это, конечно, не совсем так. Вернадский, как я уже писал, никогда и не претендовал на авторство того, что ему не принадлежало. Сила его гения состояла прежде всего в том, что он, как никто другой, мог не только оценить плодотворность новых понятий, но и с их помощью сделать крупнейшие эмпирические обобщения. Применительно же к концепции ноосферы «контекст географической мысли» здесь вообще не при чем, поскольку оба выдающихся обобщения Вернадского – биосфера и ноосфера – фокусируют в себе не просто отдельные науки или даже ряд естественных наук, но всю науку и всю политику. От того, сколь удачным окажется симбиоз науки и политики, зависит судьба рода человеческого…
Хотя к общей идее о ноосфере Вернадский пришел еще в конце XIX столетия, более обстоятельно он начал ее разрабатывать одновременно с созданием биосферной концепции, т. е. с 20-х годов. В это время он жил в Париже, читал в 1923 и 1924 гг. лекция в Сорбонне. Его французские последователи и ученики Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955), известный впоследствии палеонтолог и антрополог, а также друг Шардена философ, математик, палеонтолог и антрополог Эдуард Леруа (1870-1954) предложили в 1927 г. ставший вскоре популярным термин «ноосфера».
Вот что писал по этому поводу сам Вернадский: «Приняв установленную мною биогеохимическую основу биосферы за исходное, французский математик и философ бергсонианец [10] Е. Ле-Руа в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие ноосферы как современной стадии, геологически переживаемой биосферой».
Можно поэтому считать, и вывод этот достаточно принципиален, что ноосфера – это синтез природного и исторического процессов. Только такое ее толкование дает возможность ставить вопрос не просто о геологических масштабах деятельности человека, но и об управлении этой деятельностью на благо биосферы.
Судьба распорядилась так, что разработка концепции ноосферы стала последней в жизни Вернадского. В 1936 г. в одном из писем к Б. Л. Личкову он сообщает: «Ввожу новое понятие “ноосферы”, которое предложено Леруа в 1929 г.» [11]. А небольшая заметка Вернадского «Несколько слов о ноосфере» оказалась последней научной работой, опубликованной при жизни ученого – в 1944 г. Затем, как было заведено у нас в те годы, начался «разбор» концепции Вернадского. Для советских людей эти его взгляды были признаны ненужными, даже вредными, а на ноосферу был надет популярный «шутовской колпак» идеалистической теории. Благоразумные ученые о ней предпочли забыть…
В чем суть этой идеи великого ученого? Она в общем-то проста, какой и должна быть суть всякой по-настоящему глубокой мысли. Выразим ее по возможности словами самого Вернадского.
Человек по масштабам своего влияния на природу представляет собой геологическую силу, и «сила эта сильна именно тем, что она возрастает и предела ее возрастанию нет. Под влиянием человека, его труда биосфера переходит в ноосферу». И далее: «человечествоÖноосфера нераздельны».
В этих последних словах не только научный смысл открытия Вернадского, но и пафос его восприятия.
Ученый недаром постоянно писал о том, что именно научная мысль человечества преобразует биосферу в ноосферу. Научная же мысль (сама по себе) никаких начал, кроме разумных, нести не может. Отсюда и жизнеутверждающий пафос, которым пронизаны все мысли Вернадского о ноосфере. Его натуру, по-детски чистую, восприимчивую только к хорошему, не захламляли никакие утопические идеи. Безумие же их носителей состоит в том прежде всего, что ради светлого, выдуманного в абстрактных мечтаниях будущего они готовы жертвовать настоящим. Это, заметим, не чистая идеология, это – не чистая политика. Это – вариант ноосферы.
Но такой вариант концепцией Вернадского не предусматривался. Он верил во всесилие человеческого Разума, а потому и не мог допустить, что научная мысль, усвоенная политиками, будет уже их верной служанкой.
«Новое проявление жизни живого вещества выросло в нашей эпохе, – писал Вернадский в 30-х годах, – сила цивилизованного человечества, по-новому и с небывалой интенсивностью меняющая всю планету и проникающая вверх в стратосферу, вниз в стратисферу. Она начинает новую геологическую психозойную эпоху. Но надо не забывать, что, несмотря на такое яркое значение человечества, новая природа, охватившая всю земную поверхность, ее новый лик, человечеством созданный, далеко не достигла мощности шедших до нее биогеохимических процессов. Однако Homo sapiens faber резко уже в аспекте геологического времени их усиливает и меняет. Этим он определяет новую геологическую эпоху в истории Земли…»
Вернадский жил в своем обществе, среди своих современников. И одним из них был Иван Владимирович Мичурин (1855-1935), «великий преобразователь природы», как его называли идеологические вожди. Выдвинутый же Мичуриным научный принцип: «мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача» – стал в руках ученых неучей политической программой. Любые варварские акции над природой стали преподноситься как благородные акты ее «преобразования», а поскольку вред от таких преобразований был виден не сразу, а пропаганда работала без устали в течение десятилетий, то даже такие великие умы, как Вернадский, начинали искренне верить во всесилие человеческого разума, который сумеет-таки подчинить себе природу, не нанеся ей вреда.
В 1943 г. в эвакуации 80-летний Вернадский пишет о ноосфере уже вполне в духе эпохи: «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И, может быть, поколение наших внуков уже приблизится к их расцвету». Мы – внуки, а некоторые – даже правнуки. И мы живем и не нарадуемся на этот «расцвет»…
Вот какими словами Вернадский закончил свою последнюю научную работу. Они, я думаю, проясняют многое: «Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим» (курсив мой. – С. Р.).
Есть еще один нюанс понимания ноосферной концепции, по поводу которого позиция Вернадского неоднократно менялась. Речь идет о времени пришествия ноосферы. В ранних своих работах Вернадский указывал, что в ноосферу человечество вступило с момента своего появления на древе эволюции. Затем он стал считать, что мы только приоткрыли завесу сферы разума. Или даже так: «ноосфера – то будущее, которое геологически неизбежно моим внукам и правнукам».
Разделились соответственно позиции и у последователей Вернадского. Есть сторонники всех трех подходов. Однако наметилась тенденция еще одного толкования. Так, академик Никита Николаевич Моисеев предпочитал относить к ноосфере лишь то «состояние биосферы и общества», которое обеспечивает процветание человечества. Такой подход на человеческое сознание действует, как транквилизатор, успокаивающий и усыпляющий коллективную совесть людей.
На самом деле, нам ли отвечать за уничтожение природы, если эпоха ноосферы, как ее называет Моисеев, еще не наступила. Сфера разума еще в будущем. «Переход в эпоху ноосферы» еще предстоит. «Это будет трудный и болезненный процесс, – предупреждает нас академик, – который потребует от человечества не только громадных усилий и перестройки организационной структуры общества, но и воспитания новой морали, нравственности. Перед человечеством однажды со всей остротой встанет дилемма: либо вступление в эпоху ноосферы, либо путь постепенной, более или менее медленной деградации. Такая трактовка учения Вернадского, на мой взгляд, гораздо больше соответствует всему духу его творчества…»
Это, конечно, и так и не так. «Духу творчества» Вернадского такая интерпретация, возможно, соответствует. Поскольку, как я уже отмечал, жизнеутверждающий пафос ноосферной концепции опирается на неистребимую веру ученого в то, что «научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она является. Это не случайное явление – корни его чрезвычайно глубоки». Но это, повторяю, лишь вера. Реалии же заключаются в том, что ноосфера, по самомý смыслу этого термина, стала действенной тогда, когда у человека в его контактах с природой появился постоянный посредник – РАЗУМ, созидающий научную мысль. Однако еще долгие столетия с тех пор, как человек подчинил себе огонь и изобрел колесо, он мог лишь незначительно влиять на сферу своего обитания, точнее, он еще не замечал ответной реакции среды. Образно говоря, ноосфера еще была прозрачной пленкой, не искажавшей биосферу.
Разум (или, как любил говорить Вернадский, научная мысль) становился деятельной и влиятельной силой по мере развития науки, по мере овладения человеком новыми видами энергии. Это, однако, лишь один срез ноосферы, его принято называть научно-техническим прогрессом. Но есть и другой срез – развитие социально-политических структур общества.
Поэтому пафос трактовки ноосферной концепции не должен лежать в ее основе, он должен выводиться из совместного анализа обоих отмеченных нами аспектов ее рассмотрения. И еще вопрос – будет ли пафос при этом таким уж бодрящим.
Если не анализировать одновременно и научный и политический аспекты системодеятельного общения человека с биосферой, то кажется бесспорным, что уже не сама «научная мысль как планетное явление» (это название одной из работ Вернадского) становится стержнем ноосферы, а ее технологические детища, т. е. конкретные воплощения достижений науки, служащие и экономическим и политическим целям общества. Экономика же и политика всегда соединены множеством зримых и незримых нитей. Поэтому если политическое устройство конкретного человеческого сообщества (государства, проще говоря) с социальных позиций не оптимально, то любые экономические новации неизбежно будут ориентированы на краткосрочный (сиюминутный) эффект, позволяющий получить видимость социального комфорта в условиях бесконтрольного насилия над природой.
Поэтому с мыслью Вернадского, что «изменения биосферы происходят независимо от человеческой воли, стихийно, как природный естественный процесс», согласиться нелегко. Сейчас уже стало очевидным, что социально не обустроенные человеческие сообщества, существующие не для человека, а под идею, не просто влияют на процессы, идущие в биосфере, но влияние это губительно и для подобных сообществ, и для всего человечества, да и для биосферы в целом. Природе, как видим, такие сообщества содержать невыгодно.
В определенном смысле мы здесь имеем дело со своеобразным политико-экономическим парадоксом. Суть его в следующем. Наука управляет прогрессом. Политические же системы далеко не всегда экономически оптимальны. Для таких систем наука практически не нужна, ибо она расшатывает устои подобных сообществ. Наука для них – обуза, она им мешает, как мешает свет в комнате, где люди спят.
Итак, если разорвать это монолитное двуединство – политика и наука – невозможно, если материальные рычаги прогресса неизбежно ведут к деградации биосферы, то остается надежда на нечто, что неизмеримо значительнее любых естественнонаучных идей и что может объединить любые дела человеческие.
Что же это такое? Выразить одним словом это невозможно. Но ясно, что коль скоро мы говорим о сфере разума, т. е. о духовной сфере прежде всего, то речь должна идти о том, что Гумбольдт в свое время назвал «естествознанием духа». Хотя «такая наука пока не существует, – считал И.М. Забелин, – но она необходима, если мы стремимся к всестороннему пониманию духовного прогресса человечества, духовной сферы, им созданной».
К этому же стремились и русские мыслители, понимавшие, что только разум как таковой, а не его материальные порождения может спасти мир от гибельного наступления прогресса. Такой строй мыслей получил в литературе название «русского космизма».
Люди должны понять, что они не только биологический вид, который через какое-то время неизбежно уступит свое место другому виду, уже наверняка вызревающему в таинственных недрах эволюционного прогресса, но и вид духовный, владеющий разумом, а потому они должны вопреки социально-политическим доктринам, раздирающим человеческое сообщество на непримиримые части, жить по законам ноосферы, в которой, как в то свято верил Вернадский, действует только научная мысль в чистом виде. А научная мысль сама по себе не может быть ориентирована на разрушение. В этом и состоит жизнеутверждающий пафос ноосферной концепции Вернадского.
Природа предупреждает
Итак, мы поняли, что только космизм, т. е., говоря словами Вернадского, научная мысль как планетное явление может продлить существование рода человеческого. Сами же люди, как малолетние дети, еще не знающие, что жизнь имеет конец, радуются каждому прожитому дню, не задумываясь о том, будет ли чему радоваться их детям и внукам.
Еще великий Ламарк, во многом предвосхитивший своими трудами будущую концепцию биосферы, предупреждал, что человеку суждено истребить самого себя. Он, естественно, полагал, что неизбежность такого конца предопределяется необратимыми изменениями среды обитания человека, т. е. тем, что мы сегодня называем «экологической катастрофой» и всеми силами пытаемся предотвратить. О пагубном (иного просто быть не может) влиянии человеческой цивилизации на природу писал и Лайель.
В 1866 г. американский филолог и государственный деятель Георг-Перкинс Марш (1801-1882) уже знал цену неизбежных контактов человека и природы: «… человек является повсюду как разрушающий деятель. Где он ступит, гармонии природы заменяются дисгармонией». В том же примерно ключе писали Гумбольдт, Докучаев, Александр Иванович Воейков (1842-1916) и многие другие натуралисты. И что любопытно, географы и почвоведы первыми почувствовали надвигающуюся беду, поскольку они имеют дело с самой поверхностной пленкой биосферы и могут оценить ее реакцию даже на краткосрочные воздействия.
Геологи в этом смысле оказываются в более сложном положении. Ведь они (по сути своей науки) изучают объекты прошлого (следы былых биосфер), т. е. они имеют дело с объектами, уже воспринявшими воздействие среды, а каким было это воздействие, – могут судить лишь опосредованно через характерные признаки объектов. Согласитесь, это качественно иная задача, неизмеримо более сложная уже хотя бы потому, что, как всякая обратная задача, она единственного решения не имеет.
Поэтому, памятуя об актуалистическом мировоззрении геологов, дающем хотя бы принципиальную возможность решения подобных задач, обратим внимание на то, что человек творит с природой.
Предусмотрительные правители были благоразумны еще в средние века. Так, английский король Эдуард IV своим эдиктом 1473 г. запретил лондонцам использовать каменный уголь для отопления жилищ – было замечено, что печи сильно дымят и отравляют воздух. Указ был суров: ослушался короля, протопил углем камин, обогрелся и… на виселицу.
До XVIII века основным загрязнителем были бытовые сточные воды. Позже к ним добавились стоки промышленных предприятий, продукты сгорания топлива и отходы металлургического производства. В нашем столетии эта коллекция пополнилась кислотными дождями, отработанным топливом транспорта, издержками энергоемких предприятий, отходами химических и биологических производств. Свой достойный вклад вносят неуемная химизация сельского хозяйства, строительство гидро- и теплостанций и, конечно, атомных электростанций.
Подсчитано, что ежегодно в реки попадает около 160 км3 неочищенных промышленных стоков; порядка 6 млн гектаров земель в год становятся непригодным для сельского хозяйства; в результате сжигания топлива в атмосферу поступает более 20 млрд тонн углекислого газа и более 700 млн тонн прочих газообразных соединений. Только за один год человечество извлекает из недр около 100 млрд тонн полезных ископаемых и выплавляет из них 800 млн тонн различных металлов. За истекшие годы XX века из недр изъято полезных ископаемых больше, чем за всю историю человечества.
Для полноты картины надо указать и на то, что за последние 200 лет площадь лесных угодий уменьшилась с 56 до 26 % поверхности суши. Это значит, что более 70 % территории уже в наши дни практически лишены леса.
А что человек сделал с биосферой? В тундре из-за бездумного и безответственного хозяйничанья значительно сократилось поголовье оленей, почти исчезли дикие гуси, практически невозвратно поврежден лишайниково-моховой покров.
Многие виды фауны исчезают с поверхности Земли за недопустимо малые (с позиций эволюции) сроки. «Красная книга», как известно, становится год от года толще. «Вот почему, – предупреждает наш известный эколог Николай Федорович Реймерс, – вымирание биологических видов в результате неразумной деятельности человека ведет к катастрофе, результаты которой сопоставимы, быть может, лишь с ядерной катастрофой… Или мы сохраним живую природу в ее многообразии, или она нас не сохранит. Нет другого выбора». Это так. Ведь существующие еще 3,5 млн видов равноправны. Это только человек решил, что он – царь природы. Никто больше об этом не знает…
Глупо, конечно, а главное, бессмысленно призывать к тому, чтобы как-то затормозить развитие науки и тем самым, окунувшись в первобытную безмятежность, продлить существование человечества. С другой же стороны, ненасытный молох технического прогресса с жадностью и беспощадностью пожирает оставшиеся еще нетронутыми оазисы биосферы.
Как тут быть? Ведь биосфера, будучи целостной саморазвивающейся системой, обладает еще и таким важнейшим свойством, как саморегуляция. Говоря проще, биосфера сама знает, что и в каком количестве ей требуется. Вмешательство же человека, даже если оно и контролируется желанием сохранить среду своего обитания, неизбежно эту саморегуляцию нарушает. Исчезает главное свойство любой системы – ее целостность. Система перестает быть устойчивой к внешним воздействиям и начинает разрушаться.
Ясно ведь, что нет и быть не может абсолютно безотходных технологий, как нет и безвредных (в этом же смысле) производств. Более того, и у природных процессов при желании можно заметить «отходы». В частности, с определенной долей истины можно полагать, что все биогенные осадочные породы являются «отходами» былых биосфер.
Перефразируя уже упоминавшуюся мысль Ламарка, можно сказать, что человечество погубит его разум. Благодаря разуму человек создал то, что имеет. Благодаря разуму человек произвел и величайшие духовные богатства, и невиданные орудия разрушения. Однако один из горьких парадоксов бытия ноосферы заключается в том, что если от применения научных открытий в военных целях еще можно как-то защититься (или избавиться), то от использования достижений науки в целях мирного созидания человечество не собирается избавляться. Зачем? Ведь для того и существует наука, вообще говоря, чтобы улучшать жизнь человеческую. Но парадокс, однако, в том, что все блага цивилизации добываются только за счет биосферы. И для нее они – не блага. Для нее любое вмешательство человека – очередная незаживающая рана.
Читатель, вероятно, знает, что одним из самых популярных политических движений во всем мире является движение «зеленых». Оно объединяет людей, для которых не безразлично то, что с каждым годом они дышат все более и более отравленным воздухом, пьют воду, которую невозможно очистить. Другими словами, живут, если использовать терминологию этой главы, в условиях насильственно разрушаемой биосферы.
… В нашей многострадальной державе, как бы ее не называли – Российская империя, СССР или Российская федерация, за письменным столом и только с помощью формальной логики и примитивных расчетов «обосновываются» нехоженые пути достижения целей, реальность которых даже не рассматривается, ведь она всегда вытекает из очередного «учения».
Мы уже даже привыкли к тому, что при этом все решают не доводы разума, а авторитет власти. А коли так, то у власти всегда найдется опора и в научной среде. Не без этого. Далеко не все ученые ради истины готовы на костер; зачем такая романтическая жертвенность, когда «учение» дает возможность под любую позицию подвести вполне пристойную базу.
Совершенно прав был академик Петр Леонидович Капица (1894-1984), когда 26 июня 1972 г. писал тогдашнему авторитету власти Брежневу: «если бы у нас достаточно уважали и ценили науку,… то решение ученых должно было быть руководящим и обязательным для хозяйственников». Но к науке в России почтения не было никогда – ни до, ни после.
Помните, у замечательного американского писателя Рэя Бредбери есть рассказ о путешествии в прошлое. Там, в этом прошлом, герой рассказа оступился и раздавил бабочку – всего, казалось бы, ничего (но его категорически предупреждали: ничего не трогать и не менять). И вот все случившиеся затем в мире беды произошли от этого трагического случая…
Мысль Бредбери проста и одновременно безысходна: в природе все настолько взаимосвязано, что нарушение любой, даже самой незначительной (как кажется) нити ведет к разрыву цепи. Это может сказаться быстро, а может растянуться на столетия, но Природа ничего не забывает. Она снисходительна к человеку ровно настолько, насколько сама может выправить свои функции. Если Природе это не удается, человек очень быстро начинает осознавать – кто он есть на этой Земле и чего он на самом деле стоит.
Уже упоминавшийся нами американский натуралист Марш еще в середине прошлого столетия отмечал, что человек так и не научился жить в гармонии с Природой, что он своими деяниями нарушил равновесие между органическим и неорганическим царствами, которое устанавливалось многие тысячелетия. Природа, как он полагал, мстит по этой причине человеку, давая простор разрушительным силам.
Конечно, Природа мстить не может. Суть диалога человека с Природой – не в том. Природа для человека – это всё, это его жизнь. Человек для Природы – лишь один из нескольких миллионов биологических видов, который ОНА вывела путем длительного эволюционного отбора. Но вид этот на беду Природе оказался разумным и возомнил, что ему подвластно всё и нет предела его возможностям. Поэтому человек стал не просто пользоваться данными Природой благами для жизни своей, но принялся сам создавать себе блага, не считаясь с тем, как это скажется на Природе. А Природа, повторяю, является саморегули-рующейся системой. Она при излишней самодеятельности человека оперативно перестраивает взаимосвязи своих подсистем, но при этом, разумеется, меняются и некоторые характеристики, которые жизненно важны для человека. И ему кажется, что Природа мстит.
Природа не прекратит свое существование, что бы человек с ней ни вытворял. И даже жизнь на Земле не прекратится. (Вернадский был глубоко прав, утверждая геологическую вечность жизни). Исчезнет Homo sapiens как биологический вид. Но появится новый. У природы, как говорится, нет проблем. Есть проблемы только у этого вида. Если хочет он подольше побыть на этой планете, должен вести себя более разумно. В противном случае…
Природа уже начала предупреждать человека.
В конце XIX столетия была открыта радиоактивность. То, что это открытие сулит неистощимые запасы энергии, поняли быстро, а вот то, куда эта энергия может быть направлена, осознали далеко не сразу. Пьер Кюри (1859-1906) и Вернадский заглянули намного дальше других.
29 декабря 1910 г. Вернадский выступает на общем собрании Академии наук с речью «Задача дня в области радия». В ней есть такие пророческие слова: «… теперь перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению… Что сулит она нам в своем грядущем развитии? С надеждой и опасением всматриваемся мы в нового защитника и союзника». И через пять лет он призывает: «необходимо не довести человечество до самоистребления».
Слова эти и сегодня, более чем через 90 лет, как нельзя более актуальны. В мире сейчас столько ядерного оружия, что, как подсчитали ученые, его с избытком хватит для многократного уничтожения всего живого на Земле. Это будет равносильно полному вычеркиванию из истории эволюции периода в почти 2 млрд лет. Таков, конечно, теоретический расчет, поскольку многократно уничтожать живое будет некому. А реальная ядерная война всю биосферу не уничтожит, но большая часть видов навсегда фоссилизируется в каменной летописи истории, ибо, как просчитали на моделях (слава богу, что хоть так!), после ядерной войны наступит «ядерная зима» с резким, катастрофическим изменением климата.
Человечество должно предвидеть свое «ядерное будущее». В 1945 г. оно узнало, что такое лучевая болезнь; в 1958 г. в результате ядерных взрывов в атмосфере был открыт электромагнитный импульс, выводящий из строя все системы связи; в 1973 г. поняли, что ядерные испытания способны разрушать озонный слой; в 1983 г. прочувствовали некоторые последствия ядерной зимы; с 1986 г. живем в радиоактивных волнах Чернобыля.
А вот кажущиеся менее страшными ситуации.
Атмосфера аккумулирует часть тепла, отраженного поверхностью Земли, что создает как бы дополнительное, незапланированное тепло. Это явление получило название «парникового эффекта». Оно резко усиливается в результате активизации технической мощи человечества: в атмосферу выбрасывается астроно-мическое количество пыли, сажи, копоти, газов, что создает почти идеальный экран для накопления тепла. Основной стимулятор «парникового эффекта» – углекислый газ. Его содержание в атмосфере обычно составляет около 0,03%. Если эта цифра возрастет в два раза, то среднегодовая температура на Земле повысится на 3° С, что приведет к таянию ледников, повышению уровня Мирового океана на 60-100 м, затоплению низменных частей суши и другим «прелестям». Если столь же активно и столь же бездумно будет прогрессировать технократическая компонента ноосферы, то по прогнозам американских экологов отмеченные нами «прелести» человечество вкусит уже к 2050 г.
Еще одно предупреждение Природы – «озонные дыры» в атмосфере. Впервые такая «дыра» была зафиксирована над Антарктидой в 1980 г. В октябре 1985 г. газеты сообщили, что в Антарктиде количество озона над английской станцией Халли-Бей составляет 50 % нормы; такое же двукратное уменьшение концентрации озона было зафиксировано над японской станцией Сева на высоте 15-25 км. Этот эффект ученые и назвали «озонной дырой». Природа предусмотрела озонный слой как своеобразный защитный барьер, предохраняющий биосферу от прямого ультрафиолетового излучения Солнца. Убери эту «озонную шапку», и Солнце, даровав Земле жизнь, тут же убьет ее.
И на этот раз человек что-то недодумал. Виновными в разрушении озонного слоя оказались фреоны (хладореагенты, пенопреобразователи, аэрозольные упаковки). Попадая в атмосферу, эти смеси держатся там, не разрушаясь, 50-200 лет. Но зато активно при этом сокращается количество озона.
Как человечеству справиться с собственным техническим прогрессом? И разумна ли вообще такая постановка вопроса? Ведь прогресс (это стало уже пустопорожней, банальной фразой) остановить невозможно. Тогда как быть? Пока мы не найдем достойного ответа на все эти вопросы, причем не в геологическом, а в сугубо биологическом масштабе времени, человечество будет балансировать над пропастью, куда оно неизбежно рухнет с высот ноосферы, если не обуздает собственную гордыню и не признает того простого факта, что последний ход всегда остается за Природой.
Экология. Политика. Нравственность
Главное, что следует из открытия Вернадского и что наконец должны усвоить люди, это то, что биосфера – не вечная нерушимая данность окружающего нас мира, а эволюционирующий и постоянно меняющийся геобиоисторический процесс. «Пленка жизни», которая покрывает земную поверхность, тончайшая и очень хрупкая, легко разрушаемая процветающей ныне технократической цивилизацией.
Чтобы человек понял свою будущность, актуалистического мировоззрения хватит с избытком. Ему достаточно вглядеться а прошлые состояния биосферы («былые биосферы», как их называл Вернадский), внимательно рассмотреть самого себя, оценить свое воздействие на эту пленку жизни, чтобы ужаснуться перед собственным будущим.
Русский поэт Велимир Хлебников (1885-1922) ввел понятие о метабиозе. Оно значительно точнее, чем представление об эволюции, описывает отношение двух жизней, протекающих в одном и том же месте, но в последовательные отрезки времени. Изменения, разумеется, будут тем разительнее, чем больший отрезок времени рассматривается; но эти перемены – и это главное! – будут вызваны искусственным, а значит, агрессивным, вмешательством человека в среду своего обитания. Метабиоз рода человеческого может оказаться сильно укороченным в сравнении с отпущенными природными нормативами.
Ясно, одним словом, что биосфера Земли непрерывно изменяется, что эти трансформации бывают насильственными. Но если до появления в составе биосферы «человека разумного» ведущим регулятором ее новообразований были изменения среды, то хотя и теперь этот фактор остался доминирующим, только сама среда уже стала меняться главным образом под воздействием рук человеческих. Круг, так сказать, замкнулся.
Разорвать его и призвана своеобразная экологическая совесть современного общества.
Что такое экология? Наука? Разумеется. Может быть, группа наук? Пожалуй. А если ее определить как научный фундамент современной политики? Тоже будет недалеко от истины.
Сам этот термин предложил в 1866 г. немецкий натуралист Эрнст Генрих Геккель (1834-1919) в своей капитальной монографии «Общая морфология организмов». Он определил экологию как отношение животных к среде своего обитания и к другим организмам. В таком понимании этот термин дошел и до наших дней. Только теперь под «животными» стали понимать прежде всего человека и говорить не просто об отношении его к среде обитания, но и о сохранении этой среды как единственного гаранта жизни человека.
Американский биолог Барри Коммонер еще в 60-х годах XX века сформулировал четыре ведущих постулата экологии. Пусть шутливая форма не затеняет от читателя их глубину. Постулаты эти надо прочно усвоить каждому человеку, но политикам, разумеется, прежде всего:
– Все связано со всем.
– Все должно куда-то деваться.
– Ничто не дается даром.
– Природа знает лучше.
Итак, экология – это и наука, и политика, и мораль, и человеческая культура. Экология – это попытка сохранить жизнь человечества в условиях, когда это самое человечество стремится накинуть петлю на свою шею.
Трагический парадокс еще и в том, что технический прогресс всегда опережал и продолжает опережать рост экологического сознания. Поэтому человек сначала создает новые прогрессивные (как ему кажется) технологии, радуется новому витку цивилизованного благополучия, а потом уже обнаруживает некий дискомфорт, ищет его причину и, стремясь ее устранить, создает очередные, еще более совершенные технологии (экологически, разумеется, безвредные), и… все повторяется.
Это, конечно, клубок противоречий. Притом до конца не разрешимых. И потому только, что Природа уже устала от человека. Саморегуляции биосферы более не хватает для сохранения ее целостности.
Человек должен все же притормозить свою все разрушающую поступь и задуматься: куда направить научную мысль? На строительство очередных промышленных гигантов или на изучение глубинных взаимосвязей разных подсистем биосферы?
В такой ситуации ничем не подкрепленный пафос созидателей значительно опаснее пессимизма инакомыслящих, ибо первые, не познав Природу и в то же время вступая с нею в активный контакт, ведут себя как варвары, а вторые, охлаждая горячие головы энтузиастов, хотя бы пытаются иначе посмотреть на их планы.
Самое сложное в повседневных контактах человека и Природы – это умение оценить реакции Природы на технократическое вмешательство человека. Причем если ближайшие ответные ходы Природы человек еще может предсказать, то предвидеть, какой ход она сделает через 10, 100 или 1000 лет, пока не в состоянии. А это и приводит к тому, что называется экологической катастрофой. На самом деле, когда на берегу необъятного Ладожского озера был выстроен ряд промышленных объектов и под звуки фанфар запущен в строй, об очистных сооружениях никто не думал. А если дальновидные ученые и предлагали их строить, то рачительные отраслевые хозяева, сберегая народную копейку, рассуждали просто: ты посмотри, какое перед тобой озеро – конца-краю не видно, и через какую трубу потекут отходы – их и заметить-то не удастся.
Срабатывал, как всегда, авторитет власти. Отходы не очищали, сбрасывали в озеро. И так всюду, по всей стране, – ведь логика, коей руководствовались так называемые хозяева, была «на всех одна». За другую сильно наказывали еще более важные хозяева.
Конечно, пока эти выбросы были действительно каплей в море, человек не замечал недовольства Природы. Но вместе с ростом отходов росло и ее возмущение. Наконец терпение Природы лопалось, и на человека обрушивались эпидемии кишечных заболеваний, разного рода аллергены, отравленные воздух, вода и продукты. Человек спохватывался. Энтузиасты лезли на трибуны, сыпались «материалы» в газеты, на телевидение, радио. Начиналась кампания «ходьбы в природу». В старину говорили: «мужик на Руси задним умом крепок». Так было. Так есть. Неужели так будет всегда?
В 1914 г., Воейков убеждал своих оппонентов, что труд человека – и только он – приведет в конечном итоге к обновленной Земле. Он оказался прав. Землю «обновили», и очень сильно. Но лучше бы этого не делали.
Природа сотворила человека для того, чтобы он жил с ней в гармонии. Это значит, что он должен строить свою жизнь, не поспешая, не стремясь как можно быстрее реализовать осенившие его идеи, не узнав у своего творца – Природы, не навредят ли они ее цельности.
Природа, по всей вероятности, все же допустила одну недоработку: наделив человека разумом, она не сделала этот разум системным. Человек очень робко сам стал дозревать до этого. Жизнь заставила. Но он уже успел столько натворить непоправимого, а системные его мыслишки столь пока убоги и маломерны, что они явно не поспевают за традиционным и крайне удобным пониманием научно-технического прогресса.
Полностью устранить противоречие между человеком и Природой, к сожалению, в принципе невозможно, ибо несистемный разум человека не в состояния охватить даже ничтожное число взаимосвязей отдельных подсистем биосферы. Потому, воздействуя на одну из подсистем и не зная, как это отразится на прочих подсистемах (биоценозах), человек, даже не желая того, губит их.
Как каждому человеку в отдельности, так и всему виду Homo sapiens отпущено определенное время бытия. Если распорядиться своим бытием «по правилам», то можно использовать весь отпущенный срок сполна. Практически, однако, так не бывает. И каждый человек живет не вполне так, как должен был бы жить, не говоря уже о человеческом сообществе, в котором чисто биологические заботы осложняются политическими. Поэтому, как я уже отмечал, человек сам, своей повседневностью сокращает бытие своего вида.
Тревога, завещанная Вернадским, остается. Эта тревога, как отмечал недавно академик Борис Сергеевич Соколов, непрерывно поддерживает неуспокоенность нашей совести, нравственности, взывает к действию.
Это, безусловно, так. Должно быть так. Только трагический разрыв и даже антагонизм между человеком и Природой, формировавшейся миллиарды лет, к сожалению, запрограммирован самой Природой. (Хотя здесь усматривается и кажущийся парадокс: ведь человек – часть Природы.) Если на свою беду Природа наделила человека разумом, то во спасение свое – совестью и нравственностью. А поскольку Природа ничего не делает напрасно, и тем более себе во вред, то это обстоятельство и вселяет оптимизм – совестливый разум человеческий возьмет верх над чисто животными инстинктами и безнравственными идеологиями. Разум дан человеку не столько для облегчения жизни, сколько для управления ею.
Ученые давно стали предупреждать политиков, что существуют объективные законы, регулирующие рост численности человечества, что земная поверхность не беспредельна, что она может прокормить только ограниченное (фиксированное) население планеты, что биосфера, наконец, это тонкая земная оболочка, охваченная жизнью, которую люди разрушат тем быстрее, чем их будет больше. Тогда за право жизни началась бы война и с Природой (точнее, это не война, а разбой), и между государствами.
Человеческое сообщество нельзя назвать разумным, если оно не научится управлять своей численностью.
Примерно так рассуждал еще в самом конце XVIII столетия английский экономист Томас Роберт Мальтус (1766-1834) в своем наиболее известном трактате о законе народонаселения («An Essay on the Principle of Population»), опубликованном впервые в 1798 г. «Закон Мальтуса», хотя он и был выведен применительно к английской экономической ситуации того времени, тем не менее стал восприниматься как обобщение всеобщего характера. Суть его в том, что если рост численности населения, по Мальтусу, происходит в геометрической прогрессии, то прирост средств к существованию может осуществляться только в прогрессии арифметической. Вывод очевиден: рост населения надо притормаживать.
Объективно закон бесспорен (дело здесь не в самих прогрессиях). А то, что его взяли одно время на вооружение авторитарные руководители тоталитарных держав и стали сокращать численность народа путем войн и даже геноцида, лежит на совести таких политиков. Мальтус тут ни при чем.
Закон, открытый Мальтусом, изменить нельзя. Им можно только пользоваться. Этого пока сделать не удается. Рост населения планеты продолжается. Ученые подсчитали, что если такой темп роста сохранится, да еще при возрастании потребностей в достижениях цивилизации, то с 2020 г. начнется уже необратимый процесс: коллапс – вымирание человечества.
Отсюда вывод о необходимости нового политического мышления, ответственного за судьбу человечества и нравственного в своей основе. Это естественно, поскольку никакой другой подход не будет соответствовать ноосфере, он лишь ускорит с помощью недальновидной политики гибель человечества. Вот почему наука сегодняшнего дня не только смыкается с политикой (политизируется), но она врастает в политику, и вместе они становятся тем, что и следует называть Разумом Человечества.
Вернадский совершенно был прав, когда писал о развитии человечества: «В этом геологическом процессе – в основе своей биогеохимическом – отдельный индивид живого вещества, людской совокупности – крупная личность – ученый, изобретатель, государственный деятель – может иметь основное решающее и направляющее значение, проявляется как геологическая сила. Такое проявление индивидуальности в процессах огромного биогеохимического значения есть новое планетное явление. Оно сложилось, стало проявляться резче и глубже с ходом времени, в последние десятки тысяч лет на фоне истории биосферы миллиардной длительности, когда его не было» (курсив Вернадского. – С. Р.).
Осознание факта по существу неограниченных возможностей человечества накладывает дополнительную ответственность на Личность. Она, эта Личность любого ранга, должна быть высоконравственной прежде всего. Если для нее девизом деятельности является лозунг «если можем, то можно» (здесь я несколько перефразировал мысль Сергея Залыгина), то она живет моралью варваров: «после нас – хоть потоп». К сожалению, мораль эту изжить крайне трудно. Она живуча, как и все примитивное.
Куда важнее научиться жить в согласии с иной моралью: «не все то можно, что можем». Этот девиз единственно достоин ноосферы, поскольку он вооружает человека знанием того, что он обязан соизмерять свои дела с возможностями биосферы, должен научиться так воздействовать на ее подсистемы, чтобы не разрушалась возможность ее саморегуляции, а значит, и целостность.
В настоящее время человечество уже находится у черты, за которой его как биологический вид ожидает неминуемое постепенное вымирание. И в этой ситуации нет ничего опаснее бодренького оптимизма, действующего, как наркотик, на возбужденный нерв, но ни на чем, кроме веры в светлое будущее, не основанного.
Вообще говоря, при анализе экологического состояния биосферы бытуют две расхожие формулы – это формулы оптимиста и пессимиста. Оптимист базирует свое настроение на вере, а пессимист – на нигилизме, т. е. неверии. Как говорил французский ученый Анри Пуанкаре, все отрицать или со всем соглашаться – это две крайности вполне удобные, они избавляют человека от необходимости размышлять.
Было бы удивительно, если бы в этой книжке читатель нашел готовые рецепты «во спасение». Жизнь, как писал Марсель Пруст, – это усилие во времени. Чтобы выжить, человечество должно приложить максимум усилий. Если существует такое понятие, как социальный разум человечества, то он безусловно будет развиваться. В этом сомнений нет. Как и в том, что это означает эволюцию ноосферы.
Вот куда нас привело обсуждавшееся пятое великое геологическое открытие.
Труды, на которые опирался автор
Аксенов Г. Вернадский. М., 1994. 544 с.
Арабаджи М.С. В недрах голубого континента. М., Недра. 1988. 142 с.
Борисяк А.А. Избранные труды. М., Наука. 1973. 357 с.
Брэдшоу М. Современная геология. Л., Недра. 1977. 278 с.
Вернадский В.И. Очерки и речи. Вып. 1. Петроград. 1922. 158 с.
Вернадский В.И. Биосфера. Избранные сочин. Т. 5. М., Издат-во АН СССР. 1960. 422 с.
Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Труды Биогеохимич. лаборатории. Т. 16. М., Наука. 1980. 320 с.
Вернадский В.И. Философскик мысли натуралиста. М., Наука. 1981. 520 с.
Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., Наука. 1988. 467 с.
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., Наука. 1989. 262 с.
Вернадский В.И. Pro et contra. Антология литературы о В.И. Вернадском за сто лет (1898 – 1998). Составитель А.В. Лапо. СПб., 2000. 872 с.
Высоцкий Б.П. Проблемы истории и методологии геологических наук. М., Недра. 1977. 280 с.
Головкинский Н.А. О пермской формации в центальной части Камско-Волжского бассейна. СПб., 1868. 144 с.
Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль». М., Географгиз. 1954. 576 с.
Дарвин Ч. Автобиография. М., Издат-во АН СССР. 1957. 251 с.
Забелин И.М. Очерки истории географической мысли в СССР. 1917 – 1945 гг. М., Наука. 1989. 256 с.
Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России. Методическое пособие. Научный редактор Т.Н. Корень. Издат-во ВСЕГЕИ. СПб., 2000. 171 с.
История геологии. М., наука. 1973. 388 с.
Карпинский А.П. Очерки геологического прошлого Европейской России. М. – Петроград. Природа. 1919. 148 с.
Катастрофы и история Земли. Новый униформизм. М., Мир. 1986. 471 с.
Кеннетт Дж. П. Морская геология. Т. I. М., Мир. 1987. 398 с.
Кювье Ж. Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара. М.-Л., 1937. 368 с.
Лапо А.В. Следы былых биосфер. М., Знание. 1987. 207 с.
Леонов Г.П. Основы стратиграфии. Т. 1. М., Издат-во МГУ. 1973. 530 с.
Личков Б.Л. Карпинский и современность. М.-Л., Издат-во АН СССР. 1946. 73 с.
Ломоносов М.В. О слоях земных // В кн.: Труды Ломоносова в области естественно-исторических наук. СПб., 1911. С. 150 – 240.
Ляйэлль Ч. Основные начала геологии или новейшие изменения Земли и ее обитателей. Т. 1. М., 1866. 399 с.
Майр Э., Айола Ф., Дикерсон Р. и др. Эволюция. М., Мир. 1981. 545 с.
Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский. М., Наука. 1982. 488 с.
Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Сб. статей. Пер. с англ. М., Мир. 1974. 471 с.
Ог Э. Геология. Пер. с франц. Т. 1 (Геологические явления). М., 1914. 597 с.
Павлов А.П. Представления о времени в истории, археологии и геологии. Петроград, 1920. 24 с.
Павлов А.П. Очерк истории геологических знаний. М., Госиздат. 1921. 84 с.
Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым (1918 – 1939). М., Наука. 1979. 271 с.
Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым (1940 – 1944). М., Наука. 1980. 223 с.
Пуанкаре А. О науке. М., 1984. 560 с.
Пэдж Д. Философия геологии. СПб., 1867. 149 с.
Романовский С.И. Николай Алексеевич Головкинский (1834 – 1897). Л., Наука. 1979. 192 с.
Романовский С.И. Александр Петрович Карпинский (1847 – 1936). Л., Наука. 1981. 484 с.
Романовский С.И. Великие геологические открытия. Очерки по истории геологических знаний. Вып. 30. СПб., Издат-во ВСЕГЕИ. 1995. 216 с.
Романовский С.И. Наука под гнетом российской истории. СПб., Издат-во С.-Петерб. университета. 1999. 340 с.
Салин Ю.С. К истокам геологии. Хабаровское книжное издат-во. 1989. 304 с.
Соколов Д.И. Курс геогнозии. СПб., 1839. Ч.1. 292 с.; Ч. 2. 496 с.; Ч. 3. 320 с.
Стенон Н. О твердом, естественно содержащемся в твердом. М., Издат-во АН СССР. 1957. 151 с.
Страхов Н.М. Развитие литогенетических идей в России и СССР. Критический обзор. Труды Геологич. ин-та АН СССР. Вып. 228. 1971. 622 с.
Тихомиров В.В. Геология в Академии наук (от Ломоносова до Карпинского). Очерки по истории геологических знаний. Вып. 20. М., Наука. 1979. 296 с.
Хабаков А.В. Очерки по истории геолого-разведочных знаний в России. М., 1950. 212 с.
Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. М., Издат-во МГУ. 1997. 224 с.
Хомизури Г.П. Развитие понятия «геосинклиналь». Очерки по истории геологич. знаний. Вып. 18. М., Наука. 1976. 236 с.
Хэллем Э. Великие геологические споры. М., Мир. 1985. 216 с.
Шепард Ф.П. Морская геология. Л., Недра. 1976. 488 с.
Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Гармония или трагедия? М., Наука. 1989. 271 с.
Портреты
Николаус СТЕНОН (1638 - 1686)
Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ (1711 - 1765)
Джеймс ГЕТТОН (1726 - 1797)
Чарлз ЛАЙЕЛЬ (1797 - 1875)
Уильям СМИТ (1769 - 1839)
Николай Алексеевич ГОЛОВКИНСКИЙ (1834 - 1897)
Джеймс ХОЛЛ (1811 - 1898)
Джеймс Дуайт ДЭНА (1813 - 1895)
Эдуард ЗЮСС (1831 - 1914)
Александр Петрович КАРПИНСКИЙ (1847 - 1936)
Альфред Лотар ВЕГЕНЕР (1880 - 1930)
Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ (1863 - 1945)
[1] Названия государств, городов, институтов соответствуют времени написания книги (1989 г.).
(обратно)[2] Эти арифметические прикидки были опубликованы в газете «За рубежом», 1989 г., № 46.
(обратно)[3] Это, разумеется, авторская трактовка. С ней, вероятно, не согласятся многие мои коллеги. Тем интереснее услышать их аргументацию.
(обратно)[4] Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т.1-10. М.;Л., 1950-1957; Т. 11 (дополн.). Л., 1983.
(обратно)[5] Более подробно об этой странице истории нашей отечественной науки можно прочесть в книге автора «Наука под гнетом российской истории».
(обратно)[6] А. И. Айнемер предложил вариант: «событийный актуализм», по-видимому, по аналогии с «событийной стратиграфией». Этот вариант мне кажется все же менее точным.
(обратно)[7] JOIDES-Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling – Объединение океанографических институтов для глубоководного бурения (объединились пять институтов США, головным стал Скриппсовский океанографический институт в Ла-Холье, Калифорния).
(обратно)[8] Мы указываем год первого издания. Многие труды Вернадского впоследствии переиздавались.
(обратно)[9] Напомню, что еще 3 сентября 1924 г. Вернадского исключили из Академии наук.
(обратно)[10] Бергсон Анри (1859-1941) – французский философ, нобелевский лауреат (1927 г.).
(обратно)[11] Год указан не точно. На самом деле – 1927 г.
(обратно)

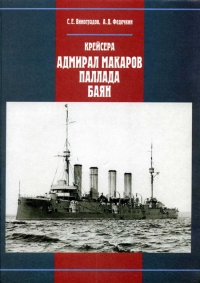


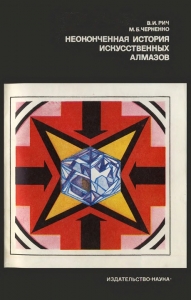
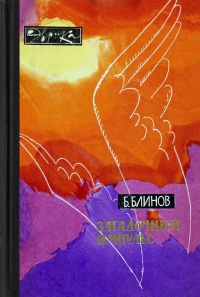
Комментарии к книге «Великие геологические открытия», Сергей Иванович Романовский
Всего 0 комментариев