Вольфганг Гигерич Эссе
Ракета и стартовая площадка или Скачок из воображаемого во внешнее пространство, именуемое "реальностью"[1]
Что бы ни говорили о несущественности полета на Луну и других космических стартов с гуманистической и практической точки зрения, психологически и "метафизически" полет в космос представляет собой событие фундаментальной исторической важности. Это символ, указывающий на обветшание незыблемой и "вечной" истины — разности между небесами и подлунным миром. В другом смысле ракета является символом нашего столетия — достаточно вспомнить о ее роли в развитии наук и технологий. Тем не менее, "естественное сознание" — так я называю сознание, сопоставляющее все вещи со зрительным восприятием — находится все еще на пути к истинному символическому и психологическому пониманию ракеты — так же, как и нашей эпохи в целом.
Для "естественного сознания" ракеты — всего лишь некие объекты среди множества прочих объектов реальности. За пределы естественного сознания можно и выйти. В Кена-Упанишаде этот выход характеризуется как переход от "того, что видят глаза" к "тому, что открывает глаза". Архетипическая психология переводит нас от буквального к воображаемому, и Гегель продемонстрировал, каким образом переход от обыденного рассудка к истинному пониманию ввергает нас во "второй сверхчувственный мир", который в отличие от первого сверхчувственного мира (Платоновской сферы вневременных форм) находится не по ту сторону повседневной реальности, и представляет собой мир превратности, как бы мир, увиденный стоя на голове. Подобный переход понадобится и нам, чтобы понять ракету не как вещь среди вещей, но как форму нашей реальности, форму сознания западного человека, "содержащую" в себе все, что конституирует мир как целое, включая и собственно ракеты.
Другое отличие состоит в том, что обыденное сознание опасается ракетного удара как некоего возможного будущего события, стараясь предотвратить его любой ценой, я же склонен полагать, что это событие уже давным-давно случилось и является базисом существования западного человека, да и "реальности" как таковой. "Реальность", в которой мы живем, вовсе не является естественной[2], предшествующей нашей мысли о ней и независимой от мысли. Скорее, это результат насильственного, "искусственного" события в истории души: полета ракеты. Цель данной статьи — проникнуть внутрь ракеты, в ее воображаемое. Фактически, мы обитаем в этом типе реальности уже более двух тысяч лет, но без осознания и представления. Нам, наконец, просто психологически необходимо проникнуть сознанием и воображением в то, что есть наша сущая повседневность.
Ракетам нужны взлетные площадки — надежные, неколебимые основания, с которых они могут стартовать. Третье отличие от взгляда естественного сознания, считающего ракету и стартовую площадку двумя разными вещами (стартовав, ракета покидает космодром), состоит в следующем: поскольку речь идет о воображемой Перворакете, стартовая площадка, конституируется самим актом старта. Площадь опоры не просто источник (прошлое) ракеты, а цель — не просто (будущая) точка предназначения. Ракета, стартовая площадка (базис) и цель (назначение) суть одно и то же.
В период мифа и ритуала, когда опора была укоренена в воображаемом[3], немысима площадка, с которой могла бы стартовать эмпирическая ракета. Мифологическое воображение не создает силы фиксации, необходимой для подобного базиса. Требуется надежность позитивности (позитивного факта) в качестве метафизического эквивалента ровного и мощного слоя "бетона". Это должен быть краеугольный камень. Причем в геометрически строгой позиции, иначе ракета не может двигаться расчетным курсом, согласно законам баллистики. Такого рода математическая точность и позитивная надежность противоречит принципу мифа и ритуала.
Можно было бы возразить, что мифологическое воображение тоже располагает понятием фокальной точки, некой идеей центра Земли, расположенного, например, в Дельфах. Однако этот центр не обладает буквальными позитивными характеристиками, необходимыми для надежного основания, он не является фиксированным центром в физическом и географическом смысле, ибо центров Земли было много. Каждый храм, каждое святилище, по сути дела всякое место жертвоприношения во время ритуальной церемонии было центром Земли. Но такого рода центру недоставало эмпирической реальности, твердой идентичности и неколебимости, необходимой для позитивной локализации. Центр потенциально мог находиться где угодно, ибо не определялся в терминах равноудаленности от периферии (тогда точка центра была бы единственной), он определялся метафизическим измерением — как точка, где вертикаль рассекает горизонталь (горизонт) повседневности, открывая подземные глубины и высоты небес. Стало быть, не имея недвусмысленной горизонтальной локализации, такой центр не годился в качестве незыблемого основания и в вертикальном измерении, он не обеспечивал необходимого упора для отталкивания, для старта, ибо оставлял открытыми подземные глубины, принципиально бездонные по определению.
Именно христианство дало человечеству идею абсолютно надежного, незыблемого основания."…И на сем камне Я создам церковь Мою и врата ада [тех самых подземных глубин] не одолеют ее". (Мф. 16:18); церковь характеризуется как "столп и утверждение истины" (1 Тим. 3:15) — твердость опоры прежде всего. "Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне". (Мф. 7:24, 25). "Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос". (1 Кор. 3:11). В приведенных цитатах явственно видна тяга к абсолютно надежному, позитивно фиксированному основанию, не размываемому течением времени. Это воля к изменению самого значения слова "почва": теперь это прежде всего твердь, фундамент, опора (вместо прежних бездонных глубин), надежная почва полагается в основание, а не расстилается под ногами, готовая к произрастанию и принятию в свое лоно.
Христианство отыскало архимедовскую точку опоры, находясь в которой можно перевернуть Вселенную. Христос и есть та самая точка Архимеда, он тот, кто потряс Вселенную: "мужайтесь, Я победил [nenineka, "сокрушил"] мир". (Ин. 16:33). Для царства мифа подобное желание сокрушить вселенную было бы немыслимым. Единственный из героев греческой мифологии, Геракл, имевший такую возможность, принципиально не воспользовался предоставленным случаем. Он, правда, перехватил небесный свод из-под плеч Атланта, но терпеливо стоял и ждал, не нарушив порядок космоса, "не потряся устои".
Кто-то может подумать, что слова Христа о камне это простая метафора, которой не следует придавать особого значения. Так мы обыкновенно думаем о положениях религии: они суть предметы веры, истинность их зависит от того, верим мы или нет. Полагаю, что дело обстоит иначе. Христианство есть именно то, что оно обещает и чему учит. Это не предмет веры. Наивно относя христианскую весть к сфере субъективных верований, мы прячемся от понимания того, на чем стоим. Христианство фактически утвердило почву под ногами. Более того, оно онтологически основало земную твердь вместо прежней зыбкой почвы с ее бездонными глубинами.
Вот знаменитый плакат Джеймса Монтгомери Флэгга, использовавшийся для призыва добровольцев в армию США во время Первой мировой войны; человек, одетый как Дядя Сэм, показывает указательным пальцем прямо на смотрящего, говоря: "Мне нужен ТЫ".
Плакат, на котором Флэгг изобразил самого себя, оказался столь эффективен, что был использован и во Второй мировой. Общий тираж: 4 млн. копий.
Происходит нечто необыкновенное. Нарисованная, вернее, отпечатанная на плакате фигура человека как бы пронзает своим указательным пальцем и пронизывающим взором плоскость картинки; персонаж вырывается из своего заключения в воображаемом и фиктивном прямо во "внешнюю" реальность, где живут адресаты плаката во плоти и крови.
Этот плакат позволяет кратчайшим и самым ясным путем постигнуть суть единственного достижения христианства. Христианство тоже прорывается сквозь "полотно картины", сквозь экран некоего "фильма", или через "текст" рассказываемого "мифа". Взрывая плоскость картинки, оно совершает скачок из реальности воображаемого в буквальную реальность внешнего мира — в реальность, которая, собственно говоря, и создается самым актом архетипического прорыва.
Христианство точно так же наводит на индивидуума свой пронизывающий взор и направляет на него перст указующий. Оно устремляет решительный взгляд, требуя от человека языком военного приказа: "Иисусу нужен ТЫ".
Говоря об атаке христианства на индивидуума (на всех индивидуумов) и о приказном тоне, я не имею в виду агрессивную форму обращения в веру или миссионерство, свойственное радикальным фундаменталистам. Их поведение может быть расценено с точки зрения самой христианской теологии как прискорбная аберрация — эмпирическая (оптическая) ошибка, случающаяся в истории любого движения из-за непонимания отдельных адептов. Я имею в виду скорее онтологическую атаку на индивидуума, органически встроенную в саму логику христианской вести. Изначально христианство взывает абсолютно к каждому. Оставляя нам ограниченную свободу решать, логически (с точки зрения онтологии человека), оно не оставляет нам выбора, ибо в случае отказа мы оказываемся под метафизической угрозой абсолютного, вечного проклятия. Мы просто должны записаться добровольцами (volunteer as recruits). Выхода нет, нет альтернативы, поскольку альтернатива дается в категориях безальтернативности — как ад. Если мы не присоединились, метафизически мы никто иные как грешники (в теологическом смысле слова). Мы реально не существуем. У нас нет Жизни. Мы мертвы как коллективный труп.
В рекламном бизнесе мы находим идею "нацеленности на аудиторию". Она основывается на понимании различий во вкусах, потребностях и "языке" людей в зависимости от того, кому и что мы продаем. В контексте христианства, ввиду его предельной ставки на индивидуума, мы должны придать этому понятию более радикальный, а именно — метафизический смысл. Речь в данном случае идет не о селективной онтической группе, для которой нужно оптимизировать сбыт; само человечество как таковое впервые получает онто(логический) статус аудитории, на которую рассчитывается попадание, как рассчитывается траектория в баллистике. Аудиторию следует достать, причем достать абсолютным воззванием. Христианство не использует вежливые формы адресации, при которых соблюдается неприкосновенное достоинство Другого и все формы предосторожности при вторжении в сферу приватного. По сути дела, христианство взывает именно императивным языком плаката: Иисусу нужен ТЫ; это не что иное, как ясно выраженная воля к проникновению, к вторжению в святилище личности Другого.
Цель уже укоренена в самом средоточии христианской драмы безотносительно к проблеме сбыта, в то время как в прочих мифах и драмах протагонисты взаимодействуют друг с другом подобно "актерам на сцене" (с богами или мифическими героями in illo tempore), жизнь Христа с самого начала имеет цель за пределами сюжета. Наиболее существенные ходы разыгрываются не между ним и его отцом небесным, и вовсе не во взаимоотношениях с учениками и другими персонажами Драмы. С самого начала постановочный сценарий христианства призван разрушить "иллюзию" пьесы как самодостаточного действа, соотнеся ее напрямую с аудиторией; цель изначально находится за пределами сцены: Христос умирает ради неведомых Ему анонимных зрителей — человечества в целом, которое и следует спасти. Мы видим полную инверсию существа дела. Установка на зачаровывание аудитории воображаемым пространством пьесы и на миметическое повторение происходящего на подмостках души, впервые отменяется. Герой мифа, став слугой аудитории (Мф. 20:28; Лк. 22:27), выходит на просцениум, чтобы обратиться напрямую, разыграть действо, оставив за спиной опустившийся занавес или даже перенести происходящее в повседневную реальность "аудитории", в гущу истории и эмпирики[4].
Направленность вовне есть то, что придает христианской вести характер снаряда. Это самонаводящаяся ракета-носитель vis-a-vis аудитории как цели, предназначенной для поражения. И наоборот, поскольку оно имеет внеположную цель, христианство не предназначено для вечной циркуляции in illo tempore внутри сценического или экранного пространства; снаряд должен приземлиться "здесь", прямо в аудитории, среди "грубых фактов" повседневности. Благодаря этой направленности вовне возможна дифференциация двух типов реальности. Иначе говоря, происходит разделение, сравнимое с делением клетки: возникает позитивная реальность фактического (наша повседневность) и реальность воображаемого внутри некой истории (которая именно благодаря прорыву через прямую адресованность к аудитории становится для нас невсамделишной реальностью, "фикцией", чем-то "всего лишь воображаемым").
Стало быть, именно запуск ракеты христианства открывает и конституирует для нас внешнее пространство, в этом смысле не существовавшее ранее.
Новое пространство обязано своим появлением революционной идее вести как последнего известия, как ракеты-носителя, запущенной из воображаемого в цель, в посюстороннее аудитории. Мы живем в этом отвоеванном христианством (понятии) реальности уже так давно, что нам трудно постигнуть революционный характер скачка и, тем более, воссоздать достоверность прежнего мифологического модуса бытия-в-мире, характеризовавшегося совершенно иным устройством реальности, где круг действительного плавно таял в ауре воображаемого и ничего не оставалось "вне" или, можно сказать, вне оставалось "ничего", ничто. Чтобы представить прежнее устройство реальности, обратимся к изменениям, происходившим в искусстве греков.
Как указывают Б.Швайцер и Бруно Шнелль[5], древнегреческие статуи без колебаний отождествлялись со своим прообразом. Выбитая надпись, например, гласила: "Я, Харес, правитель Тейхиусса". Лишь в Афинах можно было встретить надписи вроде: "Я, образ такого и такого-то…" — что, отчасти, соответствует современному взгляду. Для афинян "реальность" реальной персоны, очевидно, отличалась от ее образа. Статуя только отсылала, или указывала на правителя, "репрезентировала" или "сигнифицировала" его, не будучи идентичной с прообразом. Тогда как раньше, статуя, выражаясь современным языком, репрезентировала саму индентификацию: "вот я, Харес…". Образ буквально излучал власть правителя. Власть исходила на смотрящего путем прямого созерцания статуи. Аура Хареса непосредственно присутствовала в образе, воздействуя на зрителя как поток эманации. Образ обладал властью втягивать смотрящего в собственную реальность. И зрители в самом деле пребывали внутри воображаемого, в плоскости картины, омываемые со всех сторон стихией воображаемого. На этой способности образа вовлекать зрителя в свои архетипические глубины основывается его ненавязчивая, чарующая власть и истина утверждения "Я, Харес, правитель…" То была власть, базирующаяся не на внешних контролирующих инстанциях (оружие, армия, полиция), а на имманентном излучении воображаемого (санскритское bharga, tejas, sri: сияние, fortuna, Konigsheit, сиятельство как манифестация субстанции истинно царственного. Мы и сегодня, посреди христианизированного демократического окружения можем испытывать отдаленное подобие чарующей энергетики воображаемого, например, когда мы теряем себя в мире романа или кино, или когда толпы людей выходят на улицу во время визита какого-нибудь королевского сиятельства, чтобы подставить себя под эманацию sri, сиятельного излучения.
В архаических цивилизациях человек жил внутри такого типа реальности. Другой не было. Христианская весть с ее несмолкающим призывом "Иисусу нужен ТЫ" решительно стряхнула наваждение, вырвала зрителя и слушателя из потока воображаемого. Христианство не замещает одно воображаемое другим, но противостоит воображаемому как таковому, помещая и настоятельно удерживая нас за пределами воображаемого. Занавес за спиной опущен и плотно задернут. Обращение ТЫ фиксирует каждого на своем месте среди аудитории и обуздывает интенцию души слиться с воображаемым, потерять себя в происходящей на сцене божественной драме[6]. Оно отбрасывает нас во "внешний" мир и вот мы, изолированные индивидуумы, носители ego, стоим пред Христом неприкрыты и голы. Только экзистенциально изолированный индивид может решиться выбрать Христа и чтобы принадлежать Ему, должен от-решиться (или быть от-решен) от всего увлекающего за пределы идентичности. Недвусмысленное и решительное да или нет. Прежняя зачарованность слишком непритязательна и не годится для христианской религии. Избрав Христа, избираешь судьбу изгнанника из мифологической реальности и принуждение к изолированной индивидуальности, к Одному-Единственному, как принципу изоляции. Ибо если Христос категорически адресует нам требование о принадлежности к Нему, это значит и сам он есть то, что выражено в обращении "ТЫ", более того: он сам есть принцип возможности указания, оповещения людей и вещей, каковы и что они суть.
Составляющие усилия проникновения через поверхность образа во внешнее пространство буквальной реальности могут быть выражены в эксплицитной последовательности. Первое: прямое, абстрактное указание ("Вот", "Это"). Второе: "Один-единственный" и третье: "Все".
Обратимся к соответствующим библейским цитатам: "Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня". (Ин. 1:30), "И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3:17), "Сей <это> есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию" (1 Ин. 5:6), "Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего <этого> Иисуса, Которого вы распяли" (Деян. 2:36), "…и видел ты Его, и Он говорит с тобою" (Ин. 9:37). Указание и полагание, проникающее через поверхность образа в реальность, выражается не только демонстративом, но и другими лингвистическими средствами: "Ты Христос, Сын Бога живого" (Мф. 16:16), "…ныне исполнилось писание сие, слышанное вами" (Лк. 4:21), "это Я, Который говорю с тобою (Ин. 4:26)
Этот, тот же, Я, Ты, сегодня (здесь и теперь) — мы присутствуем в мире, который Гегель в "Феноменологии Духа" назвал "миром чувственной достоверности". Данная глава гегелевской "Феноменологии" дает как бы философскую экспликацию завоеваний Нового Завета, о которых нам напомнили предыдущие цитаты. Для лучшего понимания природы этого фундаментального завоевания я хочу вновь вернуться к подписи "Я, Харес, правитель…" и сравнить ее с последней из приведенных новозаветных цитат: "Это Я, который…" или с другой, не менее знаменитой: "Я есмь путь и истина и жизнь" (Ин. 14:6). На первый взгляд, древнегреческая и христианская сентенции имеют идентичную грамматическую структуру. Но это принципиально различные утверждения. То, что говорит статуя, носит характер представления при знакомстве: слушающему называется имя собственное и сообщается информация о "профессии". Некто представляется нам. Слова Христа "Я есмь путь и истина и жизнь", напротив, не содержат никакой фактической информации о субъекте высказывания. Это формальная идентификация и именно поэтому она может быть сведена к формуле "Я есть Он". Высказывание Иисуса не сообщает нам ничего о его "профессии" или "особенностях натуры". В утверждении не говорится, например, о том, что я есть путь в отличие от какого-то другого места отдыха. Содержится лишь констатация, что Он — "вот" или "этот".
Все эти разбирательства с "ныне", "это есть", "это Я" служат цели задержать кого-то или нечто и идентифицировать его почти в криминологическом смысле. Вопрос, вокруг которого с самого начала разворачивается дело — "Он это или не он?" есть важнейший вопрос детективных историй, следователей или судей, это вопрос веры или сомнения. Вот почему идентификация может и отрицаться: "не тот!" Так, например, мы читаем: "И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: "Я сшел с небес"?". (Ин. 6:42). Речь идет о заинтересованном, страстном расследовании: это он! Он сделал это! В то время как Харес дурачит и очаровывает нас, свидетельство Иисуса оборачивается против его самого и пригвождает свидетельствующего к самому себе. Выражение "Я и есть Он" является фактически (само)обвинением, синонимом "это он!" или "ты тот самый!" — это формула заключения Христа в Иисуса из Назарета или заключения Бога в исторического Иисуса. Распятие на кресте есть уже следствие пригвождения к самому себе, тотальной идентификации с собой — следствие принципа предельно точной фиксации.
Ситуация, близкая к судебной, объясняет особую роль свидетельствования в христианстве. От каждого христианина по существу требуется вновь "инкриминировать" Иисусу содеянное им. Возникает впечатление, что сокровенной целью Христианства является заключение воображаемого Христа в эмпирического, исторического Иисуса и ежедневное подтверждение вердикта о пожизненном заключении.
В других религиях также были и есть эмпирические личности, воплощающие реальных богов, скажем, фараон Египта или далай-лама. Однако в этих случаях нельзя сказать "сей есть Он", поскольку "бытие фараоном" или "бытие далай-ламой" не было исчерпано в каком-то одном историческом индивидууме, оно было рассеяно (disseminated) во множестве фараонов и далай-лам — как в тех, что жили тысячу лет назад, так и в грядущих воплощениях. Оно присутствовало в том или ином конкретном человеке, но ни фараон, ни далай-лама не располагали природой божественности как своей собственностью. Напротив, быть носителем инкарнации божества означало стирание собственных индивидуальных характеристик, релятивизацию данного конкретного индивидуума как случайного переносчика. Рассеяние инкарнации в череде сменяющихся поколений низводило каждую отдельную манифестацию до уровня genile (genile (лат.) — передающееся из рода в род.), в то время как божественность Христа была сконцентрирована в эксклюзивной личности Иисуса из Назарета и в единственной сфокусированной точке истории, где и удерживалась усилием отождествления. Всякое возможное "здесь" теофании или эпифании было навечно приписано к фигуре исторического Иисуса, все иные варианты заведомо исключались. "Этость" ("Yonder") Иисуса из Назарета поглотила свободные выплески "здесь" и "сейчас". Было остановлено Время Его жизни и присутствия, само Время было схвачено и удержано от течения, от возможной утечки к другим божественным персонажам. Теперь во всей истории есть только один исполненный момент (kairos), делающий все прочее время психологически пустым.
Итак, мы уже вошли в обсуждение второй характеристики скачка из воображаемого в бытие, речь идет о единственности одного. Это тема эксклюзивности, абсолютной исключительности Христа. Он есть Один и есть Единственный, "ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос" (1 Кор. 3:11), "ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись" (Деян. 4:12). Иисус Христос окружен и защищен со всех сторон негациями: "никто", "никто кроме", "нет другого под небом". Указывание (полагание позиции "сей есть тот") явно отсылает не к позитивному, чувственному содержанию, но, в сущности, служит цели элиминирования возможных конкретных имен, вообще конкретности как таковой. "Сей есть" означает редукцию к пустому пространству, к голой точке в геометрическом смысле. Этим актом полагается Альфа и Омега, axis mundi (axis mundi — ось мира (лат.)), поворотный пункт времен, нулевая отметка истории. Речь идет именно о нулевой точке, поскольку она не имеет протяжения в широте мира. Водружение креста на Голгофу и представляет собой первополагание, маркировку нулевой точки Бытия — той, что прежде была где-то, внутри воображаемого и мифического. Основание креста есть архетипический образ идеи, выраженной в утверждении "это он". А перекрестие — это пересечение координатных осей, точка отсчета Бытия, упорядочивающее его в универсальную систему координат. Задолго до того, как нулевая точка была признана математикой, христианство изобрело и утвердило ее в качестве метафизического принципа. И достаточно показательно, что математическое признание нуля как числа произошло в период актуальной реализации христианства[7], а именно в 1629 году (годом позже открытия Гарвеем круга кровообращения), и опять же всего несколькими годами спустя было использовано великим умом, решительно способствовавшим прогрессу христианства — Декартом (1637), ибо Декарт снабдил современного человека fundamentum inconcussum, эго, прочным камнем, на котором современность воздвигла свой дом и откуда могла теперь испытывать природу (разомкнул опыт мифологического и воображаемого).
Так же как в математике понятие нуля сделало возможным прорыв из сферы натуральных чисел и покорение миров отрицательных, иррациональных, мнимых чисел (почему математики и говорят о кардинальном значении открытия нуля), метафизический нуль стал точкой, отталкиваясь от которой, дядя Сэм, если выражаться фигурально, смог прорваться в потустороннее воображаемого, т. е. в наше "здесь и сейчас".
Мы не поймем истинного смысла христианской вести или не поймем исключительности Иисуса Христа как "одного", как начальной точки или нуля в строгом метафизическом смысле. Можно, конечно, начинать с представления о реальной персоне, чье имя было Иисус из Назарета, с такими-то и такими-то конкретными чертами, который был избран Богом и явлен как Мессия среди людей. Данный взгляд далеко отстоит от христианской идеи. Это все еще языческое восприятие христианства, растворение его специфики в мифологической версии бога. Не может быть того, чтобы сын Божий неким случайным образом воплотился в человеке по имени Иисус, нельзя допустить даже теоретическую возможность появления кого-то "другого под небесами". Иисус должен пребывать как Один и Единственный, чтобы быть Иисусом Христом. Но если он Один в абсолютном смысле, он и есть пустая безразмерная точка. Даже имя его не может быть конкретным именем под небесами, оно — имя для "неименуемого", для абстрактного "это".
Идентификация или отождествление производят с помощью формулы "это он". "Иисус Христос" — не что иное как образец образцов отождествления. Дело не в том, что известная эмпирическая личность здесь и известное трансцендентальное понятие "там" сопоставляются и уравниваются с помощью связки. "Иисус Христос" — это не фраза наподобие "Эйнштейн, физик" или "Наполеон, император Франции". Это вообще не пропозиция. "Иисус (есть) Христос" представляет собой скорее акт сосредоточенного уравнивания, события полагание "этого", прыжок из мифического или воображаемого в позитивно-фактуальное ("позитивистское").
Если бы фраза "Иисус, Христос" должна была соединить и идентифицировать две известные сущности (два конкретных содержания), как в случае "Эйнштейн, физик" (мы знаем, кто был Эйнштейн и знаем, что такое физик) она осталась бы все в той же сфере реальности, без всякого скачка оттуда — сюда. Этот фундаментальный прорыв достижим лишь в том случае, если в фразе "Иисус, Христос" ничто не идентифицируется, ничто из существующего до и независимо от акта идентификации. Прорыв возможен только если фраза является чистой архетипической схемой идентификации, актом первополагания равного знака, в котором особенное содержание субъекта и предиката "Иисуса из Назарета" и "Христа" (с одной стороны просто "этот", с другой — просто "он") разрешается в чистое равенство абстрактного Одного, т. е. в нуль. Если Иисус Христос воистину тот, кто должен победить мир и спасти нас, Он не может сначала быть неким особенным человеком со многими атрибутами, а затем еще и Воплощением. Сама природа Его должна заключаться в голом факте "Сей есть тот"; остальное, что мы узнаем о нем, следует из этого отождествления. Графический, живой образ Иисуса Христа, вырисовывающийся в христианском почитании, есть графическая развертка нуля, основанная на утверждении "это он". В противном случае спасение не работает.
Я отметил ранее, что христианские учения — это не набор информации для размышления, они суть именно то, чем себя провозглашают. Причина этого теперь ясна. Слова Павла "никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос" — это не предмет веры или неверия, не в большей степени, чем изобретение колеса, пороха или создание атомной бомбы. Утверждение Павла и есть та истина, которая утверждается, поскольку, во-первых, идентификация или отождествление Иисуса есть акт первополагания "этого", пригвождающий "это" к самому себе, а во-вторых, надежное основание основано самим полаганием, его твердость именно этим утверждена.
Первополагание "это он", "сей есть тот" представляет собой a priori условие возможности позитивной реальности ("позитивизма"), зависящей не от эпифанической манифестации богов, а порождаемой прорывом из воображаемого сюда, происходящим в акте полагания.
И нет другого способа достичь Архимедовой точки за пределами "неисчислимого" мира мифического воображения, кроме фиксации нуля через тождество "Иисус, Христос". Но где событие фиксации и установления нулевой точки свершилось, там основание воистину положено; перекрестие креста есть исходный пункт всеобъемлющей системы координат. Крест воздвигнут и не может быть другого основания, ибо нуль как отправная точка дается однажды. Новые изобретения суть переизобретения той же самой вещи.
Несомненно также, что следующие слова священного писания утверждают нечто, имеющее силу факта: "Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. <…> Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни" (1 Ин. 5: 4;12). Это, конечно, не предмет веры как мы продолжаем наивно полагать, речь идет о твердых фактах, с которыми имеет дело и верующий и неверующий, но неведение слишком большая роскошь, которую мы не можем больше себе позволить. Всякий верующий, что Иисус есть сын Божий, совершает акт идентификации, поэтому акт совершаем непрерывно, и это есть единственный способ победить мир, открыть буквальную реальность Бытия (теологически именуемую "Вечной жизнью"). Основные утверждения христианства нисколько не "мистичны". В терминологии Канта они скорее могут быть названы аналитическими (чем синтетическими) суждениями; т. е. такими, в которых предикат не добавляет ничего нового к субъекту, а лишь эксплицитно развертывает уже содержащееся в субъекте: "прыгнувший в воду — промокнет". Мы знаем, что прыгнувший в воду промокнет, и что такой прыжок возможен практически. Равным образом очевидно, что прыжок из точки "это он" переносит в "вечную жизнь". Нет сомнений и в практической возможности, поскольку мы живем во Внешнем пространстве, куда скачок был совершен две тысячи лет назад.
Содержимое природного мира окружено мифическим сиянием. Христос был бы здесь мифическим образом, равно как и Иисус из Назарета. Что более существенно, люди того времени вели свое происхождение от богов (отсюда вытекала и природа человеческого). Смертные существа населяли ту же сферу, что и боги. Божественное и человеческое, архетипическая и эмпирическая реальность зеркально отражались друг в друге, существование было погружено во взаимную нескончаемую рефлексию, без всякого радикально-внешнего, без фиксированной точки позитивно-фактического мира.
Дяде Сэму, изображенному на плакате, нетрудно было совершить прыжок из воображаемого в тот мир, где жил художник, ведь художник жил спустя 2000 лет после начала христианства. Дело обстояло совершенно иначе для ситуации первоскачка — другого пространства, кроме мифического, просто не было. Здесь сам скачок должен был создать, если можно так выразиться, "из ниоткуда" место приземления, не существовавшее в момент прорыва, идентификация "это он" или "Иисус, Христос" порождает горизонт прорыва из воображаемого и позитивное основание как место приземления следующим образом. Производится абсолютная сингуляризация среди многообразного и равновозможного в пространстве мифа-воображения (точка нуля впервые полагается актом сингуляризации) и Один-Единственный удерживается со всей тотальностью силы как "этот", с безоглядной решимостью приравнивается к "Христу", одновременно все прочие вещи и события, сама природа, лишаются достоинства самобытной автономности, это метафизическое достоинство изымается у них. Актом силовой идентификации вводится дуальность миров: Христос здесь, безопасная реальность там, или эмпирическая личность здесь, божественная — там. Знак равенства перекидывается через неустранимую пропасть разделения, тем самым впервые полагается этот и тот мир[8].
Абсолютным разделением и, одновременно, абсолютной идентификацией несовместимых полюсов дифференцировки как раз и полагается "твердое основание": буквальность и позитивность Бытия как такового. Это фундамент, на котором может быть возведен мир позитивных фактов, в корне отличных от мифического воображаемого, на нем же зиждется буквальная вера в метафизические "истины", ибо и то и другое укоренено в правильно понимаемой самоидентификации христианства. Позитивная фактуальность базируется и на отрицании, встроенном в отождествление "это он" или "никто другой". Или точнее: позитивность позитивно-фактуального определения негативностью нуля. Без абсолютного отрицания, без радикального смещения из полноты и широты мифологического мира в пустую точку нуля, не было бы никакой позитивности, не было бы Архимедовой точки, с которой могла бы взлететь ракета, не стартовали бы ракеты науки, индустрии и технологии, которые уже потрясли Вселенную.
Но плакат с дядей Сэмом остается все же плакатом, образом. Нарисованный дядя Сэм не сходит с полотна в аудиторию. Нам лишь кажется все это, поскольку мы обольщаемы аурой природного-воображаемого. Прорыв воображаемого свершается в образе и есть не что иное как образ. Очевидно, что идентификация "это он", равно как и выход во Внешнее Пространство позитивной реальности суть некие операции на поверхности воображаемого. Внешнее Пространство порождаемо в сфере мифа, и чтобы стать вне воображаемого, оставаясь его порождением, ему требуется сокрыть свою природу, встав в радикальную оппозицию к любому другому мифическому образу. Прорыв воображаемого обеспечивается ограничением, решительной дискредитацией сопредельного мифического; оно сгущается в архетипическую идею чистого и пустого "это" — путем эксклюзивного зануления (by being exclusiveloy zeroed) на поверхности воображаемого фиксируется точка единственной истинной реальности. Все достояние научного знания о позитивных фактах реальности есть не что иное как амплификация и экспликация этого единственного архетипического "первообразца", нуля.
Мы думаем, что черные дыры, обнаруженные астрономами, отстоят от нас на много световых лет и находятся где-то там, во внешнем пространстве космоса. Мы и не догадываемся, что с началом грандиозного скачка из воображаемого — сюда, сами обитаем во Внешнем Пространстве, представляющем собой черную дыру. Тот факт, что лишь в этом столетии черные дыры были обнаружены в астрономической Вселенной, еще раз подчеркивает, что нечто самое важное для нашего психо-логического понимания всегда приходит извне. Открытие черных дыр в двадцатом столетии может означать, что пришло, наконец, время осознать, кто же мы такие, сами сидящие в черной дыре; уяснить, что наша внутренняя природа содержит все характеристики черной дыры: она произведена путем мономаниакального зануления ("сей есть тот", "это Он") всего происходящего в одну архетипическую точку и последующего (в связи с накоплением "критической массы") взрыва нулевой точки — взрыва, породившего Вселенную человека Запада.
Немногое остается добавить по поводу третьей характеристики посадочной площадки. Третий аспект по видимости противоположен нулевой точке: Все, целое, тотальность. Смысл абсолютной точки отсчета устраняется, если только рядом с ней есть еще нечто, автономно существующее в собственных правах. В этом случае нуль есть просто нечто. Смысл единственного прост: нет наряду с ним других единственных (других имен под небесами): иначе мы вновь оказываемся в мифологической среде, непригодной для установления прочного основания. Вот почему нуль есть принцип целого, притом его единственный принцип. Он должен иметь статус гегелевского Aufhebung (устранения — снятия) для всех единичных вещей. Любая вещь должна быть подчинена ему, выведена из его правил, именно это требование мы находим в послании св. апостола Павла к Ефесянам: "в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом" (Еф. 1:10).
Каким же образом все прочее может быть подчинено правилу нуля; поглощено и втянуто в черную дыру? ответом на вопрос является крест как архетипическая идея системы координат, средоточие всякой возможной ориентировки и локализации. Крестообразный архетип преобразует эпифанический космос мифа в позитивный "универсум". Только в таком космосе предзадано упроченное из воображаемого основание; упроченное настолько, что с него могут взлетать и буквальные, эмпирические ракеты. Всякое иное основание, текучее и многослойное, не зануленное в воображаемом, непригодно для старта ракеты.
В "универсуме" Один и Все суть одно и то же (поскольку основаны на принципе нулевой точки), подобно тому как целевая баллистическая траектория ракеты совпадает с невидимой силовой линией падения в черную дыру, подобно тому как взрывное развитие науки, техники и промышленности совпадает с прочерченной траекторией скачка[9]. И все эти траектории равноудалены от полицентрической автономности воображаемого и природного.
Перевод А.Секацкого
Митин журнал. Вып. 53 (1996 г.). Редактор Дмитрий Волчек, секретарь Ольга Абрамович. С. 228–243.
Производство времени [10]
Время, то, в котором мы живем, кажется данным a priori вне всякой досягаемости людей, которые, с неизбежностью подчиняясь ему и ограничиваясь им, потому и получили имя "смертных" у греков — в отличие от богов, наслаждающихся вечной юностью. Но, конечно, столь же хорошо известно, что идея и опыт времени менялись в ходе человеческой истории. Мы отличаем, например, циклическое чувство времени, свойственное самым архаическим народам, от линейного чувства времени, правящего нашим бытием-в-мире. В некотором смысле, впрочем, время может быть подчинено человеческой истории, так же как история казалась прежде подчиненной времени и укорененной в нем. От этого противоречия можно избавиться, если различать два типа времени — актуальное время (время-1) с одной стороны и идею опыта времени (время-2) с другой. Время-2 как человеческая концепция будет тогда содержаться во времени-1 и подчиняться ему, всемогущему Времени истории. Однако, философский трюк разделения одной и той же вещи на два разных типа никогда не бывает слишком убедительным так же и здесь недолгое размышление вынудит нас признать, что время-1 в такой же мере может быть человеческой идеей, как и время-2 — стало быть, проблема остается.
Вместо того, чтобы пытаться разрешить дилемму по-философски, я хочу сейчас показать — как, каким именно образом наше время, линейное историческое время, время, в котором происходят события физики, эволюция видов, история человечества, является продуктом первоначального (original) изобретения и производства. Производство, конечно же, осуществляется не на фабриках, а в первичной индустрии воображения души.
Мы можем обратиться к пророкам Ветхого Завета, чтобы проследить процесс фабрикации исторического времени.[11]
Первоначально слово пророка было устным, адресовалось людям его времени и окружения. Но затем, в какой-то момент, пророчество было вверено письму, оно стало литературой. Исаия, отвергнутый правящими кругами Иерусалима, решает "сохранить свидетельства, запечатлев закон среди (или "в присутствии") моих учеников" (Исаия 8:16)[12]. В свободном переложении на современный язык[13] этот стих означает: "Я доверю Божьи предупреждения и наставления тем, кто слушает меня, чтобы они надежно сохранились подобно монетам в прочном кошельке". Почему же он хочет отложить слово Господа про запас? Потому, что для подтверждения истины своего пророчества он рассчитывает на будущее. "И я буду, — гласит следующий стих, — ждать Господа, отвратившего лице Свое от дома Иакова и буду <в надежде> ожидать Его".
Этот пассаж является документом психологического события с серьезными последствиями. Происходит нечто экстраординарное в реальности душевной жизни. Религиозный опыт (пророческое слово) не выпускается в мир, не обращается к собственному времени пророка, где он мог бы оказаться эффективным или неэффективным с точки зрения соответствия <реальности>. Он фиксируется и сохраняется в резерве. Укрывается и сберегается как деньги в хорошо завязанном кошельке. "Высвободить" всегда влечет за собой "избавиться". Когда слово высвобождено, оно исчезло. Оно больше не подконтрольно говорящему. Акт записывания, напротив, сохраняет слово во владении воспринимающего откровение. Психологически, акт укрывания вызывает эффект интенсификации силы слова, потому что оно концентрируется и настаивается.
"И я буду ждать Господа и буду в надежде ожидать Его". Исаия, очевидно, ждет момента, когда пророческое слово, полученное им в опыте откровения, и историческая, социальная реальность будут приведены к совпадению. Как мы узнаем из следующего стиха, Бог отвратил лицо свое от его народа. Пророк отвечает на это сокрытие со стороны Бога сокрытием и утаиваньем его пророчества. Абсолютная непреклонность по поводу истины Божьего слова, т. е. по поводу точного соответствия личного религиозного опыта и публичной реальности, может, таким образом, остаться нерушимой. Это просто немыслимо и непереносимо — таково, кажется, чувство Исаии, что архетипический опыт, видимое и слышимое откровение, не совпадает с человеческой реальностью. То, что я узрел в видении, должно быть исполнено в вечной реальности.
У Иеремии мы видим, какой могущественной может быть воля к реализации. Иеремия "как-то раз открыто обвинил Бога в вероломстве"[14]: "Неужто всегда будешь лжецом передо мною, как водопад шумящий?" (Иер. 15:18). Испытываемое расхождение между опытом и реальностью вынести не просто. Здесь нет раз-очарования, раз-уверения или релятивизации, нет и характерного для мифологического бытия-в-мире различения между архетипической и эмпирической истиной, когда одно просто отражается в другом без буквального совпадения. Совпадение здесь просто должно быть. Но поскольку это требование совпадения не исполняется, оно переносится из настоящего в отдаленное будущее как единственное место, где совпадение по-прежнему возможно. То, что не есть истина, не может, и уж тем более не должно стать истиной. Наоборот, можно сказать, что изобретение будущего и есть тот путь, которым воля к абсолютному создает саму реальность.
Мы присутствуем здесь при рождении будущего (futurum) из воли к буквальной реализации содержания духовного прозрения или архетипического опыта. Это будущее, как место желания, или, скорее, воли и потребности в могуществе, не существовало всегда. Оно было изобретено: произведено посредством ясно указанной процедуры. Метод подобного изобретения состоит в том, что духовный опыт данного настоящего вверяется письму и тем сберегается, сохраняется за пределами своего собственного настоящего. Или, иными словами: само настоящее замораживается. Ему не позволяется естественно пройти, пройти к концу, смениться другим настоящим. Настоящее не означает здесь пустого, абстрактного момента "сейчас" на оси линейного времени. Настоящее есть некое качество, в нашем случае содержание специфического религиозного опыта. Запирая содержимое этого настоящего (слова, открывшиеся Исаие), мы получаем возможности продлить и удержать его за пределами собственного времени настоящего. Все будущее будет тогда только порывом, пролонгацией, настоятельностью настоящего, т. е. присутствием того, что открылось Исаие в откровении, возможностью бесконечного продления настоящего. Поток первоначального времени задержан (is arrested)[15]. Пришествие (будущее как "время, которое приходит" — ср. нем. Zukunft = "будущее", букв. означает "время, идущее нам навстречу") новых событий, одного за другим, а также и новых откровений, приостановлено, поскольку уже зафиксированное настоящее расстилается таким образом, что исполняет роль всего времени, времени вообще.
Все происходящее обращается тем самым в простой "момент" (в смысле конструктивного элемента, шага или стадии) развертывания этого одного, продленного за свои пределы момента. Линейное время, или время, правящее нашим чувством времени, то, на котором базируются наши науки (физика, равно как и история), есть "искусственный" продукт. Это продукт абсолютизации одного единственного момента, выделенного из потока моментов первоначального времени. Так же как Бог-творец покидает ряд мифических божеств, всегда бывших божествами природы и божествами в природе и возвышается над всей природой, полагал себя как сверхестественного, внемирного творца естественного мира, так и единственный момент возвышается здесь над естественным течением событий и провозглашает себя временем как таковым, единственным и истинным временем. Время физики и истории, астрономии и биологической эволюции, в действительности не являются временем вообще, "истинным" временем (куда должна была бы также выходить и эпоха мифологического мышления, по каким-то причинам не имевшая идеи линейного времени). Скорее это лишь момент первоначального времени. Нам приходится признать, что астрономия и биологическая эволюция и история историков суть не более чем аспекты одного фиксированного момента. Физика, биология, астрономия, история представляют собой разработку и развертывание воображаемого содержания этого одного, качественно-определенного мгновения, распростертого в бесконечную длительность, тогда как другие мгновения или присутствия (presences), характеризующиеся своим особенным качеством, при этом исключаются.
Мы можем взглянуть на все и с другой точки зрения. Если бы Исаия не сохранил свое откровение как сокровище в сейфе банка, тогда другой религиозный опыт, совершенно иной природы, мог произойти с ним или с теми, кто шел ему вослед. В мире, построенном мифологически, каждое настоящее имеет собственного бога или миф как внутренний образ своей качественной субстанции. Вот был момент рождения, вот — войны, вот — любви и зачатия, тьмы, засухи, урожая, болезни, праздника солнцестояния — чего угодно. Время было пришествием вечно-новых архетипических ситуаций, т. е. манифестацией различных богов, где каждый появлялся в свое время, и его природа раскрывалась в своем особом мифе. Можно было бы сказать, что Исаия отъединяет один миф от всего многообразия различных мифов, обращая его в единственный миф, в супер-миф. Он взгромождает этот один, прежде интратемпоральный[16] миф поверх времени как такового, так что отныне времени не остается ничего иного, как быть развертыванием единственного мифа. Один определенный момент или миф, теряет свою заменимость (собственное "от сих до сих", свое назначенное время) и становится абсолютным.
Дело обстоит так, как если бы одно единственное стихотворение из всей нашей литературной истории было бы возведено в позицию Стихотворения, а все прочие стихи считались бы простыми экспликациями, индивидуальными вариациями содержания этого сверх-стихотворения. Или как то, что расхожее понимание приписывает гегелевской философии: быть единственной философией, по отношению к которой все философемы прошлого суть лишь частные моменты. Или как в психологии развития, например у Эриха Ноймана, где выделяется один архетип (Великая Мать) из всего множества архетипов и божеств, а всем прочим либо отводится служебная роль, либо они оказываются простыми фазами развития этого единственного архетипического принципа.
Природа времени заворачивается вовнутрь. В акте узурпации внутренний "кусок" времени провозглашает себя временем по большому счету. Спасение есть тот способ, которым единственное настоящее захватывает власть над всем будущим и навязывает ему свою тему как одну и единственную тему. Способ, которым эта тема, принадлежащая только к одному настоящему, возвышается до исключительной мотивировки, действенной для всех" настоящих моментов" истории, лишенных, впрочем, собственного истинного настоящего. Последовательность вечно-различных пришествий (разных богов, моментов, времен), заменяется на единственную heilgeschichte[17] монотеистического Бога. История перестает быть потоком событий и превращается в одно исключительное повествование, в рассказывание супер-мифа, и задача наших наук — непрерывно развивать и приукрашивать его. Это одно-единственное повествование имеет свое начало, подобно всякой истории, свой Genesis[18] — происхождение, неважно какие — "в начале было Слово" или "в начале был Биг Бэн"; у одной истории может быть много версий, и процесс ее рассказывания еще не окончен. И у нее есть свое завершение (эсхатология), так же как и линейное и недвусмысленное течение от начала к концу, нетерпеливое понукание конца, так называемая история.
Это равносильно трансформации сущности будущего: вместо пришествия, эпифании, будущее означает теперь исполнение сбереженного, промедлившее окончание: апокалипсис. В христианских терминах само пришествие — это лишь пришествие Того, кого долго ждали, оно лишается своего непредсказуемого характера[19]. Ведь в каком-то смысле истинное пришествие <будущего> — это появление незваного гостя, неожиданной, порой жуткой и даже оскорбительной реальности.
Коль скоро это понятно, можно обнаружить, что науки — это рассказывание единственного повествования, они суть миф, единственный миф, находящийся в процессе собственного конструирования и рассказывания. Миф только кажется истиной по той причине, что мы абсолютизировали его истину (своя истина есть у любого мифа) или уступили такой абсолютизации, свершившейся когда-то в далеком прошлом. Содержание, или сообщение этого мифа есть идея абсолютного. Но это, конечно, не значит, что повествование об абсолютном есть абсолютное повествование, и понимая это, мы в состоянии разглядеть сквозь внешность, что мы попались и можем медленно, постепенно идентифицировать современную физику, астрономию, теорию эволюции, науку истории как гигантские произведения литературного жанра, именуемого "fiction"[20] или "belles lettres" — и тем приписать их к душе, к воображению. Говоря о беллетристике (fiction) я вовсе не хочу сказать о ней ничего плохого. Не думаю я также и утверждать, что науки не имеют дела с истинами в смысле достоверного знания, как они это провозглашают, а занимаются, вместо того, неосновательными фантазиями. Несомненно, результаты наук, в известных пределах признанной научной установки, и в самом деле "истинны" (достоверны). Но, то, что нам необходимо сделать — это вернуть несомненную "истину" (научных результатов) назад к воображаемому как одному расширенному, продленному моменту (изнутри) мифического воображения (времени). Под научной фантастикой (science fiction) мы понимаем особый жанр футуристических текстов. Но мы начинаем понимать, что сами науки — учения и прозрения наших физиков, историков и т. д. — есть действительная, буквальная science fiction, и не вопреки, а именно благодаря своей научности.
Удалившись столь далеко от первоначального пункта, от пассажа Исаии, я хотел бы теперь вновь вернуться к Исаие, чтобы проверить, в свете нашего обсуждения, что происходит в его тексте. В Ис. 30:8 Господь повелевает Исаие записать свои слова. "Теперь иди, запиши их на столе пред ними и внеси их в книгу, чтобы могли они быть [точнее: могли служить свидетельством] для грядущих и грядущих времен. Ибо это вероломный народ, лживые дети, дети, которые не услышат закона Божьего".
Здесь мы наблюдаем протяжение в будущее. Записанное слово станет истинным когда-то в будущем и тогда восстанет как свидетельство против тех, кто не участвовал в религиозном опыте Исаии: слово Божие как бомба времени для них. Резервирование уплотняет и интенсифицирует содержание одного опыта в бомбу. Это важно отметить, поскольку помогает различать между пророческим сокрытием своей истины между учеников, и секретностью, преобладающей в мистериальных культах и мужских секретных обществах. В то время как в культах эзотерическое молчание является аутентичной целью, пророк не оставляет намерения сообщить (проповедовать) слово, и его молчание просто служит для достижения большей мощности, в пределе — абсолютной распространимости к концу. Естественные условия проповедования с их обстоятельствами (то с большим, то с меньшим успехом) уже не приемлемы для него. Ему требуется, так сказать, Endlosung[21], определенное решение ("во веки веков", раз и навсегда).
Настоящее и отдаленное будущее сводятся воедино одним словом откровения. Будущее — это не иное, свежее настоящее (пришествие), а лишь исполнение этого настоящего, взрыв припасенного слова в вечную реальность. Это последняя глава повествования, первая глава которого засвидетельствована в откровении Исаии. Отныне и человек и все сущее и происходящее имеют место во времени. Время стало всеохватывающей упаковкой, или контейнером для всего, что есть, а все, что есть, в свою очередь, "впервые" превратилось в бренное и мирское, тогда как прежде происходившие с человеком события происходили как время, как пришествие, эпифания.
Поскольку актуальное настоящее Исаии есть только инаугурация той новой формы настоящего, которую мы могли бы назвать историей, и поскольку оно существенно неисполнено, и его исполнение красноречиво отодвинуто на отдаленное время, — существование во времени становится ожиданием, преисполненным надежды ожиданием Его (Ис. 8:17). Качественный момент сам по себе уже более не завершен и не полон. Ожидание в надежде — это психологическое отражение затаенного дыхания, а также отражение фиксированной, задержанной истины (настоящего); задержание предохраняет ее от истощения и исполнения себя. Душа человека возведена в предельное напряжение, ей придается реактивный, орбитальный толчок, потому что завершение повествования еще только должно произойти, и душа по необходимости всецело увлечена к этой отдаленной цели, ибо задержанный момент так же, и даже в первую очередь требует завершения. Что происходит в результате задержания, так это расщепление момента на arche с одной стороны и свой telos с другой, а их разведение производит огромное внутреннее напряжение, соответствующее критической массе при ядерной реакции. Ибо этот раскол, как и при неврозе, носит характер диссоциации: происходит разделение внутри единства, а не разделение самого единства. Его следует понимать как единство разделения (расщепления, разброса) и единения (собирания воедино) — это то самое напряжение, которое в конце христианского эона, когда оно низвелось с объективного духовного уровня в частную жизнь и субъективную эмпирическую чувственность, приходится постоянно воспроизводить и воссоздавать с помощью триллеров и массового кино. Требуются развлечения и разнообразие, чтобы убить пустое время между суровыми полюсами одного задержанного в своем течении настоящего и сделать выносимым нескончаемое ожидание систематически откладываемого конца. Но и наоборот, развлечения нужны для того, чтобы вклинить их между полюсами для воссоздания постоянной поляризации, задающей пустоту времени, ибо без такого непрерывного воссоздания разведенные arche и telos мгновенно сомкнутся в коллапсе.
Напротив, во времена мифологического бытия в мире, триллеры и романы времяпрепровождения были бы невозможны, ибо тогда каждое настоящее завершалось в своем собственном времени, оно отпускалось к прохождению с самого начала. Теперь же arche и telos намечают границы (начальную и конечную точки) на противоположных концах событийной траектории. Первоначально они были не точками, а возобновляющимся началом, возобновляющимся окончанием, и потому могут быть представлены как две нити настоящего, две зеркально подобные неразрывно-связанные нити, как те, что образуют двойную спираль ДНК. Начинать — это значило быть в процессе завершения, и именно устремляясь к концу достигать реализации и завершения. А "прекратить начинаться" означало быть навсегда-закончившимся, мертвым, прошедшим. Отпускание к завершению было равносильно несдерживаемому саморасходу части явлений, их форсированной саморастрате и, тем самым, приводило к онтологической щедрости. Заключение не резервировалось и не утаивалось, словно бы для взрывного выброса "на последних страницах романа". Направленный и отпущенный к своей финальной цели (телосу или архетипическому образу), каждый момент был онтологически и логически (не обязательно онтически) исполняющимся с самого начала и на протяжении всей своей длительности. Никакого времяпрепровождения. Никакого затаенного обличительства. И, по контрасту, никаких примет онтологической скупости.[22]
Моя парадигма для конституирования времени в архаической ситуации — это бега на беговой дорожке (stadion) ранних Олимпийских игр. Такие игры, и в особенности бега, вероятно происходят из культа мертвых и из похоронных обрядов героев (вроде похорон Патрокла, описанных в "Илиаде")[23]. Устремляясь к цели и к финишу, бегун зримо доносит до каждого theoros'а[24] значение или смысл времени и жизни. Он бежал к завершению забега и к своему истощению, символически — к смерти. Связь между бегами и смертью во многом подтверждается позднейшей терминологией греческих врачей. Они называли последнюю стадию смертельного недуга to stadion — "бег к финишу". Но финиш не означал просто "вот и все". Он означал также исполнение. Ибо для бегуна финиш не достигался просто в забеге и из забега. Он прибывал к своей цели на вершину алтаря бога (Зевса), находящуюся в конце беговой дорожки. Там он должен был завершить жертвоприношение, начатое до забега, поднеся огонь к политым кровью дровам (алтарь и состоял из смеси жертвенного пепла с землей), чтобы сжечь приготовленные части приносимого в жертву быка. Пламя, пожиравшее куски жертвенного животного, подтверждало, по сути дела праздновало одновременно и смерть, и исполнение жизни. И, как утверждают Корнфорд и другие, культовые бега заканчивались священной свадьбой, божественным перевоплощением, в котором бегун достигал окончательной цели (telete), а присутствующие переживали свою сопричастность.
Это та точка, с которой мы можем попутно указать на некий проем, открываемый вышеприведенными размышлениями в философии Жака Дерриды. Когда мы слышим, что Деррида характеризует свои собственные усилия как "продленное промедление", когда подумаем о месте, которое он приписывает письму (ecriture) и differance, отсрочке, когда мы поразмыслим также о клаустрофобическом[25] чтении Гегеля и всей истории западной метафизики, которая, с его точки зрения, преисполняет враждебностью к любому "присутствию", все это может указать, до какой степени его произведения связаны с типом мышления, провозглашаемым пророками Ветхого Завета. Логическая операция, которая проявлялась у них лишь внутри темы и как тема, как особая объективная реальность, о которой они говорили (буквальная дистанция между "сейчас" и "потом" как двумя раздельными онтическими точками во времени) в его мышлении стала, после сильнейшей сублимации, очищения и интериоризации стилем сознания, или логической формой ("деконструкцией"), способной вместить всякое содержание. И, обозревая связь между настоящим, смертью и архетипической исполненностью (telete), возникает вопрос, не стоит ли за атакой на "присутствие" и стратегией откладывания, наполненная глубоким психологическим смыслом попытка отсрочить смерть навсегда.[26]
В соответствии с тем, что мы выяснили, вовсе не случайно, что историческая книга западного христианства, Библия, взрывается на своих последних страницах Откровением (рассказывая историю о срывании последней печати с книги, лежащей за семью печатями), и это особое откровение имеет, в свою очередь, апокалиптический (катастрофический) характер. История Христианского Запада, как история спасенного, задержанного момента, должна была завершиться апокалипсисом. Однако теперь апокалипсис может быть понят как конец этого одного момента, а не как конец вообще. Коль скоро мы боимся апокалиптического конца истории в атомной или в экологической катастрофе как абсолютного конца, значит мы все еще уравниваем один момент времени и время как таковое, показывая тем самым, до какой степени мы слепо заключены в этот единственный момент. Апокалипсис, случись он вдруг, был бы концом именно этого заключения и входом в новые моменты, новые настоящие.
Исходя из нашей истории, как она представлена, кажется, что Исаия записывает и укрывает Божьи слова потому, что Бог остается сокрытым от "вероломных, лгущих людей": утаивание как реакция на отказ со стороны людей слушать и внимать. Но, может быть, было бы лучше понять укрывание, осуществляемое пророком, и не-слушание людей как две симультанные стороны одной и той же воображаемой ситуации, причем так, что утаивание пережитой истины имеет определенный логический приоритет внутри этой симультанности, а сокрытость Бога от людей является неизбежным следствием. Быть может, особенное настоящее, с которым имел дело Исаия и которое по-прежнему остается нашим — это специфическое настоящее записанной (и тем самым замороженной) истины и исполнения, отодвинутого и отсроченного ко дню некоего отдаленного будущего. И потому только, что существует задержанное настоящее, существует и настоящее сокрытости Бога (= не-слышание со стороны людей) и настоящее ожидания-в-надежде для пророка в течение этого опустошенного времени. Быть может, пророку также требуется "вероломство" людей и собственная изгнанность в качестве необходимого ингридиента особой архетипической фантазии, в которую он пойман — чтобы были даны достаточная мотивация и толчок воистину революционному деянию перемещения происходящего от уютного, преходящего слова к записанному, абсолютизированному сообщению благодаря спасению слова и формированию его в бомбу времени.
Будь это так, это значило бы, что покуда истина момента спасена и сохраняема как монеты в надежном кошельке (можно сказать — пока она остается фиксированной как доктрина веры, метафизическая истина философии или научная истина), до тех пор и исполнение будет обещаться как "грядущее во веки веков", — но тем самым, именно из-за своей спасенности, истина никогда и не могла бы вступить в бытие, она откладывалась бы до греческих календ, получала бы отсрочку навсегда. Сущностная неисполненность ожидания-в-надежде была бы постоянной. Но, с другой стороны, это значило бы, что исполнение может осуществиться, если только настоящему будет позволено преходить и пройти, что как раз и заложено в его внутренней тенденции. Скрытая в нем истина была бы отпущена в открытость и подчиненность свободе собственного течения — явным образом в риск своего (и нашего) умирания и исчезновения. Это было бы возвращением истины к поэтике бытия, воссозданием реальности в пропасти psyche — воображаемого.
Для Иезекииля особенно характерен специфический жанр пророческого стиха, получивший название Erweiswort (слово доказательства) благодаря Вальтеру Циммерли.[27] В подобных стихах сначала идет оповещение о деянии Яхве, сопровождаемое затем декларацией цели ("дабы вы знали"). Иезек. 37.12–14: "Смотри, народ мой, я отверзну ваши могилы и дам восстать вам из ваших могил и приведу вас на земли Израиля, и познаете тогда, что я есть Бог Сущий, когда отверзну ваши могилы и выведу вас из ваших могил… тогда же познаете, что я есть Бог, сказавший это и сделавший так, — сказал Господь". В подобных "словах доказательства" мы видим с ясностью, не оставляющей сомнений, как ядро одного момента расщепляется, и два полюса критической массы разводятся словно эластичный атлетический эспандер, как бы создавая единую дугу для всей будущей истории. Сейчас, в настоящем, мы слышим предварительное оповещение о будущем деянии Бога. Это одна "половина" момента, его arche, отщепленная от непрерывности перехода в свой telos и установленная в одну сторону. А далее имеется (будущее) осуществление данного обещания посредством представления самого деяния как очевидное доказательство того, что "Я есть Бог, сказавший это и [воистину] сделавший так". Это другая половина того же момента, его telos, в котором он находит свое исполнение. Так же как arche было установлено по одну сторону, очевидно, что при расщеплении telos был установлен по другую сторону. Оповещение в настоящем истинно, но не реально, потому что существует без собственного исполнения, а ожидаемый апокалипсис будет реальным, но не истинным, поскольку произойдет как простой грубый факт, чье божественное, данное в откровении значение лежит за его пределами — в оповещении, сделанном тысячелетие назад. Все оказавшееся в промежутке время есть конъюнкция нереального и неистинного: абсолютная пустота.
Так как конкретное деяние, о котором объявлено, является в данном случае эсхатологическим деянием разверзания могил и восстания мертвых, мы знаем, что пророк относит его исполнение не к определенному промежутку в столько-то лет, декад, столетий — а ко всему времени. Время как таковое выгнуто и "упаковано". Замыкая в арку времени протяженность между данным сейчас обещанием и его разрешением в конце или за пределами всего времени пророки создавали онтологическую рамку, или архетипическую схему понимания истории как одной, преисполненной значения связки — в смысле одного повествования или единственной драмы. Когда Карл Ясперс писал книгу о происхождении и цели истории, он мог делать это лишь потому, что находился в пределах одного настоящего, отщепленного и размноженного стараниями пророков, и лишь потому, что это одно настоящее оставалось для него идентичным с временем вообще. Но и сама наука истории, и даже физика возможны только на почве, подготовленной благодаря ситуации, создаваемой "словом доказательства": поскольку следствия многих событий сводятся в одну самодержавную связку только благодаря "слову доказательства", тогда как в естественной ситуации каждое время имело свою, вечно свежую природу. Времен было много. Время было собирательным существительным. И каждое время было неким конечным сущим.
Есть и другая причина, в дополнение к смещению времени как таковому, почему в цитируемых пассажах Иезекииля жанр Erweiswort тематически связан с наглядным воскрешением из мертвых, а не с чем-либо еще. То, что спасено, сокрыто, захоронено, требует взрывного апокалиптического обнаружения. Метод запирания с целью интенсификации при открывании к концу времени, это только одна сторона импульса, другой стороной которого является тематическая и эсхатологическая вовлеченность в надежду превзойти смерть. Метод отсрочки Божественного слова посредством записывания (и, тем самым, замораживания, абсолютизации, "убивания" его) — это путь к идее Вечной Жизни. Данный метод есть, по сути дела, инструмент, с помощью которого человеческое существование может быть вытащено из своей естественной позиции и трансплантировано в позицию эсхатологической обнадеженности. Одновременно это было психологически реальной трансплантацией жизни из единичности явлений и ее перенесение в вечное и абсолютное (Вечную Жизнь). В той мере, в какой эсхатологическое обнадеживание по поводу Вечной Жизни уже является воскрешением из мертвых, акт откладывания и замораживания слова — благодаря которому мы устремляемся к надежде, уже сам по себе есть слово, обещающее воскресение.
История пророков — это некая история сдерживаемого дыхания. Но сдерживаемое дыхание означает здесь также долгий вдох. Жизнь перестала быть постоянным, "монотонным" ритмом выдоха и вдоха уже начиная с Исаии, отложившего свою истину в закрытый кошелек, чем предотвращается выдыхание. Тогда долгий вдох и должен стать тем, что конституирует первоначальную историю. Огромный разброс одного-единственного временного континуума создается задержкой дыхания, аскетическим воздержанием от выдоха. Это та протяженность времени, что дает западному человеку возможность непрерывной работы над одним опытом конструирования технической цивилизации. Мифологический мир характеризовался припоминанием и забыванием, Мнемозиной и Летой, вдыханием и выдыханием. По этой причине каждое индивидуальное настоящее было слишком кратким, чтобы позволить продолжительное культурное развитие в течение столетий в смысле "прогресса", типичного для христианского эона. В мифологической ситуации не было единого времени как упаковки для всех моментов, каждый момент или феномен имел собственное время, был временем, а новый момент или феномен был также началом нового и иного времени. И поскольку момент здесь был не элементом внутри континуума, а полноправным дискретным временем, в нем едва ли оставалось место для длительной непрерывности.[28] Каждое время было не только слишком кратким, вдобавок оно приходило вместе со своим забегом, устремленным к завершению, к своему собственному апокалипсису: к манифестации и проживанию своего воображаемого значения.
Такова была до-пророческая динамика явлений. Они оргиастически растрачивали себя — исключительно в соответствии со своим архетипом. Они истощали себя не иначе как на простой разброс видимости, не оставляя ничего тому, кто не присутствовал, не участвовал в их изначальном проживании: никакого практического результата, ничего абсолютного для передачи следующему поколению, ничего, что могло бы послужить отправной точкой для прогрессивного развития. Следующее поколение должно было начинать все сначала и делать свой собственный вдох-выдох.
Только прилагая к каждой новой ситуации архетипическую схему, завоеванную для человечества ветхозаветными пророками (и, так сказать, только предохраняя каждое явление от саморастраты на видимость своей "истины") можно было удержать нечто абсолютное, что продлевалось бы за пределы своего времени: запечатление истины момента в книге, логически лишает момент его эпифанической бренности, абстрагирует и "спасает" его от само-предоставленности собственной смерти — от призрачного значения. Тем самым момент сводился к его перманентному абстрактному "информационному" аспекту, который, независимо от любого изначального эпифанического проживания, мог быть постигнут и изучен и стать предметом веры или сомнением в споре[29]. Только как замороженный акт эксклюзивного вдоха он предполагал позитивный результат (как чистый акт, а не наполненный смыслом опыт) и поэтому был способен послужить фундаментом построения. Создалась совершенно новая динамика. Задержание первоначальной динамики момента извлекало его из настоящего, интегральной частью которого он являлся, и позволило изменить его направление. Его энергия, которая растратилась бы в забеге к собственному финишу, если предоставить ее самой себе, теперь использовалось как средство, позволяющее цивилизации оттолкнуться от опыта предыдущих поколений (только теперь воспринимаемого a priori в качестве фиксированных результатов) к новым уровням цивилизации и сознания. Динамика превращается в энергию, непрерывно подпитывающую двигатель ради одного сверх-момента, одного линейного повествования, провозглашенного пророками[30]. Усердное применение этого силового привода к каждому аспекту мира науки, технологии и индустрии, и есть та динамика согнутого в дугу времени, которую мы называем "прогрессом". Она обусловила все более отчетливое и детальное подчинение мира истине одного задержанного момента и пополнило ускоряющееся возвышение над "природой" и разрыв с ней человека Запада.
Насколько я могу судить, существует только четыре типа подходов, или теорий, истории как целого: 1) летописный подход, зафиксированный в хрониках; 2) циклическая концепция времени, идеи вечного возвращения (вероятно смоделированные в соответствии со сменой дня и ночи или повторяющихся времен года); 3) теория дегенерации, представляющая историю как падение от Золотого к Железному Веку, или к индийской кали юге (возможно, моделью послужило наше биологическое старение); 4) эволюционная теория истории или теория прогресса (вдохновленная идеей роста растений или взросления детей).
Мы можем теперь прибавить пятую точку зрения на историю: инволюция всего времени к одному из его моментов. То, что с одной позиции казалось узурпирующим вознесением одного момента над всеобщим равенством моментов, может быть с другой стороны рассмотрено как маниакальное мигание этого единственного мгновения и проведение всей жизни, всего времени, всех вещей и событий через его узкие рамки. Однако эта концепция требует от нас некоего ментального усилия, значительного напряжения ума. Ее суть не может быть воспринята в образах или наглядно представлена, — только помыслена. Мы должны принять вызов нашему мышлению и постигнуть бесконечную экспансию открытого к концу линейного времени, размещаемого в безразмерной, геометрической точке: историю, стоящую над всей историей научного и технологического прогресса, над неимоверным собранием сведений о всех подробностях сущего, над проникновением ко все более отдаленным галактикам и микроскопическим глубинам материи — развертывающуюся историю как неостановимый коллапс вселенной в черную дыру (в Черную Дыру).
Перевод А.Секацкого
Kolonna publications © 2005
Выход из потока событий: океан и кровообращение
В своей книге "H2O и Воды Забвения" Иван Иллич рассматривает историю представлений о воде как о веществе. Вода не всегда была H2O, как то полагаем мы в силу привычек научного мышления. Прежде чем стать H2O, некогда бывшая мифической, вода претерпела многие превращения за долгую историю.
Наиболее существенным элементом этой истории, согласно Илличу, является открытие кровообращения Вильямом Харви (1628). Именно кровь дала возможность возникнуть идее о веществе, обращающемся внутри себя, идее, ставшей впоследствии существенной даже для городского планирования. Как указывает Иллич, ныне взятая нами на вооружение идея того, что вода, проведенная по трубам в город, должна покидать город через разрывы трубопровода, обязана новому времени. Ниже я привожу большой фрагмент из этого текста:
"Современная идея "вещества", следующего предназначенным ему путем, вечно стремящегося назад, к истокам, была однако чужда мысли Ренессанса. Концепция 'циркуляции', воплощенная не только в 'кровообращении', представляет собой глубокий разрыв с прошлым. Новизна идеи циркуляции, вероятно, играет столь же решающую роль в трансформации воображения, как в свое время Кеплеровская замена надмировой сферы, несущей планеты (в которую Коперник, однако, продолжал верить) по эллиптическим орбитам. Циркуляция нова и фундаментальна в той же мере, как и идея тяготения, сохранения энергии, эволюции, сексуальности. Однако ни радикальная новизна круговорота вещества, ни ее воздействие на образование современного пространства не были изучены с тем вниманием, каковое уделялось законам Кеплера, идеям Ньютона, Гельмгольца, Дарвина или Фрейда.
Тела всегда циркулировали вокруг центра. Абстрактная концепция циркуляционного движения привела самое себя к метафорам, влияние которых несомненно. Присутствие центра "всецело и одновременно" на любой точке периферии окружности являлось символом Бога, души и вечности. Многими школами течение времени также мыслилось круговым. Феникс был символом обновления в огне. Платон описывал циклическое обновление в виде периодического потопа. Душам возможно было рождаться, чтобы пройти через рождение вновь. Однако связь между "водами" и тем, что мы зовем циркуляцией, не была установлена. До Харви "циркуляция" жидкости означала лишь то, что мы называем "испарением": отделением "духа" от "воды", — например, выделение воды из алкоголя или же процесс "одухотворения", при котором крови полагалось проходить через мембрану, разделяющую левое и правое полушарие. Идея вещества, вечно текущего вспять, к своим истокам, вносит новое значительное изменение в восприятии воды — пресуществлении ее материи. По сути, кровь первая жидкость, описанная в терминах циркуляции." [31]
Радикальное изменение воображения с началом современной эры, на которое указывает Иллич, вряд ли может вызвать чрезмерный интерес, невзирая на то, что такая перемена по своему характеру подобна революции. Оно означает трансформацию онтологии: изменение человека и его мира в их Бытии. Это не просто сдвиг в научных теориях: собственно мир и мы вместе с ним действительно стали иными в ходе этой, казалось бы, интеллектуальной революции.
Но если внимательно рассматривать изобретение кровообращения Харви в 17 веке, его коренная новизна окажется вовсе не в том, в чем находит ее Иллич. Идея материи, воды, циркулирующей в себе и возвращающейся к истокам, не особо нова. Поэтому фактическая, революционная новость открытия циркуляции крови кажется мне несколько иной природы.
Ибо идея потока воды, циркулирующей в самой себе и возвращающейся к началам, принадлежит к древнейшим, универсальным залежам образности мифологического сознания. Это — идея океана, полностью окружающего плоский диск земли: Океанос. Изначально Океан вовсе не был "морем", он был рекой и, следовательно, мужского рода с соответствующим к нему отношением, как к "Отцу Океану", в противоположность глубинно-психологичной мягкости моря = бессознательному = матери. Он назван Гомером "прародителем Богов", "истоком всего сущего" по причине неиссякаемой мощи, благодаря которой он вместе с Тефидой, "матерью", первой богиней вод, [32] порождает все живое. Также и Нун, египетский пра-океан, "кольцующий мир", окружающий землю, был назван "Отцом Богов". [33] Существует даже графическое изображение пра-потока, омывающего землю, на карте датированной 6-м веком до нашей эры, относящейся к эпохе Ново-Вавилонского царства, которая однако упоминает еще более ранние карты 8–9 веков, то есть, самые древние карты мира, представляющие океан. На них он, омывающий плоский диск земли, носит имя "Горькой реки". [34]
Кереньи, говоря о Греческом пра-океане, замечает: "Вместе с тем Океан не был обыкновенной богом-рекой, хотя его течение не было обыкновенным потоком. Даже породив все из себя, он как и до того, по-прежнему течет по кругу на самом краю мира, втекая в самого себя. Реки, ручьи, колодцы, само море, все они черпают свое рождение из его широкого мощного потока. Когда же мир стал управляться Зевсом, ему единственному было позволено оставаться на старом месте, которое по сути и не было местом вовсе, а всего лишь течением, границей, отделением от извне," [35] — подобно тому, как, согласно Хорнунгу, Египетский Нун есть "окружающая мир граница между миром и не-миром, между Бытием и Не-Бытием". [36] Океанос — чистое "круговое течение". [37]
Даже у Платона, преступившего рамки древнейшего мифологического сознания, в его философском мифе, описывающем структуры посюстороннего и потустореннего миров, мы находим следующее суждение о реках: "А есть и такие потоки, что описывают полный круг, обвившись вокруг той земли кольцом или даже несколькими кольцами, точно змеи… Этих рек многое множество… Самая большая из всех и самая далекая от середины течет по кругу; она зовется Океаносом". [38]
Здесь перед нами предстает во всей чистоте концепция воды, постоянно стремящейся в неустанном круговращении к своим истокам. Даже этимологическое значение, производное из семитского, предполагает "круговорот". [39] Таким образом, приложение идеи циркуляции к жидкому веществу не оказывается чем-то новым, паче того, обязанным открытию Харви, приведшему в свой черед к изменениям в онтологии современного человека и его мира. На самом деле открытие Харви есть лишь воспоследование старой мифологической концепции, архетипической идее, что само по себе очевидно банально как в смысле формы, так и содержания. Но то, что делает изобретение Харви революционным, заключается совершенно в ином. Для очевидности сравним две идеи: с одной стороны: идею водного потока, омывающего землю по ее самому отдаленному краю и являющегося границей между Бытием и Не-Бытием, мира и не-мира, с другой стороны — идею реки, циркулирующей в человеке. Этот контраст может быть усилен соответствующими фактами касательно того, что в пору, когда Океанос обтекал землю, не существовало потока (кровяного), циркулирующего в человеке, а когда был открыто кровообращение, Океан уже более не омывал круглую плоскую землю. С той поры земля превратилась в шар. Благодаря же экспедициям Колумба (1492), Васко де Гама (1498) и Магеллана, первыми обогнувшим земной шар, река, окружавшая земной диск, река, служившая ему границей, была "разомкнута", обратив в полную несостоятельность психологическую концепцию Океана, тем самым утвердив прорыв и выход из замкнутости в разомкнутость бесконечности.
Раз и навсегда Океанос был сведен к простому океану, который, невзирая даже на свою безграничность, более не отделяет мир от не-мира. Более никому на другом его берегу не угрожает исчезновение в ничто. Наоборот, в свой черед открываются другие континенты, подобно уже хорошо известным. "Новый Свет" по-прежнему мир, лишь по отношению к которому появляется "Старый Свет". И даже вне земли открывается нам не зияние ноля, но беспредельное число нескончаемых дополнительных миров.
Почти буквальное мировое потрясение, свершенное этим изменением, становится очевидней на примере следующего сравнения: то, что произошло психологически или же в воображении при открытии кровообращения (или же то, что отражено в нем), есть транспозиция извне арехетипической идеи изначального, пра-потока внутрь человека. В мифическом времени эта архетипическая идея проецировалась в реальность космоса, сейчас же, в век науки, та же идея переживается как проекция внутрь человеческого тела — стремление крови в наших артериях и венах стало новым носителем древней мифологической концепции. Человек, скажем так, вовлек в себя, интериоризировал Океанос, а таким образом и саму идею пра-реки, окружавшей человека. Однако, было бы уместней сказать, что человек стал жертвой процесса транспозиции Океаноса. Имея в виду мифологический мотив четырех рек, не столь уж отдаленный от нашего времени (четырех рек Рая, четырех рек, спадающих с вершины горы Меру в Индии, опять-таки четырех рек Германцев, берущих начало в роднике Хвергельмир, etc.), Дэвид Миллер сформулировал следующее наблюдение: "Когда мифологическая система символов оставляется ради более изощренной и сложной точки зрения на космос, реки уходят и сокрываются в человеческом теле", [40] а именно, под именами четырех телесных влаг средневековой доктрины темпераментов.
А современная биология на самом деле вовлекает воображение во все детали включения Океаноса в сознание. В основе ее проекта лежит все та же идея, проецируемая, однако, на простейшие организмы и их окружение. Биологи верят в интериоризацию моря в результате открытия схожего композиционного состава ионов морской воды и человеческой крови. Можно сказать, что человек биологически не обрел независимость от Океаноса, более того, он, скорее, стал его носителем, "в" чьей среде, в чьем посредовании он живет по-прежнему — с ним вокруг себя внутри своего тела (принявшего вид редуцированной системы кровообращения). Биология посредством научной демонстрации идеи интериоризации Океаноса как буквального явления, тем не менее, психологически ставит вопрос о завершении таковой интериоризации, теория которой общепризнана, тогда как во времена Харви, даже будучи фактом, она располагалась на уровне бессознательного. Если это "научно доказано" и является объективным фактом, не зависящим от нашего мышления и коренящимся в реальности физической природы, например — кровообращения как внутреннего "океана", тогда психологическая разрушительность изначальной природы Океаноса, как всеохватывающего потока, предстает абсолютной: конкретной, физической.
Эти превращения истории души и впрямь невообразимы, поскольку измеряются инверсией Бытия, вывoрачиванием наружу (или вернее извне — в) [41]. Прежде человек экзистенциально располагался в центре земли, окруженный перво-потоком, зная, что он огражден им со всех сторон. Сегодня он несет этот поток пульсирующей жизни в себе! Очевидно, что такой факт неимоверно возвышает человека в собственных глазах, поскольку не имеет особого значения, где живет человек с образом реки жизни, окружающей все земное, включая его существование, или же где проживает он с образом жизненного потока, циркулирующим в нем самом. Однако каждая из этих возможностей влечет за собой совершенно иной способ бытия-в-мире, иное отношение к себе и к вещам на земле, сущностно иную ориентацию к внешнему, к видимому и осязаемому миру, и далее к земной и божественной реальности. Каждая из этих двух возможностей освобождает человека по-разному, устанавливая одновременно различные пределы.
Чтобы узнать, что значит жизнь в мире, окруженном Океаносом, нам необходимо более пристальное знание мифологического сознания в сумме воображения такой реальности. Для мира Греков, — здесь я по большей части опираюсь на материалы, собранные Онайенсом, [42] — Океанос не сводился только к манифестации реки или воды, но более глубинно связывался с образом змея, опоясывающего землю, подобно единому поясу. Мы уже встречались с этим змеем, с "Кольцующим мир" древнего Египта — с таким же, как змей Германцев, Митгард, лежащий на дне морском, окружающий все страны и кусающий свой хвост. Именно так Порфирий и комментирует место из Илиады Гомера, где повествуется о собрании богов, куда не мог явиться лишь один Океанос, поскольку должен был держать все вещи в единстве. Таким образом, Океанос не только являет собой границу между миром и не-миром в статическом, географическом смысле, он есть динамическая, активная сила, подобная железному ободу на колесе, стягивающему в целое то, что он окружает. Задача со-держания земли в целокупности позволяет нам понять и другие культуры. В мире шаманов Сибири архетипическая концепция со-брания мира выражена не в образах потока или реки, но — горного хребта Алтая.
Быть окруженным океаном означает быть связанным. Однако связующий пояс динамичен: чистое течение, стремнина со-бытий. Это со-единение течения и связывания в единую концепцию Океаноса принадлежит Орфикам. В Орфическом мифе творения мировое яйцо было снесено змеем, восставшим из вод и ила. Имя этому змею было Хронос — "время". Океан как мировой поток, как связующий змей, как время — все вместе это принадлежит одному и тому же архетипическому комплексу образов, о чем свидетельствуют множество культур. Так люди Банту уверены, что "время есть поток, возвращающийся к своим истокам", [43] а египтяне представляли время преимущественно в форме змея. [44] В Греческом же мировидении мысль, время и поток выразительно совмещаются в фигуре Айона, с одной стороны являющегося порождающим током, который как спинной мозг и приравниваемая к нему psyche мыслился змеем (см. змея Кундалини в Индийской традиции), а с другой стороны — неизбежной судьбой, демоном, контролирующим жизнь, дающим значение некоего срока жизни, периода — времени (эон) и вечности. Для Гераклита Айон — это сила, ведущая изменения в мире. Под стать демону он изображался львиноголово-крылатым, в остальном же носил человеческие черты фигуры, стиснутой кольцами, обвившего ее змея. Согласно Орфикам, Кронос был двойником Ананкэ [45] (Необходимости), которая по верованиям Пифагорейцев также обвивала мир.
Таким образом, время, как кругообразный поток, не сразу обрело значение, связываемое ныне с выражением "идеи цикличности истории" или "вечного возвращения" в противоположность линейной концепции времени. И вопрос не в нескончаемости повторения, но скорее в человеческом существовании, онтологически заключенном как в границы земной жизни, так и в каждый отдельно взятый ее миг. Что бы ни происходило, какие бы события ни проносил поток вещей, Ананкэ пригвождает человеческое существование к здесь и сейчас. Каждое настоящее-сейчас есть собственные Альфа и Омега, под стать тому, как в ритуальных культурах сотворение мира было делом не одного мига в начале всех времен, но сущностным началом каждого нового времени. Здесь нет никакого будущего, в которое мог бы сбежать человек из реального настоящего, так же как нет и прошлого, на которое можно было бы оглянуться, как на "добрые старые дни", когда "все было лучше". Змей, словно неотступный демон, обвивает меня и несокрушимо держит в настоящем. Эти узы, охватывающие все Бытие, все глубже понуждает меня погружаться в реальность настоящего, они заставляют меня исчерпывать эту реальность во всей полноте. Выхода нет. Бегства не существует. Здесь даже невозможны надежды на будущее по отношению к уделу настоящей реальности, поскольку змей времени заключает меня в непроницаемую скорлупу опыта этого удела. Если у судьбы и есть какой-то смысл, то такой смысл должен быть изведен из сердцевины собственно самой судьбы, из ее непреодолимых пределов, установленных Необходимостью. Смысл никогда не будет обнаружен в последующем событии, в будущем или вовне. Если любое роковое событие не сможет раскрыть само в себе свой смысл, значит смысла нет вообще.
Следовательно, Океанос является образом, выражающим то, как человек онтологически помещает себя самого в конечность собственной природы — смертной в противоположность природе небожителей. Почти вездесущая архаическая идея пра-потока или змея, охватывающего землю, змея — Ананкэ (по крайней мере у Греков), вне всякого сомнения основывается на эмпирическом опыте. Она исходит из психологической необходимости: необходимости обретения себя вне зависимости от жизни на этой земле, впрочем, как это и есть на самом деле (и чего хотелось бы избежать). В бесчисленных символах каждодневной жизни — как общественной, так и личной, в ритуальных актах древний человек ощущал насущную нужду постоянно удерживать в поле зрения свое со-единенное на онтологическом уровне бытие, окруженное змеем всегда здесь и сейчас. И такими символами для меня являются обруч, затвор, канат, кольцо, путы, узел, ярмо, волокно, дуга, шнур.
Если поэт-лауреат получает венок, гирлянду, ленту или пояс, это вовсе не означает почести за прошлые успехи, скорее это воочию указывает на узы, присущие достижениям как таковым и которыми победитель был незримо отмечен роком задолго до признания. Победа, успех переживались в представлении образа венца, возлагаемого на чело человека Богами, Роком, Судьбой, и этот же венец мыслился как часть, период времени и жизни, судьбы, управляемой Мойрами.
Подобно победе, сан монарха также являлся венценосными узами, благодаря которым тот, на кого они возлагались, становился царем. Мы видим, что в широком смысле каждое событие, каждый поступок нес в себе некое связующее начало. И если это так, следовательно, я не имею возможности ни избыть успеха, которому обречен, ни отречься от него. Реальное событие предает меня ему же посредством связующей реальности. Я должен признать его, склониться к нему, быть может, позволить ему научить меня моей же собственной реальной природе, с тем чтобы жить в гармонии с собственной реальностью и необходимостью. Венец, которой увенчивается победитель и царь, помогает также понять, почему ошейник, надетый на шею раба, связывает его с рабством. Нет особенного различия между венцом царя и ошейником раба. И тот и другой всего-навсего есть выражение непреложного подчинения Судьбе. В отношении рабства древние никогда не упускали из виду парадигму условий существования. Рабство было воплощено буквально в виде социального института того, что в сущности являлось онтологической сутью человека. [46] О чем напоминает тот факт, что люди, попадавшие в рабство, безропотно подчинялись, принимая ее, своей участи, — так Тацит в "Германии" пишет о тевтонах, которые, проигрывая в кости, с необыкновенным безрассудством соглашались на последний бросок, ставя на кон свою жизнь или свободу. Проигравший становился рабом безо всяких претензий и сожалений. И нам понятно — почему. Игра в кости была вовсе не случайной забавой, она открывалась как еще одна манифестация всесвязующего Рока, в пределах которого пребывал человек. В самом деле, рабство есть не что иное, нежели простая реализация существующей неодолимой необходимости. Восставать против нее куда как глупо. И наиболее впечатляющий пример мы находим в литературе Индии — игру в кости Юдхиштиры в Махабхарате. Мандала (которая с самого начала была циклом Времени [47]) также может рассматриваться именно в этом свете, как непреложно связующая нас с потоком событий, что, конечно, не идет в сравнение с унижающе-слащавой интерпретацией юнгианцев в пору их увлечения идеологией "само-развития", "роста", "целостности", предлагавших рассматривать мандалу как репрезентацию "я". Самость моего "я" может быть понята как ярмо невыносимой необходимости моей природы, водруженное на меня самого, а целокупность или же полнота как telos, как неизбывный обруч каждой роковой части времени — не моей целокупности, но целокупности каждого мгновения.
Слово telos в свою очередь ставит нас перед иным аспектом все-замыкающей змеи Океаноса. Исконное значение слова telos заключалось не в означивании конца, цели либо акта целе-со-образности. Оно относилось, скорее, к повязке, спряденной Судьбой, повязке, несущей исполненность определенной порции времени, воплощающейся в венце, короне. В мире, охваченном единым поясом, каждое время, каждое событие, так же как и моя жизнь целиком и мир в его огромности, — свершены a priori, закончены, даже если актуальное свершение не подошло к концу, не произошло, не имея притом никакого отношения ни к "положительному", ни к "отрицательному" в происходящем. Каждая вещь, каждый количественный момент остается в себе и потому остается. Лента вокруг каждого отдельного времени либо вещи дает каждому событию меру и пределы, понуждая нести в себе свой центр тяжести, свое значение.
Этого было достаточно, чтобы мир населяли Боги, чтобы мир был одушевлен мифическими созданиями. Необходимость, привязывающая человека к каждому событию, являлась фактором усиления любой реальности и выведения ее на первый план. Поставленный на колени безоговорочной капитуляции перед преходящим, древний человек не мог найти убежища ни в "объяснении" внешних, то есть предшествующих, причин, ни в надежде на более благоприятные следствия. Он был обречен созерцанию воображаемой глубины, внутренней сущности каждого события — Бога. Если Океанос не смог почтить своим присутствием собрание небожителей из-за того, что должен был содержать мир в его целокупности, он также, как то становится понятным, не мог этого сделать из-за своего местонахождения, впервые даровавшего Богам явление. Океанос никогда не сможет явиться в том, что только через него есть "мир". Если бы он явился как нечто в этом мире, собравшиеся Боги незамедлительно были бы опустошены, поскольку наш взгляд, освобожденный из его уз, утратил бы пределы событий, скользя от одного к другому, а мы бы утратили опыт и способность переживания божественной глубины в каком бы то ни было из них. Змей, именуемый Океаносом или Кроносом, окружающий нас со всех сторон, является образом и гарантией психологического существования человека. Как неоднократно подчеркивал Юнг, мы находимся в коконе души, psyche, окружающей нас со всех сторон, и такова природа того, что заключает нас, — природа души. Эта же идея хорошо известна и античности. Когда Пифагора спросили, кем был змей Кронос, он ответил — psyche Вселенной.
Дионис Орфиков носит эпитет Лиэй (Освободитель), поскольку освобождает от пут, налагаемых определенными ритуалами и обычаями, освобождает от непосильного их ярма. Однако освобождение, которое несет с собой Дионис, по-прежнему остается связанным с миром, опоясанным змеем, — оно есть лишь освобождение от чисто индивидуальной несвободы, но никоим образом не распространяется на мир в его онтологическом строении. Полное освобождение от змея принесено Христом. Он абсолютный Лиэй, раз и навсегда схвативший проблему во всей ее фундаментальной глубине, — проблему Бытия как такового. "Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими" (К римл. 16:20), сатану, который, как известно, являлся змеем.
Христос разорвал какие бы то ни было тяготящие узы: "истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту" (Колос.2.14). Луч креста пронзил даже высочайшие узы жизни как целого — смерть: "Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю свою жизнь были привержены рабству" (Евр. 2.14). Христианин есть сущностно свободный человек.
Но если не интерпретировать это Христианское событие опять-таки в терминах Христианского понимания, подобное освобождение должно рассматриваться как травма, уязвление Бытия. Пик Голгофы был направлен и погружен именно в ту точку, где змей кусает свой хвост и где, таким образом, связующий Бытие обруч оказался разорванным. Круг Отца Океаноса был разбит. Замкнутый круг Времени был распрямлен в линию, простирающуюся обеими концами в бесконечность. С этого мгновения время становится линеарным Heilsgeschichte. И теперь можно вдоволь поразмышлять вместе с Джасперсом об "Истоках и Цели истории", размышляя одновременно с Тейар де Шарденом о направлении эволюции от точки "Альфа" к точке "Омега", прорываясь из кольца каждого момента настоящего в будущее (надежда на отстоящее, утопию, — Эрнст Блох) либо в прошлое (историзм, возрождение, сохранение, ностальгия). Теперь — выхода нет, идея чего, по Сартру, становится эквивалентной идее ада, которая, между тем, еще раз утверждает истину прежнего опыта, пусть даже через враждебное опосредование современной тоски по свободе от каких бы то ни было уз, ибо ад есть не что иное, как нижний мир, населенный демонами и, стало быть, лишь отражение конечной природы человека.
Безусловно, освобождение во Христе поначалу было также тесно связано с тем, что называется в Христианской терминологии "верой", — избавление являлось определенным психическим состоянием. История показывает, что Христианский мир не сумел и, вероятно, не мог вообще основать свое содержание на освобождении, как психологическом состоянии, впав в зависимость от эмпирических факторов жизни индивидуума, ибо вере всегда угрожают сомнение или безразличие. Освобождение, однако, должно было бы стать абсолютной вероятностью, а вне личностного опыта и "космической" реальностью. "А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков." (Коринф. 15.14, 19). Так именно внутри Христианства зрело напряжение и тяга к тому, чтобы превратить избавление-освобождение из простого онтического условия жизни каждого человека в онтологический модус Бытия, предстоящий прочему, даже если индивидуум не пребывал в вере или же не был в ней тверд. Христианская истина должна была обратиться в "физическую" истину. После того как Средневековье жестко утвердило границы человека как в вере, так в предпосылках его существования, Западный человек был поставлен в ситуацию, в которой он должен был перевести объективную природу мира, равно как человека, в онтологическую ситуацию освобождения. Таково задание нового времени, в конце которого, то есть сегодня, очевидно заметен следующий шаг в его развитии — просачивание измененного онтологически искупления в личностную psyche индивидуума. Ибо большинство так называемых "психологических проблем", раскрытых в кабинете психоаналитика, в более глубоком своем содержании могут быть поняты как Христианство, регрессировавшее в человеческую psyche.
Верующие Средних веков изначально жили в мире, как и прежде соответствовавшем пред-Христианскому существованию-в-Необходимости (что может быть переведено на язык современного Христианства как "воление к смерти", существование во грехе), никоим образом не выражавшее освобождения. Средневековое ordo, как и раньше, было окружено и со-зиждилось пра-океаном. Человек жил так же, обреченный своему настоящему, — любая индивидуальная деятельность, например, ремесленника, свое значение и смысл несла в самой себе. Вера попросту заменила прежних Богов политеизма Одним Богом Христианства, оставив онтологический статус мира таким, каким он и был. Но каким же должно было стать освобождение от Океаноса, от обвивающего змея, от Времени (Хронос; Христианское saeculum), чтобы стать объективной онтологической реальностью, если существование на самом деле было окольцовано Мировым Кругом?
Каким способом возможно было разомкнуть перво-поток? Конечно, через Христа змей был побежден. Но только для психики каждого верующего, поскольку мир (включая мир собственно самого верующего) оставался целокупным в со-держании Необходимостью, пожалуй, с единственным различием, заключавшемся в ее имени, которое в Христианстве звучало, как Божественный Промысл. Итак, проект как и прежде требовал завершения, причем само задание в самом деле было неимоверным: как могла эта реальность, значение и сущность которой были неизбежны, поскольку окружали человеческое существование со всех сторон, быть снята им же, окруженным неодолимой силой? Как мог человек, — что на самом деле и было, — вытащить себя за волосы из болота? Поток вещей и событий, текущий вокруг человеческого существования, как таковой не мог в действительности быть разорван, понуждающая Необходимость не могла быть просто снята: она должна была быть интериоризирована. Манифестацией события инкорпорации Океаноса человеком и было изобретение кровообращения. Пульсирующая система жизни, нескончаемо замкнутые истоки всей спонтанности вошли в человека. Более он не отстоял Океаноса и неизбежности Бытия; он нес их в своем теле, и лишь поскольку он нес их в себе — голова и хвост змея, оплетшего мир, разомкнулись, и мир устремился к абсолютной открытости вне всяких пределов и меры.
До какой-то степени Иллич прав, заявляя, что идея материи, циркулирующей в самой себе, была совершенно незнакома древним. Если же материя означает нечто зримое и ощутимое, тогда воды Океаноса не были такой материей. Ибо Океанос, говорит Кереньи, "не обыкновенный поток", то есть он не феномен в мире под стать иным потокам, но и не объект возможного (эмпирического) восприятия. Куда бы мы ни двинулись в этом видимом мире, мы никогда не пересечем Океанос, подобно реке, простертой перед нашими глазами, ибо наше движение неминуемо будет определено миром, включенным Океаносом в себя и, стало быть, все, что должны мы пройти, включено в него a priori. Тем не менее, Океанос является предельной границей, пролегающей между миром и не-миром. Как таковой, невзирая даже на то, что он "вещественен" (вода или же лента, змей, горный хребет), Океанос являет природу воображаемого; он и являлся только воображаемым потоком или же, скорее, потоком воображаемого, нежели источником всех видимых вод на земле. Причина, по которой изобретение кровообращения в самом деле есть радикальная новость, заключается в том, что теперь циркуляция атрибутируется по отношению к тому, что находится в мире, т. е. к онтической, эмпирической вещественности, что в свой черед явилось также рождением идеи "вещества". Кровообращение на самом деле "материально", поскольку у него имеются очевидные онтологические основания, чья истина лежит исключительно в самой буквальности, физичности, в манифестируемом существовании, так как для мифологического сознания даже видимые реки, даже все вещи на свете не есть просто физическое состояние вещества, поскольку они берут свое начало и истину в потоке воображаемого, выразительно названном "всепорождающим". Следовательно инверсия Бытия, случившаяся в процессе перехода от Океана к кровообращению, означает также фундаментальный сдвиг человека и мира от онтологического медиума воображения, а также их транспозицию в область онтической, буквальной материальности.
Думается, что архетипическая идея Океаноса — мы можем дать любое другое имя этому потоку событий — доказывает, что она и есть неизбежная реальность даже во времена освобождения от ее уз. Ибо это освобождение на самом деле вовсе не избавляет уз Океаноса. Должно даже сказать, что оно еще более закабаляет нас, поскольку, как это сейчас видно, реальность воображаемого замещается буквальной (медицинской) реальностью, "восуществленной" в узкие гробы личностного существования каждого из нас. Это еще вопрос — является ли место внутри нас предпочтительней предельной границы земли. Если Океанос сейчас в нас, не создается ли впечатление, будто мы проглотили нечто превышающее нас и явно неудобоваримое? Потому как теперь мы периодически должны страдать от его принуждающей силы, причем довольно буквально — инфаркты, инсульты, гипертония, не касаясь даже "психологических проблем", с которыми нам приходится иметь дело в нас самих (пространство, заключенное в нашу кожу).
Изобретение кровообращения ввело Христа в онтологическую реальность и потому сделало освобождение Бытия, начатое Христом, необратимым. Почерк судьбы, отмечавший любое событие, был стерт. Неважно, что могло тобой быть совершено, поступок более не отражал понуждающих его обязательств: Христос есть гарантия бесконечного освобождения ото всех поступков, действий, от судьбы. Христос есть альтернатива, то есть изначальная доступность (не всегда, быть может, эмпирическая, но метафизическая) пути из пелен необходимости того, что прошло. Сущностное заключение в конечности, земное существование было возвышено — человек более не "слуга" оков смерти как неодолимой границы нашей жизни. Он абсолютно свободен от "закону греха и смерти" (К римл. 8–2). Вот почему Павел не посягал на рабство как на социальный институт, поскольку это было бы сравнимо с мировым потрясением освобождения. Если Павел говорит о человеке согласно "плоти" и "закона греха", он менее всего соотносит это, на онтическом уровне, с очевидными злодеями. Он более радикально преследует цель онтологического статуса тех, участь которых быть спеленутымы непреодолимой лентой каждой реальной ситуации. Что является тотальным наступлением на изначальное воплощение человека в Бытии.
Коль скоро освобождение перестало быть только лишь психологическим состоянием человека (Вера) и превратилось в онтологическую реальность, то и пояс вокруг земли был разорван на части даже в онтологическом конституировании эмпирической реальности, открыв тем самым космос бесконечности миров (Джордано Бруно), а реальность стала действительностью безграничных возможностей, и все вещи на этой земле открылись в своем освобождении воле человека безо всяких пределов. Вещи и мгновения, заключенные прежде в своей самости (благодаря которой они, каждая из них обладала собственным центром тяжести и ценностью, в итоге — своим Богом), теперь суть мало отличающиеся друг от друга части гомогенного времени и пространства.
Мифическая, метафизическая реальность Христа как абсолютного освободителя отвернулась от объекта посвящения в онтологическое конституирование человека: вот что сделало возможным в последний век неукротимый подъем революционности — от исследований Колумба до космонавтов; спиралевидное развитие наук, неукротимый порыв вовне из мира вещей, форм и очертаний, в бесконечность измерений галактических величин микро-физических мгновений; неуемное желание большего, неутоляемая мания возбуждения все новыми и новыми очарованиями и обещанием опыта, который должен в итоге обеспечить ответ на вопрос о смысле жизни. Освобождение от змея означает абсолютизацию желания. <…> Только человек, обладающий кровообращением, может и должен искать новые континенты или пускаться во все тяжкие в космосе либо в микропространствах. Он один должен искать смысл жизни. Во времена, когда Океанос еще со-держал мир целокупным, каждая вещь, как мы уже говорили, была крепко-накрепко замкнута, человек был неизбывно связан каждым своим поступком. Вот почему люди прежних веков находили удовлетворение в труде, который кажется нам неизреченно монотонным, как труд африканских женщин, день за днем лущащих пальцами зерна. Освобожденный человек более не может по-настоящему обитать в мгновении. Он обязан стремиться из него в следующее и так далее — постоянно во-вне, которое как бы обещает ему смысл отдельно взятого настоящего. Он требует машин, чтобы те освободили его от монотонного труда для более высокой жизни "в Духе", для реализации невероятных проектов и контроля — образования, культурной деятельности, развлечений и т. д.
В поле линеарного Времени человеческая жизнь обречена модусу сравнения (в лингвистическом смысле) во имя "лучшего". Эта идея в своей кульминации — в "лучшем" (оптимальном) предполагает оптимизм и пессимизм как таковые, которые были попросту немыслимы в пору Ананкэ, потому как в те времена все было так, как оно было, а легкомысленное предположение лучшего исключалось изначально непреступаемой межой океана, пролегавшей между Бытием и Небытием, реальностью и возможностью. Человек жил в "позитивной форме", вне или же до какой бы то ни было степени сравнения, он жил в своей реальности независимо от того, что сегодня подразумевается под позитивным либо негативным. <…>
Лишь с изобретением кровообращения начинают разделяться внутренний и внешний миры. В пору, когда человек был безысходно окружен Океаносом, его существование было вмуровано в мир, благодаря чему он просто был вынужден переживать происходящие события изнутри, из мира, из внутренней перспективы, созерцая их в глубине воображаемого: как образ, как Бога. Такова была его запечатленность, сообщавшая миру и всему тому, что в нем пребывало, сиять мифическим светом, ибо психологическая или поэтическая природа мира является не чем иным, как коррелятом человеческого укоренения в реальности. Мифологическое сознание и воображение не есть психологическое достояние человека, которое может быть присвоено или не присвоено. Это — онтологический статус, фундаментальный путь, прокладываемый человеком в космосе, — бытие, охваченное змеем psyche. С другой стороны кровообращение означает перенос границы между жизнью и не жизнью, между сущностным и не сущностным в эмпирический мир — все, что лежит за, открывается холодным "внешним миром", тогда как истинная жизнь принимается внутренним миром. Благодаря кровообращению современный человек превратился в "субъект", для которого вещи мира суть объекты, неизбежно находящиеся вовне, в оппозиции к субъекту. Внутреннеe и внешнее были разделены только в акте присвоения потока Бытия, — экстериоризация или отчуждение суть плоды интериоризации Океаноса.
В согласии с общепринятой риторикой, я упомянул о субъекте, противопоставленном объекту. В действительности же это никакая не оппозиция. Поскольку человек "содержит" в себе кровообращение и более не находится в происходящем, обреченном исчезновению, он волен теперь замкнуть собой всю феноменальность мира. Предметы искусства, например, стали "объектами", будучи помещены в музейные витрины, среди которых мы бродим, наблюдая их с разных сторон, тогда как замысел состоял в другом — они предназначались для алтаря, они были масками или скульптурами Бога, они требовали от человека полного поклонения, настигая его отовсюду. Вещи, изучаемые науками, являются "объектами" постольку, поскольку, став немыми, оказавшись вне закона, они стали предметом простых манипуляций в руках ученых, более того, стали доступны взгляду науки с различных сторон. У любой теории знания, благодаря вопросам, которые она поднимает, и опять-таки ежечасной готовности дать вполне удобный вопрос, есть особое психологическое задание введения современного человека в "новое" и относительного удовлетворения его собственных возможностей охватывать какую бы то ни было вещь. Освобождение от внедренности в Бытие возможно во всей полноте, если человек сам стал Вещью-и-Миро-Окружностью. И только лишь как Мировая Окружность он является подлинным "субъектом". Таким образом субъект не столько противоположен, сколько внеположен тому, что является его объектом, в той же степени, в какой Создатель внеположен к собственному творению, обладая всей мерой вещей и проницанием их сущности.
Психология Эриха Неймана также занимается интериоризацией того, что некогда было Мировым Кругом. Нейман обращает цикл того, что было собственно кольцом Времени, в простую фазу личностной психологической эволюции, фазу, которую все мы, взрослые, давно пережили, невзирая на то, что подчас к ней возвращаемся. И если цикл Времени, под стать змею, кусающему свой хвост, был некогда началом и концом, ныне он есть лишь только точка отсчета, начало линии развития простирающегося к стадии солярного сознания героя: круг редуцирован к точке на прямой линии и, стало быть, включен самой линией. Прежде начало было отнюдь не точкой, с которой что-либо начиналось, начало было тем, что со-держало все то, что было началом непреодолимого окружения и, следовательно, того, что было в нем замкнуто: "всепорождающего" Океаноса.
Вся динамика, развитие события оставались заключены в законе его начала (вот почему греческое arche означает закон как начало): все потоки, ручьи, колодцы нескончаемо струились из первопотока, окружающего все. И герои мифов (Геракл, Тезей, Зигфрид) как персонажи представляли свои деяния внутри мира, будучи заключены в его кольцо, тогда как героическое сознание у Неймана характеризуется как раз именно превозмоганием этой замкнутости, неизбежность которой он отрицает. Однако, коль скоро в непреодолимости змея-Океаноса появился изъян, и он не замыкает нас вплоть до самого конца, коль скоро Океанос идет на совет Богов, подобно любому из них, потому как он должен быть освобожден, кольцо — более не кольцо. Инструментом разъятия его закона становится идея развития, так как она сводит мифологическое прозрение человеческой онтологической конституции к концепции онтических условий, привязанных к определенной фазе эволюции жизни человека: выпадение из психологии в биологию, из реальности воображаемого в вопрошание буквального ребенка, буквальной матери и в буквальную эволюцию эмбриона вовне.
В перспективе такого мышления архаический человек должен казаться примитивным, что означает, невзирая даже на наши заверения в том, что слово это отнюдь не унизительно, человека с "отсутствующим Ego", с "неразвитым Ego" либо представляющего его низшую ступень развития. Мне бы хотелось предложить иное, противоположное понимание: человек примитивный есть такой человек, который будучи неотьемлемым от Необходимости, непреложно посвящен ее реальному настоящему, не избегая Бытия в освобождении.
Человек кровообращения обычно рассматривается как самодостаточное целое, "личность", "индивидуальность". А "Личность" есть не что иное, как конкретный способ самопредставления другим и себе — "Grosse Runde" (Нейман). Можно сказать, что это Вильяму Харви (имя это взято здесь чисто условно) мы всецело обязаны гуманистическим, просветительским идеализмом Гердера, Шиллера, Гумбольдта, их настояниям развивать собственную личность и, более того, необходимости усвоения идеи того, что как индивидуальность Я являюсь внутренней бесконечностью, заключающей в себе весь мир. Мы также обязаны ему понуждением быть свободными (свобода мысли, эмансипация, развитие личности, свобода от работы: каникулы, отпуска, уикенды, свободное время). Современный человек обязан быть свободным, потому что именно от того, насколько он свободен в проявлениях, зависит его истина освобождения от убеждающего telos" а Океаноса. Вне идеи кровообращения немыслима также идея гения, потому что во времена Океаноса люди не были гениями, но неукротимые daimon или genius обитали в них, как и во всей природе.
Меж тем современный человек, превращенный в личность благодаря циклу, которым он ныне является, не только не освободился, но еще более замкнулся в себе, став непроницаемым, бесчувственным. Ведь разрушение происходит не только на уровне артериосклероза — современный человек уже поражен на онтологическом уровне, недоступный воображаемым глубинам событий. Ибо круг есть совершенная, неразрешимая фигура. Ничто не может проникнуть за броню круговой скорлупы. Монады, по свидетельству Лейбница, не имеют окон. Они закрыты раз и навсегда. Это не может быть достигнуто воспитанием чувственности, научением тому, как ощущать и открывать себя эмоциональному опыту. Эмоциональное переживание доступно лишь тому, кто изначально празден как личность и таким образом замкнут в себе. Как индивидуальности и субъективности мы по определению фундаментально онтологичны, отлученные от экзистенциального локуса, которого могли бы достичь. Что бы ни происходило с нами, мы остаемся эмоционально подавлены: это не что иное, но только онтическое состояние онтологически защищенного человека. Только лишь тогда, когда онтологическая сущность человека в своем бытии была окружена неотступной Необходимостью и потому в своем бытии была вживлена в мир, человек мог постигаться смыслом событий, потому что именно тогда он, обретая уязвимость, безусловно открывался происходившему. А коль скоро мир стал свободной жертвой человеческих манипуляций, а Океанос был разъединен на части, внутренняя природа человека, прежде проницаемая воображаемыми глубинами событий и настояниями, исходившими от них, а ныне ставшая самодовлеющей — замкнутым кругом, — также претерпела превращения.
Океан был, как мы уже говорили, чистым течением. Поскольку человек более не пребывает в циркулирующем токе Времени, но содержит поток жизни в себе, пульс жизни теперь зависит от него, от каждого человеческого существования. Именно человек собственным усилием и силой воли торит путь Времени. Он должен быть его двигателем, поскольку существует как круг Времени. Разве удивительно, что современный человек зачумлен суетой, спешкой, понужден к представлению, обречен психологическому тренингу и нескончаемому на протяжении жизни подтверждению своей молодости, покуда гипертонический криз или инфаркт не поставит окончательную точку на нем, на освобожденном человеке? Разве поражает тот факт, что тот, кто несет в себе пограничный поток между Бытием и Небытием, сам по себе поражен неврозом — чья природа всего-навсего вид компромисса между понуждающей, охватывающей силой и неутолимой жаждой свободы от любого telos" a, свободы от любого обязательства, связующего мою природу с моей жизнью?
Перевод с английского Аркадия Драгомощенко
Митин журнал. Самиздат. Вып. 43 (январь-февраль 1992). Редактор Дмитрий Волчек, секретарь Ольга Абрамович. С. 108–114.
Примечания
1
Эта статья является переработанной главой из книги "Drachenkampf oder Initiation ins Nuklearzeitaller (том второй моей работы Psychoanalyse der Atombombe). Zurich. Schweizep-Spiegel Verlag. 1989.
(обратно)2
Следует заметить, что слово "естественный" употребляется здесь в двух различных, почти противоположных смыслах: в контексте таких понятий как "разум", "естественное" означает нечто противостоящее более глубокому сущностному пониманию; в отношении к Бытию или к миру оно означает состояние, предшествующее искусственным человеческим установлениям, вечное vis-a-vis воображаемого.
(обратно)3
Если следовать подразделениям Хайно Гертса (Heino Gerts). Гертс различает четыре последовательные стадии культуры — шаманистскую, ритуалистическую, религиозную и научно-техническую проводя особенно глубокий водораздел между первой стадией и тремя последующими. Иными словами, религия для Гертса не является всеобъемлющим понятием, включающим также шаманистский и ритуалистический модусы бытия в мире. Напротив, религиозная стадия культуры характеризуется совершенно особым положением человека космосе, радикально иным чувством времени. и т. д. В этом смысле она гораздо ближе к модусу науки, чем к двум предшествующим стадиям.
(обратно)4
Тенденция современного театра к прямому и буквальному вовлечению аудитории, к непосредственной значимости происходящего в текущем социальном и политическом контексте может быть рассмотрена как ритуальный мимезис, подражание насущному стремлению христианства вырваться из сценического пространства, чтобы предотвратить тем самым "регрессию" к глубинному (мифологическому, воображаемому, языческому) уровню вовлеченности.
(обратно)5
См. Bruno Snell. Die Entdeckung des Geistes studien zur Entstehung des europeischen Denkens bei den Greichen. (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975), p.101.
(обратно)6
См. James Hillman. A Psychology of Transgression Down from an Insect Dream. — "Spring", 1987, pp.66–76.
(обратно)7
Я считаю Средние Века предварительной стадией христианства. Это был период школярства, схоластики, согласно собственному определению, возрастом обучения и инициации человека Запада во внутреннюю структуру христианской мысли, иными словами — видом христианской пропедевтики. С началом Нового Времени человек "закончил школу"; закончил успешно, ибо христианская мысль стала его второй природой, избавив его от необходимости выражать мысль в буквальной (догматической) христианской терминологии. Что бы он теперь ни думал, ему бы уже думалось в духе христианства.
(обратно)8
Слово "впервые" не следует понимать слишком буквально. Меня интересуют не столько буквальные начала в историческом времени, сколько начала архетипические, (психо)логические корни и место их сущностной локализации в истории.
(обратно)9
Нас может ввести в заблуждение тенденция к плюрализму теорий и моделей мира, столь характерная для сегодняшнего дня. Но у меня нет сомнений, что эмпирической плюрализм зависит от гарантированности основания и является проявлением психологического и онтологического монизма уни-версума.
(обратно)10
Модифицированная и расширенная английская версия главы "Der Schub und seine Bahn" из книги автора "Drachenkampf oder Initiation ins Nuklearzeitalter" (во 2-м томе Psychoanalyse der Atom bombe), Zurich, 1989. - прим. авт.
(обратно)11
Термин fabrication имеет в английском языке значения "производство" и "фабрикация". Эта двойственность обыгрывается автором. - прим. переводчика.
(обратно)12
Согласно традиционной мазоретической интерпретации, глагольные формы понимаются как императивы, Бог инструктирует пророка делать то, что требует глагол. По грамматическим, так же как и по экзегическим причинам, современные ученые трактуют их как собственные выражения пророка. — прим. авт.
(обратно)13
Die Bibel in heutigem Deutsch. Die Gute Nachricht. St. 1982. — прим. авт.
(обратно)14
Hans Walter Wolf. "So sprach Jahwe zu mir, als die Hand mich packte". Was haben die Propheten erfahren? ("Так говорил мне Яхве, возложив на меня руку". Что испытывали пророки). In: Herrenalber Texte 51 (1984), pp.9-21. — прим. авт.
(обратно)15
В немецкой традиции обыгрывание значений "задержание — содержание" и "умозаключение — заключение (под стражу)" принадлежит Гегелю. В тексте "Йенской реальной философии" сопоставляются оба значения глагола "schliben" — "умозаключать" и "заключать под стражу". Содержание возникает в результате "задержания" мышлением потока Weltlauf — привычного хода вещей. Все, что попадает в <умо>заключение, вынуждено подчиниться определенным правилам содержания <под стражей>, тем самым оно сохраняется и для нас. См. Hegel, Sammtliche Werke. Ed. H.Glockner. St. 1927 Bd. II. Русский перевод (без учета этимологического обыгрывания) — Гегель. Работы разных лет. т.1. М., 1970. - прим. переводчика.
(обратно)16
Интратемпоральный — находящийся внутри времени. — прим. переводчика.
(обратно)17
Священную историю (нем.) — прим. переводчика.
(обратно)18
Книга Бытия, первая книга Ветхого Завета. — прим. переводчика.
(обратно)19
В англ. языке слово advent — пришествие, появление — содержит отчетливый оттенок авантюрности и непредсказуемости, который прямо выражен в производном от него существительном adventure — приключение. — прим. переводчика.
(обратно)20
Термин "fiction" как жанровое определение не имеет точного эквивалента в русском языке; может быть потому, что ему ничего не соответствует в "русской действительности". По смыслу fiction — это литература в противоположность Литературе — т. е. "просто литература", без придыхания и без большой буквы. Сходным образом обстоит дело и с французским термином "belles lettres" — "беллетристика", который получил в русском языке пренебрежительный оттенок, не свойственный ему в оригинале. Другое значение fiction — "вымысел" — ср. русское "фикция". — прим. переводчика.
(обратно)21
Endlosung (нем.) — последнее решение, окончательный ответ. — прим. переводчика.
(обратно)22
Это утверждение имеет онтологический (или логический) статус и поэтому не может рассматриваться как моральная оценка. — прим. авт.
(обратно)23
Этот вопрос широко обсуждался. См., напр. E.W.Gardiner. Olympia (1925), p.63; L.Drees. Der Ursprung der Olympischen spiele (Beitraye zu hehre und Forschung der Leibeserziehung 13) 1962; m.f.Cornford. "The origin of the Olympic games", in J.E.Harrison, Themis (1912), pp.212 ff; Walter Burkett, Homo Necans. Berlin & N.Y., 1972. — прим. авт.
(обратно)24
theoros (греч.) первоначально означал именно зрителя на Олимпийских играх, затем термин стал применяться для обозначения беспристрастного наблюдателя вообще в отличие от участника. Отсюда и пошла theoria с ее презумпцией "неучастия в бегах". - прим. переводчика.
(обратно)25
Этой информацией я обязан Джеймсу Хершу. — прим. авт.
(обратно)26
Этот вопрос может приобрести особенно важное значение в дальнейшем, когда мы перейдем к рассмотрению пассажа Иезекииля, показывающего связь между отсрочкой исполнения и жаждой преодоления смерти и Вечной Жизни. — прим. авт.
(обратно)27
W.Zimmerli. "Das Wort des gottlichen Selbsterweises (Erweiswort), eine prophetische Gattung". In: Melanges Biblique rediges en l'honneur de A.Robert, 1957 pp.154–164. - прим. авт.
(обратно)28
Вместо этой длительности, обуславливающей прогрессивное развитие, архаические народы имели другой тип длительности — традицию, длительность значения. — прим. авт.
(обратно)29
Как религиозное верование, так и научное знание зависят от абсолютизации истины в качестве записанного слова. Эпифания (экспромт) не могла быть возможным предметом веры. Она была проживанием, которое как логически преходящее (не абсолютное, не записанное), "проходило сквозь проживающего человека, исполняя и испепеляя его при прохождении. — прим. авт.
(обратно)30
Это становится совершенно ясным из пассажа Иезекииля: исполнение Божественного обещания в конце времени было по своему качеству не бесцельным блеском видимости, но вечной и абсолютной целью — "служить в качестве [фактического] доказательства, для победы в споре. - прим. авт.
(обратно)31
Иван Иллич, "H2O and Waters of Forgetfulness" ("H2O и воды забвения"). Reflections on the History of Stuff", Даллас (The Dallas Institute of Humanities and Culture) 1985, глава "Харви открывает циркуляцию". О самом Харви и об открытии кровообращения с психологической точки зрения и перспектив воображения см. фундаментальное исследование Джеймса Хилмана "The Thought of the Heart" (Мысль сердца) в Eranos 48-1979, стр. 133-82, Frankfurt (Insel) 1981.
(обратно)32
Карл Кереньи, Die Mithologie der Griechen (Мифология древних греков), vol. 1. Munchen (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1979, стр. 19.
(обратно)33
Ерик Хорнунг, Der Eine und die Vielen, Darmstadt (Wiss. Buchegesekkschaft) 1971, стр. 154, 276.
(обратно)34
Герман Бенгстон и Владимир Милойчич, Grosser Historischer Weltatlas, Erlauterungen 1. Teil, Munchen (Bayerischer Schulbuch-Verlag) 1954, стр. 58.
(обратно)35
Кереньи, ibid.
(обратно)36
Хорнунг, стр. 154.
(обратно)37
Кереньи. ibid.
(обратно)38
Платон, Федон, 112d и е.
(обратно)39
см. Вайцзакер, статья "Океанос" в Ausfuhriches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie, 816.
(обратно)40
Давид Л. Миллер, "Аchelous and the Butterfly: Toward an Archetypal Psychology of Humor" ("Ахелой и бабочка": К архетипической психологии юмора").
(обратно)41
Процесс "инверсии Бытия" бегло затронут в моей статье "Спасая ядерную бомбу" из Facing Apocalypses, ("Лицом к Апокалипсису"), Даллас, 1987, стр. 96-108, а более подробно в не опубликованной покуда целиком работе Psychoanalyse der Atombombe ("Психоанализ атомной бомбы").
(обратно)42
Ричард Брокстон Онайенс, The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate. ("Истоки Европейской мысли о теле, разуме, душе, мире, времени и Судьбе"), New York (Amo Press) 1973, стр. 249, 316, 411, 443.
(обратно)43
My People, The Incredible Writings of Credo Vusamazulu Mutva ("Мой народ. Неверятные свидетельства веры Вусамазулу Мутва"), Harmondsworth (Penguin) 1971, стр. 54.
(обратно)44
см. — Е.Хорнунг "Die Entdeckung des Ubewusten in Altagypten", GORGO 9, 1985, стр. 63.
(обратно)45
Об Ананкэ см. Джеймс Хилман, "On the Necessity of Abnormal Psychology — Ananke and Athene," Eranos 43-1977, Leiden.
(обратно)46
Относительно темы рабства — Дж. Хилман, ibid.
(обратно)47
Х. Гертц, "Beitrag zur Polytheismus-Discussion", GORGO 2/1979, стр. 62, где он, с другой стороны, подчеркивает, что мандала может в то же время также представлять противоположную, устойчивую вечность одного Бога.
(обратно)



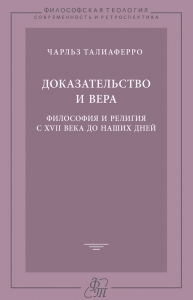

Комментарии к книге «Эссе», Вольфганг Гигерич
Всего 0 комментариев